Вадим Леонидович Цымбурский Морфология российской геополитики и динамика международных систем XVIII-XX веков
© В.Л. Цымбурский, 2016
© Книжный мир, 2016
Подготовка текста, примечания и библиография Б.В. Межуева, Г.Б. Кремнева, Н.М Йова
Вступительная статья Б.В. Межуева Предисловие Д.В. Бадовского Послесловие С.В. Хатунцева
Книга издана при содействии Фонда ИСЭПИ
Предисловие
Российская политология, при всем своем ученичестве по отношению к западной политической науке, уже имеет собственных классиков, тех, кто способствовал ее развитию в России в девяностые и нулевые годы. Эти годы не прошли безрезультатно для отечественного обществоведения, и прекрасным свидетельством в пользу этого могут являться и произведения Вадима Леонидовича Цымбурского. По основному роду своей деятельности – филолог, специалист по гомеровскому эпосу, Цымбурский, начав работать на ниве общественных наук на рубеже 1980–90-х, оставил ряд очень ярких и даже новаторских произведений в области политологии, актуальное значение которых только сейчас постигается в полной мере его современниками.
Фонд ИСЭПИ и наши коллеги предприняли серьезные усилия, чтобы познакомить отечественную аудиторию с основным трудом Вадима Цымбурского в области политической науки – его докторской диссертацией «Морфология российской геополитики и динамика международных систем XVIII-XX веков». Одна из глав этой незаконченной работы уже была опубликована в первом выпуске за 2015 года «Тетрадей по консерватизму», специально посвященном творчеству ученого. Следует отметить, что работа над подготовкой текста рукописи книги началась осенью 2013 года, то есть еще до трагических событий на Украине, когда важнейшие для концепции Вадима Цымбурского понятия, такие как «лимитроф», «буферные территории», «похищение Европы», приобрели политическую актуальность, до того момента, когда система Россия – Европа пережила очередную трансформацию и прошла сильнейшую проверку на прочность.
Сегодня многие идеи Цымбурского, которые при его жизни казались слишком смелыми и даже эксцентричными, постепенно становятся ключевыми для формирования того языка, которым Россия может описать свою новую геополитическую идентичность, определившуюся уже не только в ходе распада Советского Союза, но и в результате испытания на прочность при посткрымском противостоянии с Западом. Можно сказать, в ситуации нового «стояния на Угре», завершившегося как и первое «стояния», обретением Россией полноценного суверенитета и новой роли в мировом балансе сил. Цымбурский в поздних своих работах предвидел возможность подобного развития событий, и сегодня его геополитическая концепция не только учит нас необходимости отстаивать свою цивилизационную самостоятельность, но также учит сдержанности и национальному самоограничению, без которых любая обретенная самостоятельность неизбежно вырождается в авантюризм.
К сожалению, Цымбурский не смог довести завершить свой труд и стать доктором философских наук – и, увы, ученая степень не орден, ее невозможно присудить посмертно. Фонд ИСЭПИ в какой-то мере исправляет эту оплошность истории. Пусть критики и коллеги ученого судят, был ли автор этой книги достоин степени доктора по совокупности его научных заслуг. Для нас в этом нет никаких сомнений.
Что касается политических взглядов Вадима Цымбурского, то, разумеется, они часто встречали и до сих пор встречают непонимание, даже протесты с разных сторон – и справедливые, и беспочвенные. Но это нормально для крупного ученого, для любого крупного человека. Но очевидно и другое. В своих идейных исканиях Цымбурский всегда руководствовался интересами и благом России, полагая, что ответственному за свои слова и мысли политическому писателю морально недопустимо отрывать себя от общества и государства. Антигосударственный и антинациональный нигилизм был Цымбурскому чужд и враждебен.
Вадим Цымбурский надеялся, что его концепция «Острова Россия» сможет примирить умных либералов и умных патриотов образом новой, свободной и сильной, страны. При его жизни этого не случилось. Но, может быть, как это часто бывает с подлинными политологами, ученый в своих исканиях просто опередил свое время, и мы станем свидетелями слишком позднего для самого Цымбурского исполнения его надежд? Оставим этот вопрос открытым и предложим всем читателям «Морфологии российской геополитики» ответить на него самостоятельно.
Дмитрий Бадовский,
председатель Совета директоров Некоммерческого фонда – Институт социально-экономических и политических исследований
Борис Межуев Вадим Цымбурский и его историко-политологический opus magnum
Роман филолога-классика В.Л. Цымбурского с политологией начался в 1986 году, когда его взял на работу в Лабораторию анализа и моделирования политических и управленческих решений Института США и Канады РАН один из ее создателей – Виктор Михайлович Сергеев. Впоследствии, в течение примерно четырех лет, под началом В.М. Сергеева и Андрея Афанасьевича Кокошина Цымбурский занимался изучением советских военных доктрин и, в частности, анализом смысловых вариаций используемых в них понятий «угроза» и «победа». В ходе этого исследования Цымбурский заметил, что авторы советских военных доктрин, в отличие от их более проницательных американских коллег, исходят в своем восприятии «угроз» и «побед» из опыта прошедшей, то есть Второй мировой войны, тогда как этот опыт в ряде случаев не может стать руководящей основой для понимания тех «угроз», с которыми реально может столкнуться Советский Союз в ближайшее время. В эпоху ядерного пата тотальное столкновение двух сверхдержав невозможно, и по этой причине нельзя представлять себе будущую войну как нападение врага с целью оккупации всей территории страны, а будущую возможную победу как безоговорочную капитуляцию противника.
Исследуя эталоны «угрозы» и «победы» в различные эпохи военной мысли, Цымбурский пришел к заключению, что в рамках нынешней фазы милитаризма нельзя ставить войне далеко идущие цели и видеть в ней некое общенациональное дело, что было характерно для военных теоретиков со времен Клаузевица. Прошедшая фаза, начавшаяся наполеоновскими войнами и завершившаяся Хиросимой, характеризовалась преобладанием способов мобилизации населения над средствами уничтожения. В эту эпоху можно было делать расчет на войну до победного конца. Так что дело отнюдь не в «номосе земли», то есть не в особых принципах ведения континентальных войн (как полагал Карл Шмитт, к авторитету которого Цымбурский всегда относился крайне скептически), не допускающих криминализации военного противника и использования жестких насильственных действий против нонкомбатантов, а просто в той логике превосходства мобилизационного потенциала над возможностями уничтожения живой силы, которая позволила революционной Франции, а затем уже и двум Рейхам вести войну на нескольких фронтах, тем самым добиваясь гегемонии в Европе. Цымбурский обнаруживает близкие ему идеи о 150-летних циклах различных милитаристских стилей на европейском континенте у американского ученого Куинси Райта, и теория Райта стала концептуальной основой дальнейших исследований Цымбурского в области политической науки.
В 1990 году ученый покидает Институт США и Канады и на какое-то время переходит на работу в Институт востоковедения. В это время он продолжает писать тексты, которые можно отнести как к теоретической политологии, так и к геополитической публицистике. В частности, в соавторстве с филологами Денисом Драгунским и Гасаном Гусейновым он публикует в журнале «Век XX и мир» целую серию текстов, посвященных теоретической экспликации понятия «империя», где предпринимается робкая попытка освободить это – в тот момент заряженное негативными коннотациями слово – от однозначно антилиберального контекста. С 1991 года Цымбурский активно печатается в созданном в том же году журнале «Полис» («Политические исследования»), где в октябре 1993 года выходит в свет его знаменитая статья «Остров Россия. Перспективы российской геополитики». В 1995 году в альманахе «Иное», собранном Сергеем Чернышевым, появляется и развернутое приложение к «Острову» – статья «Циклы похищения Европы». Здесь делается попытка рассмотреть имперскую активность России в Европе как процесс, характеризующийся последовательными стадиями: А) вхождением в европейскую игру в качестве союзника одной из основных конкурирующих сил на континенте, В) перенесением континентального раздора на территорию самой России, С) резким натиском империи на Европу с перспективой утверждения в ней в роли гегемона, D) отбрасыванием России из Европы объединенными силами Запада и, наконец, Е) попыткой России выстроить суверенное от Запада пространство с помощью геополитической активности на южных или восточных рубежах.
Уже тогда, в статье 1995 года Цымбурский делает вывод, впоследствии ставший центральным тезисом его докторской диссертации, что для каждой фазы этого цикла характерен свой особый тип геополитического проектирования. Когда Россия надеется на полноценное участие в европейской игре, она оказывается не склонна видеть свое пространство отделившимся от пространства Европы – и под тезис о слитности этих пространств подгоняются соответствующие реалии и факты. А вот как только Россия из Европы изгоняется, русские геополитики довольно быстро вспоминают или про наличие туранской крови в жилах значительной части населения империи, или про значение степных районов в истории Древней Руси и пр. Конъюнктуры времени начинают преобладать над конъюнктурами земли. Время диктует геополитическому воображению свою образную логику. Как увидит читатель диссертации Цымбурского, геополитики могут в ряде случаев действовать вопреки этой логике, но (как правило) это создает для них определенное политическое напряжение. Гораздо приятнее, когда ветер истории дует тебе в спину, когда геополитическое воображение открывается всем тем соблазнам, которые предоставляет проектировщику конъюнктура, то есть, по этимологии этого слова, связность текущих событий[1].
1995 год стал во многом переломным в судьбе Цымбурского. В любопытном документе, который нам еще предстоит не раз цитировать в настоящей статье, в Ходатайстве о замене предоставления полного текста диссертации научным докладом и возможности присуждения научной степени по совокупности работ ученого, поданном в ВАК от имени Диссертационного совета при Институте философии, говорится, что он «с конца 1980-х годов публикует, самостоятельно и в соавторстве, ряд работ по анализу геополитических проблем, по идеологии геополитики, а с 1995 г. полностью сосредоточил свои научные интересы в области теории и истории геополитики, как старший научный сотрудник сектора истории политической философии Института философии РАН». Здесь важно не только биографическое указание на переход Цымбурского в Институт философии на должность старшего научного сотрудника, совершившийся в 1995 году, но и разделение его геополитического творчества на две части: до 1995 года (когда автор «Острова Россия» преимущественно писал по «идеологии геополитики») и после 1995 года, когда он углубился в «теорию и историю геополитики». Очевидно, что это разделение, явно позаимствованное авторами Ходатайства И.К. Пантиным и Е.А. Самарской у самого диссертанта, отражает специфику восприятия самим мыслителем характера его собственной научной деятельности.
В 1993 – начале 1995 года Цымбурский воспринимает себя еще немного как политического игрока, потенциально способного своей концепцией «Острова Россия» повлиять на судьбы Отечества. Он надеялся и не раз в 1994 году открыто высказывал подобные надежды на то, что его «островная» теория станет идеологией постсоветской России и сможет примирить умных либералов и продвинутых консерваторов некоей не реваншистско-имперской, но вместе с тем и не западнической программой. Он ловил признаки внимания к своей концепции со стороны различных политических сил страны, радуясь всем одобрительным словам в адрес «Острова России». Вообще, 1994 год Цымбурский прожил на явном подъеме, исполненный надежд, которые, увы, так и не осуществились. В 1995 году к нему обратился с предложением о сотрудничестве в то время известный политик Василий Липицкий. Он проводил свою избирательную кампанию в Госдуму РФ по Новосибирску и по этой причине поддержал идею Цымбурского о «переносе столицы» в этот город, ближе к реальному географическому центру России, в место пересечения речных и железнодорожных коммуникаций Сибири. Цымбурский составил и подготовил к изданию летом 1995 года любопытный сборник материалов «Россия, Москва и альтернативная столица», посвященный дискуссиям о «перемене столицы», однако на этом не имевшем никакого продолжения в плане взаимодействия с Липицким эпизоде завершился для автора «Острова Россия» период политических ожиданий в целом. После разочарования в текущей политике Цымбурский решает сделать на основе своего, как он сам считал, еще вполне публицистического опуса 1993 года полноценную научную теорию и тем самым закрепить свое место в российской политологии.
Вот именно с этим переломом в судьбе Цымбурского и стоит связывать его переход в Институт философии РАН и начало работы над будущей докторской диссертацией, которая впоследствии получила название «Морфология российской геополитики и динамика международных систем XVIII-XX веков». Можно сказать, первым камнем в архитектонику будущей работы стала вышедшая в июньском номере журнала «Общественные науки и современность» за 1995 год статья «Тютчев как геополитик», впоследствии в несколько измененном виде вошедшая в 4 главу диссертации, посвященную «искусам Священного Союза». Цымбурский, комментируя в частной беседе замысел этой статьи, высказывал мысль о том, что хочет отнестись ко всей истории русской геополитики подобно тому, как психоаналитик относится к неврозам больного. Согласно его мнению, практически вся русская геополитика трех прошедших веков была заражена своеобразным обсессивным неврозом «похищения Европы», острой потребностью с помощью имперской экспансии устранить преграды между двумя цивилизациями. Статья о Тютчеве была отмечена обращением к глубинным психологическим мотивам геополитического воображения русских внешнеполитических теоретиков, их вытесняемым страхам перед изолированным существованием России.
Однако из основного текста диссертации, куда в переработанном виде вошла статья о Тютчеве, автор, приглушая все публицистические акценты, устранил все моралистические, философские и историософские претензии к мировоззрению своих героев, и в том числе дезавуировал серьезными оговорками прежние представления о том, что натиск России на Европу и стремление закрепиться в ней в качестве одной из опор силового баланса было произвольной исторической ошибкой, и ее, если бы она была тем или иным образом осознана, можно было бы исправить. Цымбурский отказывался от всей традиционной для отечественной публицистики и свойственной ему самому ранее критики установок русских политиков как ошибочных и не соответствующих национальным интересам страны. Например, мы не услышим от него, что если бы Александр I, или же Николай I, отказался от дальнейшего «похищения Европы» и не искал союза с Австрией, то Россия, допустим, не потерпела бы поражения в Крымской войне. Подобных упреков геополитикам по должности и по призванию Цымбурский уже не делает, оставляя все свои прежние – геостратегические, равно как и квази-психоаналитические – претензии к русской геополитике, считая их, вероятно, чуждыми строго-научному подходу, требующему от историка снижения роли субъективного фактора до предельного минимума.
Вместо набора упреков к имперской геополитике России за ее открытую или подспудную приверженность идее «похищения Европы», от которой она так и не могла освободиться, в диссертации Цымбурского представлена картина динамической системы Россия-Европа, образовавшейся в эпоху, когда совместными усилиями России и германских монархий была ликвидирована Балто-Черноморская конфликтная система (БЧС). БЧС одновременно и препятствовала вхождению империи Романовых в континентальный концерт великих держав, и вместе с тем своей собственной логикой функционирования втягивала Россию в европейскую игру. Желая разрешить свои конфликтные отношения с другими членами БЧС – Польшей, Швецией и Турцией, – Россия искала поддержку в Вене и Берлине, гарантируя своим новым союзникам опору на Востоке против возвысившегося в XVIII веке Парижа. В итоге, как следует из выводов «Морфологии», Россия прорубала себе «окно в Европу» не столько в силу иррациональной любви к ней, сколько в поисках союзников против своих региональных соперников. Однако, возникнув в XVIII веке, система Россия-Европа обретала свою особую динамику, свою логику функционирования и, главное, свое фундаментальное внутреннее напряжение, избавление от которого могло прийти только с разрушением самой системы. В европейскую игру на правах ключевого ее участника включалась неевропейская по своему происхождению держава, в силу своих масштабов неспособная к полной интеграции с Европой, а в силу больших амбиций не готовая стать сателлитом какого-то одного центра силы на Западе. При этом раскол континентальной Европы на два полюса, французский и германский, ее фундаментальная биполярность гарантировали России временную востребованность в европейском раскладе сил в качестве державы, «вспомогательной» по отношению к более слабой стороне: к Австрии в XVIII – начале XIX века, Франции в конце XIX – начале XX века и англо-французскому альянсу в канун и в период Первой мировой войны.
Русская геополитическая мысль в период существования системы Россия-Европа играет двоякую роль – она отражает конъюнктуры конкретной фазы цикла развития системы, вбирая в себя все иллюзии и, как правило, ложные ожидания этого времени, и с другой стороны, схватывает в той или иной конкретной геополитической концепции определенную черту этой системы, соответствующую ее онтологии. Так, скажем, теория Николая Данилевского, возникнув в эпоху первой «евразийской интермедии», впервые смогла выразить адекватное объективной реальности представление о России как «противовесе Европе», а взгляды теоретиков фазы А, русских неославянофилов типа Владимира Эрна или Николая Бердяева, с их антигерманскими и пророманскими настроениями эпохи Первой мировой войны, выявляли адекватно факт внутренней расколотости Европы как конфликтной системы, который ускользал от взгляда как Данилевского, так и евразийцев.
В итоге, однако, «моментом истины» системы становится период ее деструкции, связанный с распадом советской империи, а теоретическим выражением этого «момента истины» оказывается сама авторская концепция «Острова Россия». Этот изящный финал «Морфологии российской геополитики» выдает философскую зависимость автора от гегелевского или даже, точнее, марксистского хода мысли – понять некую динамическую реальность системы можно, только достигнув предельной точки ее развития или же покинув эту систему. По Цымбурскому, распад СССР и эмансипация народов Великого Лимитрофа от российской гегемонии позволили увидеть, что представляла собой вся наша трехстолетняя имперская история, какую по существу изначально нерешаемую задачу ставила перед собой вся русская геополитика, пытаясь тем или иным путем избыть фундаментальное для бытия России противоречие – ее существование как европейской и в то же время контр-европейской державы. В «Морфологии российской геополитики» мы словно знакомимся с феноменами «ложного», но при этом фундаментально укорененного в социальном бытии сознания, от которого Россия получила возможность освободиться лишь с концом «имперского проекта», лишь после исчезновения системы Европа-Россия. Кстати, в этом смысле Цымбурский в своей докторской диссертации выступает не столько как геополитик, сколько в качестве радикального критика геополитики как способа «мировидения», но критика, понимающего всю историческую обусловленность постижения реальности сквозь призму политически заряженных пространственных образов.
Я бы сравнил замысел диссертации Цымбурского с книгой, оставившей заметный след в истории русской мысли, – с «Путями русского богословия» прот. Георгия Флоровского. Как и Флоровский, Цымбурский не отказывает своим героям в таланте, уме и проницательности, но, как и знаменитый богослов русского Зарубежья, он не видит в их творчестве приближения к истине, если только она вообще возможна в рамках геополитики или же философствующего богословия. Книгу Цымбурского, перефразируя знаменитое выражение Бердяева, с равным основанием можно было бы озаглавить как «Беспутья российской геополитики», как увлекательное описание интеллектуальных ходов и развязок в заведомо проигрышной партии. Три века Россия была рабом системы, из которой была не способна выйти, и только в конце XX столетия она получила шанс на свободу. Насколько этот шанс был реальным, а не очередной иллюзией – этот вопрос может быть сейчас с полным основанием обращен к автору «Острова России», и лично у меня нет уверенности в полной весомости положительного на него ответа. Однако в рамках данного вступления мне не хотелось бы вступать в какую-либо полемику с автором, который только сейчас, после выхода в свет рукописи его политологического opus magnum может быть оценен в полной мере как теоретик международных отношений и вместе с тем – как историк русской политической мысли.
Вадим Цымбурский работал над написанием докторской диссертации в течение 1995–2003 годов, за это время он осваивает колоссальный массив данных по истории русской геополитики, поражаясь интереснейшим находкам в этой области. Он не только обнаруживает новые фигуры, о которых мало известно широкому читателю, но оказывается способен рассмотреть в совершенно новом контексте фигуры первостепенные: Чаадаева, Тютчева или же Достоевского, геополитические взгляды которого Цымбурский, по-моему, раскрыл впервые в отечественной литературе. Он не скрывает своего восторга перед открывшейся ему сокровищницей русской геополитической мысли, которая еще не получила своей исчерпывающей каталогизации. «Ныне мы сознаем, – писал он впоследствии, – что в России имперской эпохи существовала, не называя себя, блистательная геополитика. <…> Мы открываем нашу геополитику, как некий русский граф узнавал из "Истории" Карамзина, что, оказывается, у него, графа, есть Отечество…»[2].
Однако с 1996 года Цымбурский впервые столкнулся с той болезнью, которая только спустя десять лет будет диагностирована с трагической точностью. Силы ученого постепенно убывают. Диссертация, текст которой он, так и не овладевший компьютерными навыками, пишет на бумагу, разрастается до гигантских масштабов. В конце концов, определяется структура из 15 глав. Из них ему удается написать – набело или вчерне – 8. Семь глав так и остались ненаписанными. За рамками рукописи остался, как можно предположить, рассказ о русской Дальневосточной эпопее 1890–1905 годов и ее идеологах, о воззрениях народника СИ. Южакова и славянофила В.И. Ламанского, о проектах Л.Д. Троцкого и других апологетов мировой революции, о геополитическом мировоззрении И. В. Сталина, наконец, о крипто-геополитике советских военных теоретиков хрущевской и брежневской эпох. Отдельных глав, безусловно, должны были удостоиться чрезвычайно ценимый ученым военный теоретик генерал H.H. Головин, прославившийся свои трудами в русской эмиграции, а также многие наши современники вроде А.Г. Дугина или Е.Ф. Морозова, чьих взглядов Цымбурский не разделял, но вместе с тем отводил им важное место в истории русской геополитической мысли. Обо всем этом ученому написать не удалось, и, по-видимому, примерно в 2002–2003 годах он пришел к выводу, что завершить начатый труд ему не хватит жизненных сил.
Ряд фрагментов рукописи к этому времени уже публиковался в качестве отдельных статей в тех или иных научных журналах. В четвертом номере за 1999 год журнала «Полис» появилась статья «Геополитика как мировидение и род занятий» – ранний вариант первой главы диссертации. В этом тексте автор раскрывает свое понимание «геополитики», решительно отказывая этой дисциплине в статусе науки: это позволяет ему анализировать взгляды не только политгеографов В.П. Семенова-Тянь-Шанского и П.Н. Савицкого или такого представителя наукообразной политической публицистики, как Н.Я. Данилевский, но и писателей, философов и даже святых, как св. Серафим Саровский.
Но уже в 2001–2002 годах увлеченной работе над диссертацией, многочасовому пребыванию в Ленинке нередко препятствовала болезнь и накопившаяся усталость, 9 декабря 2003 года, по просьбе Цымбурского, руководители Диссертационного совета при ИФ РАН И.К. Пантин и Е.А. Самарская обращаются в ВАК с Ходатайством о разрешении ему заменить полный текст диссертации научным докладом объемом около 4 п.л., вынеся на защиту «разделы работы, имеющие непосредственно политологический характер: во-первых, раздел методологический, содержащий описание циклов системы "Европа-Россия" и волн западного милитаризма, с обоснованием геостратегического двоеритмия России XVIII-XX вв.; во-вторых, раздел, демонстрирующий результаты применения этой концепции к материалу российской геополитики, а также формы и аспекты политологического анализа, проистекающие из такого применения и основывающиеся на нем».
24 декабря 2003 года из ВАКа за подписью Начальника отдела гуманитарных и общественных наук Н.И. Загузова пришел ответ следующего содержания: «Экспертный совет ВАК Минобразования России по политологии, рассмотрев ходатайство Вашего совета о возможности защиты в виде научного доклада диссертации В.Л. Цымбурского «Морфология российской геополитики и динамика международных систем XVIII-XX вв.», принял решение вернуться к обсуждению этого вопроса после опубликования основной монографии автора по теме исследования «Морфология российской политики»». Четыре небольшие монографические исследования Цымбурского и целая серия его статей, список которых был приложен к Ходатайству, не были сочтены основанием для замены диссертации научным докладом[3].
Цымбурский, по всей видимости, рассчитывал на иной ответ, в 2004 году он не просто отказывается продолжать работу над докторской, но и фактически уходит из политологического цеха, разрывает со многими коллегами, оставшимися в нем, не только деловые, но и личные отношения. Он продолжает работать в Институте философии, в секторе политической философии, которым руководит И. К. Пантин, но его явно начинает тянуть в сторону других, посторонних геополитике научных интересов. Он возвращается к изысканиям в области классической филологии, дорабатывает целый ряд этюдов в разных областях гуманитарного знания, наконец, открывает для себя новую область интеллектуальной деятельности на грани историософии и философии – хронополитику, для чего выбирает в качестве настольной книги мало ценимый академическими учеными второй том «Заката Европы» Шпенглера[4].
Рукопись «Морфологии российской политики» так и продолжает лежать в бумагах автора в его однокомнатной квартире в орехово-зуевской пятиэтажке, хотя он периодически обращается к этому тексту для написания – по случайному заказу – какого-либо нового геополитического очерка. Так, в эссе 2005 года об Александре Солженицыне и его изоляционистских мечтаниях входит значительная часть материала 4-й главы диссертации, где речь идет, в частности, о декабристах[5]. Однако, насколько мне известно, вплоть до своей кончины в марте 2009 года Цымбурский не высказывает намерения вернуться к тексту диссертации, чтобы издать его в качестве монографического исследования. В апреле 2006 года, когда Институт национальной стратегии присуждает ему премию «Солдат империи» (статуэтка с отлитыми в бронзе римскими фасциями до сих пор хранится у меня дома) и выделяет небольшие средства на издание его книги по политологии, ученый решает выпустить в свет сборник своих основных геополитических статей, который и появляется весной 2007 года в издательстве «РОССПЭН», в серии «Политологи России» под заглавием «Остров Россия: Геополитические и хронополитические работы. 1993–2006». Вдохновленный успехом и популярностью этого сборника в широкой читательской аудитории, Цымбурский в конце 2008 года задумывает опубликовать отдельной книгой другие свои труды в области политической науки в издательстве «Европа», воспользовавшись любезным предложением его фактического руководителя – Глеба Павловского. Цымбурский специально написал для своего второго политологического сборника мемуарный очерк «Speak, Memory!». Этот сборник (автор успел дать ему заглавие «Конъюнктуры Земли и Времени: Геополитические и хронополитические интеллектуальные расследования») увидел свет спустя два года после кончины автора – в конце зимы 2011. Важно отметить, что ни в первый, ни во второй сборники не была помещена автором статья «Геополитика как мировидение и род занятий», то есть первая глава из рукописи не завершенной им диссертации. В моем личном разговоре с Цымбурским на эту тему проявилось его болезненное отношение к этой статье, очевидное нежелание воскрешать ее для читателя. Но надо отметить, что при этом у нас нет ни малейших оснований считать, что теоретические выводы, в ней изложенные, автором были когда-либо отвергнуты. Можно сделать вывод, что причиной игнорирования Цымбурским статьи, предназначавшейся для введения в его диссертационный труд, было подспудное стремление когда-либо в будущем увидеть его целиком напечатанным, отказ вырывать этот текст из общего контекста работы, для которой «Геополитика как мировидение и род занятий» служила общетеоретическим введением.
Мама Вадима Леонидовича Адель Тимофеевна Цымбурская после кончины своего сына передала мне сохранившиеся в их квартире черновые рукописи диссертации. Она высказывала явное желание увидеть их опубликованными – косвенное подтверждение того, что автор, для которого его мама была самым близким и постоянным собеседником, не разочаровался в идеях диссертации и рассчитывал вернуться к работе над ней в том случае, если бы судьба отпустила ему еще несколько лет жизни. К сожалению, от выполнения просьбы Адели Тимофеевны меня отвлекла на несколько лет другая работа, и я смог вместе с коллегами приступить к дешифровке рукописи лишь в ноябре 2013 года, почти сразу после кончины мамы ученого.
Здесь мне хочется поблагодарить за финансовую поддержку нашей работы фонд ИСЭПИ и лично председателя Совета директоров этой организации Дмитрия Бадовского, который сразу откликнулся на мою просьбу о помощи. Коллектив из трех человек, включая филологов Н.М. Иова и Г.Б. Кремнева, а также автора этих строк, в течение 2013–2016 годов напряженно трудился над рукописями покойного ученого, над той горой разрозненных листков в клеточку, которую предстояло разделить по главам и представить в виде последовательного и связного текста. Что было делом нелегким, учитывая состояние этих рукописей и почерк автора.
Многие страницы рукописи отсутствовали, и теперь, после того, как квартира Цымбурских в Орехово-Зуево была продана другим жильцам, можно сделать неутешительный вывод, что эти страницы, скорее всего, навсегда пропали для исследователей. Если архив с филологическими работами Цымбурского сохранился и ждет своей публикации, то, полагаю, его рукописное политологическое наследие с выходом этой книги опубликовано полностью, и едва ли мы обнаружим еще какие-то неизвестные бумаги ученого с размышлениями на тему геополитики. Безусловно, требуется собрать и представить отдельным изданием две его относительно небольшие монографии, 1994 и 1997 гг., выпущенные в виде научных докладов и потому мало доступные для читательской аудитории: «Военная доктрина СССР и России: осмысления понятий "угрозы" и "победы" во второй половине XX века». (М.: Российский научный фонд, Московское отделение, 1994. 6, 25 п.л.) и «Открытое общество: От метафоры к ее рационализации» (в соавторстве с М.В. Ильиным; М.: Московский научный фонд, 1997. 9 п.л.). И планируя в будущем пятитомник нефилологических работ Цымбурского, мы предполагаем завершить его собранием всех публицистических сочинений автора «Острова Россия», не вошедших в предыдущие издания, среди которых есть подлинные шедевры этого не слишком ценимого самим ученым жанра.
Между тем, именно политологический opus magnum Цымбурского, его незавершенная докторская диссертация «Морфология российской геополитики и динамика международных систем XVIII-XX веков», должен стать главным аргументом в пользу того тезиса, что покойный ученый был не только выдающимся гомероведом, этрускологом и хеттологом своего времени (как о том прямо говорят его коллеги-филологи), но и крупнейшим русским политологом своей эпохи. Что его творчество, каким бы экстравагантным в ряде аспектов оно ни было, выдерживало все требования, предъявляемые сухой методологией к политической науке. Что роман филолога с политологией должен был бы по справедливости завершиться законным браком в виде присуждения ему степени доктора наук, а рожденный от этого союза ребенок – его труды в этой области – получить должное научное признание.
Увы, редакторам представляемого вниманию читателя издания пришлось в ряде случаев не только расшифровывать текст, но и пытаться реконструировать некоторые отсутствующие в рукописи или же поврежденные места – серьезные интервенции в авторский текст помещены нами в угловые скобки, некоторые неточности черновика отмечены в подстрочных примечаниях. Мы не поменяли авторскую нумерацию глав, и потому в этой книге за пятой главой будет идти восьмая, восьмую сменять десятая, а за десятой последует финальная – пятнадцатая. Если когда-нибудь нам удастся обнаружить рукописи семи отсутствующих глав, мы будем считать это величайшим подарком судьбы, но пока мы имеем дело только с тем, что осталось нам в наследство от Адели Тимофеевны Цымбурской, завещавшей нам побыстрее завершить эту работу. Следуя тому же призыву, мы ограничились приведением (и уточнением после проверки de visu) только тех библиографических сносок, на которые имеется указание в тексте рукописи внутри квадратных скобок. Разумеется, в том случае, если книга Цымбурского выйдет академическим изданием, его составителям придется поработать над тем, чтобы привести все нужные сноски, атрибутировать цитаты и прокомментировать все упоминаемые реалии. Пока же мы выполнили минимально необходимую работу, чтобы познакомить российского читателя с главным политологическим трудом выдающегося ученого. Следует также сообщить, что пятая глава диссертации (рассказывающая о первой евразийской интермедии) уже публиковалась – в первом номере за 2015 год «Тетрадей по консерватизму»[6], целиком посвященном творчеству Вадима Цымбурского. Однако в ту публикацию были внесены редакцией существенные поправки, так что именно текст главы, помещенный в настоящем томе, отныне можно считать каноническим.
Хотим в заключение также выразить признательность другу и коллеге Вадима Цымбурского – историку и политическому географу Станиславу Хатунцеву, который после знакомства с текстом рукописи книги высказал ряд ценных замечаний и представил в отдельном, специально написанном для этого издания тексте общую характеристику геополитической концепции ученого, который вошел в нашу книгу в качестве послесловия.
Мы надеемся, что наша работа не пропадет даром для отечественной науки и что теория Цымбурского, представленная в его диссертационном сочинении, станет концептуальной и методологической основой будущих исследований динамики системы Россия-Европа, равно как и даст стимул обращению следующих поколений историографов к сокровищнице русской мысли для «новых открытий чудных» в области геополитического мировидения и того рода занятий, который, вероятно, будет находить адептов до тех пор, пока существует Россия. Загадочная страна, которая вечно будет искать попеременно и «объединения с Европой», и «отъединения» от нее. Если не в «конъюнктурах Земли», то в «конъюнктурах Времени», в течениях Духа, Жизни и Творчества.
Глава 1 Геополитика как мировидение и род занятий
Русские открывают геополитику
Конец XX века в России был отмечен широким внедрением идеи «геополитического» в обиход политики, масс-медиа и общественных наук. С конца периода перестройки постепенно исчезает привычный для советских времен автоматизм огульного связывания геополитики «с противостоящими СССР политическими силами» [Разуваев 1993, 3]. В посткоммунистическом дискурсе «геополитическое» быстро обрело позитивные качества. Но нельзя упускать из вида, что первоначальные функции данного понятия в рамках этого дискурса существенно отличались от тех, которые оно получило примерно к середине 1990-х.
На первых порах апелляции к геополитике, как и к национальному интересу, выражали претензию политиков, экспертов и журналистов на деидеологизированность и реализм, якобы в противовес эмоционально-идеологическим установкам реальных или воображаемых оппонентов. При этом прокламируемые «реализм» и «геополитика» обретали самые разные прагматические аранжировки в зависимости от того, какой именно идеологии они противопоставлялись. Политологи демократического лагеря, атакуя мессианский глобализм СССР, звали к «разработке критериев своего рода геополитической разумной достаточности для России», приравнивая эту достаточность к «обеспечению как минимум экономических интересов России в мире» [Кобринская 1992, 28]. Неслучайно в первый же месяц послесоюзного существования Российской Федерации ее министр иностранных дел A.B. Козырев объявил: «Отойдя от мессианства, мы взяли курс на прагматизм… на место идеологии приходит геополитика, т. е. нормальное видение естественных интересов» («Российская жизнь», 21.01.1992). Со своей стороны публицисты патриотической оппозиции еще до конца Союза, нападая на «идеализм» горбачевского «нового мышления», твердили: «От того, что СССР станет называть себя демократией, отношение к нам соседей не изменится, ибо оно диктуется геополитикой, а не эмоциями» [Лимонов 1991]. В ту пору «антиидеологичность» геополитики казалась самоочевидной [Разуваев 1993, 5]. Даже КВ. Плешаков, введший в 1994 г. ценное, на мой взгляд, понятие «геоидеологической парадигмы», видел за ним способ взаимодействия геополитики с идеологией как существенно различных духовных комплексов, – и не более того [Плешаков 1994].
За считанные годы такое восприятие «геополитического» ушло в прошлое. К концу 1990-х можно было уверенно утверждать, что человек, который в то время продолжал отождествлять геополитику с прагматизмом и «разумной достаточностью», духовно оставался в начале завершавшегося десятилетия. Сперва политологи заговорили о готовности российских националистов «именно в качестве идеологии… воспользоваться геополитикой» [Сорокин 1995, 7]. Чуть позже, примерно с 1995 г., по наблюдению H.A. Косолапова, «в официальных документах высших эшелонов российской власти приживается формулировка "национальные и геополитические интересы России"». В те дни, сравнивая фразеологию разных политических сил, этот автор констатировал: «На авансцену политического сознания вышла и уверенно заняла на ней доминирующее место не концепция и не теория, а именно идея геополитики… Более того, идея начинает постепенно трансформироваться в идеологию». Косолапов предупреждал об опасности для наших политиков, увлекшись «идеологией геополитизма», «опять схватиться за лысенковщину вместо науки» [Косолапов 1995, 57, 61]. В том же духе другой политолог, М.В. Ильин писал о возможности зарождения в ельцинской России из «геополитических мечтаний» и «геополитической мистики» нового «единственно верного учения» [Ильин 1998, 82], а еще один автор назвал геополитику «идеологией восстановления великодержавного статуса страны» [Михайлов 1999, 6]. Ученым вторил геополитик-публицист А.Г. Дугин, который в своих «Основах геополитики» поставил ее в один ряд с либерализмом и марксизмом, т. е. отнес именно к идеологиям [Дугин 1997, 12].
Сегодня можно оспаривать эти оценки и предупреждения, но надо признать, что они были прочно вписаны в российский духовный контекст второй половины 1990-х, где роль «геополитического» оказалась несоизмерима с исполнявшейся им еще несколько лет назад функцией индикатора – чаще мнимой – идеологической нейтральности.
Как же состоялась эта перемена в прагматике «геополитического»? Сразу вспоминается выдержанная в «реалистическом» стиле формулировка из беловежского соглашения 1991 г. об образовании СНГ: «…констатируем, что Союз ССР как субъект международного права и геополитическая реальность прекращает свое существование» («Известия», 9.12.1991). Таким образом, с самого начала новой России первый же ее документ обозначил перед экспертами и публицистами возможность сравнения двух реальностей – переставшего существовать Союза и того порядка, который сменил его, – в качестве реальностей геополитических.
Эта возможность была использована россиянами двояко. Одни аналитики делали упор на геополитической преемственности РФ относительно прежней сверхдержавы. Идейное размежевание новой власти с большевизмом, грозящее порвать связь времен, отчасти нейтрализовалось заявлениями в том духе, что «вненациональная коммунистическая доктрина внешней политики СССР долгие годы маскировала геополитические факторы, никогда не перестававшие определять мировую роль России» [Богатуров, Кожокин, Плешаков 1992, 12]. Эти факторы как бы возводились в общий знаменатель прошлого и настоящего страны. Другие авторы, наоборот, указывали на глубину разлома между этими двумя геополитическими реальностями, подчеркивая опасность превращения послесоюзной России из «ядра Евразии» в «евразийский тупик» [Поздняков 1995. Туровский 1995]. Спрос на эту тематику породил волну работ, либо несших в заглавии слова «геополитика», «геостратегия» и образованные от них эпитеты, либо текстуально перенасыщенных этими понятиями. В ход пошли такие словосочетания, как «геополитическая идентичность» и «геополитическое Я России» [Этап за глобальным 1993, 36 и сл.]. Немалый вклад в этот бум внесла группа идеологов-радикалов во главе с Дугиным, издающих с 1992 г. журнал «Элементы»: своей переводческой и популяризаторской активностью они весьма содействовали распространению в новой России идей и схем классической западной геополитики.
Однако помимо этих двух функций – утверждения исторической непрерывности Российского государства и критики дня сегодняшнего с позиций лежащего в прошлом исторического идеала «геополитическое» в нашем обществе быстро обрело еще одно назначение. Мне уже приходилось писать о том, как «в обществе, круто разделенном по социальным ориентирам, геополитика, представляя страну… как единого игрока по отношению к внешнему миру, несет в себе миф "общей пользы" … поэтому искомая многими партиями и элитными группами идеология, которая бы "сплотила Россию", почти неизбежно должна включать сильный геополитический компонент» [Цымбурский 1997, 108]. Оппозиция это осознала очень рано. С 1993 г. В.В. Жириновский, Г.А. Зюганов, С.Н. Бабурин и некоторые их соратники публикуют свои геополитические кредо [Жириновский 1993; 1997. Зюганов 1994; 1995; 1997. Бабурин 1995. Митрофанов 1997]. Если политологам могла видеться в «геополитизме» угроза «новой лысенковщины», то Зюганов сравнивал геополитику по ее практической полезности с кибернетикой, также пострадавшей от советской ортодоксии. Почувствовав интегративный потенциал «геополитики как идеи», официальная власть быстро усвоила риторическую топику конкурентов. К наблюдениям Косолапова я мог бы добавить, что уже в 1996 г. в послании Б.Н. Ельцина к Федеральному собранию по вопросам национальной безопасности эпитет «геополитический» появляется семь раз, в том числе в суждении о «трех глобальных пространствах: геополитическом, геостратегическом и геоэкономическом» [Послание 1996].
К началу 2000-х гг. «прагматизм» и «геополитика» в российской прессе не только перестают сближаться и приравниваться, но даже наблюдается их полемическое разведение и прямое противопоставление. Например, по поводу московского саммита СНГ в январе 2000 г. газета «Труд» (21.3.2000) отмечала, что по сравнению с предыдущими встречами тех же лидеров, на нем «было меньше геополитики… и куда больше прагматизма». Как следствие этих новаций, в претендующем на прагматизм президентстве В.В. Путина эксплуатация идеи «геополитического» в языке публичной политики очевидным образом идет на убыль.
Но между тем тенденция более принципиальная и долгосрочная, простирающаяся за рамки текущей политической конъюнктуры как примета более общего гуманитарного стиля послебольшевистской России, проявляется в том, что под знаком идеи «геополитического» модифицируется видение и изложение в трудах историков, политологов и культурологов. За 1990-е в обиход нашей исторической и политической науки вошли идеи евразийцев первой эмигрантской волны (Н.С. Трубецкого, П.Н. Савицкого и др.), не только воспринявших на Западе и введших в русский язык еще в межвоенный период само слово «геополитика», но прямо ставивших себе в наибольшую заслугу «обоснование… геополитического подхода к русской истории» [Савицкий 1997, 126, 205]. Вслед за классиками евразийства современные специалисты по истории Древней Руси берутся рассуждать о «геополитических целях народов, обитавших на просторах Восточно-Европейской равнины» с l тыс. н. э. – целях, определяемых будто бы самой «природой Евразии», каковая «с каждым веком цивилизационного развития открывала здешнему человечеству всё новые свои прелести и сокровища, лишь подчеркивая притягательность тех или иных регионов и усложняя, обогащая геополитические интересы и мечты» [ИВПР 1999, 15].
В трудах А.П. Богданова [Богданов 1995], С.А. Экштута [Экштут 1997], О.И. Елисеевой [Елисеева 2000], А.Л. Зорина [Зорин 2001] русские тексты XVII-XVIII вв. – не только исторические и официально-политические, но также эпистолярные, поэтические, проповеднические (и даже некоторые изобразительные памятники тех эпох) – изучаются как манифестации геополитического мировидения. Всё чаще к классикам нашей имперской геополитики относят мыслителей XIX в. с панславистским реноме – таких, как Ф.И. Тютчев, Н.Я. Данилевский, В.И. Ламанский, И.С. Аксаков. В этой связи звучат также имена военных географов Д.А. Милютина и А.Е. Снесарева, экономиста и политического писателя И.В. Вернадского, политгеографа В.П. Семенова-Тян-Шанского [Алексеева и др. 2001. Киселев, Киселева 1994. Константинов 1998. Лурье 1997. Морозов 1996; 1997. Цымбурский 1995a]. Как обнаружилось за последние 10 лет, не только российскими, но часто совершенно самостоятельно западными учеными накоплен и обработан огромный материал по истории Петербургской Империи, прямо-таки напрашивающийся на осмысление в геополитическом ключе. Напомню прекрасный обзор Б.В. Межуева [Межуев 1999], посвященный американской исторической школе, исследующей проблематику русского восточничества – течения в имперской политической идеологии конца XIX – начала XX вв., развивавшего доктрину естественного пространства России в Азии – и доходившего до тезиса о паназиатском призвании России, об отсутствии у нее на азиатских направлениях сколько-нибудь жестких границ [Malozemoff 1958. Sarkisyanz 1954; 1955. McDonald 1992. Hauner 1990. Geyer 1987]. Очень значительные научные результаты принесла, я считаю, попытка СВ. Лурье охарактеризовать нашу имперскую геостратегию методами этнокультурологии, рассматривая парадоксы и тупики этой геостратегии как симптомы кризиса и мутаций православно-государственнической «культурной темы» русского народа [Лурье 1993; 1995; 1995a; 1997, гл. XI, XIII, XIX].
Применительно к большевистской эпохе новаторский труд A.A. Улуняна [Улунян 1997] продемонстрировал возможность осмыслить изменения доктрины Коминтерна за 1920–1930-е гг. в геополитическом ракурсе и описать эту динамику в строго геополитических категориях. Звучат разноречивые и, по правде, скорее импрессионистические оценки геополитики И.В. Сталина [Константинов 1997; 1997a. Роговин 1998. Михайлов 1999].
Можно утверждать, что к настоящему времени сложилась практика изучения и обсуждения «геополитического» в отечественной культуре, в том числе в истории нашей политической мысли. Ряд моих работ 1993–2003 гг. должен быть причислен к тому же, возникшему буквально на глазах исследовательскому направлению в России [Цымбурский 1993; 1995; 1995a; 1998; 2001; 2002; 2003].
Подступы к определению
Предварительный (приблизительный и недостаточный) ответ на вопрос о понятии геополитики мог бы звучать так. Классическая геополитика XX века – это особая интеллектуальная парадигма, охватывающая сразу и определенный вид отношения к миру, и, вместе с тем, – род занятий, ориентированный на классические для него образцы, ставящий перед собой характерные лишь для него проблемы и обладающий специфической техникой их решения. Нормативный смысл термина «геополитика» определяется тем, что элемент «гео-» в его составе соотносится с понятиями «географии», «географического».
По своей словопонятийной структуре «геополитика» есть некая встреча или синтез представлений о «географическом» и «политическом». Такую этимологическую внутреннюю форму вложил в это понятие его создатель Р. Челлен, назвав геополитикой гипотетическую «науку о государстве как географическом организме, воплощенном в пространстве» [Kjellen 1924, 45]. Англичанин X. Маккиндер, американец Н. Спайкмен, немцы К. и А. Хаусхоферы, русский П.Н. Савицкий[7] зовутся геополитиками, так как в их трудах политика стыкуется с географией, а политическое целеполагание – с представлением структур земного пространства.
Некоторые российские политологи в последние годы отрешаются от базисного смысла «геополитики», пускаясь в свободные переосмысления модного концепта. Так, К.Э. Сорокин хочет понимать под геополитикой «комплексную дисциплину о современной и перспективной "многослойной" и многоуровневой глобальной политике» [Сорокин 1995, 9; 1996, 16]. Аналогично КС. Гаджиев призывает переосмыслить в слове «геополитика» элемент «гео-» так, чтобы обозначать этой частицей «не просто географический или пространственно территориальный аспект в политике», но «всепланетные масштабы, параметры и измерения, правила и нормы поведения в целом, а также отдельных государств, союзов, блоков в общемировом контексте», а заодно и «восприятие мирового сообщества в качестве единой завершенной системы в масштабе всей планеты» [Гаджиев 1997, 17, 38]. При этом «геополитика» становится синонимом «мировой политики» – и, соответственно, отождествляется либо вообще с изучением международных отношений, либо с обзором наиболее глобальных всемирных процессов в духе докладов Римского клуба, – для чего в наши дни часто используется специальный термин «глобалистика».
Похоже, сознавая, что «геополитика» в его понимании во многом совпадает с глобалистикой, Сорокин попросту отказывается учитывать последний термин, относя его к «разряду журналистских изысков» [Сорокин 1995, 8]. Но такой «изыск», по крайней мере, позволяет избежать дезориентации читателя, происходящей, когда ему преподносится «геополитика без географии», с перетолкованной частицей «гео-». Можно по-человечески понять ученых, пытающихся охватить словом, популярным в нынешней России, более привычные для них формы дискурса и виды исследований. Но надо осознавать, что в этих случаях имеет место подмена предмета, терминологическая и концептуальная. Я считаю себя безоговорочно вправе исходить из нормативной трактовки, отождествляющей «гео-» в слове «геополитика» с «географией» и «пространством»: в конце концов, именно такое восприятие и стоит за наблюдаемым интересом к геополитике в нашей стране. И без того, размышляя над предметом и статусом геополитики XX в., мы сталкиваемся с массой контроверз и разноречий в авторитетных изданиях и в трудах геополитиков, ориентированных вполне «парадигмально».
В 1920-х и 1930-х годах Мюнхенскую школу геополитики, созданную К. Хаусхофером, будоражили споры о том, представляет ли эта дисциплина особую науку со своей предметной сферой и собственными законами (вроде тех «законов экспансии», которые пытался вывести ее предтеча Ф. Ратцель) – или это только метод осмысления истории и политики, группирующий факты под определенным углом зрения. Сам Хаусхофер колебался, то именуя ее, по стопам Челлена, одной из «наук о государстве», то объявляя вовсе «не наукой, а подходом, путем к познанию» [Dorpalen 1942, 24. Гейден 1960, 124]. А. Грабовский, немецкий «геополитик № 2», первый глава германского Геополитического общества, через всю жизнь пронес понимание геополитики как «метода» и «средства познания», но ни в коем случае не науки, открывающей некие законы [Гейден 1960, 124. Grabowsky 1960, 11, 143]. На руку такой интерпретации геополитики работает и крайняя эклектичность ее материала, ее свободное оперирование фактами столь разных наук, как «география, история, демография, этнография, религиоведение, экология, военное дело, история идеологий, социология, политология» и т. д. [Михайлов 1999, И. Parker 1985, 5].
В то же время, наряду с попытками представить геополитику особым методом, разделяемым географией с некоторыми общественными науками, известна и иная ее трактовка – в качестве науки вполне самостоятельной, но сугубо прикладной.
И надо сказать, что фактологическая пестрота геополитики придает особый смысл известному определению ее как «прикладной политической географии» [Encyclopaedia Britannica 1960, col. 182]. Едва ли в этой дисциплине можно видеть только практическое применение политико-географического знания – опорный ее материал никак не сводим исключительно к данным о распределении наличных политических структур на карте Земли. Скорее, понятием «прикладной политической географии» выражается то обстоятельство, что арсенал всей географии как универсального знания о конфигурациях самых разнообразных объектов, изучаемых по отдельности множеством наук [Geopolitiques des regions frangaises 1986, XV], применяется при необходимости данной дисциплиной в политических целях. Примечательно неоднократно встречающееся в немецких работах разных лет сравнение геополитики с медициной, объединяющей многообразные знания, методы и технологии общей миссией предотвращения и лечения болезней [Maull 1939, 30. Scherer 1995, 6]. В таком случае уместнее говорить не о «прикладной политической географии», а о «политически-прикладной географии». Тогда спрашивается, не вносится ли «политическое» в геополитику лишь в ограниченной мере ее материалом, в основном же – ее целями? С такой точки зрения, она может предстать и просто своеобразной политической деятельностью, «политическим искусством» в самом широком и расплывчатом смысле «искусства» как «умения», «мастерства».
Уже Хаусхофер сам дал к тому повод, обязывая геополитику научить не только народ «геополитически мыслить», но и национальных лидеров «геополитически действовать» [Dorpalen 1942, 16]. В знаменитом манифесте Мюнхенской школы «Bausteine zur Geopolitik» она на одной и той же странице определялась и как «учение о связях политических процессов с землей» и в качестве «искусства, способного руководить практической политикой» [Bausteine zur Geopolitik 1928, 27]. Отсюда понятно, почему в годы Второй мировой войны – в пору первоначальной прививки геополитики на американской земле – один американский автор трактовал ее как «доктрину и основанную на оной практику» [Mattern 1942, 11], а другой видел в ней вообще не науку, а «школу стратегии», помогающую политически нацеливать военную машину на захваты [Strausz-Hupe 1942, 101]. Наконец, в 1960-х годах Британская Энциклопедия приравняла геополитику к любой национальной политике, насколько последняя обусловлена географическим контекстом [Encyclopaedia Britannica 1960, col. 182].
Однако эта прагматизация и даже инструментализация геополитики исторически парадоксально переплелась с готовностью и ее апологетов [Дугин 1997, 12. Grabowsky 1960], и критиков [Михайлов 1999. Гейден 1960. Gottmann 1952], вплоть до откровенных хулителей усматривать в ней род идеологии и политической философии, «одну из систем интерпретации общества и истории, выделяющую в качестве основного принципа какой-то один важнейший критерий и сводящую к нему все остальные бесчисленные аспекты человеческой природы». В этом восприятии ничего не изменило то обстоятельство, что К. Хаусхофер настаивал на объяснимости политических процессов средствами геополитики не более чем на четверть [Bausteine zur Geopolitik 1928, 47. Гейден 1960, 125], стараясь сциентизировать свою деятельность и как бы подводя ее заранее под критерий фальсифицируемости К. Поппера.
Контроверзу между «наукоцентричным» толкованием геополитики и пониманием ее в смысле идеологического всеобъясняющего «учения» попытался в 1947 г. разрешить по-своему Ж. Готтманн, расценив, по крайней мере, германскую ее версию как «продукт многовекового развития географических интерпретаций истории, адаптированный к потребностям пангерманизма» [Gottmann 1947, 18], иначе говоря, представив ее грубо идеологизированной позитивной наукой (сравним это со словами Косолапова о «новой лысенковщине»!) Но при таком взгляде оставались совершенно непонятными отмечаемые самим Готтманном влияние и популярность методов Мюнхенской школы в США [там же, 37 и сл.]. Ясно, что американцев не могли пленить ни чуждый им пангерманизм, ни историко-географический базис этой школы – общее достояние западной науки. В германской геополитике после «химического» ее разложения Готтманном обнаруживается какой-то важный и заразительный остаток, которого не отразила формула французского географа[8].
Как видим, в этих спорах геополитика нам предстает героиней с тысячей лиц: то ли она – наука, пытающаяся открывать законы явлений, то ли просто метод обработки данных, то ли множество разнородных знаний, методов и идей, сообща служащих целям политики и тем самым образующим прикладную науку; она – и «школа стратегии», и политическая доктрина определенного толка, и вообще иное название для любой национальной стратегии; иногда она предстает идеологией, или философией истории, или результатом злонамеренной идеологизации какой-то из вполне респектабельных наук. Можно ли разобраться в этих противоречивых трактовках? Или придется согласиться с Э.А. Поздняковым, который, сам выступая практикующим геополитиком, написал о тщетности стараний найти «четкую и всеобъемлющую формулировку геополитики, которая могла бы удовлетворить взыскательного читателя и дать строго научное понимание этой области» [Поздняков 1995, 37]?
Понятно, что в таких обстоятельствах некоторые политологи склонны признать в геополитике когнитивный конгломерат, где научный компонент сосуществует с иными составляющими, опять же вслед за Готтманном, как-то заявлявшим о германской геополитике, будто бы «в ее публикациях можно найти всего понемногу – от самой метафизической философии до повседневных военных наставлений» [Gottmann 1952, 59].
В том же духе М.В. Ильин намерен различать под маркой «геополитики» – во-первых, геополитические мечтания – «дилетантское философствование на темы политики, пространства и истории», способное стать для политиков «руководством к действию» и обрести свойства «геополитической мистики»; во-вторых, геостратегические штудии – «ресурсные, обычно силовые, а изредка функциональные модели государств-Левиафанов и отношений между ними»; и, наконец, лишь в-третьих, «геополитику в строгом смысле», подлинную науку. Такой наукой он полагает «знание (учение) об организации политий в качественно определенном пространстве», состоящее, «прежде всего в выяснении взаимодействия природных и, шире, географических факторов… с различными системами и способами политической организации». Основная проблематика этой науки для него заключена во «внутреннем устройстве (конфигурации сочленения географических возможностей и принципов политической организации) отдельных политий» [Ильин 1998, 82 и сл.].
Если отвлечься от полемичности некоторых определений Ильина, вроде слов о «дилетантском философствовании», похоже, что два важнейших яруса геополитической практики – геополитическая имагинация и геостратегические разработки – им выделены верно и именно они ответственны за отождествление ее одними авторами с идеологией и философией, а другими – со «школой стратегии». Что же касается очерченной им области «геополитики в строгом смысле», то тут напрашиваются два принципиальных замечания.
Прежде всего, неочевидно, что предложенное Ильиным определение охватывает те классические труды и идеи XX в., с которыми в этом веке был, в основном, связан образ геополитики как интеллектуальной парадигмы. Вспомним некоторые из этих идей:
● развитую Маккиндером доктрину евроазиатского хартленда как «географической оси истории», ключа к мировому господству, якобы оказавшегося к началу XX в. в руках России [Маккиндер 1995];
● высказанную им же в 1943 г. идею мирового «осевого ареала», объединяющего тот же хартленд с Западной Европой и Северной Америкой, окаймленного евроазиатскими, американскими и африканскими пустынями и противопоставленного другому великому пространству – поясу муссонов [Mackinder 1943];
● проект раздела мира на несколько огромных меридиональных гегемоний – «Пан-Европу», «Пан-Азию», «Пан-Россию» и «Пан-Америку» – по К. Хаусхоферу [Haushofer К. 1934, 95. Parker 1985, 73 и сл.];
● концепцию евроазиатского и североамериканского приморья-римленда как инкубатора держав – «мировых господ», выдвинутую в 1916 г. Семеновым-Тян-Шанским [Семенов-Тян-Шанский 1996, 599], а в 1942 г., независимо от него, Спайкменом [Spykman 1942];
● гипотезу столкновения цивилизаций как консолидированных политических пространств, обычно связываемую сейчас с именем С. Хантингтона, но на самом деле восходящую к раннему (1931 г.) варианту «геополитики панидей» Хаусхофера, в свою очередь очень близкому к доктрине цивилизационно мотивированных «государств-материков», которую разработал в 1927 г. русский евразиец К.А. Чхеидзе [Хантингтон 1994; 1997; ср. Haushofer К. 1931. Чхеидзе 1927, 32 и сл. – с очень важным комментарием П.Н. Савицкого].
Если придерживаться критериев Ильина, едва ли не все эти классические для исследуемого направления теории, пожалуй, следовало бы отнести не к «геополитике в строгом смысле», а либо к геостратегическим экзерсисам, либо к философствованию на темы политики, пространства и истории. Во всяком случае, если «строгая геополитика» должна главным образом заниматься внутренним строением существующих государств, то перечисленные идеи и модели окажутся, в лучшем для них варианте, на дальней периферии этой науки.
Кроме того, конструируя идеальный образ геополитики как науки, Ильин не уделяет внимания существованию реальной академической дисциплины «политическая география». Известно, что геополитика сперва развивалась в лоне последней: по этому ведомству проходили труды Ратцеля и раннего Маккиндера. Но, начиная с Челлена, как геополитики, так и политгеографы постоянно пытаются провести – пусть условно – разграничительную черту между двумя интеллектуальными областями и профессиями. Не у всех это получается достаточно отчетливо. Таково утверждение Челлена и Хаусхофера о том, что геополитика изучает государство как «пространственный организм», а политическая география – землю в ее качестве «обиталища человеческих сообществ», т. е. опять же пространственных организмов [Dorpalen 1942, 24]. Или утверждение Позднякова: якобы политическая география рассматривает государство (и соответственно политику) с точки зрения пространства, а геополитика – пространство с точки зрения политики [Поздняков 1995, 41]. Ведь на практике не так-то легко бывает сказать, что с точки зрения чего рассматривается. Тут стоит вспомнить попытку Р.Ф. Туровского [Туровский 1999, 10, 38] интегрировать геополитику в политическую географию на правах отрасли, занятой «балансом сил в мире и географией международных отношений». С определением Туровского нельзя согласиться уже потому, что оно не покрывает внутренней геополитики государств. Но поучительно само разногласие между дефинициями Ильина, пытающегося замкнуть «научную геополитику» на «внутреннее устройство отдельных политий», и Туровского, ограничивающего ее внешнеполитической сферой: мы видим, с какими сложностями сталкиваются попытки вписать геополитику в систему научного знания. Но тем показательнее очень наглядные случаи, когда именно политической географии по преимуществу приписывают круг интересов, вменяемых Ильиным «геополитике в строгом смысле».
Так, среди опытов разграничения двух дисциплин очень показательны предпринятый в 1930-х коллегой Хаусхоферов О. Маулем и через полвека, в 1980-х, американцем Дж. Паркером. Эти версии серьезно различаются, но, сопоставляя их, можно, через сами их расхождения, прийти к интересным выводам относительно природы и назначения геополитики.
Мауль уступил политической географии всю статику государства – его расположение, форму, размеры и границы, его физико-географические и культурные свойства, а заодно и прошлую динамику государства – историю его пространственного формирования, все, говоря словами Ильина, «знание об организации политии в качественно определенном пространстве». Политическая география должна осмыслять эти «пространственные данности» (Raumgegebenheiten), тогда как геополитика, по Маулю, живет «пространственными потребностями» (Raumerfordernnisse) государства. «Геополитическая постановка проблем, геополитическое исследование и обучение начинаются с вопроса о том, служат ли и как служат природные и культурные факторы политике, относящейся к пространству, соответствуют ли ее требованиям и насколько». Сами пространственные запросы государства Мауль свел в иерархию, начиная с минимальных первичных условий для его возникновения, обеспечивающих внутреннюю связность и целостность данного образования, и далее располагая возможности для его самозащиты и прироста, для выработки форм взаимодействия с внешним миром, всё более благоприятствующих государству, его народу и экономике. Политической географией, «наукой-матерью» осмысляются прошлое и настоящее, царством же геополитики оказывается проектируемое будущее [Maull 1939, 37].
Сходным образом, хотя и в менее ясных выражениях, другой автор Мюнхенской школы О. Шефер предлагал спрашивать с политической географии «картину того, как пространство воздействует на государство», а геополитике передоверял «вопрос о том, как государство заставляет его (пространство) служить намеченным целям» (цит. по [Соколов 1993, 133]). Здесь, по сути, проводится то же различие, что и у Мауля, – между упором на данности и на потребности, на констатацию и на проектирование.
Обратясь к Паркеру, видим, что он проводит демаркацию совсем иначе, чем немецкие геополитики. Для него политическая география – это наука о жизненных условиях отдельных государств. Эти государства «могут рассматриваться как некие кубики. А те узоры и структуры, которые возникают из этих кубиков, составляют главный интерес геополитического исследования». Рассуждая об «эклектической природе» и вместе с тем о «холистическом подходе» геополитики, о ее стремлении выявлять в политической сфере пространственные ансамбли или целостности (нем. Ganzheiten) «при помощи анализа, а также постулирования гипотез и теорий», Паркер близок к истолкованию исследуемой нами дисциплины как метода конструирования таких целостностей, которые могли бы получать политический смысл, складываясь из разнородных географически аранжированных данных [Parker 1985, 2–5].
Казалось бы, его расхождение с Маулем и Шефером огромно: для них в фокусе геополитики – нужды державы, а для Паркера – соединение стран в более обширные конфигурации (см. определение Туровского). Но есть общая черта, которая объединяет противопоставление геополитики и политической географии у немецких авторов и у Паркера. Эта черта – приписываемая геополитике в обоих случаях проектность, всё равно – проявляется ли она в изыскании средств для удовлетворения предполагаемых державных запросов или в усмотрении тех целостностей, для которых государства при некоторых условиях могут послужить чем-то вроде кубиков конструктора (кстати, показательна сама эта метафора, конструктивистская и вместе игровая).
Едва ли Паркер прав, когда работу с такими ансамблями считает исключительной прерогативой геополитики. Не случайно англичанин П. Тэйлор свое сугубо объективистское описание глобальных пространственно-политических структур с позиций миросистемного анализа назвал не «Геополитикой», а «Политической географией» [Taylor 1985]. Для политической географии пространственная мотивированность и пространственное воплощение политики – это самодовлеющие предметы изучения. Для геополитики же вся информация на этот счет представляет обоснование и опору политического волеизъявления. Поэтому геополитика может провидеть «политическое» там, где его не обнаруживает политическая география (как К. Хаусхоферу открывалась в чисто физико-географической реальности тихоокеанского пояса муссонов возможная суверенная империя «Пан-Азии»). Эту разницу А. Хаусхофер броско иллюстрировал примерами из древней истории: «Задаваясь вопросом о том вкладе, какой вносило географическое положение столичных городов – Вавилона, Сузы, Персеполиса и Пасаргада – в их изменчивую значимость для державы Ахеменидов, мы это делаем в рамках политико-географического исследования. Но основание Александрии великим македонцем мы по праву назовем актом геополитического мировидения» [Haushofer A. 1951, 19].
Аналогично авторам, мнения которых мы привели выше, один из крупнейших геополитиков современной Франции И. Лакост указывает, что «политико-географический анализ ограничивается в каждый момент описанием и измерением различия политических отношений… в разных частях какой-то территории, тогда как анализ геополитический… намного более озабочен стратегиями, направленными на то, чтобы модифицировать (или поддержать) разными способами отношения людей, живущих на некой территории, к государству, от которого они зависят, или к различным политическим силам, или к другим государствам» [Geopolitiques des regions frangaises 1986, XIX]. Для Лакоста понятие «геополитики» охватывает как реальные пространственные стратегии тех или иных политических сил, так и сопоставительное экспертное рассмотрение и оценку подобных стратегий [там же, XVII].
Когда-то в 1938 г. Е.В. Тарле в полемически-обличительной статье против германской геополитики определил ее как «такую "науку" (в кавычках. – В.Ц.), которая больше думает о будущей географии, а не о настоящей, о будущих «пространствах»». Она «не столько учит тому, что было или что есть, сколько возбуждает стремленье к тому, что желательно» [Тарле 1938, 99–100]. Похоже, Тарле здесь сумел ухватить типичную черту не только геополитики Третьего Рейха, но и любой другой, внушающей своими географическими образами и закладываемыми в них политическими сюжетами либо «стремление к тому, что желательно», либо представление о назревающей угрозе, каковую необходимо предотвратить методами пространственной стратегии.
Можно заключить, что геополитика начинается там, где налицо – пусть в замысле или в умственной модели – волевой политический акт, отталкивающийся от потенций, усмотренных в конкретном пространстве. И интересуют ее только такие пространственные структуры, которые мыслятся как субстраты, орудия и проводники порождаемых ею политических планов. Очень сильно, хотя и не без перегибов, об этом недавно написали два автора: «Политический регион представляет собой определенную территорию, выделенную субъективным способом, произволом доминирующей геополитической силы… потому, что таким образом ей удобно рассматривать пространство своего действия. Мыслительные структуры накладываются на реальность… В целом геополитический проект описывается скорее не как принцип организации пространства, а как способ действия мировых сил, способ, строящийся лишь отчасти на реальной переорганизации территории региона» [Лурье, Казарян 1994, 94]. Авторы явно недооценивают меру, в которой «удобство» или «неудобство» конкретного волевого отношения к пространству бывает обусловлено географическими реалиями, но они правы в понимании того, что природа геополитики заключена в конструктивистском подходе к географии человеческих сообществ.
Возможно, здесь кроется объяснение столь неприятного для Готтманна 1940-х годов влияния немецкой геополитики в США: влияла не историко-географическая эрудиция и не пангерманистская ее обработка, но сам дух проектного отношения к земной поверхности, дух сборки макрогеографических композиций при осуществлении мировых заданий сверхдержавы.
И всё же, неверно полагать, что политическая география изучает, а геополитика только планирует, – нет, последняя тоже исследует, умственно «прощупывает» мир, но исследует она его в целях проектирования, а часто также и через его посредство. При этом я вовсе не отрицаю ценности науковедческого подхода, полагающего сущность работы ученого в построении и испытании интеллектуальных проектов. Но надо иметь в виду, что целью научных проектов в конечном счете считается обретение некой истины или, по крайней мере, приближение к ней через более глубокое познание разрабатываемого материала. Целью же геополитического проектирования в XX веке было достижение собственно политического эффекта. Проекты классической геополитики, перечисленные выше, – это политические проекты, обращенные скорее к «политическому классу», чем к научному сообществу. Я вовсе не отрицаю и того, что многие науки имеют или способны иметь прикладной, обращенный к практике проектный аспект. Но в случае с геополитикой приходится констатировать, что под влиянием исторической конъюнктуры XX в. проектный аспект политической географии отделился от нее, обретя особый статус и не только существенно расширенную фактическую базу, но также и собственные приемы вчитывания «политического» в неполитические субстанции. Похоже на то, что сциентистский дух XX века легитимизировал в качестве дисциплины с претензиями на статус и функции «науки» определенное мировидение и связанную с ним совокупность когнитивных форм и стратегических технологий, которые в другие эпохи и в других обществах политически реализовались вне увязки с задачами научного познания мира (ср. только что процитированные слова Хаусхофера-младшего о египетской геополитике Александра Македонского).
Оппоненты геополитики – например, Тарле [Тарле 1938, 100] – охотно указывали на ее способность, а порой и готовность включаться своими конструктами непосредственно в дело политической пропаганды, как понимает ее назначение геополитик. Ведь нельзя, в частности, не видеть того, что стратегическое постулирование потенциальных пространств с особыми политическими качествами является деятельностью, во многом подготавливающей и мотивирующей внесение соответствующего самосознания в человеческие сообщества предполагаемых (виртуальных) ансамблей. Так, создавая в 1903 г. концепцию хартленда, Маккиндер находил возможную мотивировку для сплочения приморья Евро-Азии и Внешнего Полумесяца океанических государств под британским водительством против «русской угрозы». Так К. Хаусхофер вырабатывал пропагандистские предпосылки развертывания меридиональных колоссов «Пан-Европы» и «Пан-Азии». И точно так же русские евразийцы, строя картину «особого мира России-Евразии», сцепленного единой судьбой и закольцованного симметрией природных зон, надеялись внедрить этот образ в сознание народов бывшей Российской империи, чтобы тем самым предотвратить предвидимый ими второй, послебольшевистский распад страны.
Разумеется, геополитика – в том идеале, который для ее классиков был нормой – должна основываться на тщательном изучении реалий, а осмысление их геополитиками могло восприниматься политической и географической наукой, расширяя репертуар их моделей и аналитических приемов. Тем не менее, всё это относится либо к условиям работы геополитиков, либо к применимости их результатов за пределами парадигмы, – но едва ли к сущностным ее особенностям.
Конечно же, категории политической географии как академической науки и геополитики отчасти пересекаются. Отнесение отдельных понятий к сфере той или иной дисциплины определяется в конкретный момент дискурсивной прагматикой. Так, ряд понятий, введенных Плешаковым [Плешаков 1994]: «эндемическое поле государства», «пограничное поле», «тотальное (непрерывное) поле», «метаполе (поле, осваиваемое одновременно несколькими государствами)», «геополитическая опорная точка», – могут быть использованы политической географией как категории, характеризующие некоторую наблюдаемую реальность. В рамках этой науки термин «геополитическая опорная точка» отражает лишь общую возможность использования участка земли для осуществления некой региональной политики. Но все эти термины оказываются инструментами геополитики тогда, когда выступают средствами разработки и формулировки политического замысла.
Мода на геополитику в России оборачивается, помимо прочего, и тем, что некоторые авторы заявляют о себе как о геополитиках, на самом деле работая – иногда блестяще – где-то на стыке политической и исторической географии. Но в отличие от претензии на «геополитику без географии» вообще такие неточности самоидентификации не столь опасны, поскольку не слишком искажают в глазах общественности образ дисциплины.
Геополитика в контексте XX столетия
И недруги классической геополитики, особенно в странах социализма [Гейден 1960, Семенов 1952, Каренин 1971], и более объективные ее историки [Parker 1985, Fifild, Pearcy 1944, 6] часто усматривали ее корни в империализме конца XIX – начала XX в. При этом всегда вспоминалась немецкая идея «жизненного пространства» и охотно цитировались слова Маккиндера о «закрытии мира», наступившем в результате его империалистического исчерпания и раздела: «В Европе, Северной и Южной Америке, Африке и Австралазии едва ли найдется место, где можно застолбить участок земли… Отныне в постколумбову эпоху нам придется иметь дело с замкнутой политической системой, и вполне возможно, что это будет система глобального масштаба» [Маккиндер 1995, 163]. Столь авторитетный геополитик, как Грабовский, в своей последней книге 1960 г. «Пространство, государство и история» прямо расписался во влиянии, оказанном на него как профессионала теорией империализма, и посвятил ей большой раздел [Grabowsky 1960, 10, 93–142]. Но как же на деле соотносится географический конструктивизм этой парадигмы с колониалистскими реалиями времен С. Родса и Вильгельма II?
Нельзя забывать, что в ту пору закрытость «постколумбова мира» связывалась не только с глобализацией рынка и коммуникационным «уплотнением ойкумены» [Гаджиев 1997, 5], но, главным образом, с закрытостью самих разделивших планету колониальных империй, которые жесткостью своих границ воспроизводили в расширенном масштабе территориальную замкнутость своих европейских «материнских» наций-государств. И это несмотря на то, что складывались такие империи из кусков земли, раскиданных по разным частям света. В первой трети XX в. будущее расчлененного мира дискутировалось многими мыслителями, видевшими его судьбу по-разному. К. Каутский видел это будущее как униполярный и плановый ультраимпериализм. А. Бергсону представлялся конфликт между всё более интернациональной экономикой и обособленностью национально-государственных организмов, который могло бы преодолеть лишь складывание «открытого общества», т. е. космополитической духовной элиты. Последняя, проведя культурно-религиозные реформы, оказалась бы в состоянии ограничить опасно растущее потребительство «закрытых» массовых обществ[9]. В.И. Ленин был убежден, что мир «закрытых» империй, неспособных решать свои проблемы за счет ничейных земель, обречен на неравномерность развития и непрестанные военные переделы, открывающие путь для революционных прорывов социализма в слабых звеньях международной системы. Тут Ленин отчасти сходился с Маккиндером, предрекавшим, что «всякий взрыв общественных сил вместо того, чтобы рассеяться в окружающем неизведанном пространстве и хаосе варварства, отзовется громким эхом на противоположной стороне земного шара». В итоге, по мнению британского ученого, «разрушению подвергнутся любые слабые элементы в политическом и экономическом организме Земли» [Маккиндер 1995, 163].
Наряду с другими идеологами той эпохи свое решение проблемы реорганизации «постколумбова мира» предложили и геополитики. Они указывали, что сепаратизм национальных имперских сфер приходит к своему концу, взамен чего происходит складывание тоже разграниченных, но неизмеримо более крупных пространственно-связанных образований на новых основаниях – физико-географических, экономических или культурно-цивилизационных. В виртуальном мире геополитики важнейшими величинами становились подобные новые целостности, которые в германской традиции были окрещены «большими пространствами» (Grossraüme), или «большими формами жизни» (Grosslebenformen). Одни проектировщики делали ставку на их формирование, другие, как Спайкмен, страшившийся окружения Северной Америки союзом восточноазиатского и западноевропейского гегемонов, стремились предотвратить возникновение таких сверхдержав в Евро-Азии. Хаусхофер говорил в связи с этим о «панидеях» – консолидирующих сверхнациональных идеях, способных и стремящихся обрести пространственное воплощение. В литературе отмечалось, что прообразами таких конструктов для геополитиков служили доктрина Монро как выражение «панконтинентального сознания» и объединение Италии – пример преобразования географической категории в политическую, подчиненного сверхзадаче строительства нации [Gottmann 1947, 24. Strausz-Hupe 1942, 9].
В неявном виде идея Большого Пространства живет не только в немецкой версии этой парадигмы. Обратимся еще раз к «Географической оси истории» Маккиндера. Мы узнаем из нее, что в прошлом столкновения приморья с силами хартленда распадались на множество отдельных конфликтов без большого мирового резонанса. Приморский «полумесяц» Евро-Азии был феноменом сугубо географическим. В условиях же мира закрытого и проникнутого резонансом, государства приморья, чтобы избежать общего крушения – удела всех «слабых элементов в организме Земли», – должны сплотиться против хартленда в гигантский блок, проникнутый единством интересов. Маккиндер утверждает: приморье Старого Света должно себя осознать феноменом политическим, восприняв сюжет, вчитанный этим автором в мировую историю и географию. Можно сказать, что геополитика в самом деле была порождена евроатлантическим империализмом, но порождена как одна из программ его преодоления и изживания в той его форме, в которой он выступал до Второй мировой войны. Кстати, Тарле в своем памфлете против германской геополитики сумел оценить ее глубочайшее расхождение с привычной империалистической политикой колониальных приобретений [Тарле 1938, 98].
Один критик выделял в аппарате немецкой геополитики три якобы отдельных ключевых представления: Большое Пространство, «жизненное пространство» народа и мотив противостояния Суши и Океана [Гейден 1960]. Думается, эти идеи не являются независимыми друг от друга: на деле, и Суша с Океаном, и «жизненное пространство», охваченное политическим, экономическим и культурным преобладанием данного народа, – это лишь частные случаи Больших Форм Жизни. Но и сам гроссраум – только частное проявление более фундаментальной категории, на которую опирается геополитика как мировидение. Такой категорией служит географическое явление, не просто влияющее на политические процессы – о чем судить политической географии, но предназначенное к волевой трансформации в феномен политический, поскольку, говоря словами цитированных выше авторов, – политической силе удобно и угодно в некий момент так видеть поле своего действия.
Можно попытаться типологизировать геополитические идеи, школы и традиции по специфике политических отношений, определяющих конкретные проекты. К примеру, в «Географической оси истории» Маккиндера и в его более поздней книге «Демократические идеалы и реальность» проектирование строится на принципе конкуренции, состязания автономных политических сил[10] [Mackinder 1919], будь то необходимость для приморья сбалансировать превосходство хартленда или тяжба западных держав за контроль над Восточной Европой – ключом к влиянию на тот же хартленд в условиях распада Российской империи.
Для немецкой классической геополитики характерно вкладывание в географию отношений господства-подчинения, реализуемых с целью планомерного волевого переустройства Земли. Таковы – и доктрина Ратцеля с образом государства-организма, которое, поглощая все, что может, по соседству, стремится таким образом врасти в контуры континента; и «плановая пространственная экономика империалистической эпохи», призванная, по Грабовскому, заступить место произвольной «политики расширения» в стиле Ратцеля [Гейден 1960, 79]; и «геополитика панидей» в позднейшей разработке, согласно которой область реализации каждой панидей является одновременно «жизненным пространством» для несущего эту панидею народа-гегемона [Haushofer К. 1937] (однако, в первоначальном 1931 г. варианте этой концепции очень ощутим также и атональный пафос тяжбы между панидеями за народы и пространства, причем сознание некоего народа может становиться полем столкновения нескольких разных панидей, пытающихся навязать себя народу в качестве форм его геополитической самоидентификации [Хаусхофер 2001]). Любопытно, что даже в известных работах К. Шмитта (впервые введшего сам термин Grossraum) о «номосе Суши» и «номосе Океана» характеристика «номосов» как резко различных принципов организации жизни на Больших Пространствах отодвигает на второй план тему прямой конкуренции и борьбы политических сил, олицетворяющих эти принципы[11].
В геополитике американской маккиндеровское агональное начало, похоже, перекрывается сильным немецким влиянием, о котором писал еще Готтманн. Мотив властной организации режимов в масштабах отдельных ареалов и земного пространства в целом проходит от первых работ Спайкмена и Р. Страуса-Хюпе до современных миродержавнических построений 3. Бжезинского на «великой шахматной доске» [Бжезинский 1998]. Но по-своему он преломился и в плюралистической доктрине Хантингтона с ее стремлением предотвратить битвы цивилизаций созданием такого глобального порядка, где бы цивилизационные ареалы были вверены гегемонии их ядровых государств, что представляет собой решение полностью в стиле Хаусхофера.
Французская геополитика П. Видаль де ла Блаша, Ж. Анселя и их продолжателя Готтманна склонна опирать становление Больших Пространств прежде всего на отношения многообразной кооперации, что дает повод упрекать эту школу в «оптимизме и некоторой наивности» [Сороко-Цюпа 1993, 111]. Впрочем, то же отношение кооперации, сопряжения взаимодополняющих потенциалов преобладает и в той ветви российской геополитической традиции, которая идет от евразийцев (ср. [Ильин 1995]). Хотя к этой ветви наша традиция в целом далеко не сводится. Эту типологию можно дополнить и усовершенствовать с учетом геополитических «подпрограмм» и «метапрограмм», способных подчинять один геополитический сюжет, с заложенным в него политическим отношением, другому сюжету, где может реализоваться иное отношение. Так в основной сюжет состязания Германии и держав Океана из маккиндеровских «Демократических идеалов и реальности» под впечатлением торжества Антанты над Вторым рейхом встраивается подсюжет плановой реорганизации Восточной Европы в видах стран-победительниц, закрывающей немцам пути как на Ближний Восток, так и в глубину Евро-Азии. В его же «Круглой Земле и обретении мира» [Mackinder 1943] над, казалось бы, основным сюжетом, пропагандирующим кооперацию стран Северной Атлантики («Средиземного Океана») с СССР – держателем хартленда ради выживания современной цивилизации, надстраивается метасюжет, провозглашающий уравновешение этого широтного человеческого миллиарда христианских народов меридиональным человеческим миллиардом консолидированного пояса муссонов ради создания «мира счастливого, ибо сбалансированного».
Намеченная типология в то же время перекрывается той двоякостью, которая отличает идею геополитики как таковую. Мы уже видели эту двоякость, обсуждая разницу между политической географией и интересующей нас дисциплиной в трактовках Мауля и Паркера.
От военной географии XIX в. и школы Ратцеля геополитика унаследовала этатистскую фокусировку, ставящую ей в обязанность служить требованиям государства, прояснять их, быть государству «пространственным самосознанием» [Bausteine zur Geopolitik 1928, 27]. Но вторым ее, столь же законным, фокусом являются сами по себе перспективы конструирования Больших Пространств, новых целостностей, в которые входят «кубиками» страны с их народами, почвой, хозяйством. Никто иной, как классик американской реалистической политологии X. Моргентау пенял геополитикам за склонность рассуждать о том, «какое пространство предопределено принять у себя владык мира», часто оставляя в стороне вопрос – «какой конкретно нации достанется это владычество» [Morgentau 1978, 165]
Напряжение между двумя возможными фокусировками геополитики XX в. может смягчаться и опосредоваться разными приемами, – например, как в Германии, идеей демографического, культурного или расового превосходства нации над соседями, которое бы делало замышляемый гроссраум ее имперским «жизненным пространством». Но при всех подобных уловках всегда сохраняется риск, что «геополитика панидей» окажется черным ходом для своеобразного «геополитического идеализма», проповедующего политику идеалов, а не интересов и убеждающего народы и государства жертвовать своим эгоизмом, а то и самим своим суверенным существованием ради суверенитета Больших Пространств. Сейчас в России этот вид идеализма ярко обнаруживают писания Дугина.
Весьма оригинально эта вторая фокусировка дисциплины под конец XX в. проявляется на Европейском субконтиненте, где многие национальные государства подвержены двойному прессингу, как со стороны гроссраума объединенной Европы, так и со стороны своих собственных регионов. В геополитике такое состояние оборачивается планами дробления национальных пространств, например, немецкого или итальянского, – а также сборки новых политических целостностей по экономическим критериям из географически смежных регионов разных существующих государств. Как отмечают политологи, мозговой штурм, порождающий подобные структуры, прокладывает дорогу новым регионалистским лояльностям, расшатывая лояльности государственно-национальные [Стрежнева 1993. Жан, Савона 1997]. Вообще, в 1990-е годы на Западе появляются интересные образцы «новой геополитики», которая, разрабатывая геоэкономические транснациональные паттерны, рассматривает государства просто как часть среды, на каковую эти паттерны проецируются [Agnew, Carbridge 1995. Quadrio Curzio 1994]. В отечественной прессе проскальзывают аналогичные попытки проектировать постсоветские целостности, соединяя российские регионы в мыслимые суверенные ассоциации с частями зарубежного соседства.
Как правило, геополитик вольно или невольно делает двойной выбор. Во-первых, ему приходится определяться с тем, что для него является основной реальностью – государство, с его предполагаемыми требованиями, или разного рода «виртуальные пространства», способные это государство поглощать или разрывать. В зависимости от этого выбора либо Большое Пространство видится территориальным ореолом ядровой державы, угодьями какой-то основной имперской нации, либо, напротив, само государство представляется временным волевым соединением географических регионов, способным обесцениваться и перерождаться в материал для геополитических форм, которые может создать другая политическая воля. А во-вторых, как уже говорилось, геополитик обычно выбирает в качестве главного определенное политическое отношение – господства, соревнования или кооперации, – на которое делает основную ставку в своих конструктах.
Итак, в империализме начала XX в. следует видеть внешний фактор, который побудил геополитику, существовавшую как «явление в себе» сотни и тысячи лет, образовать осознанную парадигму, т.е. (о чем уже говорилось выше) не только обосновать себя как тип мировоззрения, но и выделиться в регулярную политически значимую практику.
В первом аспекте геополитика представляет собою восприятие мира в политически заряженных географических образах. А во втором – ее можно определить как специфическую деятельность, которая, вырабатывая такие образы, часто не совпадающие с границами существующих государств, имитирует процесс принятия политических решений, а иногда и прямо включается в этот процесс. Я отмечал выше, что она ищет способы превращения географических структур в политические, иногда даже в государства. Но в такой же мере ее предметом, как ни цинично это звучит, может быть политическая расчистка пространств для новых построений, т.е. низведение политических образований до чистой географии, в том числе переработка государств в открытые переделам населенные территории. Если под «геополитическим» в XX в. понимать политизированные географические конфигурации, то очевидно, что парадигмальная классическая геополитика не столько изучала геополитическое, сколько целенаправленно его производила, говорим ли мы о Маккиндере или Хантингтоне, Хаусхофере или Спайкмене. Классическая геополитика своим моделированием политики прямой выработкой целей для нее представляла скорее компонент политики, чем ее академическое изучение.
Этот общий характер дисциплины выразился и в частных ее приемах. Один из них назовем методом «земля хочет». Применяющие его авторы, показав физико-географическое отношение данной территории к соседним ареалам, затем подверстывают под заданный результат политическую ориентацию ее населения и поддерживают эту ориентацию или пытаются скорректировать, но в любом случае утверждают законность тех устремлений, которые будто бы внушает народу его земля. Скажем, евразийцы, рисуя самозамкнутый географический мир «России-Евразии», делали вывод, что для русского, татарина и бурята «евразийская» идентичность должна стоять неизмеримо выше идентичности славянской, мусульманской или буддистской. Другой пример: два крымских геополитика, сообщив, что Крым геологически гетерогенен украинскому Причерноморью, что эти зоны разнятся почвами и флорой, а отношение длины перешейка к периметру побережья дает у Крыма наименьшую цифру среди больших полуостровов Евро-Азии и приближает его к островам, – выдают эти факты за мотивирующую «волю земли», соотнося их с антикиевскими настроениями в Крыму [Киселев, Киселева 1994]. Причем в расчет сознательно не принимается снабжение Крыма днепровской водой, радикально осложняющее «островной» проект.
Частным случаем метода «земля хочет» можно считать прием «так было – так будет», посредством которого ученые, экстраполируя политические тенденции, наблюдавшиеся в прошлом на качественно определенном пространстве, выводят из них сценарии для будущего. Еще одним приемом служит стенографирование ареальных или трансареальных политических процессов при помощи образов и схем, которые как бы обретают свойства автономных комплексов, живущих на поверхности Земли собственной жизнью. Таковы все эти кочующие по геополитическим трудам «оси», «дуги», «полумесяцы», «треугольники», «кресты» и т. д.
В некоторых случаях указанные приемы сводятся к умозаключениям по индукции, со всей их практической допустимостью – и рискованностью. Как правило, они представляют собой просто средства для того, чтобы «фиксировать» сознание общества, особенно политического класса, подчиняя это сознание логике создаваемых гештальтов, упаковывая политическую прагматику в подборку данных, коим придается облик особого политического организма – всё равно, представляют ли они по своей сути участок земли с его характеристиками, группу властных режимов или распределение на некой площади конфликтных очагов. При этом геополитика часто выступает как искусство наложения намечающихся, еще не вполне проясненных для общества кратко– и среднесрочных требований на тысячелетние культурно-географические и физико-географические ландшафты. Эти запросы становятся путеводными указателями к извлечению из массы данных такого географического паттерна, которому на соответствующем историческом интервале может быть придан политический смысл, не только отвечающий исходным запросам, но также разъясняющий и развивающий, а иногда и мифологизирующий их. Другое дело, что однажды открытые и вовлеченные в репертуар дисциплины, подобные паттерны («хартленд», «римленд», «дуги нестабильности», «разломы между цивилизациями» и т. п.) обретают собственное виртуальное бытие, способность в подходящий для них момент актуализироваться и вдохновлять политиков и идеологов. Поэтому определение геополитики как «политически-прикладной географии» требует уточнения: она и вправду служит политике, но вовсе не тем, что информационно обслуживает уже сформулированные цели (это скорее дело политической географии). Она сама пытается определять такие цели, заложив их в образы, предлагаемые интуиции политического класса, – пытается «делать политику».
Условия сегодняшнего мира отличны от тех, которыми геополитика как осознанная парадигма была вызвана к жизни. Многие из пророчеств, относящихся к будущему «закрытого мира», сбылись, – но осуществление их создало такой миропорядок, которого не предвидел ни один из пророков. Ойкумена конца XX в. выглядит значительно более открытой, неразгороженной, чем та, с которой имели дело классики геополитики. Обширные площади мирохозяйственной периферии используются обществами геоэкономического Центра выборочно, точечно, что избавляет правительства «передовых» стран и их экономики от тех затрат, которых требовал бы сплошной контроль над слаборазвитыми краями. В этой ойкумене не играют особой роли империи, раскиданные по странам света, – от них остались только рудименты, если не считать военных баз и концессий. Вместе с тем в образе НАТО – военной организации, охватившей оба берега Северной Атлантики; в геоэкономических союзах ЕС и НАФТА по сторонам этой «океанической реки» (по выражению Семенова-Тян-Шанского); в осуществлении идеи Пан-Европы; в складывающемся американо-японском сообществе, т. н. Америппонике, – мы имеем гроссраумы, или Большие Формы Жизни как опорные компоненты «полуоткрытого» мира, окруженные политически и экономически более дробными и рыхлыми ареалами.
Геополитика начала века не предвидела перехода разделенной планеты в подобное «полуоткрытое» состояние. Но она была права, предрекая и планируя утверждение географически связанных Больших Пространств, выступающих внутри себя как экономические союзы и сообщества безопасности, в качестве наиболее крупных величин международной жизни взамен клочковатых сепаратных империй евро-атлантических наций-государств.
Мир, где мы живем, содержит достаточно объектов и процессов, к которым применим аппарат классической геополитики, пусть и с неизбежными поправками; упоминавшиеся работы Хантингтона и Бжезинского, некоторые публикации И. Валлерстайна (см., например [Валлерстайн 1997]) дают нам впечатляющие образцы такого применения. Особенно показательно то, что геоэкономисты наших дней, обсуждая будущее хозяйственных «панрегионов», оказываются перед совершенно хаусхоферовским выбором между «евроазиатским» и «евроафриканским» развертываниями Пан-Европы. Да и решают некоторые из них эту проблему вполне в манере Хаусхофера, превознося принцип меридиональной организации гроссраумов и побуждая лидеров ЕС по исчерпании ресурсов дешевой рабочей силы в Восточной Европе обратить взгляды к югу Средиземноморья и возродить программу «Евро-Африки» [Жан, Савона 1997, 23].
Тем не менее, представляется, что оптимальное использование геополитического инструментария требует решения вопроса: может ли эта парадигма с ее постулатами и приемами расцениваться как часть политической науки, способ достижения рационального знания – или же она в качестве одной из форм политической (или околополитической) деятельности должна являться для этой науки преимущественно предметом осмысления и рационализации? Попытаюсь обосновать мое собственное отношение к этой дилемме.
Геополитика и политическая наука
Геополитике как мировидению и роду занятий присуще оригинальное оперирование с разнородными знаниями, – причем, исходя из особенностей совершаемых операций, можно выделить в ее аппарате два когнитивных блока. Рассмотрение их работы позволяет обнаружить основные источники тех феноменов, которые многими авторами негативно оцениваются как «мифы» геополитики.
Первый блок ответствен за восприятие ее как типа политического философствования – не обязательно «дилетантского» (как его характеризует М.В. Ильин). Когда-то видный отечественный культуролог Я.Э. Голосовкер, оспаривая право философии (но не истории философии!) на звание науки, изящно определял ее как искусство в строгом смысле – именно «искусство построения мира и мировой истории из внутренних образов, которые… суть смыслообразы, т. е. создают здание смыслов». Он иллюстрировал это определение космологиями Платона и Шопенгауэра, а также гегелевской картиной «исторического шествия Абсолютной Идеи» [Голосовкер 1987, 147 и сл.]. В аппарате геополитики ясно различим подобный же базисный уровень геополитической имагинации — построения картины мира из географических образов, проникнутых отношениями кооперации, противоборства и гегемонии-подчинения[12]. На этом уровне данная дисциплина является искусством в строгом смысле – мышлением при помощи образов и систем образов, внушаемых авторами обществу. Когда такие образы входят в национальную традицию и в разных исторических ситуациях воспроизводятся с устойчивым политическим зарядом, мы получаем то, что в Англии П. Тэйлор, а в России В.А. Колосов зовут «геополитическими кодами» [Колосов 1998].
Субъектам политики – ими могут быть регионы, народы, государства, союзы государств и т. д. – в рамках подобных картин мира приписываются роли, установки и интересы сообразно с тем сюжетом, который исповедуется геополитиком, будь то борьба Моря с Сушей или Приморья – сразу и с Морем, и с Хартлендом, столкновение цивилизаций, противостояние во внутренней Евро-Азии Леса со Степью или их кооперация или что-нибудь еще. На этом уровне мифотворчество дисциплины проявляется в том, как ценности участников политической игры отождествляются с их позициями в порождаемой картине, «геополитический статус нации превращается… в ее миссию» [Михайлов 1999, 9], – скажем, по Маккиндеру, все приморские страны должны, прежде всего, заботиться о сопротивлении хартленду. Поэтому интересы игроков часто преподносятся помимо рациональных аналитических процедур в виде «смыслообразов», предназначенных ориентировать («кодировать») народы и политиков, заставляя, по слову Хаусхофера, первых – геополитически мыслить, а вторых – геополитически действовать. Запущенные в массы, такие «смыслообразы» могут становиться элементами расхожей идеологии.
С другим блоком в геополитическом аппарате соотносится понимание этой парадигмы в духе «школы стратегии» или «искусства практической политики». Я полагаю, этот блок можно определить как «стратегический блок геополитики», понимая под стратегией умение преобразовывать фундаментальные геополитические картины мира в цели и задачи конкретного игрока, обеспеченные ресурсами и сценариями[13]. На этом уровне геополитика имеет вид объективного экспертного знания, поддающегося подтверждению и опровержению. Но это знание особого рода: относясь к реализуемости тех или иных проектов в наличных условиях, оно роднит геополитическую стратегию (но отнюдь не глубинный смыслопорождающий блок парадигмы) с такими прикладными дисциплинами, как военное искусство, сопротивление материалов, практикуемый «РЭНД корпорейшн» системный анализ, чей главный критерий есть «стоимость-эффективность», и – даже с искусством шахматной или карточной игры. К примеру, сопромат, оценивая прочность деталей машины, не обязан анализировать решение об ее изготовлении с точек зрения экономической, экологической и социальной. Точно так же геополитическая стратегия (включающая в качестве одного из своих компонентов традиционную военную географию), выявляя возможности развертывания той или иной базисной установки в цели, сценарии и задачи, редко поднимается до анализа и критики самой этой установки и воплощающих ее геополитических смыслообразов.
С другой стороны, сама геополитическая имагинация обычно стремится через посредство своих кодов вкладывать собственные смыслы в стратегические решения, принимаемые по самым разным мотивам, в том числе и не совпадающим с геополитическими резонами. Из-за этого возникает эффект своеобразной «геополитики post factum», служащей вторым источником геополитических мифов. К примеру, можно сомневаться в том, имел ли ввод советских войск в Афганистан в 1979 г. осознанной целью приближение СССР к Персидскому заливу. Но неоспоримо, что задним числом это решение вписалось в геополитический сюжет «стремления державы хартленда к незамерзающим морям», а заодно могло читаться и как свидетельство поворота советской экспансии на юг после Хельсинкских соглашений, закрепивших status quo на западном направлении.
Третья и важнейшая причина мифотворческой двусмысленности многих утверждений и оценок геополитики заключена в нежесткости и неоднозначности отношений между сценариями геополитической стратегии, с одной стороны, и предположительно раскрывающимися в них глубинными проектами, с другой. Один и тот же базисный проект может выразиться в резко различающихся сценариях, и наоборот – для одного и того же эмпирического сценария бывают допустимы расходящиеся и даже противоположные глубинные интерпретации. Война может не только манифестировать непримиримую враждебность противоборствующих пространств, но и трактоваться как путь к их консолидации через завоевание, присоединение одного пространства к другому. И наоборот, в мирной сделке великих держав геополитик способен усмотреть как формирование единой Большой Формы Жизни, союзного гроссраума, так и размежевание, «разбегание» гроссраумов, «поворачивающихся друг к другу спиной». Вспомним, как Хаусхофер, до 1941 г. приверженец континентального блока Москвы и Берлина, оправдал поход Третьего Рейха против Советской России, увидев и в таком повороте дел дорогу к созиданию панконтинентальной «евроазиатской зоны» [Dorpalen 1942, 155 и сл.]. Еще курьезнее, что в 1970-х последователь Хаусхофера Ж. Тириар столь же убежденно ратовал за присоединение Западной Европы к СССР в составе «евросоветской империи от Владивостока до Дублина» [Тириар 1992; 1997]. Оправдывая нарекания Моргентау, геополитика в таких случаях выходит на уровень обобщения мировых процессов, сравнимый с амбивалентными прорицаниями Дельфийского оракула, предрекавшего, что война разрушит одно из двух сражающихся царств, но не уточнявшего – которое.
Как же следует представить себе отношение геополитики с политической наукой? Те, кто верит в геополитику как носительницу фундаментального знания, охотно ссылаются на слова Спайкмена о географии как «самом постоянном факторе» политики: «…умирают даже диктаторы, но цепи гор остаются непоколебимыми» [Spykman 1942, 41]. Однако из относительного материального постоянства географических реалий не проистекает никакого постоянства их политических функций: напомню не менее броскую реплику Людовика XIV по случаю восхождения французского принца на престол Испании – «Нет больше Пиренеев!» В зависимости от политической интенции одни и те же географические феномены получают тот или иной политический заряд или не получают никакого, становятся субстратом мировых или региональных сюжетов – или теряют сюжетообразующую программную значимость. Критерий истины в геополитике, если не говорить о достоверности опорных данных, во многом уступает по своему значению критерию эффективности, возможности извлечь из этих данных конфигурацию, способную послужить впечатляющей и действенной политической программой. Говоря словами Ницше, науке присуща «воля к истине», а геополитике как роду деятельности – «воля к творчеству». Весь вопрос в том, можно ли ввести третий, научный блок в когнитивную функциональную схему геополитики, наряду с геополитической имагинацией и геостратегией, и какую ему миссию в этой схеме назначить, а также надо ли это делать, – выиграют ли что-нибудь геополитика и политология от этого.
Не буду останавливаться на функции науки, включая политологию и политическую географию, как поставщицы достоверных опорных фактов для обоих блоков аппарата геополитики – и для генерирования образов мира, и для геостратегии. В этом качестве фундаментальная наука, сколь ни курьезно это прозвучит, выполняет сугубо прикладные обязанности относительно геополитики как формы политического планирования. Впрочем, надо признать, что и в этой роли наука может осуществлять и осуществляет косвенный контроль над геополитической продукцией. Не следует недооценивать хорошо известной способности геополитики выступать вдохновительницей и заказчицей якобы способных подкрепить ее замыслы научно-исследовательских программ. Так, конструкция «самодовлеющего особого мира России-Евразии» подтолкнула P.O. Якобсона к выдвижению идеи Евразийского языкового союза [Якобсон 1931], П.Н. Савицкого – к впечатляющим разработкам по структурной географии Северной Евро-Азии [Савицкий 1927; 1940], H.C. Трубецкого – к изучению глубоких схождений в искусстве, музыкально-певческой культуре и хореографии народов этого пространства [Трубецкой 1991 (1925)]. У истоков этих научных результатов мы обнаруживаем геополитический импульс евразийской программы, хотя очевидно и то, что они лишь опосредованно втянулись в ее обоснование в качестве подкрепляющих мотивов или суггестивных схем, способных захватить воображение той или иной части публики. Если же отвлечься от этих моментов, то миссию политологии и политической географии я вижу в том, чтобы вносить рациональность в геополитику, подобно тому, как первая из них вносит этот элемент в иные отрасли политической деятельности. При этом можно наметить, по крайней мере, три направления, в которых наука способна этого добиваться.
Во-первых, когда речь идет о выборе государственного курса, политология не вправе отказываться от задачи, каковую обозначил перед нею М. Вебер в общеизвестном рассуждении о науке как призвании и профессии [Вебер 1990]. Всякая политика направляема исходными ценностными установками – «демонами» творящих ее людей. Ученый не в силах ни оградить политика от наития некоего «демона», ни обязать к послушанию его инспирациям. Но наука может и обязана – прогнозировать, куда может направить политика его «демон», каких жертв потребовать, в какие тупики завести. В геополитической сфере такими «демонами», как говорилось, служат политически заряженные картины мира, с заложенными в них ориентировками и предписаниями, включая сюда и традиционные для наций геополитические коды. Назначение ученого – по возможности доказательно обосновать те результаты, к которым способна привести страну какая-либо из этих имагинативных установок (скажем, на вхождение России любой ценой в европейское пространство или на противоборство сплоченного Континента с Океаном), если она овладеет сознанием и поведением национальной элиты.
Во-вторых, исследователи политического сознания призваны прояснять складывание геополитических идей, кодов и мифов. В частности, они вправе анализировать многие геополитические образы как феномены «ложного сознания», которое выражает многообразные цивилизационные, эпохальные и просто ситуативные конъюнктуры в превращенных формах якобы имманентных географии «вечных» раскладов и сюжетов. Там, где геополитическому философствованию предстают откровения духа пространства, политолог и историк распознает в них маску духа времени, а порою эфемерного гения момента.
Наконец, в-третьих, политическая наука имеет право отнестись к построениям геополитики как к особой технике образного моделирования мировых и региональных тенденций, которую политолог может использовать в своих целях, если подчинит геополитическую волю к творчеству своей воле к истине. (В этом отношении хороший пример – Тэйлор, включивший в свою «Политическую географию» яркий раздел «Пересмотренная геополитика» [Taylor 1985, 34–63].) В разнящихся геополитических проекциях судеб одной и той же страны, ареала, мирового порядка в целом ученый обретает метод всё более полного и разностороннего изучения этих объектов через серии пробных моделей и их сопоставительный анализ [Замятин 1999]. При этом геополитика и впрямь приближается к тому, чтобы послужить методом политической науки, хотя и не совсем в том смысле, как это предполагали А. Грабовский и авторы школы К. Хаусхофера.
Позволю себе утверждение, которое не должно показаться парадоксом после всего сказанного выше. Критическая научная деконструкция аппарата геополитики, выяснение того, как протекает ее семиозис, не может ее дискредитировать ни в ипостаси мировидения, ни как практику. Даже подход к ней как к «ложному сознанию» помогает осмыслить политические потенции пространства, преломляющиеся в призмах конъюнктур. Ограничивая, сужая и обусловливая применимость схем геополитики, такой анализ отводит ей место в поле предположительного знания-мнения, древнегреческой «доксы», что, кстати, звучит вполне в духе заветов К. Хаусхофера, говорившего об объяснимости истории геополитическим инструментарием только на какой-то процент.
Я полагаю, что в рамках политологии может и должна выделиться отрасль, занимающаяся геополитикой как изучаемым типом политической мысли и политической практики. Эта отрасль могла бы получить название метагеополитики или геополитологии. Иногда мы сталкиваемся с утверждением, что геополитика пребывает на той ступени преднаучного знания, которое должно развиться в «подлинную науку», подобно тому, как из алхимии с ее образами духовно заряженных природных элементов возникла научная химия (устное суждение М.В. Ильина). Я настаиваю на отсутствии надобности в таком развитии, ибо соответствующая позитивная наука уже существует в лице политической географии. И именно ее дело – объективно исследовать отношения между политическими структурами и пространством, способы их кристаллизации в пространстве Земли: работы П. Тэйлора [Taylor 1985] и Р.Ф. Туровского [Туровский 1999] прекрасно демонстрируют возможности политической географии в этом отношении на конец XX века. Думается, связь между геополитикой и геополитологией следует представлять не по типу отношений алхимии с химией, но наподобие той связи, которая, согласно КГ. Юнгу, соединила алхимию с глубинной психологией XX в.; а именно от геополитологии следует ждать, прежде всего, раскрытия интеллектуальных, духовных структур, проявляющихся в геополитическом проектировании и способных обеспечить ему «заразительность»: подлинно политическую действенность при определенных средовых условиях.
Критикуя мифы геополитики, политология, геополитология и политическая география могли бы обучить ее мысль и ее практику чуткости к моментам, часто ею игнорируемым. А за это аппарат геополитики мог бы послужить политологу, ставящему свои вопросы к ее образам и направляющему само их порождение к важным для него целям. Политолог может заложить в этот аппарат указание на то, что вопреки многим геополитикам, начиная с Ратцеля, рост государства не всегда говорит о его здоровье и силе. Достаточно вспомнить экспансию Австрии сперва в Италии, а затем на Балканах в последний, закатный для ее империи, век. Тем самым он обращает геополитическую имагинацию к иным критериям и основаниям могущества [Collins 1986; 1999. Евангелиста 2002]. Он в состоянии применить геополитические навыки к моделированию пространственного расклада цивилизаций и попробовать по-новому осмыслить, исходя из этого расклада, их политическую феноменологию – как это сделал норвежец С. Роккан по отношению к Европе [Ларсен 1995]. И так далее.
В диалоге науки с пространственно-политическим конструированием, воли к истине — с волей к творчеству, вероятно, будет меняться и сам образ геополитики, но при сохранении ее парадигмальных прагматических устремлений и когнитивных особенностей, откристаллизовавшихся в первой половине XX в. – в желании перестроить произвольно размежеванный империями европейцев «постколумбов мир».
Глава 2 Стратегические циклы системы «Европа-Россия» и их значение для исследования российской геополитической мысли
§ 1. Допарадигмальная геополитика России и уязвимость различных подходов к ее анализу
Я уже говорил выше о том, что, неотъемлемо вписавшись в перипетии политических исканий XX в., геополитика подсказывает, если не навязывает нам также частичное доосмысление и более ранней мировой истории. Сегодня мы просто не можем не различать в прошлом явлений, естественно подходящих для нас под категорию «геополитического». В таком расширительном смысле мы имеем дело с настоящей геополитикой (а отнюдь не с субъективно домышляемой геополитикой постфактум) всякий раз, когда история преподносит нам примеры сознательных попыток утвердить некий политический порядок в масштабе качественно определенного географического региона, то есть опыты целенаправленного создания конфигураций, имеющих сразу и географический, и политический аспекты. Именно такую допарадигмальную геополитику имеют в виду ученые, уверяя, будто «первые геополитические идеи возникли вместе с феноменом государственной экспансии и имперского государства» [Гаджиев 1997, 5]. К примеру, специалист-дальневосточник с полным правом пишет о «китайской геополитической модели» в Средние века, предполагавшей, «что именно посольства „варваров“ должны являться ко двору правителя Поднебесной». А не наоборот, – китайские к «варварам» [Мещеряков 1999, 20].
Легко заметить, что геополитическое в истории проявляется в двух формах. Одну из них представляет политическое строительство, разворачиваемое неким центром на территориях, где у него нет конкурентов, сравнимых с ним по мощи, – на пространствах «ничейных» и «открытых» с его точки зрения. Это чистый тип инициативного претворения географического феномена в политический. Другая форма геополитического налицо, когда в рамках географического региона утверждается замкнутая в значительной мере на себя международная система из двух или более центров, сравнимых по силе. В глазах обитателей этого региона она выступает до известной степени автономным миром, и каждый центр в тяжбе с другими центрами за региональное главенство представляет некую[14] <…>
Отталкиваясь от сказанного, определю, что я понимаю под традицией российской геополитической мысли доимперской и имперской эпох. Я отношу к этой традиции множество текстов различных жанров – политического, историософского, географического и т. д., которые имели явно или подспудно проектный характер и, выстраивая картину мира из политизированных пространственных, географических образов, закладывали в нее программу действий для России, обычно – олицетворенной ее правительством. Одни из этих текстов рисовали те политические целостности, которые могли бы объединить Россию соответствующей эпохи с регионами, тогда лежавшими вне ее пределов, но способными и предназначенными, согласно авторам проектов, образовать с нею в той или иной политической форме «естественные» ансамбли по физико-географическим и/или культурно-цивилизационным параметрам. Другие обосновывали для нее желательность внутренней перефокусировки через смещение политического центра, формирование новых зон хозяйственного роста – в ответ то ли на внешние вызовы, то ли на внутренние запросы страны. Третьи выявляли для нее на данный момент «естественных» противников и союзников, силы, создающие для нее опасность пространственными особенностями своей политики, и те, которые помогли бы эту опасность заблокировать или вовсе устранить. Часто видим некие комбинации, сочетающие по-разному какие-либо из этих трех ключевых установок: строительство Большого Пространства России – с внутренней ее перефокусировкой или с указанием на неизбежных внешних недругов пропагандируемого замысла и, с другой стороны, на его союзников и попутчиков и т. д. Кроме того, к геополитической традиции принадлежат также практические решения, пытавшиеся реализовать те или иные проекты очерченных типов.
Материал по этой проблематике оказывается столь обилен и пестр, что сразу задумываешься: как подступиться к его изучению? Теоретически сразу же просматриваются два возможных подхода: хронологический, который бы распределял идеи по эпохам, и проблемный, когда бы сопоставлялись разновременные концепции, объединенные общим пространственным вектором политики – например, балканским, балтийским, центрально-азиатским и т. п. Но легко обнаруживаешь, что в интересующей нас области ни один из этих подходов не будет методологически безупречен.
В самом деле, хронологический принцип требует, чтобы осмыслению материала была априори предпослана какая-то первичная его периодизация. Получается, что таковую пришлось бы привносить в геополитику извне, к примеру, группируя взгляды и доктрины по векам или царствованиям. Но какие при этом могли бы быть гарантии, что такое распределение сколько-нибудь релевантно для изучаемого предмета и что оно само по себе не окажется причиной аберраций анализа?
Проблемный же, или «векторный», принцип ущербен в другом отношении. Применительно к геополитике, он склонен отрывать и изолировать друг от друга такие решения, которые, относясь к совершенно различным географическим регионам, тем не менее, были подчинены логике единой эпохальной ситуации. Так, он скорее мешает, чем помогает увидеть связь между новой постановкой Восточного вопроса в имперской политике 1860-x гг., широким наступлением русских в Центральной Азии, их закреплением в тихоокеанском Приморье – и продажей в те же годы Аляски Соединенным Штатам. Рассматриваясь изолированно, последний шаг начинает объясняться то ли «нерентабельностью» Русской Америки, то ли невозможностью ее отстоять перед недифференцируемо трактуемым англо-американским напором. На деле, как показал H.H. Болховитинов [Болховитинов 1990], акт продажи был подсказан всем ходом оформлявшегося евро-азиатского противостояния России и Англии от Балкан до Тихого океана. Динамика противоборства побуждала не просто «сбросить» Русскую Америку как самый уязвимый участок этой огромной дуги, но одновременно создать прямую угрозу западу Британской Канады со стороны Соединенных Штатов – и тем самым, укрепив против английских демаршей весь наш приморский Дальний Восток, развязать Империи руки для борьбы в Евро-Азии. Анализ по раздельным секторам и векторам затушевывает целостную сверхзадачу шедшей Большой Игры, господствовавшую над локальными геостратегическими ходами. Но, спрашивается, каким же образом нам распознавать такие эпохальные ситуации и работать с ними, не рискуя впасть в априоризм хронологического подхода?
Особый метод осмысления российской имперской геополитики разрабатывает С.В. Лурье [Лурье 1993; 1995; 1995a; 1997], трактуя ее с позиции этнокультуролога как одну из форм выражения добольшевистской «культурной темы» русского народа – по-разному проявившейся в верхах («Третьим Римом») и в массах («Святой Русью») темы мирового православного царства. Этой темой исследовательница поверяет разные политические и «геокультурные» казусы имперской истории. Такова и двусмысленность стратегии наших императоров XIX в. в Восточном вопросе, похоже, отягощенная тревогами насчет будущности северной православной державы, Третьего Рима в мире, где был бы возрожден и возвышен средиземноморский Второй Рим – православный Константинополь. Таковы и сложности в отношениях с народами Закавказья, имеющими более давнюю христианскую историю, чем русские, и готовыми признать власть наднациональной православной Империи, но неуклонно противящимися административной и культурной русификации. Здесь же и своеобразие отношений Империи с многочисленными подданными мусульманами: воздержание от их христианизации, передоверяемой Промыслу Божию, при насаждении среди них поверхностных «европеистских» стереотипов, – и всё это во взрывоопасном соединении со странной убежденностью, что, пребывая в подданстве России, ее мусульмане должны себя соотносить исключительно с ее миром, а не с сообществом зарубежных собратьев по вере, и не с Европой, к которой Империя поворачивала их своим культуртрегерством. Все эти диссонансы, на взгляд Лурье, объясняют разрушительное для русско-православной «культурной темы» восприятие Россией большевизма – как попытку переформулировать идейный образующий принцип Империи, освобождая ее геополитику от кумуляции опасных двусмыслиц.
По признанию самой Лурье, ее метод обращен главным образом к уровню архаичных кодов массовой психологии и идеологии, представляющих Россию самодовлеющей «державой», выделенной из сообщества иных стран, и моделирующих ее статус по образцу империй прошлого – римскому и византийскому. Но тем самым этот метод оказывается лишь ограниченно применим к осмыслению конкретных геополитических идей и проектов петербургской, да и старомосковской эпохи; ибо политики-практики и сколько-нибудь реалистически мыслящие идеологи этих эпох не имели ни возможности, ни права застревать на уровне подобных соллипсистских кодов, но вынуждены были искать компромиссы между ними и эмпирической данностью России как страны среди иных стран, сцепленных с нею в международные системы региональными силовыми балансами. С первых шагов геополитики Российского государства в XVI-XVII вв. ее сверхзадачей именно и было – гармонизировать эзотерику единственного Православного Царства с экзотерикой игры на полях международных систем, где это царство пребывало лишь одним из элементов силовых конфигураций, политически артикулирующих географию регионов. Но еще важнее другой момент, недооцениваемый Лурье, – то, что с начала петербургского периода сама «культурная тема» России в сознании ее образованного класса изменяет свой смысл – и именно этой-то «мутировавшей» версией нашей универсалистской «культурной темы» только и должен поверяться геополитический опыт Империи.
При наследниках Петра I ее мировое самоопределение оперлось на постулат ее не только культурно-стилевой, но в не меньшей, если не в большей мере международно-политической соотнесенности с кругом европейских стран-лидеров, причастности к этому кругу. А стало быть, ее стратегия вычерчивалась на фоне «геокультурного» парадокса, обретшего многомерное выражение в разных аспектах отношения русских с миром Запада. В аспекте силового баланса оказывалось: крупнейшим актантом международной системы, сложившейся на Европейском субконтиненте-полуострове благодаря его многовековой исторической защищенности от внешних вторжений, с определенного момента выступило государство, оформившееся вне этого полуострова и располагавшее гигантской неевропейской базой в глубине материка Евро-Азии. В плане религиозном к кругу западнохристианских стран с их католико-протестантским спором твердо присоединилась Империя, открыто и неукоснительно преподносившая себя мировым оплотом другого христианства, почитаемого ею за единственно истинное. С точки зрения этнокультурной: в судьбу ареала, где господствовали народы и культуры романо-германского сообщества, с их опытом средневековой Imperii Christiani, Ренессанса, Реформации и ранней модернизации, принесшей идеи территориального суверенитета, cujus regio, ejus religio и т. д., мощно вклинился народ иного происхождения, не разделявший с западноевропейцами их цивилизационных судеб ни в Средние века, ни на заре Нового времени. Наконец, для сферы геоэкономической можно констатировать вслед за Ф. Броделем [Бродель 1992, 453 и сл.]: с обществами западноевропейской геоэкономической целостности – мир-экономики – вошло в постоянное политико-силовое соединение общество, по крайней мере, до XIX в. составлявшее автономный мир-экономику, структурно отличный от западного. Принципиальное напряжение между «геокультурной» православно-державнической уникальностью России и ее погруженностью в расклады ареальных систем обрело превращенную форму в парадоксе Империи, выступавшей одной из основных несущих конструкций европейской международно-политической архитектоники и в то же время по важнейшим критериям радикально отличавшейся от обществ, общепризнанных в качестве «нормальных» членов европейского мира.
Весь этот фундаментальный парадокс стал тем обертоном русской «культурной темы», под который протекли и петербургский период, и «большевистски-второмосковский». Формообразующее воздействие этого парадокса испытала вся наша геополитическая мысль XVIII-XX вв.: неустанно работая над ним, она в широчайшем диапазоне порождала пространственные конфигурации как способы его разрешения: от попыток ограничить «настоящую» Россию землями до Урала, где «птенец гнезда Петрова» В.Н. Татищев волевым актом провел европейско-азиатский рубеж, до замысла «другой Европы – России будущего» по Ф.И. Тютчеву, с центрами в Константинополе и Риме и с превращением коренных русских земель в северную имперскую окраину.
Этот парадокс наглядно выразился в некоторых курьезах нашей географической терминологии, хотя бы в том, как до 1917 г. термины «Восток» и «Восточный вопрос», «политические интересы на юго-востоке» применялись к землям и акваториям, лежавшим относительно России на юго-западе – к Черноморским проливам, Малой Азии и Балканам (см., например: [Ламсдорф 1991, 252 и сл.]). Забавно читать, как в конце XIX в. борец за «ориентализацию» России КН. Леонтьев [Леонтьев 1996, 162, 368, 438, 453] противопоставлял черноморско-анатолийское направление политики России – направлению балтийскому как благословенный «юго-восток» – «отвратительному северо-западу». Иначе говоря, отчаянно и, может быть, нарочито смешивал в своей риторике две системы ориентации: европейскую для характеристики Леванта – с собственно-русской для Балтики (которая в европейском восприятии скорее выглядит частью Востока, ср. ее немецкое наименование Ostsee – «Восточное море»). В сегодняшнем русском словаре средиземноморский «Ближний Восток» остается рудиментом этого мистифицирующего словоупотребления, отождествлявшего российский взгляд на мировую карту со взглядом из Европы – и тем самым, кстати, камуфлировавшего то положение, что для нашей Империи «Восточный вопрос» в его менявшихся постановках был частью «Западного вопроса» – о ее отношении к европейско-средиземноморскому политическому региону.
Я уже говорил, что тривиальным источником геополитических мифов бывает неоднозначное, иногда явно фальсифицированное соотношение между принимаемым политиками образом мира, несущим стратегические импликации, и теми практическими действиями, которые под него подвёрстываются. Российская же геополитика времен Империи часто оказывается мифотворческой «в квадрате», так как сами проекты Большого Пространства России обычно выступают символами ее цивилизационного самоопределения, позволяющими особым образом представить и тем самым будто бы преодолеть ее фундаментальный парадокс. При этом физическая география России и мира, включаясь теми или иными чертами в такие проекты, всегда обретает нагрузку цивилизационных сверхсмыслов. Именно потому – и в явном отличии от Запада – в истории нашей геополитики географы, военные и политики принуждены потесниться, давая рядом с собою место деятелям Церкви, философам и литераторам.
Исходя из этих посылок, я попытаюсь сейчас обосновать такую методику анализа отечественных геополитических исканий XVIII-XX вв., которая, по-своему сочетая черты подходов хронологического и проблемного, была бы, как я надеюсь, свободна и от эклектики, и от пороков, вредящих каждому из этих принципов по отдельности. Кроме того, она состоит в некотором родстве и с методом Лурье, просвечивающим геополитику «культурной темой» России, – ибо ставит в центр внимания геополитические преломления парадокса, определившего многие свойства нашей «культурной темы» за последние три века. Эта методика должна опереться на открытое мною и продемонстрированное в ряде работ явление стратегических циклов, характерное для российской внешней и, в том числе, военной политики со времени включения Империи в XVIII в. в расклад европейского баланса сил – и до сего дня [Цымбурский 1995; 1995a; 1997; 1997б; 1998а].
§ 2. Стратегические циклы России как основа для интерпретации ее геополитики
Результаты, полученные мною в указанных работах, будут сейчас изложены по возможности конспективно – лишь постольку, поскольку они значимы для решения задач моего нынешнего исследования.
Участвуя с первой половины XVIII в. в европейском балансе (который позже, в XX в. трансформируется в баланс евро-атлантический), а следовательно, выступая одним из конструктивных элементов притянувшей ее конфликтной системы Запада, Россия вместе с тем парадоксальным образом оказывается в стратегическом взаимодействии с той же системой Запада как с целостным образованием, к которому она, Россия, представляет коррелятивную величину. Это взаимодействие протекает в особом ритме, отличающемся – о чем дальше поговорим специально – от внутреннего милитаристского ритма собственно европейской, ныне евро-атлантической, системы. Мы оказываемся вправе говорить о существовании в XVIII-XX вв. системы «Европа-Россия», жизнь которой членилась на событийно изоморфные друг другу циклы, каждый из которых включал по пять событийных ходов, сменяющихся в одинаковой последовательности и различающихся между собою изменяющимся от хода к ходу отношением России к западному сообществу. Из этих пяти ходов четыре образуют единый сюжет, который в ранних моих статьях характеризовался как сюжет российского «похищения Европы» [Цымбурский 1993; 1995]. Пятый ход по своему содержанию контрастирует с этими четырьмя и сперва мною рассматривался в качестве «евразийской интермедии» между «европохитительскими четырехтактниками».
В каждом цикле содержание начального хода А сводилось к тому, что Россия, включившись на правах вспомогательной силы в борьбу стран романо-германского Запада за преобладание на его пространстве, выступает союзницей, резервом или стратегическим тылом одного из противостоящих там силовых центров. При этом в принципе она может в течение этого хода перемещаться из одного стана в другой, но сама по себе ее вспомогательная роль в европейской распре остается константной. Причем, если к началу хода какие-то лимитрофные барьеры в балтийско-балкано-черноморском интервале дистанцировали Россию от держав коренной Западной Европы, то к его концу эти барьеры оказываются уничтожены, и тотальное поле Империи смыкается с тотальным полем потенциального хозяина Европы.
Эти обстоятельства подготавливают ход В, подготавливаемый некими сбоями и неудачами в политике Империи. Содержанием этого хода становится вторжение сил Запада на земли России, грозящее ее суверенному существованию, ее выживанию как государства. Этот ход может разыгрываться в двух вариантах. В одном из них силой, движущейся на русских, оказывается «сверхдержава», уже фактически добившаяся господства в континентальной Европе и раздраженная сохраняющимся российским присутствием в делах этого пространства. В другом же варианте силы, спорящие на Западе, обоюдно переносят свою распрю в Россию, где каждая из них пытается обрести в политических и военных кругах близкой к демонтажу Империи собственных союзников и агентов.
С преодолением этого кризиса открывается ход С: русские, отразив интервенцию, сами переходят в наступление, стремясь «добить агрессора в его логове». Через Восточную Европу российские войска вторгаются в ядровый ареал Запада – на земли каких-либо из ведущих романских или германских государств, причем Империя берет или пытается взять какую-то часть этого ареала под свой протекторат. Склонная избежать в будущем новых потрясений, подобных только что пережитым, она с достигнутой позиции силы выдвигает свой проект для Европы, перед которой встает пугающее видение «нового порядка с востока».
Кризисом этого геополитического «европейского максимума» Империи в каждом цикле оказывается ход D, когда рано или поздно консолидировавшийся Запад отбрасывает Россию в холодной, либо горячей войне к балтийско-черноморскому порогу Европы – или даже, если получится, то за него. По результатам этого хода Россия политически, а иногда и географически вытесняется с европейского полуострова субконтинента, ее влияние на дела западных великих держав катастрофически падает. При этом между нею и системой Запада может восстанавливаться лимитрофный пояс государств, отталкивающихся от «азиатской» России, но не вполне вписанных, вопреки своему желанию, и в структуры цивилизации-лидера, а в основном тяготеющих к образованию региональных агломераций на европейском входе.
Всякий раз за «четырехтактниками» в истории Империи, как я только что сказал, наступают «евразийские интермедии», или ходы Е. В те поры ее основные усилия прилагаются вне Европы, а ее Большая Игра по преимуществу разворачивается на громадных площадях от Каспия до Тихого океана, охватывая как классический хартленд, так и дальневосточное Приморье. Россия строит себе в эту пору гроссраум вне Западного мира, однако находящийся с этим миром в некой корреляции. В частности, внимание наших политиков и стратегов на этом ходу часто притягивают регионы Востока и Юга, позволяющие в силу создающейся конъюнктуры оказывать на правительства и общества Евро-Атлантики непрямое стратегическое давление. Конец этой фазы наступает с открывающейся перед русскими реальной возможностью выступить союзниками какой-то из сил, начинающих борьбу за преобладание в Западной Европе, – и тем самым открыть ход А в новом цикле.
По возможности сжато я очерчу контуры трех выделяемых для XVIII-XX вв. стратегических циклов России, предстающих в другом ракурсе как циклы системы «Европа-Россия», и их членение на только что описанные ходы.
Цикл 1: примерно 1726–1906 гг.
Пролог к ходу А этого цикла можно усмотреть в политике Петра I времен Северной войны, в частности, в его вторжениях этого времени в Германию на помощь немецким и датским союзникам с целью – изгнать шведов с юга Балтики [Цымбурский 1996, 238 и сл.]. Но настоящей отправной датой для данного хода и цикла I в целом надо считать Венский договор 1726 г. между Австрией и Россией, направленный против Франции, Пруссии и Англии, – первый в истории становящейся Империи блок с западноевропейской великой державой против другого также западного блока. За следующие 65 лет Россия участвовала в пяти европейских войнах, не считая войны 1733–1735 гг. за Польское наследство. В четырех из них она поддерживала Австрию против французских и прусских угроз, в одной – войне 1806–1807 гг. – Пруссию против Франции. Три из этих войн, пришедшиеся на XVIII в. (за Австрийское наследство, Семилетняя и итало-швейцарский поход Суворова в 1799 г.), разворачивались на театрах Германии и Италии, к которым Россия не имела прямого доступа, «высаживая» на них свои войска при посредстве союзников – наподобие перебрасываемых через водные преграды морских десантов. Но параллельно, содействуя разделам Польши, уничтожая украинское самоуправление и оттесняя в Причерноморье Турцию к Балканам, Империя уничтожает особый статус восточноевропейских «аванпостов», отделявших ее от основного ареала Запада. Войны Александра I против Наполеона на землях Германии и Австрии уже утрачивают характер «десантов» в Европу из России как с огромного материкового «острова», – их уже ведет Россия, прямо упирающаяся в западноевропейский мир, для которой он начинается непосредственно за западной границей. Зато и охватившая этот мир сверхдержава Наполеона подступает к новой нашей границе вплотную.
В Тильзите в 1807 г. Империя пытается изменить курс, объявляя себя континентальной союзницей и опорой наполеоновской «Пан-Европы» в ее противостоянии Англии. Этот жест позволяет Александру присвоить Финляндию и Бессарабию. Империя непосредственно прикасается к Балканам. Но вмешательство Александра в германские дела Наполеона, попирающая континентальную блокаду тайная англо-русская торговля, а главное – несогласие Парижа с Петербургом насчет будущего Черноморских проливов, Балкан и судеб Польши поднимают «Пан-Европу» против русских: в 1811 г. во Франции выходит т. н. «Завещание Петра Великого», представляющее нас общеевропейской угрозой [Данилова 1946]. Между тем, Россия, разросшаяся навстречу миру, с которым себя отождествила культурно и связала политически, оказывается лишена прикрытия от прямого массированного удара с его стороны по ходу В.
Ход В. Провозгласив своей миссией «положить конец гибельному влиянию, которое Россия уже 50 лет оказывает на дела Европы» [Тарле 1991, 257], Наполеон с «двунадесятью языками» вторгается в Империю. В письме Александра шведскому регенту и будущему королю Бернадоту звучит готовность воевать до победы, «хотя бы пришлось сражаться на берегах Волги» [Соловьев 1995, 262]. Горит Москва.
Ход С. После отражения «двунадесяти языков» Александр разжигает в самой Европе войну за ее освобождение от Наполеона, обретая славу «царя царей». После Венского конгресса, где эта война едва не трансформировалась в войну «царя царей» с освобожденной Европой за власть над Польшей, Империя, наращенная Королевством Польским, вклинивается в германские земли. Внушенный Александром Берлину и Вене проект Священного Союза делает из Петербурга оплот нового общеевропейского порядка. Последний оказывается нестоек, но России это идет даже на пользу, ибо после Июльской революции во Франции Николай I договорно обретает ранг протектора германской Центральной Европы. 1830-е и 1840-е отмечены на Западе как приливом русофобии, так и появлением там сочинений, пропагандирующих восхождение новой универсальной Империи. В самой России спасение Николаем Австрийской монархии в 1848–1849 гг. от венгерской революции рассматривается некоторыми идеологами, особенно откровенно Ф.И. Тютчевым, в качестве подготовки к поглощению Австрии ее высоким покровителем.
Между тем, назревает ход D. С 1815 г. Англия и Австрия пытаются «сдерживать» Россию, сопротивляясь любым ее геополитическим акциям. В 1830-х в противовес русской опеке над германским пространством оформляется англо-французский блок, обретающий вторую жизнь с воцарением Наполеона III. На эту силу всё больше ориентируется и Австрия, страшащаяся за свою суверенность под петербургской эгидой. По-настоящему данный ход вступает в силу с 1853 г., когда Империя в пылу спора за ключи от гроба Господнего и опеку над массой турецких христиан, оккупирует «в залог» области будущей Румынии. Победа, одержанная над русскими англо-франко-итальянской коалицией при помощи Австрии, резко умаляет европейский вес «северного колосса». Правда, война поощряемых Англией и Турцией северокавказских горцев за независимость и изгнание русских с Черного моря кончается в начале 1860-x победой Империи, а попытки тех же англичан, французов и австрийцев в 1863 г. ультиматумами поддержать восставшие Польшу и Литву остаются бесплодны.
Ход Е, или первая «евразийская интермедия» России, наметившись в 1850-х с присоединением к ней междуречья Амура и Уссури, определяется с началом большого нашего наступления в Средней Азии. Его дальнейшим развитием становятся попытки продвижения российских контингентов в Афганистан и Восточный Туркестан, замаячивший русский вызов в адрес Британской Индии, наши многочисленные экспедиции в Монголию и Тибет, строительство Транссибирской магистрали и КВЖД, присутствие русских солдат в Манчжурии, Корее и на Ляодунском полуострове. Кризисным его пиком явилась война с Японией. Хронологическим и сюжетным пределом этого хода следует считать соглашения с Японией и Англией от 1907 г., резко ограничившие запросы Империи в Азии и, по существу, определившие ее «возвращение в Европу» в контексте создаваемой Антанты.
Цикл II: 1907–1939 гг.
Этими соглашениями Россия открывает в череде своих стратегических циклов новый ход А. В противостоянии двух западноевропейских блоков она выступает существенным привходящим фактором, привязанным к балтийско-балкано-черноморскому пороговому пространству Европы, и в этом качестве обретает надежду решить «Восточный» вопрос на своих условиях, вплоть до признания союзниками по соглашениям 1915–1916 гг. права Империи не только на Проливы, вместе со Стамбулом-Константинополем, но и на фактическое обращение всего Черного моря во внутреннее российское море [ИВПР 1997, 474]. Как и сто лет назад замах на большие балтийско-черноморские решения увязывается с перипетиями союзнического участия Петербурга-Петрограда в европейском конфликтном сюжете. И опять своим «присутствием в Европе» Россия напрашивается на удар с запада, а ее разворот во входном междуморье великого полуострова-субконтинента, ее бросок навстречу разделенному в борьбе западному миру лишает ее подстраховки от этого удара (ср. [Цымбурский 1995, 243]).
На этот раз ход В протекает намного катастрофичнее из-за политического коллапса Петербургской монархии; мечты Наполеона в 1812 г., видевшего «Россию поверженной, царя примирившимся или погибшим при каком-нибудь дворцовом заговоре» [Тарле 1991, 255], как бы материализуются в 1917–1918 гг. Тем интереснее то, что восстанавливаемая циклическая динамика российской внешней политики и геостратегии не прервалась с Октябрьским переворотом. Можно показать, что в XX в. она пронизывает всю эпоху большевистской государственности и, похоже, переходит в послебольшевистский период, – по крайней мере, охватывая его начало.
Собственно ходу во втором цикле соответствуют события 1917-1918 гг., когда Россия, уже потеряв Польшу, часть Прибалтики, Белоруссии и Украины, на попытку большевиков «без аннексий и контрибуций» выскользнуть из войны, получает со стороны Запада сперва Брестский мир, а затем и интервенцию Антанты, не желавшей допустить превращения бывших земель Империи в германскую сырьевую и продовольственную базу. На этот раз уже не «хозяин Европы» пытался сокрушить русских как сохраняющуюся надежду своих слабеющих европейских недругов, но два мощных западных стана переносят в Россию свою схватку, обоюдно обретая здесь, как уже говорилось, сателлитов и группы влияния. Напомню умиротворительную линию большевиков после Брестского мира по отношению к Германии и левоэсеровский мятеж, начавшийся с убийства германского посла, а по другую сторону фронта гражданской войны – раскол белого движения в 1918 г. на проантантовские и прогерманские группы. Но этот ход был пресечен революциями в странах Центрального блока и самоопределением восточноевропейских народов, восстановившим между Россией и Западной Европой буферный пояс, узаконенный Версальской системой на правах «санитарного кордона».
Как новый ход С можно расценить большевистско-коминтерновское стремление на рубеже 1910-х и 1920-х гг. под впечатлением от советских республик в Венгрии, Словакии и Баварии перенести революцию в Центрально-Восточную и в собственно Центральную, немецкоязычную Европу. Идейным оформлением этого стремления стал разделявшийся Л.Д. Троцким и рядом других большевистских вождей проект «социалистических Соединенных Штатов Европы». Авантюрные поползновения новообразованной Польши расшириться сразу во все стороны, за счет как советских земель, так и Германии, дали повод Москве, по словам Ленина, попытаться перейти «от оборонительного периода войны со всемирным империализмом к войне наступательной» [Ленин 1992, 16 и сл.]. Советизация Польши вставала как первая, промежуточная цель, достижением которой обеспечивался бы прорыв революции к рубежам «коренной» Западной Европы через еще не устоявшийся «санитарный кордон», создавалось бы территориальное связующее звено «между революцией Октябрьской и революцией западноевропейской» [Тухачевский 1992, 62 и сл.]. Этот порыв к границам Германии, взбудораженной версальским унижением [Ленин 1992. Троцкий 1990, 194], надежды вызвать «вспышку» в германских областях, когда они «соприкоснутся с вооруженным потоком революции» [Тухачевский 1992, 62], и тем самым перейти к созиданию Соединенных Штатов Европы – заставляют, как ни парадоксально, вспомнить споры по польскому вопросу на Венском конгрессе, где решение его в пользу России, тем самым врезавшейся в германское пространство, стало предпосылкой для выработки и провозглашения режима Священного Союза. Сегодняшние исследователи расценивают бросок 1920 г. на Варшаву как воплощение «революционной геополитики» [Михутина 1994. Зубачевский 1998], намеренной в перспективе «создать сплошное революционное поле, которое бы охватило… Советскую Россию, Польшу, Германию и Италию» [Улунян 1997, 42]. Очевидно, что такое поле в основном совпадало бы с полем имперской «ответственности» России на Западе при Николае I – при головокружительном различии идеологий, санкционировавших в первом и во втором стратегических циклах России ее геополитические «европейские максимумы». Не случайно евразийцы-эмигранты, нападая на советскую геостратегию тех лет, поспешили объявить, что «большевики под влиянием традиций старого русского империализма мечтают о русификации Европы, переименовывая, впрочем, русификацию в коммунизацию», и потому-де «выходят за пределы жизненных русских задач, как в свое время за эти пределы выходили Александр I и Николай I» [Савицкий 1997, 65]. Конец этого хода обозначен неудачами революций в Германии и в Болгарии в 1923 г., после чего советские руководители начинают уверяться в спаде европейской революционной волны и в стабилизации на Западе капитализма – по крайней мере, временной.
В этом цикле, как и в предыдущем, ход D отчасти перекрывается с евразийской интермедией. Его признаками, наряду с событиями 1923 г., можно считать упрочение в первой половине 1920-х «санитарного кордона», где создаются румыно-польский союз и югославско-румынско-чехословацкая Малая Антанта, а также заседания конференции в Локарно (1925 г.), посвященные коллективному отбрасыванию большевизма. Как и в годы после Парижского мира Россия по сути оказывается вне системы европейского баланса, что тогда способствовало возвышению Второго, а теперь – Третьего северогерманских рейхов.
Преддверием второго хода Е, или новой евразийской интермедии, было установление в те же годы советской власти в среднеазиатской части прежней Империи, а также сокрушение по ходу гражданской войны армии Р.Ф. Унгерна фон Штернберга в Монголии, где с 1921 г. действовало промосковское Народное правительство. В полную силу этот ход проявляется с 1924 г. Он отмечен крушением троцкизма с его ставкой на европейскую революцию и возобладанием курса на строительство социализма в одной стране, точнее в трех, вместе с Монголией и формально еще суверенной Тувой; интеграцией Средней Азии в СССР и ее национально-государственным межеванием, переплетшимся с войной против басмачества; строительством Турксиба; странной тибетской авантюрой ГПУ в середине 1920-х, недавно реконструированной в книге О. Шишкина [Шишкин 1999]; поддержкой в 1925–1927 гг. китайской революции, позднее содействием гоминьдановскому правительству в войне с Японией; битвами на исходе 1930-х с японцами по советско-манчжурской и по монгольско-китайской границам; попытками тогда же создать в Восточном Туркестане уйгурское государство под московской эгидой [Хлюпин 1999].
Наконец, цикл III открывается в собственно советскую эпоху, то ли сходя на нет с ее завершением, то ли находя своеобразное продолжение – или имитацию – в политических исканиях вычленившейся Российской Федерации.
На протяжении 1930-х сталинское руководство не только твердит о близости новой европейской войны, но и пытается обрести для себя место в новом силовом раскладе западного мира. После неудачного опыта 1934 г. по заключению с Францией и «кордонными» государствами антигерманского Восточного пакта, перед фактом поглощения Третьим рейхом Австрии и Чехословакии Сталин решается солидаризироваться с нацистским Берлином в разрушении «версальской» Европы и созидании «нового порядка». Пактом Молотова-Риббентропа открывается ход А нового цикла. Апрельское соглашение 1941 г. с Японией о нейтралитете точно так же закрепляло очередную геостратегическую перефокусировку России, как когда-то в 1907 г. большое урегулирование между этими державами в пору оформления Антанты.
За последние 10 лет среди российских историков не прекращаются споры о политическом смысле этого периода, отчасти катализированные скандальными публикациями В. Суворова-Резуна, но едва ли не в большей степени – изданием архивных и мемуарных материалов, относящихся к визиту Молотова в Берлин в ноябре 1940 г. и к выступлению Сталина 5 мая 1941 г. перед выпускниками военных академий [Безыменский 1991; 1995. Поездка 1993. Бережков 1993. Вишлев 1998; 1999]. При наличии в этой области массы дискуссионных моментов, есть факты неоспоримые. Поделив с Германией вторую Речь Посполитую в ее предвоенных границах, аннексировав летом 1940 г. Прибалтику, тогда же приобретя Бессарабию – прямо по стопам Петербургской монархии в ее «тильзитские» годы – и не по вине берлинского партнера не сумев себе вернуть также и Финляндию, сталинский СССР вплотную сходится с Европой «нового порядка». Какое-то время он выступает стратегическим тылом Третьего рейха в войне на западе – отсюда и англо-французские планы начала 1940 г., предполагавшие удар со стороны Ближнего Востока по нефтяным месторождениям Кавказа [Челышев 1999, 245 и сл.]. Но надлом этого хода определился страшно быстро и совершенно в стиле «посттильзитского» сценария начала XIX в. Заявляя слишком настойчивую заинтересованность в обустройстве Юго-Восточной Европы, Балкан и Черноморских проливов, по-видимому, также и Балтики, включая выход из нее в Северное море [Риббентроп 1992, 304, 310], Сталин тревожил очередного «властелина Европы» и представал в его глазах «последней надеждой Англии», где Черчилль с конца 1939 г. не уставал констатировать объективное существование на европейском входе Восточного фронта по новой советско-германской границе [Фест 1993, III, 230 и сл. Тейлор 1995, 403].
Наступлением Третьего рейха на Россию стремительно обозначается ход В, когда стали реальностью те «битвы на Волге», о которых Александр I за 130 лет до того риторически писал Бернадоту.
Как и в циклах более ранних изживание этого кризиса само собою запускает ход С: СССР простирает свое могущество на запад, отмечая свое наступление насаждением коммунистических режимов на восточноевропейских лимитрофах, включением важнейшей части Восточной Пруссии в российские границы, разделом Германии и системой Варшавского пакта. Хотя Сталину, при всех стараниях, не посчастливилось после войны радикально ревизовать режим Босфора и Дарданелл, тем не менее, в последующие десятилетия советский флот, согласно с конвенцией Монтрё и невзирая на вхождение Турции в НАТО, постоянно маячил в Средиземноморье. А с 1950-х тяжба СССР с Западом за преимущественное влияние в арабском мире выступает своеобразным продолжением старого «Восточного» вопроса. Если учесть сохранявшийся Берлинский вопрос, оказывавшийся в руках Москвы инструментом давления на Западную Германию, а также и общий фактор «советских танков в стольких-то днях пути от Ла-Манша», то Ялтинскую систему следует расценить как второй реальный «европейский максимум» российской геостратегии со времен Николая I, – поскольку промежуточный, коминтерновский «европейский максимум» начала 1920-х оказался нереализованным, абортивным.
Приметы затяжного хода D прослеживаются через 1980-е и 1990-е. В начале этого отрезка имеем большую стабилизацию Запада после революционного клокотания 1960-х и вьетнамского синдрома «разрядочных» 1970-х. Имело бы смысл вспомнить – предыдущие фазы D с крутым отбрасыванием России на восток также приходились на стабилизационные 1850-е и 1920-е десятилетия, когда западные нации восстанавливались после революционного и военного потрясения устоев. Основные вехи данного хода общеизвестны. Это размещение «Першингов» в Европе; сенсационная программа СОИ; подешевение нефти, сужавшее возможности советского руководства; доктрина «нового мышления» и крепнущая в годы перестройки склонность отечественных лидеров и экспертов отождествлять ее «новизну» с переосмыслением государственных интересов России-СССР в духе максимального сокращения внешних обязательств… А затем – восточноевропейские революции 1989 г., конец организации Варшавского Договора и Совета Экономической Взаимопомощи, торопливый дрейф советских, а затем российских войск из Европы, перекрывающийся с суверенизацией республик СССР и, наконец, с роспуском самого Союза. Тот же ход охватывает начавшееся расширение НАТО к востоку, временное отпадение Чечни от России, обернувшееся войной на Северном Кавказе, антироссийские резолюции по чеченскому вопросу Политической Ассамблеи Совета Европы и Комитета по безопасности ООН в 2000 г.
Можно ли говорить о начале третьего хода Е, или евразийской интермедии, в российской истории? Если говорить о российском идеологическом процессе 1990-х, то он изобилует настойчивой проработкой и проговариванием различных вариантов «евразийского» самоопределения сжавшейся страны – от призывов Жириновского к «последнему броску на юг» взамен «бросков на запад» до уверений Е.Т. Гайдара насчет обязанности новой России вместо тягот «мирового жандарма» взять на себя обязанности «форпоста демократии в Евразии» (Известия 18.05.1995). Очертания нового хода иногда усматривают в провозглашении российско-китайского «стратегического партнерства» и в т. н. «доктрине Примакова», предполагающей охватить этим партнерством также и Индию [Лунев 1999, 223, 226]. А также в «бишкекском процессе» сотрудничества России с околокитайскими республиками постсоветской Центральной Азии, наметившемся под конец президентства Б.Н. Ельцина, после того, как косовские события 1999 г. предельно ясно обнаружили минимизацию российского влияния в Европе, не только Западной, но также Центральной и Юго-Восточной. В какой-то мере такие оценки подкрепляет визит президента В.В. Путина после инаугурации в Ташкент и Ашхабад, в особенности его ташкентские беседы с И.А. Каримовым насчет «южной дуги нестабильности» и совместного российско-узбекского силового отпора ее вызовам и угрозам. И все-таки третья евразийская интермедия пока что остается ясно проступающей и вполне актуальной возможностью, не более того, и от российского руководства начала XXI в. будет зависеть, осуществится ли эта возможность и в какой версии.
Итак, в отношениях России и западного мира с XVIII по XX в. мы обнаруживаем тип цикличности, похоже, не обнаруживающий прямых аналогов в истории иных мировых регионов, в том числе и в самой Европе. Более того, ничего похожего не видим и в собственно российской истории по первую четверть XVIII в. Переход при Иване IV от завоевания приволжских татарских царств к Ливонской войне, переросшей в войну с массой иных искателей «ливонского наследства», или история Смутного времени и преодоления этого кризиса никак не вписываются в обрисованную пятиходовую фабулу. Очевидно, включение Империи в XVIII в. непосредственно в западноевропейский силовой баланс явилось моментом запуска уникального геостратегического ритма, в коем просуществовали сменяющиеся типы нашей государственности до конца XX в.
Вглядываясь в структуру этих циклов, убеждаемся, что четырехтактники европейских игр России (ходы A-D), на самом деле, должны быть поделены на две симметричные двухходовые фазы – соответственно А-В и C-D. Очевидным образом ходы В и D представляют не что иное как кризисы и крушения ходов А и С. В первом случае терпит кризис политика партнерского соучастия России как вспомогательной силы в западных союзах, борющихся за главенство в Европе. Во втором случае проваливается попытка России, опираясь на собственные силы, по-своему политически реорганизовать географический «дом» западной цивилизации. Что касается евразийских интермедий, их конец не всегда обусловлен их имманентным исчерпанием и тупиком. Такой «провал в Азии» может как наблюдаться, например, в случае русско-японской войны 1904–1905 гг., так и отсутствовать – скажем, ничего подобного не видим в конце 1930-х в канун заключения пакта Молотова-Риббентропа. Евразийская интермедия способна как терпеть кризис, так и просто прерываться волевым решением руководства России при возникновении благоприятной конъюнктуры на западном направлении. Все же варианты «западнических» геостратегических ходов разыгрываются неукоснительно – до своего изживания через катастрофу.
Предложенная модель представляет идеальный тип стратегического процесса нашей Империи – включая ее большевистское инобытие – и допускает модификации в исторических воплощениях. Внутри евразийских интермедий могут идейно и практически опробоваться варианты возврата в Европу. В застоях европейских максимумов, накануне надлома этих ходов видим действия, предвещающие будущий «упор на Азию». Таковы расширение России в 1830-х и 1840-х за счет «выправления границ» в казахских степях, неудачный поход В.А. Перовского на Хиву в 1839–1840 гг., «прощупывание» Г.А. Невельским устья Амура в канун Крымской войны. Возможно, в контексте третьей евразийской интермедии – если она состоится – подобный же смысл задним числом обретет и афганская война 1979–1989 гг. Среди геополитических «европейских максимумов» бывают возможны такие азиатские акции, как советско-японская война 1945 г., мотивированная союзническими обязательствами и вместе с тем наспех доразрешающая неразрешенную в «евразийских» 1920-х и 1930-х задачу восстановления наших позиций на Тихом океане. Но симптоматично, что от массы завоеваний этой кампании – от Порт-Артура и Дальнего, от контроля над Манчжурией и КВЖД, даже от части Южных Курил, – СССР проявлял готовность отступиться в первое же послевоенное десятилетие.
Каждая из выделенных фаз, как одно, так и двухходовых, представляет не просто конструкт исследователя, накладываемый на подлинные перипетии, но выявляемую доминанту этих перипетий, их эпохальную равнодействующую, которая придает одним идеям и решениям «магистральный» характер, другие обрекает на рецессивность, а, в-третьих, побуждает видеть предвестия близящегося фазового перехода. Не надо расценивать модификации протекания цикла как «уступки» теоретической модели перед лицом исторической конкретики: сам статус и смысл модификаций, «уклонений» обнаруживается только на фоне основного, идеального движения каждой фазы, взятой в ее становлении, самораскрытии и исходе.
Какое же значение, спрашивается, может иметь картина стратегических циклов России для исследователя отечественной геополитической мысли? Дело в том, что выявляемая череда ходов и фаз оказывается основой для естественной, а не произвольно привносимой периодизации российских геополитических исканий и конструкций. Ведь каждая такая фаза, устанавливая новое политическое отношение между Россией и миром Запада, неизбежно должна была представлять для наших политиков, идеологов и экспертов большую проблемную ситуацию, в которой по-особому преломлялся фундаментальный парадокс Империи – этот парадокс христианской цивилизации, с определенного времени вынужденной еще на ранней стадии своего развития определять свое мировое место как место в мире, выстраиваемом другой цивилизацией, носительницей другого христианства. На протяжении каждой фазы типичное для нее преломление этого парадокса определяло характер геополитической имагинации, вплоть даже до мифотворческого вкладывания геополитических смыслов в решения, подсказываемые совсем иными мотивами.
Отталкиваясь от данных, отражающих наиболее поверхностное, эмпирически очевидное выражение имперской стратегии, такая периодизация, вместе с тем, позволяет включить геополитические наработки времен Империи в контекст столь характерных для ее образованного общества, напряженных и часто перенасыщенных географической символикой спекуляций на тему взаимодействия двух миров, соседствующих на северо-западе Евро-Азии, а с XIX в. также и в северной части Тихого океана. Геополитика каждой фазы может рассматриваться как множество попыток через проектирование новых политических пространств разрешать изначальный имперский парадокс, исходя из тех предпосылок решения, каковые усматривались в типе отношения России и Запада, присущем данной фазе (а значит, были обречены утратить свою жизненность с ее, этой фазы, исчерпанием). Эти предпосылки, собственно, и задавали основную геоидеологему фазы. А то множество военно-стратегических, географических, историософских, конфессиональных, социально-политических прочтений и истолкований, которым подвергалась эта ключевая геоидеологема, пока была в силе, составлял для каждой фазы ее геоидеологическую интеллектуальную и политическую парадигму. Конечно же, отдельные философы и историки, географы и военные могли уклоняться от стиля геополитической имагинации, господствовавшего в современной им фазе, более того – бросать ему вызов. Но и их позиция должна учитываться, исходя из той же эпохальной проблемы, которую каждая фаза в цикле Империи представляла для нашей политической и духовной элит.
Особый интерес, на который я здесь укажу лишь мимоходом, сопряжен с постоянно проявляющимся в истории напряжением между господствующей геоидеологемой и политической прагматикой, принципом реальности, побуждающим лидеров России, даже не оспаривая ту или иную геоидеологему, как бы «подмораживать» ее, отодвигать ее реализацию в будущее, создавать зазор между нею и реальным политическим процессом. Очень выпуклый пример такого рода видим в книге И.В. Михутиной [Михутина 1994] о советско-польской войне 1920 г. Автор демонстрирует, как в конце 1919 г. геоидеологема, связывавшая само выживание Советской России с включением развитых западноевропейских стран и, главным образом, Германии в революционное поле, входила в конфликт с прекрасно осознаваемой большевиками потребностью РСФСР после страшной гражданской войны в мире и передышке. Эта потребность побуждала Ленина и его коллег искать урегулирования с правительством Пилсудского даже ценою далеко заходящих территориальных уступок. Прямая польская агрессия, сразу сняв этот когнитивный конфликт, позволила геоидеологеме «европейского революционного поля» смести блокировавшую ее «передышечную» прагматику и реализоваться сразу в сверхэкстремистской форме броска через Польшу к германской границе. Отсроченная и задепонированная, установка-геоидеологема как бы дожидалась момента, когда обнаружится рациональный предлог – без оглядки снять препятствовавшие ей мотивы. В истории России XVIII-XX вв. это отнюдь не единственный случай такого рода.
Аппарат теории стратегических циклов позволяет представить эту историю в виде матрицы, где каждая строчка изображает последовательность сменяющихся ходов в каком-либо из трех циклов, а в каждом столбце размещались бы событийно и геоидеологически изоморфные фазы разных циклов: так эпохе 1726–1811 гг. соответствовали бы в других двух циклах участие России в Антанте и время действия пакта Молотова-Риббентропа. Такая матрица открывает перед исследователем двоякие возможности. С одной стороны, он может рассматривать геополитические воззрения, проявившиеся в каждой фазе, по контрасту с парадигмами фазы-предшественницы и, если так можно сказать, фазы-сменщицы. Но точно так же он в состоянии сопоставлять геоидеологические парадигмы из клеток, объединяемых в один столбец, и изучать то, как российское общество и российская власть осуществляли однотипные геополитические установки в существенно различных мировых обстоятельствах и на разных стадиях собственной своей истории, при глубоко изменяющихся государственных формах и их общеполитических подоплеках. Матрица стратегических циклов создает реальную основу для сравнительного анализа идей, проектов, доктрин, головокружительно контрастирующих по способам их подачи и обоснования сообразно с антуражем эпох и предпочтениями авторов, но обнаруживающих гомологичность с точки зрения их места в протекании циклов – независимо от того, совершалось ли это протекание под знаком Третьего Рима или Третьего Интернационала.
Такая матрица несет в себе новую исследовательскую программу для политической и философской науки, давая и той, и другой в руки методологический инструмент, при помощи которого воссоздается историческая морфология российской геополитической мысли. Более того, мы получаем право скорректировать данное выше определение нашей геополитики XVIII-XX вв. как части мировой допарадигмальной геополитики. Да, она является таковой в том смысле, в котором это было сказано, – она не осознала себя и не была воспринята обществом в качестве призвания и профессии с собственными задачами, нормами и критериями. Вместе с тем формирование ее в виде ряда имплицитных парадигм, каждая из которых отвечала одному из мыслимых в имперский век обобщенных пространственно-политических отношений между Россией и миром – прежде всего, между Россией и Западом как цивилизацией-лидером Нового времени – феномен неоценимой важности. Выявляя и эксплицитно описывая эти парадигмы, показывая их ориентирующее и формообразующее воздействие на русскую мысль, мы на самом деле возводим нашу геополитическую традицию в ранг второй парадигмальной геополитика, наряду с западной классической геополитикой XX в. Именно в таком качестве – набора из трех составных парадигм и вариантов воплощения каждой парадигмы – опыт имперских веков, по моему убеждению, должен послужить будущим поколениям российских политологов, политиков-практиков и работающих на них экспертов.
§ 3. Ритмы международной конфликтной системы Запада и их воздействие на российскую геополитику
Чего не может объяснить теория стратегических циклов России XVIII-XX вв.
И в то же время теория стратегических циклов России, переживаемых с начала Петербургского периода, сталкивается с существенными трудностями при истолковании ряда важных явлений, которые она, определенно, должна учитывать, ибо они явно повлияли на движение нашей геополитической мысли. У этой теории обнаруживаются некие границы применимости. Но я постараюсь сейчас показать, что ее ценность, помимо прочего, состоит в том, что на этих границах применимости, сталкиваясь с необъяснимыми из нее возмущениями в моделируемом ею процессе, – она, по крайней мере, намечает направление, в котором надо искать их разгадку. Она подсказывает, какой другой теорией ее следует дополнить, чтобы снять эти трудности, – и мы можем убедиться в справедливости ее подсказки.
Прежде всего, эта теория сама по себе не может объяснить, почему выделяемые ею циклы при однотипности своей событийной канвы так резко различаются продолжительностью как сюжета в целом, так и отдельных гомогенных ходов и фаз. Цикл I длился 180 лет, цикл II – лишь 30 с небольшим. Ход А в цикле I занял 85 лет, в цикле II – примерно десять, в цикле III – меньше двух лет. Первая евразийская интермедия охватила примерно 50 лет, а вторая – около 15. И т. д. Вообще-то, все известные в истории циклические и волнообразные колебания, по-видимому, можно разделить на две категории: одни характеризуются постоянством периода, другим же присуща повторяемость событийной схемы при хронологической неравномерности в реализации ее алгоритма. Стратегические циклы России (которые в другом ракурсе могут рассматриваться и как циклы системы «Европа-Россия») принадлежат ко второму роду колебаний. Как я писал несколько лет назад: «Из той или иной точки цикла в принципе легко можно представить, как сюжет должен развиваться дальше. Но поскольку однотипные фазы могут то сжиматься, то растягиваться во времени, оказываются совершенно не предсказуемыми сроки, в которые следует ожидать наступления тех или иных предусмотренных фабулой цикла перипетий» [Цымбурский 1997а, 63]. Тогда же я сказал, что исключительно внутренними факторами отечественной истории объяснять эти растяжения и сжатия фаз затруднительно. Даже в тех случаях, где эти факторы налицо, сама их актуализация оказывается обусловлена общей динамикой цикла. Таков пример с революциями 1917 г., выбросившими Россию из Антанты и открывшими «зеленый свет» иностранной интервенции. Очевидно, что эти революции были в огромной мере подготовлены застоем на фронтах, толками в политических кругах о немецком шпионаже «на самом верху», о склонности режима к сепаратному миру – общественной усталостью от войны [там же]. Если брать эти события в контексте более широком, заметим, что в интервале между 1907 и 1945 гг. все ходы в циклах разительно – на один-два порядка – «ускоряются» по сравнению с протеканием цикла I, так что это «ускорение» оказывается общим свойством данного временного отрезка, проявляющимся через множество причин, поводов, мотиваций.
В рамках предложенной теории можно лишь констатировать временную неравномерность циклов как их имманентную особенность, объяснить же данное явление эта теория не может. Между тем оно несомненно и сильно сказалось на нашей геополитике: ибо ясно, что из двух гомологичных фаз в разных циклах та, что длилась, к примеру, 30 лет, представляла гораздо больше возможностей для имагинативной проработки и геостратегического воплощения чем та, которая, при смысловой изоморфности, длилась год или два, не дав идеологам и ученым времени по-настоящему осознать себя и эксплицировать в качестве эпохальной ситуации.
Однако недостаточность теории проявляется и в иных аспектах. Некоторым очень ярким перипетиям имперской стратегии теория стратегических циклов не может дать однозначного истолкования. Например, как интерпретировать в ее свете российскую внешнюю политику 1870-х, странно деформирующую течение первой евразийской интермедии: русско-германские военные договоренности 1873 г., создание Союза трех императоров, давление Петербурга на Берлин во время германо-французского кризиса 1875 г., показавшее миру всю степень зависимости Германии от восточного партнера, русское наступление на Балканах, обставленное договоренностями с Австрией и немецкой моральной поддержкой – а затем крах этой политики на Берлинском конгрессе, где Австрия предстала одним из наших антагонистов, а Бисмарк – не заинтересованным в нашем успехе «честным маклером». Как объяснить этот ход? Я два раза разбирал его в моих работах.
В первый раз я толковал его как «коду» или «довесок» первого европохитительского четырехтактника, а решения Берлинского конгресса – как «второе издание» Парижского мира 1856 г. [Цымбурский 1995]. В другой раз я рассматривал его в качестве неудачной, абортивной попытки России изжить до срока евразийскую интермедию и проскочить в фазу А нового цикла на правах союзницы формирующегося германо-австрийского центра коренной Европы [Цымбурский 1997a]. Я и сейчас убежден в единственной правомерности второй интерпретации, но сама по себе теория стратегических циклов России (или лучше: системы «Европа-Россия») не позволяет ни сделать доказательный выбор между двумя решениями, ни объяснить, почему попытка Империи открыть в 1870-х новый цикл оказалась провальной.
Я отмечал в другом месте, что для этой теории в ее первичной формулировке оказалась белым пятном огромная полоса имперской истории, а именно – политика царствования Екатерины II [Цымбурский 1998а]. По логике изложенной модели всё это царствование составляет часть хода А в первом стратегическом цикле, того хода, когда роль России в отношении Запада сводилась к союзнической поддержке одного западноевропейского центра силы против другого. Но если это вполне описывает положение России в Семилетнюю войну 1756–1763 гг. и точно так же вполне применимо к итало-швейцарскому походу Суворова в 1799 г., то лежащая между этими датами прославленная эпоха отвечает ей лишь с большой натяжкой. Главными стратегическими ходами Екатерины II оказываются войны с Турцией и разделы Польши, отношения же с крупными европейскими державами Австрией и Пруссией перекомпоновываются в зависимости от отношения каждой из них к турецкой игре Империи. Это время можно было бы оценить как некий разрыв в фазе А, если бы не та поразительная черта эпохи, что европейский статус России при Екатерине II не сводился к проживанию процента с капитала, нажитого при Елизавете Петровне в войнах за австрийское наследство и Семилетней, но непрестанно возрастал, давая канцлеру Безбородко повод похваляться тем, что без российской воли в Европе тех дней якобы не выстрелила ни одна европейская пушка [Ключевский 1989, 312]. Вес России на Западе в те дни определялся успехами вне пространства Запада (хотя и приближающими ее шаг за шагом к этому пространству). Потому теория стратегических циклов должна <была> быть существенно скорректирована, чтобы ухватить особое качество геополитических проектов екатерининского времени.
Если же говорить о временах более близких и, в общем, выходящих за пределы моего анализа, надо сказать, что описанная модель очень однобоко представляет положение и стратегию России-СССР в ялтинскую эпоху. Она расценивает это время только как очередной наш геополитический «европейский максимум» (что, в общем, отвечает хотя бы нашей германской политике той эпохи), но игнорирует моменты иного рода, скорее отвечающие – странным образом – духу «евразийской интермедии»: интенсивную политику в «третьем мире», создающую пророссийские пространства за пределами Евро-Атлантики и ей в противовес; противостояние с Китаем, порождающее в массах чувство «китайской опасности»; демографическую «исламизацию» СССР; прививка на советской почве идей эмигрантов-«евразийцев» в модифицированной версии Л.Н. Гумилева; вообще созидание «социалистического мира» как особого, незападного, «второго мира». Как объяснить – странное переплетение признаков «евразийской интермедии» и «европейского максимума», определяющее геостратегический образ СССР «ялтинского» времени?
И в связи с этим самый главный вопрос: можно ли таким образом дополнить и скорректировать теорию, чтобы она объясняла как неравномерность протекания стратегических циклов России, так и те возмущения в протекании, которые выходят за рамки в вариативности воплощения циклов и отдельных ходов как описанных идеальных типов? И, как уже говорилось, именно здесь, – где кончаются объяснительные возможности теории в ее первоначальном виде, – она подсказывает, в каком направлении вести дальнейший поиск.
Ведь ритм описанных циклов на самом деле определяется взаимодействием двух стратегически сцепленных сообществ. Когда-то, в 1995 г., я трактовал эти циклы в морализаторском ключе, видя в них безуспешные попытки России утвердиться в западной истории, преодолеть цивилизационную и пространственную отдельность – и терпящей раз за разом неудачи из-за «кризисных эффектов» и отторжения, возбуждаемых российским «наползанием» на Западе. При этом недооценивались данные, рисующие нам эти циклы в ином ракурсе. Например, то, что «на разных ступенях наших "похитительских циклов" мы видим разницу в реакции Запада. Реакция прямого отбрасывания России, типичная для хода D в каждом цикле и для начала евразийских интермедий, сменяется к концу интермедии и во время хода А в следующем цикле стремлением тех или иных евро-атлантических государств утилизовать в своих видах эту напрашивающуюся в игру чужеродную силу: напомню, франко-русский договор 1891 г. и создание Антанты, соответственно германский и англо-французский зондаж России-СССР в конце 30-х. Между прочим, цикличностью собственных ответных отношений Запада к России может мотивироваться замечательная терпимость демократий к сталинскому режиму "осажденной крепости" (в 1930-х гг. – В.Ц.), сменяющаяся с середины 40-х, по ходу С, совсем иным отношением к СССР – сокрушителю Третьего Рейха» [Цымбурский 1995, 248 и сл.]. Развивая эту тему, я писал в 1997 г. о перемене отношений по ходу цикла между «цивилизацией-хозяином» Западом и «цивилизацией-спутником» Россией. «Ускоренное послепетровское втягивание новообразованной Империи в военную политику мира за балтийско-черноморско-адриатической полосой должно объясняться… тем, что Запад… после войны за Испанское наследство приоткрывается для наращения своего слабеющего восточного (австрийского. – В. Ц.) центра силами России. … В своем взаимодействии эти сцепленные сообщества вырабатывают устойчивую схему «европохитительского» цикла, и показательно, что эта схема в некоторых фазах цикла направляет поведение не только цивилизации-спутника, но и народов цивилизации-хозяина. К примеру, практически все западные вторжения этих веков в Россию либо изначально имеют форму больших коалиционных походов, представительно символизирующих солидарность цивилизации в столкновении со спутником-антагонистом («нашествие двунадесяти языков», Крымская коалиция, интервенция Антанты), либо, по крайней мере, как в случае с Гитлером, интервент старается … разыграть существование «антирусского европейского фронта» от Швеции до Испании» [Цымбурский 1997a, 68]. Характерно, что сплоченность Запада против России, лишь имитируемая по ходу В одной из борющихся в Европе сил и оспариваемая ее противниками, делающими ставки на русского союзника, становится подлинной реальностью во время ходов С и D, когда перед лицом европейского «геополитического максимума» России внутренние диссонансы евро-атлантического сообщества отодвигаются на второй план перед сопротивлением «угрозе с востока».
Переосмысляя описанные циклы нашей Империи как собственные циклы системы стратегически сцепленных цивилизаций «Европа-Россия», я полагаю, что движущим фактором их сюжета является реагирование России на конъюнктуры, возникавшие внутри западного сообщества вследствие его конфликтной разделенности, трактовка русскими этой разделенности как вызова, судьбоносного для их стратегического самоопределения в мире. Поэтому естественно предположить, что неравномерность движения циклов и возмущения в нем каким-то образом порождались особенностями функционирования конфликтной системы Запада, неоднородностью ее военно-политического времени. Сталкиваясь с вопросами, на которые она в своих рамках не находит ответа, теория циклов системы «Европа-Россия» подсказывает: для большей полноты и корректности в осмыслении российской геополитики она, эта теория, должна быть дополнена (и соединена с) работающей моделью собственно западного милитаризма в Новое и Новейшее время.
Конфликтная система Запада в XVI-XX вв. и роль России в ее трансформациях
Любой международный баланс сил имеет географическое измерение. Он реализуется в рамках определенной группы государств или международной системы. Если речь не идет о системе мировой, охватывающей всю планету, то группа государств, связанных балансом сил, всегда охватывает некий регион в пространстве обитаемого мира (ойкумены). Более того, чтобы в регионе какое-то время могла функционировать автономная международная система с собственным балансом сил, она должна в некий момент обособиться в мировом раскладе. Отношения образующих его государств должны составлять вполне автономную структуру (в обычном понимании структуры как совокупности элементов, где статус каждого элемента определяется его отношением ко всем остальным). Трудно говорить о балансе сил и о какой-то устойчивой международной системе на пространстве, открытом внешним воздействиям и в зависимости от них постоянно изменяющем свой политический облик, скажем, из-за движения кочевых орд (самое большее, можно выделять отрезки политического времени, когда это пространство может быть мыслимо как относительно автономное, и для них говорить о некоем подобии региональной системы).
Относительной региональной округленности международных систем не мешает то, что отдельные государства могут входить не в одну систему, участвовать более чем в одном балансе. Автономность политических регионов с их системами выражается в том, что противники некоего государства, принадлежащие к разным конфликтным системам, практически никогда не действуют в прямом союзе. В таких случаях можно говорить о том, что международные системы обладают особыми конфигурациями, хотя и соприкасающимися или даже пересекающимися по перифериям. Внутри таких регионов выделяются центры сил – государства, способные в его рамках успешно противостоять любому другому государству (в используемой далее терминологии такая группа центров образует ядро международной системы региона – собственно его конфликтную систему).
Если обратиться к конфликтным системам, функционировавшим в западной Евро-Азии во второй половине II тыс. до н. э., обнаруживаем их важное качество: для этих систем выделяется устойчивый набор геополитических ролей, воплощенных в конфигурации региональных силовых центров. За время жизни системы те или иные ее великие державы могли претерпевать подъем, деградацию и закат, но система, пока была в силе, обладала определенной инвариантной устойчивостью, выраженной в соотношении ключевых геополитических ролей. В этой связи я предложил различать поверхностную структуру конфликтной системы, или конкретный набор великих держав, и структуру глубинную – расстановку воплощаемых этими центрами геополитических позиций. Когда поверхностная структура терпит кризис из-за заката того или иного центра, система пытается восстановиться, выдвигая или «притягивая» (приглашая) извне какое-то государство на вакантную геополитическую роль. Если это не получается, системе грозит кризис, члены системы вступают в борьбу за присвоение вакантной геополитической позиции. Тот, который в этом преуспевает, сосредоточивает в своих руках всё большее число ключевых ролей системы. Он начинает притязать на статус имперского центра, контролирующего регион как свое Большое Пространство. Баланс переламывается, организуемая им система клонится к закату.
Для России имперской эпохи, как видно из сказанного, важнейшей, наиболее притягательной конфликтной системой западной Евро-Азии стала система европейская. Сделав при Петре I ставку на присоединение к европейскому цивилизационному сообществу, Россия ищет способа достичь постоянного влияния на жизнь этого сообщества – и таким способом для нее становится обретение престижной функции в конфликтной системе Запада. Она быстро этого добивается, поскольку международная конъюнктура эпохи чрезвычайно в этом благоприятствовала русским.
Предпосылки оформления европейского пространства в качестве целостной и автономной конфликтной системы очевидны. Европа представляет собой огромный полуостров, в жизни которого с середины I тыс. н. э. доминируют романские и германские народы. Королевство франков и выросшая из него империя Карла Великого были первой попыткой организовать основную часть этого пространства как политическую целостность. На руинах империи к X в. складываются два сообщества, восходящих к двум то обособлявшимся, то соединявшимся воедино частям франкского пространства – Австразии (на востоке) и Нейстрии (на западе). В IX-X вв. восточную часть, лежащую в глубине Центральной Европы, потрясло нашествие венгров из степей Евро-Азии, а часть западную, выходящую к Атлантике, – удары норманнов с океана. С преодолением и изживанием этой внешней угрозы, по мере христианизации и «приручения» становящейся католической Европой венгров, норманнов и части славян, по сторонам условной европейской оси, протянувшейся от Фландрии через Бургундию, Швейцарию и Италию (в IX в. эта ось составляла лежащее между Австразией и Нейстрией владение Лотаря, внука Карла Великого, позднее на ней сложится пояс европейских городов, относительно независимых от территориальных центров Запада), консолидируются два ядра европейского мира – Священная Римская Империя и Французское королевство. Оба они стремились к контролю над землями европейской оси, особенно над Италией, а время от времени политики средневекового Запада (например, король Франции Филипп Красивый) и его идеологи (Данте) выступали с проектами их соединения в одну «сверхдержаву».
Между тем, на входе полуострова Европы от Балтики до Адриатики в конце I – начале II тыс. н. э. располагались земли народов отчасти языческих (прибалты), отчасти воспринявших христианство в его византийских и римских изводах (славяне, венгры, валахи), но исторически не входивших в Европу Карла Великого и не притязавших на продолжение ее государственной традиции. Эти земли с возникающими на них государствами образовали обширное «предполье» Запада, защищавшее его от новых восточных вторжений. Если попытки арабов беспокоить ее со стороны Пиренейского и Апеннинского полуостровов остались локализованы в пределах этих отростков Европы, то наступление монголов в XIII в. и турок-османов в XIV-XVII вв. захлебнулись во многом усилиями народов балтийско-черноморско-адриатического буфера. Таким образом «коренная» Европа имела возможность оформиться как самодостаточное бинарное пространство, лишь в небольшой степени возмущаемое внешними потрясениями.
Во второй половине XIV-XV вв. оба ядра Европы переживают потрясения, как бы напоминающие о варварских катаклизмах кануна каролингской эпохи: на западе это вылившиеся в Столетнюю войну имперостроительные претензии английских королей – потомков норманнов, на востоке – приближение турок, гуситские восстания в Чехии, вызов венгров, одно время даже овладевших Веной. Из этих кризисов обе державы выходят в виде мощных территориальных образований с большими возобновленными претензиями на европейской оси. Складываются основания для превращения бинарного геокультурного сообщества в биполярную конфликтную систему.
Оба силовых центра европейской системы Нового времени первично возникли на континенте. Это надо подчеркнуть, ибо есть иное популярное мнение на этот счет. Ряд авторов – И. Валлерстайн, Дж. Модельски и У. Томпсон, Дж. Голдстейн и др., выделяя в западной истории т. н. «циклы гегемонии», понимают под таковой исключительно гегемонию морскую, колониальную и торговую. Ряд гегемонов у них составляют Венеция, Португалия, Нидерланды, Англия и США. Как правило, Священная Римская Империя XVI-XVIII вв. с обретенным в кризисах «осени Средневековья» австрийским ядром вообще не входит в их списки. Что же касается Франции, Германии и России, то им отводится место континентальных претендентов, безуспешно пытавшихся бросать вызов хозяевам моря и торговли, ставшим с XVIII в. также зачинателями промышленных революций. Я не буду обсуждать отдельных версий этого подхода, но обращу внимание на его общий и принципиальный просчет. Отождествляя морское лидерство с преобладанием в западном мире, все эти авторы не видят того, что на самом деле эти две роли в истории очень редко исполнялись одними и теми же странами. Более того, похоже, что очерченный выше расклад Европы к началу Нового времени исключительно способствовал той дифференциации функций, когда именно страны, находившиеся несколько на обочине континентального баланса, брали на себя с наибольшим успехом и по преимуществу морскую экспансию и утверждение позиций европейской цивилизации на других континентах, за пределами ее географического дома. Ни Венеция, ни Португалия, ни Нидерланды, ни Англия XVIII в. не только не были «хозяевами» Европейского субконтинента, но на это даже не притязали. Португалия в XVI-XVII вв. сто лет была поглощена входившей в Габсбургский блок Испанией, а Нидерланды, с большим трудом оторвавшиеся к началу XVII в. от Испанской империи, в конце того же века спаслись от Людовика XIV, во многом благодаря защите со стороны Австрии и всей Европы, напуганной имперским размахом французов. По XIX в. «хозяева моря» не были центрами военной мощи, положение меняется лишь с выдвижением на последнюю роль Англии, а затем США. Но моделировать по образцу последнего XX в. милитаристскую динамику более ранней Европы неисторично и незаконно.
Приведу ценные свидетельства на этот счет. В 1730-х гг., когда Англия, создав свою первую морскую империю, по приведенному мнению, переживала пору своей гегемонии, ее политический деятель и идеолог лорд Болингброк обосновывал доктрину баланса сил, утверждая, что в условиях противостояния двух великих держав – Франции и Австрии – государства слабейшие, в том числе Англия, должны заботиться о равновесии между этими гигантами, примыкая к тому из них, который в этот момент выглядит слабее против явно пребывающего на подъеме. Владычица морей Англия, по Болингброку, оказывалась балансиром, вспомогательной силой в тяжбах других за их главенство в континентальной Европе [Болингброк 1978, 90].
Первичный образ европейской конфликтной системы определяется противостоянием Франции, то есть силового центра, соседствующего с Северной Атлантикой, и Священной Римской Империи (Австрии) с ее базой между Рейном, Дунаем и Карпатами. Напротив, Англия, пытавшаяся в позднее Средневековье (XIV-XV вв.) выступить как континентальная сила, забирая под себя французское пространство, после неудачи в Столетней войне, а особенно после утраты в 1557 г. последней опорной точки во Франции – порта Кале, решительно поворачивает от континента к океану, самоопределению в качестве сугубо морской силы. В Итальянских войнах Габсбургов и Валуа впервые столкнулись два панконтинентальных проекта: попытка Франции поставить под свою власть основную часть меридионального «пояса городов» (европейской оси) от Бургундии до Неаполя и строительство Карлом V «Пан-Европы» от Средиземноморья до Балтики и от Карпат до Атлантического океана с двойным выходом к нему – испанским и фламандско-нидерландским. Законченной французской альтернативой «Пан-Европе» Габсбургов становится к началу XVII в. т. н. «Великий план» Генриха IV и его канцлера Сюлли, видевших Европу будущего конфедерацией под главенством французского короля.
Так конституировалась конфликтная система, просуществовавшая до середины XX в., несколько раз менявшая поверхностную структуру при сохранении структуры глубинной, пока на переходе к Ялтинскому порядку, как я попытался показать в одной своей работе [Цымбурский 1997a], мутация не охватила саму фундаментальную геополитическую подоснову этой системы. В ее истории выделяются три вехи, разделенные 150-летними интервалами. Вестфалия 1648 г., Вена 1815 г., Ялта и Потсдам 1945 г., каждая из которых не столько переводила поверхностный расклад системы в новое состояние, сколько узаконивала перемены, уже состоявшиеся в промежутке (к числу таких вех я не отношу Версаль 1919 г.: существенно изменив облик Центрально-Восточной Европы, этот конгресс, в общем, сохранил для «коренного» Запада силовой расклад, существовавший к началу XX в., с одним лишь нюансом – выкинул из него раздробленную Австро-Венгрию и создал повод для замещения ее в роли германского сателлита на юге муссолиниевской Италией). Курьезным образом эпохи в истории системы обозначаются по вехам, зафиксировавшим именно то состояние, которое в эту эпоху изживалось («вестфальская», «венская» и «ялтинская» эпохи – это, собственно, времена преобразования порядка, зафиксированного в Вестфалии, Вене и Ялте).
Вся «предвестфальская» эпоха, от начала Итальянских войн по конец Тридцатилетней, отмечена биполярным антагонизмом сил, борющихся за свою Европу – и, подводя итоги страшной войны на измор, мир 1648 г. зафиксировал неспособность ни одного из центров добиться своих целей. Между тем, за то же «предвестфальское» 150-летие по соседству с Европой оформляются три другие конфликтные системы западной Евро-Азии, строение которых в последующие века повлияло на геополитику России. С созданием в начале XVI в. иранской империи Сефевидов Турция получает постоянного противника в Закавказье и на Среднем Востоке (условно, в русском ракурсе, я буду говорить о каспийской конфликтной системе). В Восточном Средиземноморье и на Балканах константой оказывается габсбургское и венецианское противостояние Османской Порте (утверждается региональная балкано-средиземноморская система). XVI век отмечен энергичными попытками политиков состыковать поверхностные расклады этих трех систем: в 1540–1550-х гг. французы действовали против габсбургских войск, опираясь на турецкий флот, а австрийские императоры пробовали установить контакт с шахами Ирана. И, тем не менее, при всех сохранившихся турецко-французских симпатиях, три системы после Итальянских войн функционировали раздельно, каждая по логике своего основного биполярного противостояния, хотя в то же время состояние внутри каждой из них оказывало косвенное влияние на конъюнктуру соседних систем (скажем, войны с Ираном отвлекли турок от средиземноморских дел и т.п.). Наконец, к середине XVI в. складывается система балто-черноморская, представлявшая образование подлинно многополярное не только на поверхностном, но и на глубинном уровне, в отличие от всех систем, рассмотренных до сих пор. Участие в этой системе во многом определило всю историю России и ее геополитического проектирования. Но об этом – в следующих главах.
Пока вернемся к Европе. В западных трудах фаза от Вестфальского мира до Великой Французской революции часто трактуется как классическое время многополярности. Верно ли это? В терминологии X. Моргентау, скорее, следовало бы говорить о переходе от строгой биполярности к системе двух блоков с устойчивыми ядрами (Францией и Австрией) и постоянным междублоковым перераспределением меньших союзников, причем до «дипломатической революции» 1756 г. австро-французское противостояние оставалось опорной матрицей системы. К началу XVIII в. Англия (к тому же вскоре получившая Ганновер как постоянную базу в Германии) возвращается в расклад Европы в новой принципиальной роли державы-балансира, бросая свой потенциал то на австрийскую, то на французскую чашу европейского расклада, в основном – на австрийскую, в стремлении не допустить краха традиционного восточного центра перед лицом продолжающих крепнуть французов. В ответ Франция пестует сперва Швецию, а после ее разгрома Петром I – Пруссию, как антиавстрийского агента к востоку от Рейна и поощряет вырастание Берлина в мощный центр Срединной Европы. Смысл «дипломатической революции» середины XVIII в. состоит в том, что перед лицом сближения с пруссаками страшащейся за Ганновер Англии слабеющая Австрия становится в фарватер Франции – западного центра, чтобы противостоять прусскому напору и претензиям Берлина на центрально-европейское главенство.
Происходит то, что можно назвать кризисным расщеплением восточного центра в поверхностной структуре европейской конфликтной системы. Попытки Англии после Семилетней войны вернуть Европу к старому раскладу «Вена + Лондон против Парижа» не нашли у австрийцев поддержки: они ориентировались на Францию, подозрительно следя за пруссаками, – так что Франция после 1763 г., хотя и отдавшая Англии значительную часть своих колоний, оказывается континентальным гегемоном, привязав к себе давнего антагониста, сделав его частью своей сферы влияния. Вместе с тем французы обретают недруга в лице взращенной ими самими Пруссии. Глубинный восточный центр Европы в его поверхностной репрезентации расщепляется на традиционного лидера – Австрию и претендента – Пруссию. И при этом, в зависимости от силовых группировок, по крайней мере, одна из двух сил, притязающих представлять западный центр, – либо Австрия, либо Пруссия – в каждый конкретный момент выступает олицетворением суверенности Срединной Европы и противницей центра приатлантического, французского. С точки зрения глубинной структуры позиция Франции оказывается преимущественной, ибо противостоящий ей геополитический дом разделяется в распре.
На фоне этих событий надо осмыслить процесс притяжения России XVIII в. к конфликтной системе Запада. Механику этого притяжения, связанную с судьбами балтийско-черноморской системы в XVIII в., я обрисую ниже, в гл. III. Пока лишь констатирую, что фактором, обеспечившим геополитическое втягивание России в Европейский мир, стало ослабление его традиционного восточного центра – Вены и активная русская поддержка этого центра как против Франции, так и против прусского центра – претендента. Лишь становление прочного франко-прусского альянса, перспектива перерождения Австрии во французский придаток на востоке возникающей униполярной Европы, побуждает Россию периода т. н. «Северного концерта» (1763 – конец 1770-х) поддержать альтернативный германский центр – Берлин, и, в частности, воспрепятствовать австрийцам во время войны 1777–1778 гг. за Баварское наследство поглотить Баварию.
В коалиционных войнах европейских держав против революционной Франции и Наполеона I в значительной степени возродилась старая конфигурация: к 1813 г. французам противостоял – при подмоге Англии – весь германский восток «Европы Карла Великого» при восстановившемся влиянии Австрии, но в то же время при обозначающемся первенстве ее союзницы России. В этих войнах наиболее важными моментами оказываются отказ Австрии от титула общегерманской Священной Римской Империи и впервые обнаруженная Англией в 1807–1811 гг., после разгрома Наполеоном германских государств и принуждения России к Тильзитскому сговору, способность какое-то время в одиночку поддерживать европейскую биполярность. Итак, за 150 лет формально сохранившегося Вестфальского порядка европейская конфликтная система преобразуется в двух аспектах: становится очевидным, что роль Австрии в случае ее выпадения из системы могли бы занять либо Россия, либо Пруссия; вместе с тем Англия, начав с роли крупнейшей «державы-балансира», позже достигает ранга «запасного центра». Этот расклад и отразила новая конфигурация Европы, узаконенная в 1815 г. Венским конгрессом.
Позднее, с отстранением России от западноевропейских дел после Крымской войны (которая сама по себе не объясняется динамикой собственно европейской системы, но только с учетом надстроенного самостоятельного ритма системы «Европа-Россия»), традиционный восточный центр Европы, демонстративно поддержав войну с Россией, ликвидируется под прусскими и французскими ударами, и гегемония над германским пространством смещается в Берлин. Вместе с тем франко-прусская война 1870–1871 гг. обнаруживает усиливающееся милитарное ослабление Франции, которой больше не суждено было ни одной европейской войны выиграть в одиночку.
В последующие 70 лет возвысившийся Второй рейх берет на военно-политический буксир Австро-Венгрию (а Третий рейх отчасти прямо инкорпорирует ее земли, а отчасти включает их в свой гроссраум). На западе роль приатлантического центра, противостоящего германскому «Паневропеизму», всё явственнее переходит к Англии, а к концу Второй мировой войны распределяется между Лондоном и Вашингтоном: впервые в истории биполярность Запада прочно воплощается в поверхностной структуре его конфликтной системы как излюбленное геополитиками противостояние силы континентальной и морской. Но это отношение комбинируется с напряжением между двумя историческими кандидатами на «австрийское» место в Европе: между Германией и Россией. Объективно их вражда с возвращением России после первой «евразийской интермедии» в европейский расклад, позиция ее относительно возвысившегося Второго рейха обретает характер спора за австрийское наследство, призванного решить – какая из держав окажется основным восточным центром европейского субконтинента.
Итак, тенденции, поместившиеся между Вестфальским и Венским конгрессами (Россия и Пруссия как потенциальные «заместители» Австрийской империи, Англия как еще один возможный «центр-заместитель», конвертировали биполярность Европы в оппозицию Океан – Суша), полностью материализуются к исходу следующего 150-летия, с особой броскостью – во Второй мировой войне. Западный центр сдвигается в океан, за пределы собственно Старого Материка, а возникший в XVIII в. раскол внутри восточного центра (в его поверхностном отношении) преобразуется в спор между победившими соперниками австрийцев в германском ареале и силой, что поддерживала долгое время Австрию из глубин материка, с другой стороны балтийско-балкано-черноморского порога Европы, а с эпохи Священного Союза представавшей в восприятии многих австрийцев кошмаром наползающего «панславизма».
Резюмируя всё сказанное, мы можем выделить в истории Запада с XIV по середину XVI в. два 300-летия, проникнутых каждое сквозным сюжетом, связанных с неким вариантом организации этого политического ареала. Причем, каждое из этих 300-летий само распадается на две 150-летние эпохи. На протяжении первого 150-летия каждой 300-летней эпохи (условно – «юги») новый образ системы Запада закладывается как тенденция, на протяжении второго он материализуется кульминацией и достигает тупика. Так с середины XIV по конец XV в. обе империи, восходящие к двум частям «Европы Карла Великого», пережив кризис, восстанавливаются в виде мощных территориальных образований, готовых вступить в борьбу за свое видение Европы. С 1494 по 1648 г. Европа переживает эту «битву гигантов». С середины XVII по начало XIX в., в войнах «Вестфальской» эпохи, исчерпавшей силы Австрии и, наконец, надломившей Францию, восходят наряду с этими традиционными центрами новые силы, локализованные уже за восточным и западным пределами «Европы Карла Великого»: Англия, Пруссия, Россия. С 1814 по 1945 г. эти страны постепенно становятся лидерами северо-западной Евро-Азии, придавая новое воплощение европейской «расщепленной биполярности»; основными воплощениями приатлантического и континентального геополитических ядер становятся Англия (с ее американским тылом) и Германия, а Россия, оспаривающая у Германии ее статус восточного центра, на этом пути смыкается с атлантическими силами, подобно тому, как сама Пруссия при восхождении долго блокировалась с Парижем против Вены.
В этой ретроспективе Ялтинско-Потсдамская система выглядит предельным развитием европейской конфликтной системы Нового времени. Страны, в разное время представлявшие приатлантический ее центр – Англия и Франция, вошли в поле Северо-Атлантического блока с его заокеанским ядром. С другой стороны, по нейтрализации коренной Австрии ее славянские и венгерские земли попали в «тотальное поле» России-СССР вместе с Пруссией и Саксонией – протестантским ядром Второго и Третьего рейха. Можно утверждать, что биполярность Ялтинской системы генетически восходила к австро-французской биполярности «довестфальской» Европы, а «германо-английская» фаза воплощения этой биполярности представляла промежуточную ступень в ряду ее трансформаций, ведущем от начального состояния, когда оба центра пребывали в геокультурных пределах «Европы Карла Великого», – к тому конечному, когда они оба смещаются вообще за пределы Европейского полуострова, тем не менее пребывающего основным полем их противостояния.
Вместе с тем Ялтинская система была не просто предельным выражением глубинной европейской биполярности, но в то же время выражением ее крушения и перерождения в принципиально иную структуру. Ведь с конца XV в. по 1945 г. это базисное членение, в тех или иных его преломлениях и превращенных формах, характеризовало сам романо-германский мир, «ядровый» ареал западной цивилизации. На основе такой разделенности «коренного» Запада возникла в XVIII в. система «Европа-Россия», допускавшая для России одну из трех возможных функций в Европе: либо просто поддержку германскому (восточному) центру в его тяжбе с центром западным, либо покровительство восточному центру, выглядящее его поглощением, либо борьбу за роль восточного центра с европейским государством, исполняющим функцию такого центра, при возможном конъюнктурном союзе с приатлантическими силами. В «ялтинскую эпоху», с сокрушением Германии как военной силы, Россия добилась превращения в признанный восточный центр европейского пространства, но этот центр был вынесен за пределы коренной Европы романских и германских западно-христианских народов, почти целиком оказавшейся под защитой НАТО. Под контролем же СССР пребывали определенно пороговые земли и народы, исторически прикрывавшие Европу от натиска с востока, а теперь превращенные в плацдарм такого натиска. Вхождение в «поле» СССР Восточной Германии мало что изменило в этой ситуации из-за приграничного положения этих земель, разделенности Берлина и т.д. Возможность использовать «свою» Германию как особое ядро романо-германского мира, опирающееся на Россию-СССР и конкурирующее с «трансатлантической Европой», НАТО, по многим причинам, не была актуализирована. ГДР вместе с западнославянскими, венгерскими, румынскими землями осталась «приделом» поля, собранного вокруг грозящего Западу евро-азиатского центра.
Фундаментальная трансформация европейской биполярности в «ялтинскую» эпоху определялась тем, что восточный центр был вынесен за пределы Западного мира, отождествлен с его противником. Реализована эта трансформация была понятно как: формой нового воплощения этой биполярности явилась существовавшая с XVIII в. система сцепленных цивилизационных сообществ «Европа-Россия». В рамках возникшей конфигурации существование этой системы перестает определяться валентностями, которые ранее несла внутренняя разделенность Запада. Теперь отношения в системе «Европа-Россия» фактически становятся формой отношения «The West and the Rest» – «Запад и противостоящее ему "иное"»; и «Россия-СССР» выступает основным олицетворением враждебного «иного».
В былые времена все «затемнения» биполярности Запада были связаны с осложнением отношений между поверхностной расстановкой сил и глубинным паттерном ключевых географических позиций. Сейчас сам этот паттерн оказался изжит. Более того, с 1960-х гг. «ялтинская» эпоха оказалась пронизана мощным китайским вызовом в адрес России-СССР, оспаривавшим ее право выступать в глазах Запада основной представительницей «иного» в рамках схемы «The West and the Rest». Отказ России-СССР в годы «нового мышления» от поддержания «ялтинского» порядка означал ее отказ от роли «иного» в этой схеме. Не опираясь более на глубинную биполярность Запада и перестав служить выражением оппозиции «Запад и иное», система «Европа-Россия» утрачивает свою функциональность и жизненность – что во многом оказывается подоплекой отчаянных поисков «российской самоидентичности» в последнее десятилетие[15].
§ 4. Длинные волны европейского милитаризма и их влияние на международную политику (переосмысление модели Куинси-Райта)
Куинси Райт установил, что в истории Запада, начиная с «осени Средневековья», большие милитаристские стили (типы войны и военного строительства) сменяются со средней периодичностью в 150 лет. При этом он различал периоды «первичного усвоения огнестрельного оружия и религиозных войн» (якобы 1450–1648 гг.), «профессиональных армий и династических войн» (1648–1789 гг.), наконец, «войн индустриализации и национализма» (с 1789 г.). Очевидно, что под этим углом зрения период с 1789 по 1914 гг., в отличие от периодизации Тойнби и Голдстейна, выглядел единой эпохой. Сам Райт считал 150-летнюю амплитуду всего лишь средней величиной, допускающей в конкретных случаях существенные отклонения. Так, для фазы, начавшейся в 1789 г., он допускал сокращенную продолжительность, полагая, будто в 1914 г. первая мировая война открыла новый «авиационно-тоталитарный» период. Однако, через три года после выхода работы Райта бомбардировки Хиросимы и Нагасаки скорректировали этот тезис: обе мировые войны перед лицом атомной эры образовали скорее конец «индустриально-национальной» эпохи в военной политике. «150-летняя амплитуда Райта оказалась выдержана строже, чем он сам изначально предполагал» [Цымбурский 1996, 28]. Не случайно Дж. Голдстейн, корректируя Райта, вслед за «профессиональными войнами» 1648–1789 гг. датирует период «национальных» войн 1815–1945 гг., а к 1945 г. относит начало войн «технологических» [Goldstein 1988, 285]. Однако, похоже, что периодизация Райта может быть скорректирована и с другого конца. Эпоха «первичного усвоения огнестрельного оружия и религиозных войн», каковую Райт сугубо условно начинает в 1450 г., а Голдстейн, переименовав в фазу «наемнических войн», отодвигает (под вопросом) даже до 1350 г., по мнению других военных историков, разделяется на две стилистически различающихся волны – именно 150-летней продолжительности [Разин 1957, 423, 544]. Известно, что огнестрельное оружие впервые «заявляет» о себе на Западе примерно с середины XIV в. в первых битвах Столетней войны [Дельбрюк 1938, 33]. Однако в течение последующего 150-летия в Европе всё еще живет феодальный тип военного строительства: войско выступает соединением конного рыцарства со вспомогательным контингентом лучников или копейщиков; экипированный рыцарь остается главной силой войны, несмотря на то, что в войнах этого времени (например, в гуситских) и сами рыцари и их замки несут все более сокрушительные потери от стрелков и артиллеристов. Это время можно назвать «эпохой» рыцарских войн с первоначальным усвоением огнестрельного оружия и датировать его 1340 – началом 1490-х гг. Первыми же войнами с массированным использованием наемных солдат (ландскнехтов) явились Итальянские войны, начавшиеся в 1494 г. и утвердившие данный милитаристский стиль вплоть до середины XVII в., когда по ходу Тридцатилетней войны обозначился переход к новому стилю – по Райту и Голдстейну к «войнам профессиональным» (о смысле этих терминов скажу чуть ниже). Итак, с середины XIV в. по середину XX в. на Западе сменяются четыре большие милитаристские эпохи с безукоризненно соблюдаемой длительностью 150 лет, при колебаниях не более нескольких лет в ту или в другую сторону. Сейчас же трудно сказать: исчерпался ли этот ритм, или мы живем при очередной, пятой волне (1340–1494; 1494–1648; 1648–1792; 1792–1945; 1945 – ?)
В ряде публикаций я попытался возвести эти наблюдения историков и политологов на уровень исторической и политической философии, описав схемы больших милитаристских стилей в виде колебаний между двумя эталонами военной победы, отвечающими двум обобщенным состояниям материального базиса войны, иначе говоря, – как периоды примерно в том же смысле, в каком говорят о периодах маятника. При таком подходе европейские «великие войны» оказываются фазами развертывания этих сверхдлинных военных циклов (далее сокращенно СВЦ). Отмечая, что каждое 150-летие должно было охватывать примерно одинаковое число поколений, то есть, как и Тойнби, используя их смену в качестве предположительного механизма становления и смены милитаристских циклов (см. о «поколенческой мотивации исторических ритмов» в кн.: [Савельева, Полетаев 1997, 360–371]), вместе с тем, я, в споре с тойнбианской версией, писал: «На мой взгляд, речь должна идти не о поколениях простаков, то учиняющих великую войну, то счастливо от нее отдыхающих с тем, чтобы наступать на одни и те же грабли вновь и вновь, но скорее о поколениях военных (и политических) лидеров, разрабатывающих в войнах определенный милитаристский стиль как способ достижения в борьбе политических целей, доводящих этот стиль до крайних, тупиковых импликаций, а затем, в стремлении вырваться из созданного тупика, пересматривающих этот стиль на основе обновленной технологии борьбы и альтернативного эталона победы, и тем самым полагающих начало новому циклу» [Цымбурский 1996, 28].
О каких конкретно двух эталонах победы и двух состояниях материального базиса войны идет речь? Два эталона победы были впервые описаны К. Клаузевицем, который предпослал своему итоговому труду «О войне» заметку, определяющую лейтмотив всей этой работы. По Клаузевицу, «целью войны может быть сокрушение врага, т. е. его политическое уничтожение или лишение способности сопротивляться, вынуждающее его подписать любой мир, или же целью войны могут являться некоторые завоевания… чтобы удержать их за собою или же воспользоваться ими как полезным залогом при заключении мира». Клаузевиц был уверен, что хотя «будут существовать и переходные формы между этими двумя видами войны, но глубокое природное различие двух указанных устремлений должно всюду ярко выступать» [Клаузевиц 1937, т. 1, 23]. Показывая разницу между двумя выявляемыми идеальными типами войны на всех уровнях – от политики держав до боевой тактики, Клаузевиц вместе с тем стремился показать, как в истории сменяются эпохи, проникнутые доминированием той или иной из этих установок на «слом» («уничтожение») противника или на получение конкретных уступок с его стороны. В частности, переход от «профессиональных войн» XVII-XVIII вв. к «грандиозным и мощным», по Клаузевицу, войнам Французской революции и Наполеона (и также всего XIX и первой половины XX в.) он объяснял сменой эталона победы благодаря новой революционной и националистической политике, каковая будто бы раскрепостила войну и придала той «абсолютный» облик [Клаузевиц 1937, т. 2, 356, 379, 384 и сл.].
С другой стороны, в XIX в. немецкий военный писатель Ф. фон Визелен выделил две непременные задачи армии в борьбе. Одна из них состоит в самосохранении, в продолжении своего существования, другая – в истреблении противника [Фон Визелен 1924]. Очевидно, что эти задачи опираются на базисные возможности сторон в конфликте: возможность мобилизовать для борьбы материальные и, в частности, людские ресурсы и возможность истреблять мобилизованные силы другой стороны. Исходя из этой посылки, и был выдвинут тезис о том, что два эталона победы по Клаузевицу отвечают преобладанием у армий в ту или иную историческую эпоху одной из функций фон Визелена. «Когда выполнение одной из этих функций гарантировано, господствующей в их поведении становится другая, негарантированная функция. Если благодаря размаху мобилизации их самосохранение в обозримом времени выглядит бесспорным, они могут, не щадя сил, обратиться ко взаимному истреблению. Когда же возможность именно взаимоуничтожения им гарантирована, то для каждой из них самосохранение становится важнейшей сверхзадачей. Соответственно, в отношении эталона победы, «когда баланс ключевых возможностей склоняется в сторону уничтожения и стороны способны легко истребить друг друга за короткое время, тогда победа может быть только воздействием на волю противника, вынуждающим его к не имеющим для него жизненного значения уступкам. На эскалацию целей войны накладывается ограничение: угрозы выживанию противника и тому, что считается его основными приоритетами, попадают под запрет… Наоборот, преобладание в раскладе конфликтных возможностей мобилизации над уничтожением приравнивает эталонную победу к "отнятию у противника способности сопротивляться", к состоянию, когда он "подпишет любой мир". Такая война может искушать политика практически неограниченным повышением планки целей, – но обещает их осуществление лишь на исходе борьбы» [Цымбурский 1996, 33] (ср. [Цымбурский 1994, 10 и сл.; 1996а. Сергеев, Цымбурский 1990, 102 и сл.]).
Важнейший результат моих исследований тех лет состоял в следующем: было показано, что каждый из 150-летних периодов Куинси Райта, описывающих восхождение, господство и самоизживание в вооруженной борьбе милитаристских больших стилей Запада, соответствует одному из двух очерченных раскладов конфликтных возможностей и надстроенному над ним эталону победы, уровню военных целей и типу силовой политики. Каждый эталон победы может рассматриваться как «идейная проекция» одного из таких раскладов, воплощением же эталона победы, сообразно с технологическими и социальными средствами эпохи, выступает большой милитаристский стиль. Смена одного периода Райта другим означает использование политической и военной элитой наличных технологических средств для перехода от одного расклада конфликтных возможностей к другому, противоположному ему. Возникает потребность в таком переходе благодаря тому, что наличный эталон победы себя исчерпал как форма достижения политических целей, а воплощавший его большой милитаристский стиль в своем предельном самораскрытии дошел до концептуального и прагматического тупика.
О том, как происходит кризис того или иного эталона победы, я скажу через несколько страниц. Пока же, чтобы подтвердить вышесказанное, обрисую достаточно сжато характер выявленных 150-летних периодов с обозначенной точки зрения, делая упор на структуру конфликтных возможностей, выразившуюся в великих войнах тех эпох. Заранее отмечу, что периоды 1350–1494 и 1494–1648, приходящиеся на Позднее Средневековье («Осень Средневековья», по определению И. Хейзинги) и Возрождение – те периоды, которых по-настоящему не выявили ни Райт, ни Голдстейн, – я рассматриваю именно как «протоциклы» А и В, имея в виду общий характер их военного строительства и технологий, переходный между европейским феодализмом, когда эти «райтовские» волны не наблюдаются, и Новым временем, когда они становятся неоспоримо очевидны, подтверждаясь свидетельствами Клаузевица и многих других военных и политических писателей (обзор этих свидетельств см. в моих вышеуказанных работах).
Как и во многих иных аспектах западноевропейского цивилизационного процесса «пусковой» фазой для европейских СВЦ Нового времени видится «великая депрессия» «Осени Средневековья», господствовавшая здесь с середины XIV в. на протяжении всего XV в. (кроме Италии). В ее рамках осуществляется переход Запада от универсалистской парадигмы «христианской империи» («христианского мира»), типичной для зрелого Средневековья, к парадигме «Европы» как группы территориальных государств, связанных культурной близостью и общностью исторического опыта, связанных борьбою за гегемонию и баланс в рамках романо-германского субконтинентального пространства.
Экипированный рыцарь даже в классическое Средневековье был весьма дорогостоящим средством войны, экономическая же депрессия подавляла возможности мобилизации рыцарства, – и возможности уничтожения начинают брать верх: в годы Столетней войны английские лучники громят французскую рыцарскую конницу, в гуситских войнах артиллерия таборитов сокрушает воинство Священной Римской империи. Отсюда особенности войн этой фазы: они проникнуты бесконечными компромиссами, соглашениями и сделками, налицо частый разрыв между заявленными масштабными сверхцелями и реально преследуемыми интересами. Особенно показательна Столетняя война: начатая под лозунгом возведения английского короля на французский престол, казалось бы, грозящая жизненным интересам французских владык, она сводится во второй половине XIV в. к операциям с целью захвата некоторых богатых прибрежных областей Франции, за которые англичане выражают готовность отказаться от притязаний на Париж [Palmer 1971. Le Patourel 1971]. Лишь внутренняя гражданская война во Франции и развал этого государства побудили англичан в 1415–1430 гг. испробовать реально проект англо-французской династической унии (т. н. «Ланкастерской Франции»), а с провалом этого проекта Англия пошла на мир, сохранив за собой важнейший порт Кале. О войнах тех же лет в Италии, где Милан пытался создать свою державу, позднее в XVI в. писал Н. Макиавелли, расценивая их по меркам уже следующей милитаристской фазы: «Подобные войны велись вообще так вяло, что начинали их без особого страха, продолжали без опасности для любой из сторон, и завершали без ущерба…. Победитель не слишком наслаждался победой, а побежденный не слишком терпел от поражения, ибо первый лишен был возможности полностью использовать победу, а второй всегда имел возможность готовиться к новой схватке» [Макиавелли 1987, 182, 226]. Наниматели полководцев-кондотьеров обвиняли их в том, что порой, подготовившись к сражениям, те решали их исход без боя, по обоюдному согласию сторон, на глаз скалькулировав их численность, качество и позиции.
В конце XV в. в строительстве европейских армий происходит переворот: под впечатлением от успехов швейцарского ополчения, правители континентальной Европы начинают класть в основу вооруженных сил вместо рыцарей-профессионалов массы пехотинцев-наемников, часто набиравшихся из деклассированного сброда в расчете на будущую добычу. Этот «прорыв пехоты» вместе с преобразованием рыцарства в регулярную кавалерию стал триумфом возможности мобилизации над уничтожением, проявившимся в Итальянских войнах Франции с обложившими ее Священной Римской Империей и Испанией, образовавшими сверхдержаву Габсбургов. «Швейцарцев и ландскнехтов после того, как они были сорганизованы, можно было легко численно наращивать массами случайного сброда, а теперь бой решался напором массы» [Дельбрюк 1938, т. 4, 102]. Правда, нестойкость самоснабжающихся армий заставляет полководцев не слишком злоупотреблять такими сражениями, широко действуя измором и разоряя оккупированные земли. Но непрестанный приток наемнических контингентов позволял политикам высоко поднимать планку милитаристских целей, за которые велась реальная борьба; будь то стремление Габсбургов сколотить территориальную панъевропейскую монархию: от Карпат до Атлантики, от Балтики по Северную Италию, или попытка Франции собрать меридиональную франко-итальянскую империю, рассекающую Европу с севера на юг. Если XV век знал лишь одну войну по религиозным мотивам – 15-летнюю гуситскую на европейской окраине, то протоцикл В заполнен свирепыми религиозными битвами, переплетшимися с войной сверхдержав. Пиком и тупиком этого цикла явилась Тридцатилетняя война, где только Священная Римская империя потеряла до 20% солдат (процент невероятно большой на фоне всех иных известных войн на конец XIX в.), а потери мирного населения достигли 15 млн. [Урланис 1994, 515].
Во время этой страшной войны шведский король Густав Адольф впервые применяет в своей армии ряд технико-тактических новаций, которые, распространяясь по всей Европе, позволяют уничтожению резко опередить мобилизацию: легкие пушки, легкие мушкеты и сплошная стрельба мушкетеров, стоящих в три шеренги, когда первая стреляла с колен, вторая – нагнувшись, третья – стоя во весь рост. Под впечатлением этой новой техники боя, абсолютистские режимы второй половины XVII и XVIII вв. переходят от наемных армий, набиравшихся на случай войны, к ограниченным высокопрофессиональным армиям на постоянном жаловании, дорогостоящим и насчитывающим в среднем 1–2% от численности населения государства, не рассчитанные по своей дороговизне на быстрое разрастание в условиях военных действий. Весь СВЦ (1648–1792) отмечен доминированием огневой мощи над мобилизационными возможностями режимов. В армии Фридриха II стрельба повзводно позволяет батальонам давать до 10 залпов в минуту, с хорошей точностью попадания до 100 шагов, поднимая перед собою перекатный вал огня [Свечин 1922, 52. Дельбрюк 1938, 232 и сл., 248 и сл.]. В войнах этого цикла потери за несколько часов сражения могли достигать 30%, а в атакующей армии – до 50%. Солидная европейская армия в принципе могла быть уничтожена за день сражения, но, как правило, с такими же последствиями для противника. Всё это вело к тому, что после битвы приходилось укомплектовывать армию заново – причем, армию профессионалов [Урланис 1994, 513. Харботл 1993, 235, 502].
Каков же эталон победы соответствует такому раскладу конфликтных возможностей? Эксперты отмечают, что для этого цикла типично отождествление победы с «почетным миром». А мир, по словам маршала конца XVIII в. Р. Монтекукколи, считался почетным, «когда он полезен и когда ты со славой достиг цели, ради которой начал войну» [Montecuccoli 1899, 374]. Иными словами, победа приравнивалась к удовлетворению конкретных притязаний, из-за которых началась война. Стратегия стремится наиболее надежными средствами склонить противника к уступкам, убедив противника в том, что складывающееся положение для него более неблагоприятно. Из-за кровопролитности сражений интенсивность борьбы столь низка; по подсчетам статистиков – между 0, 23 и 1, 4 боевых столкновений за месяц, включая и мелкие схватки [Урланис 1994, 528–530]. Как крупнейшие военные авторитеты (маршалы Монтекукколи, А. Тюренн, Мориц Саксонский, король Фридрих II), так и воинские уставы той эпохи единодушны в недоверии к битвам как непредсказуемым по исходу кризисным пикам в развитии войны, разрывам в нормальном стратегическом процессе и рекомендуют к ним прибегать лишь в особых специально обсуждаемых случаях [Дельбрюк 1938, 267 и сл. Montecuccoli 1899, 159. Frederic II 1856, 83 и сл.]. В популярных военных трактатах, например, в трудах участника Семилетней войны генерала Ллойда, бой трактуется как затратное и несовершенное средство выявить сравнительные достоинства армий и их позиций, которое хорошо бы заменить точным математическим расчетом [Ллойд 1924, 38].
В стремлении добиться совершенного управления армией командующие пытаются избегать любого самоснабжения, обеспечить ей потребительскую автономию, всецело ее довольствуя из армейских магазинов. А потому постепенно начинают рассматривать любые «контрценностные» действия типа разорения неприятельских и собственных сдаваемых противнику территорий как бесцельное варварство и приходят к типу военных действий, минимально затрагивающих штатское население [Клаузевиц 1937, т. 2, 354]. Понятно, что при этом теоретики войны декларируют неприязнь к чересчур крупным армиям: их управляемость кажется сомнительной, слишком зависимой от привходящих факторов [Дельбрюк 1938, т. 4, 331 и сл.]. На этом увлечении управляемостью и последовательностью стратегического процесса, на неприязни к битвам – бифуркативным разрывам в этом процессе – утверждается практика войны как «несколько усиленной дипломатии, более энергичного способа вести переговоры, в которых сражения и осады заменили дипломатические ноты» [Клаузевиц 1937, т. 2, 353]. А в основе основ, конечно же, убеждение в ограниченности возможностей мобилизации перед возможностями уничтожения – солдат-профессионал дорог и уязвим.
С войн Французской революции картина меняется на 150 лет – и радикально. Промышленный переворот, обеспечив постоянный экономический рост, позволяет государствам Запада высвобождать всё больше ресурсов на нужды войны. А социальные и политические перемены приводят к утверждению по всей Европе режимов с расширенной социальной базой, которые оказываются способны превратить войны из «предприятий правительств… на деньги, взятые из своих сундуков» [там же, 351] в дело наций, обращающих свои силы на достижение победы. Уже в 1813–1814 гг. набор рекрутов в армию Наполеона составил 1250 тыс. чел., т. е. более 5% населения. «Народные войны» в России и Испании против Наполеона и блестящие действия прусского ополчения – ландштурма в 1813 г. показали политикам всю перспективность идеи «вооруженного народа». Во второй половине века эта идея повсеместно возобладала в европейском военном строительстве, воплощаясь во всеобщей воинской повинности и в вытеснении профессиональных армий – армиями кадровыми, многократно увеличивающимися в преддверии начала войны [Свечин 1923, 56–85]. В результате уже в Первую мировую войну страны Антанты двинули на поле боя 10–17% граждан, а Германия и Австро-Венгрия – 17–19% [Мировая война 1934, 12]. Прирост армий в эти 150 лет постоянно обгоняет даже в мирное время рост населения. А в результате, несмотря на столь же непрестанные совершенствования техники уничтожения (правда, сильно амортизированное прогрессом медицины и изменениями в тактике: рассыпным строем, зарыванием в окопы), мобилизационный потенциал увеличивается быстрее: потери личного состава с 30–50% в XVIII в. падают до 1–2% к началу XX в [Шлиффен 1938, 360], а в мировых войнах постоянно с лихвою перекрываются притоком новобранцев.
Потому в СВЦ II военная политика и сама война отличаются от военной политики и войны предыдущего цикла по всем показателям: начиная с Наполеона, господствует образ победы, лишающей противника способности сопротивляться [Клаузевиц 1937, т. 2, 110. Фош 1919, 37. Фош 1924, 289. Людендорф 1923, 7]. Основой войны и главным ее воплощением является бой: военные писатели стремятся представить стратегический успех как сумму успехов боевых, тактических [Клаузевиц 1937, т. 1, 71, 75. Фош 1924, 279. Фош 1919, 34]: любые преимущества в позициях, маневрировании и т.д. осмысляются как «векселя», по коим рано или поздно должна будет произвестись «уплата кровью». Интенсивность борьбы в войнах XIX в. выражается цифрой от 3 до и битв в месяц, а применительно к войнам мировым, по замечанию военного статистика Б. Урланиса [Урланис 1994, 526, 528], вообще становится «трудно говорить о каком-либо интервале между битвами… Вся война представляет как бы непрерывную цепь битв». В отношении численности армий господствует принцип «чем больше, тем лучше»: популярны уже упоминавшиеся идеи «вооруженного народа», «армии граждан», «народной войны». Ни о какой снабженческой автономии армий в годы войны говорить не приходится: нации трудятся «во имя победы», а, значит, закономерно возрождается практика контрценностных действий против мирного населения, подрывающих экономический базис противника.
Очевидны политические следствия, проистекающие из такого эталона войны и победы. Почти все войны в СВЦ II идеологически аранжированы: битвы Французской революции и Наполеона I с Европой Старого порядка, походы Наполеона III за «права наций», Крымская война либеральных наций против России – «европейского жандарма», борьба России с Турцией за освобождение славян, национально-воссоединительные войны, утверждающие «железом и кровью» германскую и итальянскую государственность. В первой половине XX в. установка борющихся держав на «абсолютную победу» толкает к головокружительной эскалации политических и идеологических мотивировок войны, вплоть до планов Третьего Рейха или образов мировой классовой битвы в трудах советских военачальников 1920-х гг. (М. Тухачевского, И. Вацетиса и др.). Ставкой в войнах этого цикла легко становится само существование борющихся режимов: режимы, скомпрометированные в глазах народов неумелым ведением войны, нередко бывают сметаемы революциями – если сами победители не ликвидируют эти режимы в залог своей гегемонии. К таким результатам ведет торжество мобилизации над уничтожением.
Создание к концу Второй мировой войны ядерного оружия открывает новую эпоху, отмеченную, как и СВЦ I, перевесом возможностей уничтожения над потенциалом мобилизации, но потенциалом уже не абсолютистских режимов Европы, распоряжавшихся ограниченной долей национального достояния, а крупнейших наций мира как таковых. Уже в 1950–1960-х гг. военная и политическая элита США – государства – лидера западной цивилизации, первым создавшего и применившего ядерное оружие, сталкивается с необходимостью осмыслить ситуацию ядерного тупика, которая оказалась способна – в случае войны на слом противника, сравнимого по мощи, – обернуться ситуацией глубоко неприемлемой для любой стороны, будь то «побежденной» или «победившей». За несколько лет в трудах Г. Киссинджера [Kissinger 1957], М. Тейлора [Тейлор 1961], Р. Осгуда [Осгуд 1960], В. Кауфманна [Kaufmann 1956], англичанина Б. Лиддел-Гарта [Liddell Hart 1954] и других авторов был разработан тип «ограниченной войны», причем за основу оказалось принято стремление ограничить цели такой войны, свести ее к борьбе за четко определенные политические уступки со стороны противника. Из этой предпосылки были выведены следствия для всех уровней стратегии национальной обороны. Кое-какие из этих выкладок остались сугубо интеллектуальными конструкциями, но в целом на Западе обозначилось новое понимание войны и победы, исходя из которого только и можно понять военную политику и стратегию западного мира с тех пор, как администрация Дж. Кеннеди приняла новую доктрину «гибкого реагирования»[16].
* * *
Только разработка концепции СВЦ Запада дала возможность разрешить в общем виде поставленные выше вопросы, относившиеся к изменчивой скорости протекания циклов системы «Европа-Россия», они же стратегические циклы Российской Империи. Как отмечалось, со второй четверти XVIII в. Россия пережила, следуя этому имперскому циклу, 14 фазовых переходов, считая за такой переход и само включение ее в 1720-х гг. в силовой расклад Запада.
Легко видеть, что из 280 лет, протекших с тех пор, немного более 150 приходится на экспансивный СВЦ II, отмеченный преобладанием мобилизации над уничтожением – и эталоном победы как «лишения противника возможности сопротивляться». И около 120 охватываются исходом СВЦ I и начальной фазой СВЦ III, то есть депрессивными волнами. Очевидно, что из 14 фазовых переходов в цикле системы «Европа-Россия» всего два – вступление России в европейский расклад в XVIII в. и крушение восточноевропейской гегемонии СССР с последующим роспуском Союза и сжатием России – приходятся на депрессивные волны, именно вписываясь в их модель, когда налицо попытки сил Запада ставить крупномасштабные политические цели в рамках зауженного эталона всякой победы. Напротив, 12 фазовых переходов приходятся на СВЦ II с его экспансивной тенденцией.
Более того, из этих 12 переходов – четыре (агрессия Наполеона, строительство Священного Союза, переход к Крымской войне и начало первой евразийской интермедии) приходятся на инициаль (1792–1871), когда складывался новый тип войны и военной политики. Семь переходов «ложатся» на «тридцатилетнюю войну» XX в. (1914–1945): кризис участия России в Антанте, западная экспансия на земли Империи, попытка экспорта революции в Европу, крах этой попытки, евразийское «строительство социализма в одной стране» с продвижением в соседние азиатские области, пакт Молотова-Риббентропа, гитлеровская агрессия и создание Ялтинской системы. Лишь один переход – вступление России в Антанту – приходится на интермедию этого цикла, но и он принадлежит к кануну этой «тридцатилетней войны».
Итак, на депрессивных волнах Запада циклы «Европа-Россия» разворачивались со скоростью – максимум один фазовый переход за 60 лет. На экспансивной волне средняя динамика подстроенного цикла – один переход за 12, 5 лет, причем в инициали – в среднем, на такой переход требуются 20 лет, а в пору финальной «тридцатилетней войны» – 4, 5 года.
Выводы напрашиваются сами собой. Как я писал три года назад: «Со времени подключения России к европейской системе ее военно-политическая история определяется взаимоналожением двух одновременно развивающихся сюжетов. Один из них основан на ритме СВЦ, и Россия подчинена этому ритму как элемент притянувшей ее системы в числе иных элементов – евро-атлантических государств. Ее роль в данном сюжете определяется … преобразованиями восточного центра в биполярной структуре Запада. Другой сюжет задается развертыванием "европохитительских" циклов, и в его рамках Россия и Запад играют друг с другом как два самостоятельных, отдельных сообщества-контрагента. … Но еще важнее то, что именно первый из этих ритмов создает разрешающие и запрещающие контекстные условия для тех или иных форм и темпов реализации второго. Энергию своего "европохитительского" цикла Россия черпает в динамике западного милитаризма» [Цымбурский 1997а, 63, 66].
В той же работе и в последующей [Цымбурский 1998а] я попытался показать, как эта концепция двоеритмия России XVIII-XX вв. позволяет интерпретировать отмеченные выше казусы, связанные с «екатерининским веком», с первым Союзом трех императоров» и с особенностями Ялтинской системы.
Так, годы правления Екатерины II (1762–1796) приходятся на финаль СВЦ I, наступающую после окончившейся по нулям для континентальных держав Семилетней войны. В это время угасает противостояние двух основных западноевропейских центров – Франции и Австрии; более того, Австрия, осознавая свою слабость, во многом становится в фарватер Франции Людовиков XV и XVI. Бескровная «война за Баварское наследство» лишний раз обнаружила страх европейских правительств при наличных у них возможностях мобилизации и уничтожения перед возникновением войны на землях Западной и Центральной Европы. В это время конфликтные проблемы смещаются за пределы европейского ядра. С одной стороны, борьба американских колоний за освобождение дает предлог к развертыванию англо-французской войны на северо-американской почве в 1770–1780-х гг. С другой же стороны, напряжение между Австрией и Пруссией, традиционным восточным центром Западной Европы и центром-претендентом, проецируется на восток в балтийско-черноморскую полосу, где эти державы вступают в сложные конфигурации с Россией и Турцией, и инициируют поглощение Польши. Именно в таких условиях, когда основные европейские игры протекали за пределами Западной Европы, и при замирении двух ее основных извечно боровшихся центров, Россия Екатерины II, успешно играя на исторически знакомом русским балтийско-черноморском пространстве с новыми для этого пространства агентами – пруссаками и австрийцами, увеличивала свой европейский авторитет и, более того, проецировала его на внутригерманские австро-прусские отношения. Опять-таки ритм европейского империализма определяет контекстные условия реализации имперского цикла России, создавая для последней в «екатерининский век» особо благоприятные, льготные условия, позволяющие ей крепнуть как европейской империи, не проливая крови на европейских землях.
Оценка неудавшейся попытки России в 1870-х вернуться в расклад Европы через «Союз трех императоров» – в качестве тыла и оплота нового европейского центра, созданного Вторым Рейхом, должна быть сформулирована с учетом того временного отрезка СВЦ II, на который эта попытка пришлась. Начало 1870-х – переход от инициали данной экспансивной волны; от полосы больших войн, в которых утвердился новый тип войны и военной политики, а сама Европа реорганизовалась (явный надлом Австро-Венгрии, кризис Франции) – к медиали, которой предстояло быть заполненной колониальным дележом ойкумены, уходом европейских стран в собственные дела и медленным вызреванием больших проектов Европы и мира. Эпизод с первым «Союзом трех императоров» можно рассматривать как неудавшуюся попытку России открыть в своем цикле новую фазу А, «проскочить» «эту фазу» на гребне того же милитаристского прилива, который отбросил Империю на восток в 1850-х. «Россия пробует вписаться вновь в Европу тогда, когда европейский экспансивный СВЦ входит в передышку-интермедию, большая игра угасает, и в неочевидности перспектив, открываемых создавшимся порядком, в русских как союзниках никто особенно не заинтересован. Франции хочется лишь того, чтобы немцы на нее не напали еще раз, Германии – чтобы французы не добивались реванша (на что те и так пока не способны) с помощью австрийцев или русских и чтобы Россия не ущемляла уже прибираемую под германское крыло Австро-Венгрию; последней бы желалось, чтобы русским духом не очень пахло на Балканах, а Англии – чтобы русские не маячили ни в Средиземноморье, ни в Азии…. До новых планов перекройки Европы и мира дело дойдет через 20–30 лет. Тогда будет востребована и Россия» [Цымбурский 1997а, 66 и сл.]. Итак, опыт с первым «Союзом трех императоров» должен рассматриваться не как кода нашего «европейского максимума», оборвавшегося с Крымской войной, а как предвестие будущего участия в Антанте. Это подтверждается и тем, что в начале 1870-х Империя пытается выступить партнером и союзником нового европейского центра, и в этом качестве пробует себе выкроить сферу влияния на Балканах, а вовсе не притязает, как при Николае I, на самостоятельную инициативу в деле обустройства европейского мира.
Наконец, парадоксальное обнаружение Россией-СССР в мировой политике «евразийских» черт в эпоху Ялтинской системы, которые могут рассматриваться как последний «европейский максимум» нашей Империи, объясняется именно ритмом Запада, его вхождением в СВЦ III, когда внутренняя биполярность западного сообщества трансформируется в расклад «West and the Rest». Отношения России-СССР с Евро-Атлантикой в эпоху Ялтинской системы были первым воплощением этого расклада. Все наши предыдущие «европейские максимумы» (и в эпоху «Священного Союза», и при намерении экспортировать Октябрьскую революцию в Европу) объективно были нацелены на перехват Империей роли восточного центра внутри западного сообщества, средством к чему были попытки установить российский контроль над Германией, создать из России и Германии одно целое в раскладе Запада при инициативе России. Ялтинская же система была «европейским максимумом» в рамках складывающейся конфигурации «West and the Rest», смещающей Россию за пределы Запада, превращающей ее в противовес западному миру как таковому (и в этом <плане> ничего не мог осуществить «прихват» СССР окраинных восточных территорий Германии). Пробуждение Китая в XX в., возникновение советско-китайского блока в 1950-х, заставляющее СССР считаться с китайскими инициативами и им подыгрывать (например, в годы Корейской войны); противостояние СССР с США в Азии и Африке, уже не как с центром «трансатлантической Европы», а как с мировой морской державой, воспроизводящее отношения России и Англии во времена прежних европейских интермедий; переориентация Китая с 1970-х на США и возникновение между Пекином и Вашингтоном антироссийского взаимопонимания, рассматриваемого Г. Киссинджером как род американо-китайской «Антанты», – все эти факты объясняются именно положением нашего последнего европейского максимума на становящийся расклад «West and the Rest», взаимоотрицающим столкновением двух стратегических ритмов, в которых одновременно жила Россия со времени ее притяжения к системе Запада.
Итак, на протяжении двух с половиной веков «политическая» жизнь Западной Евразии в огромной мере определялась функционированием двух международных систем: системы Запада и подстроенной подсистемы «Европа-Россия». Если биполярная система Запада (с противостоянием двух центров, опирающихся на прибрежье Атлантики и на Центральную Европу) представляла геополитическую аранжировку Западной цивилизации, то образование «Европа-Россия» может рассматриваться как биполярная геополитическая система цивилизаций, сцепленных воедино силовым балансом в северо-западной части материка, а вместе с тем и культурно-стилевым притяжением становящейся Империи к западному миру. Думается, каждого из этих двух факторов по отдельности было бы недостаточно. Само по себе притяжение двух цивилизационных сообществ не предполагает их сцепления в геополитическую целостность (скажем, Япония усвоила множество культурных достижений, выработанных Китаем, но до конца XIX в. не занимала сколько-нибудь заметного места в политических судьбах Китая). Напротив, само по себе включение иноцивилизационной державы в силовой баланс некоего цивилизационного сообщества, может и не привести к оформлению долгосрочной и ритмически функционирующей метасистемы (напомню окказиональное влияние Турции в европейском раскладе XVI-XVII вв. как силы, отвлекавшей на себя силы Австрии и тем самым подыгрывавшей французскому центру Европы).
В случае с Россией два фактора совпали. После крушения Византии у христианской России на евро-азиатском пространстве не было другого сообщества, столь близкого по культурно-религиозному языку и вместе с тем привлекающего зрелостью цивилизационных форм. С другой стороны, в течение переходной второй юги Запад как биполярная система оказывается приоткрыт для России – сперва как силы, наращивающей слабеющий восточный центр (Австрию), а потом как союзницы атлантического центра, бросающей вызов центру центрально-европейскому, уступившему место Австрии (Второму и Третьему рейхам). При этом, в отличие от Турции, втянутой сразу в несколько конфликтных систем, значимых для ее выживания (в средневосточно-каспийскую, где она противостояла Ирану), Россия XVIII в. чем далее, тем более соединяется силовым балансом исключительно с сообществом Запада, сперва опосредованно (через влияние Австрии и Пруссии на балтийско-черноморское пространство), а потом впрямую.
Таким образом, отличительная особенность системы «Европа-Россия» состоит в том, что стратегическая динамика этой системы становится не просто частью отношения между цивилизационными сообществами: каждая фаза в циклах этой системы представляла эти отношения в целом в совершенно новом ракурсе, оказывая тем самым воздействие на иные аспекты духовной жизни России. Вместе с тем, геополитическое «двоеритмие» России, выступающей в одном аспекте как часть западного мира, а в другом как противостоящий ему контрагент, может иметь ценность и для исследования иных планов функционирования двух цивилизаций. Здесь я напомнил бы замечательную разработку Б. Гройса [Гройс 1992], показавшего, как, начиная с первой половины XIX в., российские мыслители настойчиво проецируют на Россию представление об «ином» Западе, превращая Империю в своего рода теневую ипостась западной цивилизации. Очень интересны недавние разработки В.И. Пантина, показавшего, как «кондратьевские волны» западной экономики перекодируются в условиях России в социально-политические фазы реформ и контрреформ.
Российская геополитика эпохи Империи, в том числе в большевистской ипостаси последней, есть часть самоопределения Империи в качестве цивилизации-спутника Запада. Взаимодействие между волнами западного милитаризма и скоростью протекания стратегических циклов Империи есть лишь одна из форм, в которых совершалось перекодирование динамики Запада в динамику цивилизации-спутника.
Именно потому, что геополитическая составляющая играла столь важную роль в оформлении системы «Европа-Россия», что эта составляющая, в свою очередь, опиралась на внутреннюю биполярность Европы, тяготение Запада к униполярности во второй половине XX в. оборачивается кризисом этой системы цивилизаций. С точки зрения ряда экспертов, этот кризис сегодня толкает Россию к выбору между униполярным Западом и противостоящим ему иным. С этой точки зрения, крушение России как «своего иного» Запада, ставит ее перед выбором – быть ли просто частью Запада или частью противостоящего ему «иного», грубо говоря – младшим партнером США в системе евро-атлантического униполя или партнером стоящего вне этого униполя Китая? Другие авторы, исходящие из прецедента со Вторым и Третьим Рейхами, допускают становление объединенной Европы с центрально-европейским германским ядром как противовеса США – фокусу АТР и в этом смысле предполагают, что прорастание системы Запада в мировую систему может произойти не в форме «West and the Rest», но через тяготение разных частей незападного мира к разным полюсам разделившейся в себе Евро-Атлантики. Как может справиться Россия с выбором, который перед ней поставит то или иное развитие? Послужит ли ей при этом на благо опыт геополитического моделирования, наработанный в имперскую эпоху, притом, что мы отнюдь не можем быть уверены даже в том, что волнообразная динамика Запада сохранит свою силу с трансформацией его системы в систему всемирную, открытую возмущающим спонтанным влияниям со стороны незападных сообществ?
Всеми этими обстоятельствами определяется важность исследования опыта русской геополитической мысли имперского времени с учетом также и ее доимперских истоков в XVI-XVII вв., которые могут приобретать особую значимость, если допустить, что эпоха существования в системе «Европа-Россия» закончилась и что именно этот конец знаменуется возвращением России конца XX в. примерно к контурам Московского царства ранних Романовых (с поправкой на обретенные доступы к Балтийскому и Черному морям). Кроме того, предметом особенно пристального исследования должны стать геополитические наработки русских с XVIII по начало XX в. – в Петербургскую эпоху. Это время важно по трем причинам. Во-первых, в эту пору российская геополитическая мысль не вступила во взаимодействие с парадигмальной геополитикой Запада, воздействие которой испытали как эмигранты-евразийцы, так, по выводам A.A. Улуняна, и геостратеги Коминтерна. Изучая геополитические искания дооктябрьских лет, мы открываем репертуар наработок, существенно связанных с мировым местом России, с ее традицией – и в этом смысле существенно дополняющих и корректирующих, даже блокирующих в некоторых случаях те подсказки, которые некоторые авторы пытаются извлечь из парадигмальной западной геополитики, во многом отражающей совершенно иной опыт пространственно-политического самоопределения, идущий от истории евро-атлантических обществ. Во-вторых, шесть фаз имперского цикла демонстрируют им как полный спектр ракурсов, в которых русским представал мир, сообразно с изменениями отношений внутри системы Европа-Россия. Вместе с тем, возвращение Империи в начале XX в. к фазе А, когда-то в совершенно иных условиях пережитой ею в XVIII в., позволяет детально вдуматься в различные возможности идейного воплощения однотипных фаз в те различающееся в зависимости от возраста России преломления, которые могут обретать «возвращающиеся» стратегические ситуации. В-третьих, шесть фаз, прожитых за 180 лет, дают нам достаточно подробную и откровенную артикуляцию геополитических парадигм, разворачивающуюся, по крайней мере, с XIX в. в условиях достаточно широкой и плюралистической дискуссии. В отличие от этого изучение геополитики большевистской эпохи для первых двух ее десятилетий осложнено почти лихорадочной сменой фаз на гребне достигшей своего максимума волны евро-атлантического милитаризма («30-летней войны XX века»). Для эпохи же холодной войны, если не раньше, с пакта Молотова-Риббентропа, характерно вытеснение геополитических мотиваций, их удаление за рамки открытого обсуждения, концентрация геополитики в стенах правящих органов и почтовых ящиков.
Глава 3 От Австро-Российского союза 1726 г. до пожара Москвы в 1812 г.
I
Обозначенный временной отрезок охватывает становление метасистемы «Европа-Россия» и две начальные фазы первого цикла этой метасистемы. Это время вхождения России в европейскую игру на правах союзницы одного из борющихся европейских центров и перипетии этого союза: его кризисы, попытки переориентации и в итоге – вторжение сил Запада в Россию с угрозой ее жизненным центрам. Вместе с тем, этот период важен тем, что становление метасистемы «Европа-Россия» происходит параллельно с деградацией и упадком старых международных конфликтных систем, примыкавших к Европе с востока, а также юго– и северо-востока: систем балтийско-черноморской и дунайско-средиземноморской. Метасистема «Европа-Россия» в первом ее воплощении созидается благодаря закату старой БЧС.
Этот закат наблюдается прежде всего в том, как явно деградируют державы, бывшие в XVII в. инициаторами крупнейших имперостроительных проектов в рамках этой системы: Польша и Швеция. Первая уже в Северную войну вступает не столько борющейся силой, сколько пространством, где идет игра. По итогам войны Петр оказывается гарантом выживания Польши-Саксонии, но он же резко препятствует консолидации сил этого дуального образования: подыгрывая антисаксонским группам шляхты, он добивается вывода саксонских войск из Польши, превращения ее в политически рыхлый буфер на российских границах – саксонские короли оказываются благодарны России за формальный сюзеренитет над Польшей, а польские аристократы – за фактическую независимость от королей. Разбив Швецию, Петр выращивает в ней прорусское лобби, которое втягивает страну в союз 1724 г. с Россией. Петр, обеспечив себе абсолютный перевес в северном треугольнике системы, не смог добиться успехов в борьбе с турками. Но с 1750-х начинается полоса русско-турецких войн, кончающихся с неизменным успехом в пользу России. Если в конце 1720-х внутри системы два крупных ядра: северное (Россия) и южное (Турция), то к началу 1740-х система всё явственнее деградирует, в ней проступает крупнейшее восточное ядро – Россия, – и ряд западных членов, каждый из которых, будучи взят по отдельности, очевидно, уступает поднимающейся региональной сверхдержаве.
Следствия парадоксальны. После того, как под русскими ударами Швеция утрачивает роль лидера на Балтике, обнаруживается новый претендент на эту роль, присваивающий всё большую часть шведских владений, – Пруссия. С конца 1710-х Франция уже не шведов, а пруссаков в основном рассматривает как потенциальных меньших союзников, подрывающих позиции Австрии на востоке Европы. Именно таким французским союзником в 1740-х гг. выступит Фридрих II в войне за австрийское наследство. Но дальше картина меняется. Имея в отличие от шведов прочные позиции в Центральной Европе, Пруссия быстро вырастает (во многом благодаря личным качествам Фридриха II) в субцентр, претендующий на лидерство к востоку от Рейна. И когда в 1750-х ослабленная Австрия избирает профранцузский курс, признавая главенство западного центра – Парижа, прусский центр-претендент оказывается в состоянии отстаивать свои претензии против Франции и Австрии, играющих заодно. Восточный центр раскалывается на традиционный центр и центр-претендент. Франция и Россия взращивают Пруссию. Первая превращает пруссаков в претендентов на консолидацию востока Европы, вторая делает из них крупную силу на Балтике.
Тем самым и слагается предпосылка к склеиванию востока европейской системы с западом БЧС: центр-претендент европейского востока получает «шведское» место в Балто-Черноморье. Вместе с тем, в условиях, когда Польша всё больше утрачивает самостоятельность и ее судьба решается по соглашению России и Австрии, польское место в БЧС фактически становится вакантным, и имеются предпосылки для занятия его Австрией. Эти предпосылки реализуются к началу 1770-х, когда мы видим блокировку Австрии с Турцией против России и Пруссии, а окончательно – с первым разделом Польши, когда Австрия, захватывая малопольские земли и Галицию, фактически перехватывает «польское» место в системе верховья балтийских и в меньшей мере черноморских рек. Итак, запад БЧС вместо старой триады Швеция-Польша-Турция получает новый вид: Пруссия-Австрия-Турция. Две системы склеиваются, при этом в результате их стыка ликвидируется старая средиземноморско-дунайская система, где Австрия и Турция выступали историческими противниками. Теперь они легко переменяют конфликтные отношения на союзнические и наоборот – в зависимости от перегруппировок внутри четырехполярной системы. Итак, становление метасистемы «Европа-Россия» происходит через закат старой БЧС и становление этой системы в новом облике, когда исторические «шведское» и «польское» места переходят к субцентрам расколотого германского востока Европы.
Причем, этот процесс еще и осложняется динамикой европейской системы, когда после Семилетней войны в Европе наступает пат, все боровшиеся силы чувствуют себя истощенными, и всё большую популярность обретает мнение о невозможности больших войн в Европе при существующих военных расходах и средствах поражения.
Вся эта совокупность факторов накладывает сильнейший отпечаток на стратегию России, на те концепции, в которых мы можем с полным правом видеть наработки, относящиеся к нижнему, примитивному ярусу геополитики. Пока это практические сценарии, которые, однако, начинают чем дальше, тем больше подвёрстываться под некоторую философию консолидированных Больших Пространств. Формат этих сценариев, типичный для XVIII в., – это разработки т. н. «систем», т. е., по сути, стратегий по формированию союзнических блоков с целью обеспечения баланса или гегемонии на том или ином участке, достижения определенных результатов. В этих системах, выстраиваемых российскими политиками, преломляются реальные преобразования международных структур Западной Евро-Азии. Эти системы откровенно прагматичны, собственно, это реакция на вызовы изменяющихся обстоятельств без попыток подвести под эти построения какую-либо онтологию, лежащую по ту сторону сиюминутной конъюнктуры. Тем интереснее, что в некоторых случаях возможность такой онтологии явственна, и следующие века, обращаясь к соответствующим сценариям, не усомнятся эту онтологию в них вчитывать.
Собственно, можно выделить четыре такие основные конъюнктурные «системы» XVIII в., связанные с перестройкой международных структур[17].
II Система Петра Великого
По замыслам и желаниям Петр I был первым петербургским императором, по результатам своей политики он остался последним московским царем. Все его попытки включиться в расклад Европы через союзы с европейскими великими державами (Амстердамский договор 1717 г. с Францией) долгосрочных результатов не имели. Стремясь любым способом получить для России хоть какую-то зацепку в Европе, Петр вступил в династический союз с Голштинскими князьями: как писал в 1760-х гг. Н.И. Панин, стремясь вывести «народ свой из невежества, оставил уже за великое и то, чтоб уравнять оный державам второго класса, которые наиболее взаимствуют инфлюенцию свою в генеральных европейских делах от сочленства в германском корпусе, ибо, будучи там между множеством малых князей сильнейшие, могут они по имперским, с генеральными европейскими делами толь много связанным играть отличную роль, коего бы инако существительною своею силою никогда достигнуть не могли» [Соловьев XIV, 177]. На самом деле, никакой «отличной роли» в германских делах Петр голштинскими связями не приобрел, а лишь впутал преемников в затяжную тяжбу с Данией из-за Шлезвига, лишившись Дании как исторического союзника России против шведов.
На самом деле, важнейшим результатом его царствования стало резкое ослабление Польши и Швеции – северных членов БЧС, попавших в явную зависимость от России. Турция, одержав верх над Петром в его Прутском походе, утвердила за собой положение второго центра БЧС, но победы Миниха в 1730-х над турками, по словам Фридриха II, окончательно сделали русских «хозяевами судеб севера» – это значит: гегемонами северной части Балто-Черноморья и претендентами на полную гегемонию в этом пространстве. Следствием чего стало то, что все западные члены этой системы в своей политике уже перестают бороться друг с другом, но всецело ориентируются относительно России и в попытках отстоять от нее свою суверенность ищут против нее друг в друге опору. Шведы перестают враждовать с поляками, Турция в 1730-х и 1760-х объявляет себя защитницей польской вольности от русских посягательств. Сходным образом в 1760-х турки поднимаются на защиту католицизма в Польше против вмешательства России в поддержку польских диссидентов. (Как следствие, война с Турцией кончается разделом Польши.) Шведы видят в Порте свою историческую союзницу против России, и все расписываются в почтении перед петербургскими монархами. Так между Европой и Россией протягивается поле государств, политически в основном ориентированных относительно России.
Парадоксальный образ России начала 1740-х обнаруживаем в мемуарах Фридриха: Россия – хозяйка севера, навязывающая соседям клиентельные договоры, и в то же время страна, отдаленная от Европы «пустынями» и остающаяся неспособной всерьез повлиять на европейский баланс.
В то же время Европа, живущая балансом сил, постоянными перегруппировками союзов, приоткрывается для внешних держав и, прежде всего, так поступает Австрия, утратившая жесткий контроль над Испанией. С середины 1720-х прослеживается курс на сближение с Австрией как державой, граничащей с западом БЧС и способной оказывать прямое давление на это пространство. Целью становится контроль над западом БЧС через обязательство относительно восточного центра Европы: отсюда и договор 1726 г. с Австрией против Франции. Договор, благодаря которому Вена оказывалась заинтересована в том, чтобы пояс Балто-Черноморья был ослаблен и проницаем. В ответ – настойчивое стремление Франции усилить государства Балто-Черноморья, сформировать пояс, изолирующий Австрию и отбрасывающий Россию вглубь материка от Европы. Давние дружеские отношения Парижа к Стокгольму и Стамбулу дополняются настойчивым стремлением утвердить польского кандидата на польском престоле. Впервые возникает в политике идея буфера, отсекающего Россию от Европы в интересах крупнейшего европейского центра, не желающего российским влиянием затемнять свою гегемонию, – и встречное стремление России к контролю над порогом Европы.
Показательно, какое значение в это время обретает тема нахождения российской столицы. В 1727 г., когда Англия состоит в блоке с Францией, испанский посол приписывает возвращение столицы в Москву при Петре II английским деньгам. В начале 1740-х французское посольство (Шетарди) поддерживает национальную реакцию против «немецкого засилья» – с целью развернуть Россию прочь от Европы, в частности возвратив столицу в Москву. В свою очередь Австрия настаивает на возвращении столицы в Петербург, подчеркивая, что этот шаг сам по себе равнялся бы выставлению 30-тысячной армии в поддержку Вены против Парижа. В свою очередь все попытки сближения с Францией до 1750-х кончаются ничем, прежде всего потому, что Франция озабочена усилением восточного барьера, в том числе на турецком фланге, а это ровно то, чего не могла допустить Россия (никакой реальной компенсации французы предложить были не в состоянии)[18] *.
Картина усложняется с введением в игру Пруссии, которая с 1726 г. выступает официальным союзником Франции против Австрии, а в 1740-х, с воцарением Фридриха II оказывается действенным французским агентом. Пруссия с самого начала выступает как крупнейший дестабилизатор Балто-Черноморья, суля надежду здешним ослабевшим образованиям – против России, заявляя себя союзником Турции и Швеции. В 1740-х русские дипломаты Бестужев и Воронцов испытывают страх перед Пруссией, предвидя широкую дестабилизацию против России от Дании и Швеции до Закавказья. Итак, две опасности, склеенные вместе: Франция с попыткой переработать Балто-Черноморье в восточный барьер и Пруссия, восходящая сила на стыке востока Европы и Балто-Черноморья, прямо заинтересованная в активизации этой полосы против Австрии и рикошетом против России. Кто основной противник? В 1740–1750-х гг. такого противника видели в Пруссии как силе с прямым доступом к Балто-Черноморью. В 1745 г. Бестужев призывал содействовать тому, чтобы «древняя, истинная европейская система могла бы быть подкреплена и восстановлена без принятия Россиею непосредственного участия в войне», со ссылкой на примеры морских держав вроде Голландии – помощь деньгами и войском без вмешательства в борьбу; зато выступал за прямое противодействие Пруссии как силе, действующей в землях, соседних с Россией, – в Балто-Черноморье [Соловьев XI, 367, 282 и сл., 355 и сл.].
Эта обстановка во взаимоотношениях двух международных конфликтных систем непосредственно преломляется в тех геостратегических идеях, которыми в России отмечена эта эпоха. Политика, проводимая в 1730–1740-х канцлерами А.И. Остерманом и А.П. Бестужевым (Рюминым), последним была резюмирована в 1744–1745 гг. под названием «системы Петра Великого» [Соловьев XI, 280–282]. В основе доктрины – идея союзников «по положению их земель», причем, понятие расшифровывалось не в смысле безопасности или дружбы «через соседа», но именно в смысле ареальной общности, вынуждающей Россию препятствовать дестабилизации в масштабах ареала («ежели соседа моего дом горит, то я натурально принужден ему помогать тот огонь для своей собственной безопасности гасить, хотя бы он наизлейший мой неприятель был, к чему я еще вдвое обязан, ежели то мой приятель есть»). Таким образом, делается ставка на Австрию как старый центр – гарант стабильности в Балто-Черноморье, а вместе с тем на дружественные отношения с морскими державами – европейскими «балансирами». Союз с восточным центром как центром слабейшим ради обеспечения русского преобладания на входе европейской системы.
В рамках этой «системы Петра Великого», которую правильнее назвать «стратегией Остермана-Бестужева», обозначился и тот план раздела Турции, который был сформулирован в русско-турецкую войну 1735–1739 гг. в инструкции Остермана от 14 июня 1737 г. русским уполномоченным на Немировском конгрессе. В условиях, когда запад БЧС – Швеция, Турция, Польша – фактически превращался в ось между Россией и Европой, старая ось – Литва, Украина, Крым – утрачивала политическую роль, оказавшись относительно новой оси по русскую сторону, чем и подготавливалась интеграция в Россию. Уменьшается самостоятельная роль Крыма: крымские татары – практически лобби в составе Оттоманской Империи, ориентирующее ее против России. В этих условиях понятна инструкция Остермана от 14 июня: поскольку татарские народы – главные виновники столкновений Турции и России, нужно требовать включения этих земель от Кубани до Дуная с Крымом в Россию, с выделением православных земель от Днестра до Дуная в буферные княжества. По существу, <требовать> перехода в Россию всего юга старой оси, относительно суверенного и бывшего источником больших кризисов. Перспектива, реализованная, по сути, к 1790-м в иных условиях, в контексте «греческого проекта» нацеливания России на Турцию, попытки поглощения турецкого места в Балто-Черноморье. Собственно, в первоначальном варианте – это одна из перспектив, которые с собою несла «система Петра Великого».
Собственно, в рамках той же «системы»-стратегии Россия реагировала на парадоксальный европейский расклад, сложившийся перед Семилетней войной, когда Англия – держава-балансир – втягивает в союз против Франции Пруссию, а ослабевшая и напуганная таким поворотом Австрия идет на блок с Парижем, так что возникает противостояние: Пруссия – новый восточный центр-претендент – против союза старых центров при главенстве западного. С точки зрения «системы Петра Великого», выбор состоял в том, кого считать противником: западный центр, занимавшийся строительством «восточного барьера» и ныне подверставший под свои планы Вену, или центр-претендент, обнаруживший склонность возмущать Балто-Черноморье в ущерб России. Выбор был сделан: противником был объявлен ближайший возмутитель спокойствия: Россия входила в европейскую игру, ставя на первый план балтийско-черноморскую ситуацию. При общей двусмысленности, когда новые союзники, усвоив стратегию «восточного барьера», наложили вето на передвижения русских войск в Польше, и сам Бестужев боялся, что по итогам войны Россия будет объявлена «ауксилиарным» участником войны, не имеющим права ни на какие приобретения, ни на какое улучшение позиций (всё это удивительно напоминает переговоры в Москве в 1939 г. насчет присоединения СССР к англо-французскому блоку против Германии). Задачи, поставленные на войну, оказывались сформулированы в категориях усиления русских позиций в Балто-Черноморье: «Одолживши Польшу доставлением ей королевской (т. е. восточной. – В.Ц.) Пруссии, взамен получить не только Курляндию, но и такое округление границ с польской стороны, благодаря которому не токмо пресеклись бы нынешние беспрестанные об них хлопоты и беспокойства, но, быть может, и получен был бы способ соединить торговлю Балтийского и Черного морей и сосредоточить всю левантскую торговлю в своих руках» [Соловьев XII, 323–324]. Собственно, это по-прежнему решение задачи Киевской Руси: европейская игра ради контроля над балтийско-черноморской перемычкой. Другое дело, что связи уже неоднозначны: с превращением Балто-Черноморья в ось между Россией и Европой контроль над осью усложняется этой европейской игрой, вмешательством в европейские дела на участках, с которыми Россия не имела прямого соприкосновения, вовлечением в конфликты, где у нее не было явного противника. Геостратегия Балто-Черноморья осложняется доводами из области европейского баланса, в общем-то, верными – ставка на слабейший центр, использование его традиционных возможностей для стабилизации запада БЧС под российским контролем, но здесь уже удлиняется петля отношений между средствами и целью, создаются предпосылки к тому, чтобы средства – участие в европейской игре – обрели привкус самоцели.
III <Северный аккорд>
Так называемая система Северного аккорда представляет следующую стадию в динамике системы Европы и Балто-Черноморья. Зафиксированы три крупнейших сдвига. Во-первых, сближение ослабевшей Австрии с западным центром, наметившееся в канун Семилетней войны фактором постоянным: система европейских противовесов деформируется, намечается союзный квазиуниполь, грозящий гегемонией объединенных бурбонского и габсбургского домов. Во-вторых, окончательный закат северо-западных центров БЧС – Швеции и Польши (разделяющейся после 1764 г. с Саксонией). Оба эти государства из центров силы вырождаются в пространства под давлением Пруссии: для Швеции гарантией целостности, а для Польши и самого выживания видится ориентация на Россию. Вместе с тем, австро-французское veto в Семилетнюю войну на введение русских войск в Польшу обнаруживает, что «униполь» унаследовал от западного центра политику сооружения «барьера» против России. В-третьих, Пруссия осмысляется уже не как дестабилизатор Балто-Черноморья, но в качестве силы, притязающей быть противовесом «униполю», но по результатам той же войны явно не способной справиться в одиночку с этой ролью и зависящей в самом своем выживании от политики России. Подспудно – факт вытеснения Швеции Пруссией в роли главной силы на Балтике, фактического включения Пруссии в балтийско-черноморское пространство. На этих факторах строится идея Северного аккорда, выдвинутая в 1764 г. российским послом в Дании Н. Корфом и сразу же ставшая внешнеполитической idee fixe канцлера Н.И. Панина.
Корф в 1764 г. писал о формировании сильного союза, получающего приращение через австрийский дом. Англия как вечная держава-балансир Европы должна была присоединиться к северному блоку, чтобы вместе с ним составлять противовес образующейся гегемонии. Позднее российский посол Сальдерн в беседе с Фридрихом II указывал, что создаваемый аккорд должен был включить три активных члена-лидера (Россия, Пруссия и Великобритания), собственно носителей военной мощи, и ряд членов пассивных (Польша, Саксония, Швеция, Дания). Речь шла не просто о <противостоянии>[19] группировок Больших пространств, опирающихся на Средиземноморье, Южную и Западную Европу, а с другой стороны – на Балтику, Восточную и Северную Европу; при этом ставилась под вопрос сама по себе суверенность ареалов. Идея активных членов как попечителей о суверенитете пространства в целом, достраиваемого пассивными членами, в конечном счете направлена была на то, чтобы блокировать экспансионистскую активность Пруссии в балтийско-черноморской полосе, дестабилизирующую этот «мир России», и наоборот, интегрировать Пруссию в это пространство, нацелить ее на укрепление его.
Панин открыто заявлял, что во всех предыдущих европейских играх Россия была обречена на роль вспомогательной силы. Вместе с Северным аккордом она впервые оказывалась наравне с великими державами Европы. Именно благодаря тому, что она бы выступила лидером севера, точнее – северо-востока Европы, Панин был справедлив в своей оценке. Сегодня мы можем утверждать, что Северный аккорд был первой попыткой представить метасистему «Европа-Россия» как сочетание двух больших Пространств-противовесов. Однако особенность этого проекта в отличие от позднейших евразийских планов – стремление вобрать в пространство вокруг России также морские державы-балансиры, а также существенную часть романо-германского континентального пространства. Собственно, противополагались коренная Европа и БЧС, однако, вместе с БЧС в состав этого пространства должна была войти Пруссия – центр-претендент германского востока Европы. Но в отличие от политики Петра III, где была прямая ставка на центр-претендент, здесь была попытка связать Пруссию правилами игры, обезвредить ее в рамках северного пространства. Обретение России – сцепление Европы-БЧС, двух Больших Пространств, границы которых, однако, были резко сдвинуты с прихватом Европы, ее морских балансиров и континентального центра-претендента.
Собственно, реализацией этого проекта стала война за баварское наследство, где Россия поддержала Пруссию в ее наступлении против попытки расширить владения Австрии. Симптоматично, что по исчерпании конфликта поручителями выступили: со стороны Австрии – Франция, а со стороны Пруссии – Россия; был заключен как бы договор Больших Пространств. Но парадоксальным образом эта практическая реализация системы состоялась уже после того, как она пережила ряд кризисов и была значительно дискредитирована в глазах самой Екатерины и части ее окружения.
Каковы, собственно, причины кризиса системы? Во-первых, не учтена роль Турции. Наиболее естественно было войти с Турцией в блок как с членом БЧС, развернув ее против Австрии, тем более что самой турецкой верхушкой австро-французский блок широко переживался как «французское предательство». Однако предполагалось не введение Турции в блок, а ее нейтрализация с опорой на силы Англии. Здесь была двойная ошибка: не учитывалась структура БЧС, членом которой была Турция; во-вторых, Турция была еще слишком сильным государством, чтобы быть уверенно интегрированной в блок, собираемый вокруг России. Итак, БЧС и Северный аккорд не были тождественны, возникал зазор: Турция, входя в БЧС, но не входя в Северный аккорд, становилась дестабилизатором Балто-Черноморья. Объективно Россия ее толкала на сговор с австро-французским блоком.
Во-вторых, не учитывалась роль Англии как не только балтийской, но и средиземноморской торговой державы. Во всяком случае, будучи готова войти в блок против европейского униполя, Англия не видела оснований прямо блокироваться с Россией против Турции, толкая торговлю последней в объятия французских конкурентов. А тем самым Турция оказывалась реально связана в отношениях с Россией.
Не учитывалось, что с ослаблением Польши Австрия как карпатская держава втягивалась в балтийско-черноморскую систему, а тем самым ее отношение к Турции резко изменилось, она также могла с нею блокироваться против России, как польские короли с крымскими ханами. В начале 1770-х Екатерина II была уверена в невозможности союза Австрии и Турции, но этот союз был заключен. Не учитывалось, что Австрия уже стала членом Балто-Черноморья и естественно шла на союз с членом Балто-Черноморья, оставшимся вне проекта. В-четвертых, и это самое главное: Пруссия, стремясь к союзу с Россией, включив Россию как своего гаранта против «квази-униполя», была подавлена Северным аккордом как силой, сдерживающей ее в качестве европейского центра-претендента и парализующей ее экспансию. Кроме того, как член БЧС Пруссия естественно испытывала симпатии к Турции как потенциальному противнику Австрии. Итак, положение логики Северного аккорда, не реализуя логику БЧС, порождало союз Турции с Австрией против России, а между тем логика БЧС дестабилизировала логику Северного аккорда, побуждая Пруссию подыгрывать Турции, стремясь не допустить ее краха.
Итак, со второй половины 1760-х – цепь кризисов. Первый – из-за неготовности Англии включить пункт о Турции в договор (пункт, вовсе не предусмотренный логикой Северного аккорда, но неизбежный из-за деления между аккордом и БЧС). В 1767 г. Турция выступает защитницей польской вольности и католицизма. Второй кризис – в этой борьбе Австрия оказывается союзником Турции. Кризис третий: Пруссия подыгрывает туркам и, в конце концов, гарантией своего союза с Россией объявляет раздел Польши. Как следствие – система, призванная обеспечивать суверенность севера, выливается в раздел одной из держав севера, да еще при соучастии Австрии – державы европейского униполя. Первый раздел – фактически кризис замысла, тем более что Россия так долго стремилась сохранить Польшу безопасным буфером.
Война 1768–1774 гг. могла восприниматься как результат происков европейского гегемона, науськивающего мусульман на Россию по старой привычке, и это восприятие нашло отражение в литературе XVIII в. А.Л. Зорин, анализируя оду «карманного стихотворца» Екатерины В.П. Петрова «На заключение с Оттоманскою Портою мира», оценивает рисуемую в этой оде чудовищную картину Западной Европы как мира, враждебного России: «Равновесие сил и европейская конфедерация, Руссо и Бентам, секретная дипломатия Людовика XV и Ост-Индские компании, паровой двигатель … свободная лондонская пресса и давние российские представления о святой земле … составили адскую смесь», где кружатся враги России – «маги, волхвы … кудесники, изобретающие "огневые машины" … авантюристы – "счастия ловцы"… шарлатаны, меняющие свой облик и намерения … наконец, "сердец ловцы", вовлекающие других в свои сети». Важно, однако, что сила, которой противостоит всё это марево, устойчиво фигурирует под именем «Норд», «Север», что может указывать не только на Россию, но и на «Северную систему», которую она пыталась утвердить с таким пафосом. Север рухнул из-за зазоров между искусственной блоковой системой и реальной конфигурацией международных конфликтных систем.
IV <Греческий проект>
Греческий проект возникает в результате очерченного кризиса Северной системы, резких зазоров между нею и преобразуемой БЧС. Этот проект в ареале его культурных ассоциаций предполагал ряд истолкований, раскрытых в последние годы в работах отечественных авторов. Вероятно, на его примере можно лучше всего демонстрировать культурные механизмы геополитики. В истории он стал – благодаря престижу екатерининского века и всего, связанного с именем Екатерины, – едва ли не образцом для всех планов русского имперостроительства на Балканах и на входе в Средиземноморье. И вместе с тем, у него есть особенности, тесно связывающие его со своим временем, с его уникальными историческими чертами, благодаря чему он во многом оказывается предельно маргинальным явлением в истории российской геостратегии.
С одной стороны, он встраивается в ряд «константинопольских» планов-утопий России, начало которых отсчитывается от Алексея Михайловича и его вступления на Украину. В этом смысле воссоздание Царства Греческого как восстановление средиземноморского православного мира в политической и духовной суверенности, апелляция к религиозной традиции, находят глубокий отклик в слоях русской психологии, наименее измененных вестернизацией. Еще в 1876–1877 гг. ополченцы-крестьяне, собиравшиеся на турецкую войну, говорили, что идут «помогать грекам» (Лурье). Позднейшие нападки на этот проект с либерально-славянофильской точки зрения указывают на то, что «екатерининская "греческая" империя при тех границах, в которых ее хотели восстановить, была бы "греческой" только по имени, и вышла бы почти без греков, так как … даже в Румелии и Македонии славянский элемент был элементом преобладающим», и подобная империя породила бы яростную борьбу между эллинизаторскими устремлениями греков и сопротивлением славян [Жигарев 1896, 214]. Однако, будущими критиками не учитывается именно апелляция не к национальным, но к религиозно-историческим механизмам, выразившаяся еще на стадии вызревания «проекта» в наречении Александра и Константина – наследников двух империй, в медали с девизом «Назад в Византию» и т. п. переживаниях геостратегии как «машины времени», работающей с историческими символами. Среди этих символов – отмечаемый С.А. Экштутом в одах Державина мотив приближения России по пути «назад в Византию» к центру – «средине мира» («Не ты ли с высоты честей / …Покрыл понт Черный кораблями, / Потряс среду земли громами?»[20], «Доступим мира мы средины»[21]).
После т. н. «системы Петра Великого» и «Северного аккорда» с конструированием БЧС вокруг России проект обладал мощной эксцентричностью, характерным его признаком был сдвиг фокуса на крайнюю периферию российского мира, созидание царства-близнеца, которое по декларации Екатерины в письме к Иосифу II от 10.09.1782 никогда не должно было соединиться с Россией, будучи от нее отделено лимитрофной православной Дакией. «Центр мира», «назад в Византию», «сдвиг на периферию российского мира», роль Греческого царства как цели, но цели, утверждаемой, конституируемой русскими, вводящей их в центр мира, но в то же время вне России на грани ее мира, – всё это огромный культурологический потенциал проекта.
Другой пласт – тот, который западные авторы рассматривают как a kind of neo-classical iconography and political theater[22], о котором А.Л. Зорин недавно ярко писал как об «оживании школьной мифологии», большой классицистической игре в воскресающую страну классической древности. Собственно, опыт культурной «продажи» проекта Европе при помощи модной псевдоморфозной символики являет на русской почве уже псевдоморфозу второго порядка («Россия имитирует европейскую имитацию античности»). К сожалению, Зорин, стремясь показать, как «языческий» неоклассицизм воплощается в культурной символике греческого проекта, ограничивается анализом переписки Екатерины с Вольтером в 1768–1774 гг. (и в какой-то мере классицистическими мотивами в одах тех лет), иначе говоря, речь у него идет не о проекте, а о самых отдаленных подступах к нему, да еще в зеркале пропагандистской задачи – «продажи» русской стратегии западной публике через посредство властителя дум Вольтера. Если бы он сделал упор на изучении, скажем, державинских од, сложившихся уже под знаком заявленного «греческого проекта», возникла бы иная картина – игра в мифологию включается в более широкий комплекс восстановления древних идеальных пластов истории, снятия замутнений: «Росс рожден судьбою / От варварских хранить вас уз / … Отмстить крестовые походы, / Очистить иордански воды, / Священный гроб освободить, / Афинам возвратить Афину, / Град Константинов Константину, / И мир Афету водворить»[23]. Иначе говоря, элементы неоклассицистского маскарада встраиваются в комплекс более широкий, в геостратегию как «машину времени», как фактор «сворачивания времен» через особую стыковку России со Средиземноморьем в их нераздельности и неслиянности.
И, наконец, еще один момент, наиболее парадоксальный, делающий «греческий проект» не только парадигмой, но и маргиналией, – это мотив союза с Австрией как необходимой предпосылки всего плана. Уже в ключевом тексте – в письме Екатерины к Иосифу II (10.9.1782) – и в ответе Иосифа (ноябрь) звучит тема союза: Франция и Пруссия как силы, способные помешать, но Франция должна быть нейтрализована своим европейским союзом с Австрией, Пруссия же должна быть нейтрализована соединенными Империями. Что, в общем, и осуществилось: если в связи с оккупацией Крыма Франция ограничилась раздраженными демаршами, то к войне 1787–1791 гг. она под австрийским влиянием отнеслась с позиций благожелательного нейтралитета[24].
Как мы видели, восток Европы склеивается с западом БЧС. Но эта склейка совпадает с тем 30-летием после Семилетней войны, когда в самой коренной Европе наблюдается своеобразный милитаристский пат – тупик понижательной фазы преобладания средств уничтожения над возможностями мобилизации. Восторги после Семилетней войны переживают свое истощение, общий страх перед войнами владеет даже таким милитаристом, как Фридрих II, настойчиво твердящим, что якобы «время войны в Европе миновало» (лучший пример – бескровная война за баварское наследство). Фактически милитаристская активность уходит на окраины западного мира – за океаны (война Франции и Испании с Англией в поддержку восставших американских колоний) и на восток в рамках БЧС. На континенте вся игра идет в рамках БЧС, Западная Европа нейтрализуется (отказ от Северной системы в 1779 г., когда на предложение Англии войти в эту систему на русских условиях с включением «турецкого пункта», чтобы получить русскую помощь против Франции, следует ответ, что Екатерина уже не рассматривает Францию как противника: исходные посылки Северного аккорда снимаются).
При Екатерине России легко было быть европейской державой, когда Западная, а во многом и Центральная Европа нейтрализуются, а на востоке воссоздается классическая четырехполярная БЧС силами европейских держав, в рамках которой разыгрываются привычные для России по XVI-XVII вв. расклады. Фактически Россия возвращается к политике союза со старым восточным центром Европы и ограничения центра-претендента, но при условии общей нейтрализации европейского запада эта политика обретает характер балтийско-черноморской игры в духе проекта Ордина-Нащокина. Блокировка России с карпатской державой, развернутая и против Турции, и против потенциального гегемона Балтики. Любопытно, что в беседах Екатерины с Иосифом II явно проскальзывают апелляции к наследию Западной Римской Империи, к былой австрийской гегемонии в Италии: «По словам Иосифа II, стоило ему заговорить о Греции и Константинополе во время могилевской встречи (1781 г. – В.Ц.), всякий раз императрица упоминала Италию и Рим» [Зорин 1997, 10]. Как бы тема двух империй, двух «мировых» центров, дуально дополняющих друг друга и соединенных союзом, как бы поддержка прав традиционного дунайского восточного центра Европы на Италию, на роль основного европейского центра. Однако в условиях гегемонии Парижа, но гегемонии, «замороженной» милитаристским патом, подобные пассажи – сами по себе момент маскарада, разыгрываемого внутри БЧС: господство над Италией и Римом оказывается подменено предлагаемым Екатериной Иосифу утверждением в балканской части Адриатики.
Существенным следствием этой эпохи была ликвидация особого балтийско-черноморского пространства, потенциального «восточного барьера»: Россия оказалась впритык поставлена к германским державам, Польша была ликвидирована, Швеция в основном вытеснена в Скандинавию. Триумфы России определены добором остаточных земель старой БЧС и формированием новой четырехполярной структуры, где Россия сразу обретала себе союзников.
Французская революция вывела Европу из милитаристского тупика, парадоксально возродив расклад начала 1740-х: австро-восточный центр при поддержке Англии против Парижа. Пруссия, к 1795 г. приходящая к миру с Францией и подыгрывающая ей против Австрии. Старый расклад при отсутствии в БЧС пространства, которое могло бы быть дестабилизировано Францией и Пруссией, в обороне которого были бы едины Россия и старый восточный центр.
V 1800–1801 гг.: планы Павла I и Ростопчина
Итак, на 1795 г. – восстановление бицентричной Европы с Англией-балансиром и Пруссией – субцентром-претендентом (потенциальная французская агентура на востоке) при исчезновении суверенного пояса между Россией и восточным центром, в стабилизации которого были бы заинтересованы обе стороны. Логика европейской борьбы берет верх над логикой БЧС; кроме того, Турция с ее владениями становится подбрюшьем Европы, где разворачивается европейская борьба, распространяющаяся на колониальное приморье Евро-Азии (планы Наполеона насчет похода в Индию, высадка в Египте, вовлечение Турции в борьбу на стороне Австрии и Англии – свидетельство того, что Турция утрачивает роль самостоятельной силы: в этом качестве Франция была ей давним партнером).
До 1796 г. Екатерина избегает втягиваться в войну под предлогом дележа Польши и сдерживания Пруссии, параллельно действуя в Закавказье, планируя в 1797 г. наступление на Константинополь и т. д. Доосвоение БЧС без вмешательства в игру в европейской системе. Павел – попытка нейтралитета. Изменение курса с началом французских операций в Восточном Средиземноморье – по сути, возвращение к поддержке традиционного восточного центра в видах стабилизации европейского сообщества. Посылая Суворова в качестве «спасителя царей», Павел, несомненно, шел к той идее, которую позднее Александр воплотит в Священном союзе, – к идее России как «гаранта» Европы. Кризис обнаружился, когда ясно обозначилось стремление Австрии использовать русскую армию как «ауксилиарную» силу для утверждения своего господства над Италией, т. е. чисто для решения задач восточного центра при отсутствии у России каких бы то ни было перспектив на вознаграждение – будь то материальных или статусных (в качестве «гаранта» Европы). Отсюда кризис с отзывом Суворова и общая тупиковая ситуация. Выход из нее и попытался представить ответственный за внешнюю политику Ф.В. Ростопчин.
Выделяются главные моменты. (l) Отказ в Европе от жесткой системы союзов, фактически вообще – никаких прочных связей, кроме торговых. Особенность России как государства, которое прямо или косвенно оказывалось втягиваемо в европейские войны и принимало на себя гарантии, хотя не рисковало потерять в этих войнах «никогда ничего». Конец бескорыстным войнам. (2) Как следствие – предвидимый исход войн, когда так или иначе сохранят позиции все, кроме Австрии – захиревшего восточного центра, оказывающегося с провалом итальянской экспансии в козлах отпущения. (3) Отсюда задача вознаграждения России (разрыв союзов, но идея баланса только как пропорционального усиления): раздел Турции с выходом России к проливам и с дальнейшим прицелом на Грецию (царство под покровительством Европы, в перспективе – российские владения) собственно за счет оставшегося европейского сегмента Балто-Черноморья. Центр всего дела – Франция, Бонапарт. Павел уже пришел к идее сосуществования с гегемоном Европы на началах двух автономных пространств. Ростопчин, отделяя Россию от Европы, видит Францию крупнейшим центром, но не абсолютным гегемоном. Отсюда концепция вознаграждений, так что кроме Турции все в выигрыше, кроме Англии, которая оказывается вместо Австрии реальным козлом отпущения. Странная карта: уход из Европы, солидаризация с западным центром, но вместе с тем подпитывание хиреющего восточного центра – и жесткое исключение из расклада страны-балансира, отказ ей в вознаграждениях.
До сих пор не очень ясно соотношение между этим планом и последующими переговорами Павла I с Бонапартом, в центре которых планы совместного удара по Англии. Не ясно даже, кто инициатор. Обычно считают Наполеона, учитывая, что поход в Египет сам по себе предполагал дальнейший удар через Средний Восток на Индию. Однако опубликованный документ производит странное впечатление: планы переброски французской армии через Черное море к Дону, далее на Волгу и в Астрахань, а оттуда в Астрабад[25], исходную точку похода, – буквально каждый пункт ставится Бонапартом под сомнение, а Павел эти сомнения пытается разрешить. Симптоматично, что за образец Павел берет поход Надир-шаха, захватившего Дели в 1737–1740-х гг. Неизвестно, на какой степени разработки был этот план, когда Павел отдал приказ казакам двинуться с Дона через Приуральские и Казахские степи на Хиву и Бухару с последующим продвижением в Индию. Отзывы: якобы план из области психиатрии; другие военные эксперты считали его смелым, но отнюдь не безумным (Терентьев). Фактически за основу Павел принял походы кочевников, рассматривая казаков как род типичного для Средней Азии конного кочевого войска, указывая Платову, что в Средней Азии казаки столкнутся с противниками, подобными им же, но без артиллерии, что должно было дать наступающим преимущество. Возможно, замышлялся удар с двух сторон, рассеивающий внимание, а заодно утверждающий влияние России на подступах к Индии. Ясно, что Павел предвосхитил направления, по которым через 65–70 лет русские выйдут к порогу Индии, а мотив широкого возмущения туземцев в видах дестабилизации английского господства останется во всех позднейших планах завоевания Индии с опорой на среднеазиатский плацдарм.
Итак, уход из европейских дел России как гарантия возвышения западного центра; сохранение старого восточного центра на стыке пространств Европы и России; выход в Средиземноморье в условиях, когда противовесом гегемонии становилась бы Англия – держава-балансир; превращение Англии в козла отпущения исключением ее из раздела Турции и ударом по Среднему Востоку, причем двумя путями: приморским и трансконтинентальным. Отход от европейских континентальных блоков фактически при попытке континентального соглашения против морской силы (импровизация? безумие?), но это всё стратегии, которые будут неоднократно вставать в последующей истории России. Фактически это тот выбор, который будет возникать в следующих ходах А: либо сопротивление вместе с Англией крепнущему центру-гегемону Европы со ставкой на другой центр, либо попытка сговориться с центром-гегемоном за счет выкраивания специфического «российского» пространства; при этом разворот в Евразию и вызов морской силе (в ее качестве балансира или союзника слабеющего центра). Поразительно, что политика Павла смоделировала этот выбор, когда для него не было материальных оснований (скажем, в английском движении в Центральную Азию). Особая связь между выходом из Европы и попыткой включить значительную часть Балкан в русское пространство как источник кризиса в отношениях между Россией и центром-гегемоном, подрывающего попытку размежевания Больших Пространств. Колебания между «евразийской» альтернативой и поддержкой слабого центра, в последнем случае неудовлетворенность положением «ауксилиарной» силы, надежды выступить в конечном счете «гарантами Европы» (у Ростопчина – надежда сохранить опору на Балтику с обращением в европейских делах к Франции и примкнувшей к ней Испании; силы России и западный центр решают судьбы Европы).
VI Время Александра (начало)
Начало правления Александра не отмечено выдвижением каких-либо больших концепций. Интересно, что если приверженцы союза указывали на желательность сближения держав, неспособных друг для друга представлять опасность по «географическим соображениям», то Александр при воцарении выпустил инструкцию (4.7.1801), где оценивал многие павловские обязательства как «не соответствующие географическому положению и взаимным удобствам договаривающихся сторон» [Соловьев 1995, 18]. Итак, совершенно разное понимание тех импульсов, которые проистекают из географии. Реальная политика Александра – укрепить оба восточных субцентра, развернув их против Парижа. Так он действовал во время войн. Но, кроме того, во время союза с Наполеоном – стремление сохранить эти политические целостности, прикрывающие Россию: в Тильзите Александр отстаивал выживание Пруссии, в Эрфурте – Австрии. Фактически восточные центры становились буферами, прикрывающими Россию от центра-гегемона, роль же реального противовеса европейскому моноцентризму переходила к Англии.
Это время, включая и войны 1805–1807 гг., и «Тильзитскую систему», стало поводом для мистификаций в будущем со стороны политических писателей. Патриоты, приверженцы активной политики в Восточном вопросе, твердили о шансах, которые Александр якобы упустил в то время, когда Европа пребывала во внутренней войне. Сторонники «доктрины Монро» для России усматривали прообраз таковой доктрины в Тильзитском договоре, якобы размежевавшем пространства, разделившем восток и запад. На самом деле иная картина – с самого начала обозначилось совершенно новое положение Турции как поля большой игры в европейском подбрюшье: Наполеон то объявлял султана своим союзником, поднимая его на войну с Россией; то вел переговоры о разделе Турции, причем Франция требовала не только весь адриатический запад Балкан, но и Дарданеллы; то утверждал, что переход русских войск через Дунай станет поводом к войне Франции и России. В условиях, когда войска Наполеона оккупировали Далмацию, фактически Тильзитская система становилась системой противостояния России и гегемона Запада на Балканах. То Наполеон призывал к полному разделу Турции, то право России на Бессарабию ставил в зависимость от согласия Александра на уничтожение Пруссии. К тому же хиреющая Австрия, перейдя на позицию защиты Турции как европейского подбрюшья, берет курс на защиту целостности этого пространства, смыкаясь с Наполеоном. Впервые в истории Балканы стали частью собственно европейского поля игры. А вместе с тем, сажая на престоле Швеции своего маршала Бернадота, воссоздавая, пусть в урезанном виде, Польшу-Саксонию под именем герцогства Варшавского, Наполеон явным образом строил против России всё тот же восточный барьер, выталкивающий ее из Европы вглубь материка. Раздела Европы не было, с минимальными уступками (Финляндия, Восточная Галиция, княжества между Днестром и Дунаем) была попытка замкнуть Россию вне европейского полуострова, постепенно грозя использовать призраки старой БЧС для оттеснения России от входа в Европу. (Другое дело, что линия изломанная; скорее, конфликтные очаги, рассеянные выступами германских держав, членов новой БЧС.)
Если говорить реально: русская политика, наиболее отвечавшая интересам Наполеона – это, грубо говоря, политика разворота России в Евразию. Таковы настойчивые приглашения Александру I – вернуться к идее индийского похода; собственно, раздуть борьбу Англии и России в азиатском приморье, выведя их из европейской игры. В дальнейшем в наших евразийских фазах и по ходу А каждого цикла потенциальные континентальные гегемоны Европы будут апеллировать к этому сценарию, находя в России союзных теоретиков. Наполеон заявил, что он не мог уступить России «Польшу и Константинополь». Кризисы отношений на переходах от евразийских фаз к фазам А будут связаны со стремлением России включить в свое Большое Пространство часть Юго-Восточной и Восточной Европы и, в некоторых случаях, это же стремление будет порождать переход от фазы А к В – к вторжению Запада в Россию.
Особенно замечателен т. н. план Талейрана (1805 г.), предвосхитивший расклад Европы в конце XIX – начале XX вв.: Австрия должна была выпасть из Германии и Италии, зато, получив земли на Балканах от Бессарабии до Адриатики, окончательно закрыть России путь в Средиземноморье. Австрия, «таким образом, станет соперницей России, союзницей Франции и обеспечит Порте безопасность и долгое будущее. Англия не найдет более союзников на континенте, а если и найдет, то бесполезных; русские, запертые в своих степях, бросятся на Южную Азию, там столкнутся с англичанами, и вместо настоящего союза произойдет между ними вражда» [там же, 109]. Фактически происходит переработка бывшего восточного центра в часть прикрытия для Европы, консолидированной вокруг западного центра.
Это – опыт геостратегии. Такой же, как подготовка к войне с Наполеоном в 1810-1812 гг. Разработки Соловьева: Александр еще до войны принял на вооружение стратегию отступательных движений по «длинным операционным линиям, оканчивающихся укрепленными лагерями» [там же, 246]. Стратегия Веллингтона в Испании. Особенность России – страна открытая, без сильных крепостей, иначе говоря – затягивание в пространство. Соловьев вывел на этот счет сильную метафору «сухого океана», «океана-земли». «Весь предшествовавший опыт борьбы приводил русского государя к убеждению, что не должно быть зачинщиком войны, не должно выдвигать войско за границу навстречу Наполеону – надобно дать ему вторгнуться в Россию и затянуть его в глубь этой океана-земли» [там же, 247]. «Сколько бы войска ни навел противник, оно будет поглощено этим сухим океаном, который называется Россиею» [там же, 261–262]. Метафора евразийца Савицкого «континент-океан» – одна из метафор, сталкивающихся, конкурирующих с древней метафорой «России-острова», – инспирирована опытом фазы В. (Примечательна фраза Александра из письма Бернадоту от 22 июня 1812 г.: «Раз война начата – мое твердое решение не оканчивать ее, хотя бы пришлось сражаться на берегах Волги».) Эта метафора проявляет назначение в фазе В глубинных регионов, Урала и Сибири, как обеспечивающих непобедимость при наступлении из Европы, способных стать базой для отпора и встречного броска на Европу.
VII
Начало этой фазы отмечено крупнейшим шагом, который можно отнести уже к сфере концептуальной геополитики: я говорю об акте русского географического конструирования Европы. М. Бассин связывает выделение Европейской России со стремлением уподобить возникающую империю колониальным империям европейцев, но едва ли это правильно. В начале XVIII в. образ России-империи был ориентирован не на Испанию и Португалию с их владениями, но прежде всего на воспоминания о Римской державе, а в современности – на пример Священной Римской Империи германской нации, прежде всего на державы континентальные, без ясного разделения на европейскую метрополию и заморские колонии. Думаю, дело в другом. Неопределенность европейского представления о западных границах материка, произвольные попытки проводить эти границы по тем или иным, часто искусственно связуемым участкам восточноевропейской и сибирской речной системы от Двины до Оби (отмечу оригинальную попытку И. Гмелина выделить «Европу до Енисея») оборачивались полной неопределенностью относительно российской причастности к европейскому миру. На этом фоне традиционная донская граница получила преимущество хотя бы исторической укорененности. Однако с принятием этой границы основной массив России оказывался за пределами европейского мира, Россия как бы цеплялась за узчайшую его каемку, массой своей опускаясь в Азию. Так получалось, если всерьез принимать донскую границу Европы, остававшуюся для русских к тому же границей чисто книжной, произвольно деформирующей их географические интуиции. Напомню здесь карту России Я. В. Брюса и Ю.А. Менгдена, напечатанную по указу Петра I Я. Тессингом в Амстердаме в 1699 г. Изгиб Дона оказывается крайней восточной границей карты, Смоленск и Москва попадают на ее северную окраину. Таким образом, в поле внимания европейцев оказывается крохотный кусочек русского пространства. Таким образом, введение России в Европу ставило задачу более приемлемого для русских переопределения восточных пределов Европы.
Эта задача, собственно, была решена В.Н. Татищевым и консультировавшимся с ним в 1720 в Тобольске и в 1726 в Стокгольме шведом Ф.-И. Страленбергом. За основу разделения материков берется Урал (Великий Пояс), т. е. рубеж, на континенте давно известный русским, отделяющий доуральскую равнину от Сибирской. Еще в XV в. русские различают пространства «до Камня» и «за Камнем». Таким образом, привычное для русских членение обживаемого ими пространства используется в целях совершенно не русской до XVIII в. задачи географического конструирования Европы, так что в Европу попала вся до того времени «ядровая» Россия. Надо иметь в виду, что базой петровских реформ в экономике (петровской индустриализации) послужила эксплуатация лесных богатств Урала (древесный уголь) – база для металлургии. Несомненно, этот сдвиг стоит за обостренным интересом Татищева к природе Урала – отсюда наблюдения за особенностями доуральских и зауральских пространств, служащие ему аргументами в конструировании рубежа Европы (водораздел породы рыб и т. п., а особенно сравнение ареалов распространения дуба и кедра (кедровой сосны)). Позднее даже евразийцы, стремящиеся связать доуральскую и зауральскую Россию, будут вынуждены признать главное различие этих массивов – резкий сдвиг за Уралом хвойных лесов к югу, к границе степей, с выпадением лиственных лесов. Вопрос о границе Европы к югу от Урала остается спорным. Страленберг проводил ее по реке Урал через Каспий и по предгорьям Кавказа; Татищев то с ним соглашался, то предпочитал вести границу по низовьям Дона, затем по р. Камышинке, по рекам Волге и Самаре к Уралу. Здесь всё произвольно, ибо русская интуиция не усматривала на этом пространстве ясных членений.
Итак, пафос Европы как части света, которая «по обилию, наукам, силе и славе, якоже и умеренностию воздуха безспорно… преимуществует» над всеми прочими частями света, в текстах Татищева оказывался поддержан включением исторической ядровой России в это пространство, да еще на основах, отвечающих исконно русскому критерию членения этих протяженностей. Бассин прав, когда с этими трудами связывает появление «Атласа Всероссийской империи» Ив. Кирилова, а затем и «Атласа Российского» Академии наук (1745), в которых Уралу принадлежит ключевое положение как центральному шву, соединяющему как бы приравненные друг к другу два российских массива. Новая конструкция внедрялась медленно: еще Ломоносов принимает Дон за рубеж России, а Екатерина II в 1760-х называет свою поездку по Волге «путешествием в Азию». Тем не менее, модель Татищева-Страленберга утверждается к концу столетия именно потому, что отвечает геополитическому заданию утверждения России в европейском пространстве: она обслуживала тезис Екатерины II о России как «европейской державе». Между прочим, сама Екатерина в обосновании этого тезиса опиралась на климатическую теорию Монтескье. Как известно, в центре этой теории лежит различение северных народов как свободолюбивых и воинственных и южных – как изнеженных и податливых к деспотии. По Монтескье, главное различие между Азией и Европой в соотношении климатических типов, детерминированных климатом. В Европе плавный переход от севера к югу приводит к тому, что сосуществующие народы сходны по темпераменту, и нет оснований для деспотического господства северян над южанами. Азию он считал лишенной умеренного климатического пояса, и потому здесь наблюдается расцвет деспотизма северных завоевателей. Россия оказывалась в северном поясе вместе с Северной Европой, тем самым причислялась к свободолюбивым народам, хотя московская знать «и была обращена в рабство одним из своих государей, но в ней все-таки постоянно замечаются признаки неудовольствия, которое не встречается в климатах юга» [«Дух законов», кн. XVII, гл. 3 <[Монтескье 1955, 389]>]. Опираясь на эти выкладки, относящие Россию к народам северного типа, обитающим в условиях вне прямого соприкосновения с югом, т.е. не благоприятствующих развитию рабства, Екатерина II объясняла успех европеизации тем, что европеизировался, собственно, народ, по климатической онтологии уже принадлежавший к европейскому миру, ибо допетровские «нравы … совсем не сходствовали со климатом и принесены были к нам смешением разных народов и завоеваниями чуждых областей» (мы бы сказали – напором на Россию из глубин Евразии и в свою очередь евразийской экспансией России). «Петр Первый, вводя нравы и обычаи европейские в европейском народе, нашел тогда такие удобности, каких он и сам не ожидал». Итак, конструировалась климатически прилегающая к Европе исконная Россия, а отклонение от Европы объяснялось взаимодействием с соседними пространствами и народами, не принадлежащими к европейскому кругу. Собственно, это шло в одном направлении с конструированием Европы до Урала, вычленением из России пространства, вписывающегося в Европу, с опорой на Урал и Зауралье как базу этого самоутверждения.
VIII
Таким образом, в отношениях с Европой можно говорить уже о закладывании онтологии под геостратегические проекты, в отношениях к Азии и евразийским пространствам дело обстоит иначе. Как мы видели, сдвиг центра российской индустрии в глубь страны и на восток к Уралу парадоксально преломился в осмыслении Урала как мнимого «предела Европы» (парадоксальны наблюдения П.Н. Савицкого над тем, что «русский рудник» видится где-то на окраине «русского мира»). Если говорить о Сибири и Дальнем Востоке, можно отметить пафос описания, разведывания этих мест, идет увлеченная достройка карты России и смежных краев, прощупываются географические отношения и заключенные в них возможности вплоть до создания Российско-американской компании. И тем не менее, вся эта освоительная кампания очень редко обнаруживает намеки на политический смысл.
Общеизвестно увлечение Ломоносова северными проектами, его вклад в разработку структурной географии, позволивший ему предсказать ряд особенностей побережья Северо-Восточной Азии и тогда еще не разведанной Северной Америки. Можно вспомнить и то, что как противник норманнской теории происхождения русской государственности, Ломоносов активно отстаивал предполагаемую южнорусскую, степную версию происхождения русского народа, связывая его обозначение с именем скифов-роксоланов. И, однако, эти его увлечения не выливаются в какие-либо политические проекты, связанные с востоком. Мотивы приращения российского могущества Сибирью, усиления славы Империи через разыскания торговых путей остаются неразвернутыми намеками. Восточное пространство нуждается в доосвоении, детализации, достройке, но оно реально в XVIII в. не осмысляется как фактор политической, международной мощи. Когда же речь все-таки заходит в этом ракурсе, обнаруживаем опаску, связанную, прежде всего, с осознанием слабости позиций России на этом направлении; характерна инструкция Сената в 1732 г. Берингу: идти ему, Берингу «на морских судах… для проведывания новых земель, лежащих между Америкою и Камчаткою, также от Камчатского носа островов продолжающихся к Японии» для установления торгов и наложения ясака на народы, никому не подвластные; «токмо того накрепко остерегаться, чтоб в американские и азиатские такие места не зайтить, где уже владение европейских государей или китайского богдыхана и японского хана есть, чтоб не войтить в подозрение и не открыть бы к Камчатским берегам своим приездом пути, о котором они поныне не известны, а наипаче в нынешнем тамошнем малолюдстве чрез ту причину не заняли нужных пристаней».
IX
Основные тенденции этой эпохи: прорабатываются по преимуществу «системы», варианты союзов. В той или иной форме проблема отношения к европейскому бицентризму и вместе с тем – к пространствам балто-черноморского пояса. Вероятно, важнейшая тема – столкновение России с попытками создания западным центром т.н. «восточного барьера», который в это время, да и много позднее, виделся как нацеленный по одну сторону против России, против допуска ее в Европу, но также и против традиционного восточного центра. Запад Балто-Черноморья переосмыслялся в барьер, угрожающий Вене; но усиление стран барьера, к тому же сконфигурированных в виде союзников, означало вызов России, отбрасывание ее вглубь континента. Таким образом, сближались интересы России и восточного центра (Вены), Россия выступала на стороне восточного центра Европы, еще не имея с ним прямого соприкосновения, с целью предотвратить опасные для себя процессы в балтийско-черноморской полосе. Первая система – это система для России, отделенной от европейского пространства, сдвинутой вглубь материка и яростно противодействующей усилиям консолидировать запад БЧС (в целях окружения восточного центра – в видах отбрасывания России), стремящейся сохранить контроль над западом БЧС, но на особых условиях – не интегрируя их в Россию, но рассматривая восточный центр как собирателя этого пространства и, затем, яростно противодействуя попыткам субцентра – претендента выступить таким собирателем.
Вторая фаза – момент, когда западный центр возобладал, превратив старый восточный центр в своего сателлита. Коренная Европа на пороге монополярности. В этих условиях делаются попытки избегать ставки на центр-претендент, но фактически преобразовать балтийско-черноморскую периферию в целостное поле, противостоящее консолидированной «коренной» Европе. Фактически за противопоставлением юга и севера – оппозиция центра Европы и периферии с притягиванием Англии – державы балансира и «опрокидыванием центра». Провал, прежде всего, в связи с тем, что Турция – крупнейшая сила балтийско-черноморской зоны – не вписывалась в эту систему, и пространство осталось недоинтегрированно. Более того, прояснился фундаментальный факт – невозможность собрать БЧС против «коренной» Европы с Австрией, поскольку фактически Австрия уже втягивалась в БЧС на пустое место. И, однако, Северный аккорд исключительно важен как первая попытка представить метасистему «Европа – Россия» в виде баланса двух Больших пространств – собственно-европейского и около-европейского, из которых второе должно было быть собрано с опорой на Россию.
Третья система – т.н. «греческий проект» – отражала парадоксальную ситуацию, возникшую после Семилетней войны, когда цикл фактически заходит в тупик: в Европе – нежесткий униполь, но фактически наступает милитаристский паралич, и вся игра идет в Балто-Черноморье, расширенного за счет средиземно– и греко-дунайского пространства. Собственно, это время, когда система «Европа-Россия» приостанавливает деятельность и за счет государств-дицентров Центральной Европы оживает БЧС, возникает странное положение, когда балтийско-черноморская игра преподносится на глазах Европы и старые мотивировки («идем в Византию!») смешиваются с европейским антуражем классицизма. Беспрецедентность.
И, наконец, возобновление европейской милитаристской игры в условиях, когда Россия уже подошла впритык к членам новой БЧС – восточным субцентрам Европы, когда фактически была демонтирована та особая зона (старая БЧС), на использовании которой, ее обустройстве в интересах России основывались отношения последней к Европе. Рядом с Россией – Европа, и в ней идет война, причем западный центр движется к гегемонии, перенеся свою активность и в Средиземноморье, где Турция переосмысляется в подбрюшье Европы. Это момент, когда втягивание России в игру поднимает массу вопросов, сводящихся к альтернативе: либо бескорыстная игра ради поддержания структуры Европы – мера, влекущая существенные разочарования в следствиях бескорыстия, либо попытка выстроить для России автономное пространство игры за пределами европейского театра. План Ростопчина исходил из представления о Турции как пространстве вне Европы, тогда как на деле в это время она уже трансформируется в европейский «довесок». Более интересна та идея индийского похода, в которую Павел трансформирует замысел перенести игру в азиатские районы Старого Света вне Европы, причем Балканы, собственно, предстают как край полосы. Виток, при котором игра России происходит за пределами материковой Европы: Азия и море. Результат Суворовских походов – бесперспективность дальнейшего разыгрывания роли вспомогательной силы. Фактически уйти не получилось, оставалась лишь одна возможность – осмыслить войну как ведущуюся не просто в поддержку восточного центра, но нацеленную на реконструкцию востока Европы, за новый порядок.
Здесь прорезается некий общий сюжет, который будет повторяться в соответствующих фазах будущих циклов. Стимулом к вхождению России в игру на правах сателлита одного из европейских центров служит пафос приобщенности к европейскому сообществу. И, тем не менее, прямым мотивом к этой игре становится некоторая программа обустройства балтийско-черноморского околоевропейского пространства. Существенно для этой фазы – столкновение моделей обустройства БЧС как российского пространства с планами создания противороссийского «восточного барьера» на входе полуострова. В условиях, когда «политически промежуточных пространств не остается, характерно колебание между планами поворота на юг», действиями в диапазоне от Балкан до Среднего Востока, или поддержкой одного из центров, но в перспективе большой реконструкции Балто-Черноморья, с прилегающими участками Балкан и Ближнего Востока. Это – собственно балтийско-черноморская фаза нашего цикла, в том смысле, что основные игры – именно в этой полосе, европейская игра рассматривается как путь к реорганизации этого пояса, а евразийские ходы, в той степени, в какой они имеют политический смысл, – либо жесты разочарования, попытки нащупать альтернативную программу, либо подсказки со стороны европейского центра, не заинтересованного в российской игре на субконтиненте, и пытающегося переориентировать русских на юг. При этом опять же кризисным узлом оказываются Балканы и проливы, участок, который с точки зрения западных центров – подбрюшье Европы, но который так или иначе образует восточный фланг поля российской «альтернативной игры». В это время на западе – конкуренция сил, заинтересованных в притяжении России к игре в Европе, пусть даже под лозунгами обустройства в БЧС полностью или частично, и теми силами, которые пытаются удержать ее вне Европы, сооружением барьера или перефокусировкой. Фаза А цикла I демонстрирует ту значимость, которую в этих случаях играет вопрос о российской столице: центры, трактующие Россию как суверенную силу, которую следует развернуть прочь от Европы, поддерживают те формы национального протеста, которые связаны с отдалением от Европы, в частности, со сдвигом столицы на восток. Эпизоды: перенос столицы Петром II приписывают английским деньгам, французское лобби в начале 1740-х не только укрепляет фронт от Стокгольма до Стамбула, но и поддерживает национальное движение против засилья <немцев>, в том числе подыгрывает вариантам возврата столицы в Москву, видя в этих тенденциях залог разрыва России с восточным центром и уход ее по другую сторону «восточного барьера». Наоборот, для восточного центра, заинтересованного в российской поддержке, само по себе возвращение императорской резиденции в Петербург, силовое возобновление натиска на «восточный барьер» приравнивается к солидной субсидии от России или к выставлению с ее стороны союзного контингента.
Все в этом поле. На других участках лишь частные прорывы, которые обретут смысл в свете будущего опыта. Готовность в 1730-х уступить кавказские плацдармы Ирану – лишь бы предотвратить утверждение Турции на Каспии и в устье Волги, иначе говоря, разбухание юго-восточного центра БЧС с выходом в тыл России: Иран как объективный союзник России. Можно вспомнить и строительство Оренбурга – шаг, отсекающий башкирские области от пояса степей, отделяющий «Евразию вокруг России» от «Евразии внутри России», обеспечивая России доминирование над «внутренней Евразией». И, наконец, всплывающая в этом веке тема «Новой России», формирования дополнительного российского пространства у коренной России. Основатель Оренбурга Кириллов писал Анне Иоанновне о Сибири – «Новой России», созданной в ее царствование. Однако к концу века понятие «Новороссии» закрепляется за причерноморскими землями, отторгнутыми у Турции, – пересечением «старых осей» Балто-Черноморья. Альтернативы экспансии – вне системы «Европа-Россия» или на земли, «высвобождающиеся» при метаморфозе балтийско-черноморской системы. Вне Европы или в европейское подбрюшье, у входа в Средиземноморье. Последний вариант побеждает. Кризис, одоление кризиса, инициатива по реконструкции Европы.
X Итоги эпохи
Особенность эпохи – на протяжении значительной ее части балтийско-черноморская международная система функционирует, не слившись с европейской. Более того, к концу столетия, когда БЧС обновляется и достраивается за счет Пруссии и Австрии, европейский стратегический пат обуславливает то, что эти государства функционируют не как члены европейской системы, но в качестве компонентов БЧС. Лишь в конце века, когда Запад охвачен новым милитаристским пиком, Россия оказывается впритык к Европе, сотрясаемой борьбой за гегемонию.
Таким образом, эпоха характеризуется тем, что восток Европы сливается с западом БЧС, германские государства начинают перерождаться в новый европейский буфер. Это быстро осознают политики и дипломаты господствующего центра – Франции: уже в 1762 г. граф де Брольи, руководитель «Королевского секрета» Людовика XV, писал о силах, которым предстоит сдерживать Россию у порога Европы: «В настоящее время глубоко оскорбленная Австрия, завтра, возможно, Пруссия, которая, хотя и пользуется Россией, чтобы закрепить свои завоевания, не может желать допустить такую державу в сердце Германии, и Турция, включая все Татарские племена, отнюдь не самое бесполезное орудие, которое можно использовать против Московитов» [Зорин 2001, 84]. Заметим, что ни Польши, ни Швеции нет в этом раскладе, а германские центры оказываются в одном ряду с Турцией и «татарскими племенами» на правах буферов Европы. В мае 1763 г. в Королевском совете Людовика XV обсуждается внешнеполитический курс: вывод – отказ от вмешательства в судьбы Польши, от восточного барьера против Австрии. Предполагается, что даже в случае раздела Польши баланс будет обеспечен взаимодействием Австрии, Пруссии, России и Турции [Соловьев XIII, 269–270]. Страны восточного центра всё больше в глазах приатлантического Запада выталкиваются в позицию нового восточного барьера, по мере того как старый барьер сломлен давлением России.
Как уже говорилось, геополитическая мысль России в эту пору воплощается почти исключительно в «системах», создаваемых наверху и претворяемых в реальную политику в планах межгосударственных союзов, отражающих процессы перестройки двух систем и процессы на их стыках. Общие схемы: союз со слабеющим восточным центром ради контроля над западом прежней БЧС (политика Остермана-Бестужева: «система Петра Великого»); попытка собрать север БЧС, включая Пруссию, в пространство вокруг России с опорой на Балтику, противостоящая консолидированным центрам (униполю) коренной Европы (Северный аккорд); воскрешение планов последних Московских царей в рамках ожившей новой БЧС, достроенной за счет германских государств. Поворот с начала новой милитаристской эпохи Запада, явное превалирование западного центра. В этих условиях наблюдается колебание между политикой искусственного взращивания восточного центра как авангарда России против Запада (Павел в 1798–1799, Александр по 1807) и отходом из Европы, попытками вступить в соглашение с западным центром, оставив между ним и Россией германские державы как буфера.
Но при этом, во-первых, мы видим, как центр Европы организует новую подстраховку против России, воссоздавая старый восточный барьер; во-вторых, земли старой БЧС переосмысляются в пространство Европы, тем самым Россия оказывается «обкладываема» с юго-востока. Все попытки договориться с лидерами Запада о размежевании сфер влияния, о конструировании особого Большого Пространства России кончаются тем, что Россия вынуждена иметь дело со стратегией отбрасывания ее от Балто-Черноморья.
Вначале это отбрасывание с опорой на национальную традицию, попытка возбудить в России отталкивание от Европы, оформить протест против петровского дела переносом столицы в Москву и т. д. (Вернуться к традициям московских царей можно было, лишь признав проигранной их игру.) К концу века отбрасывание России облекается в «евразийские» схемы (план Талейрана, предложение Наполеона российским императорам). Нельзя отрицать, что в этом веке были мыслители и практики, увлеченные достройкой России на востоке (пути через Северный морской путь и через Центральную Азию). Достройка шла, она могла вдохновлять политиков и поэтов на мечты об индийской торговле и т. п., но отойти в Евразию значило создать совсем новые системы связей, новые отношения, между тем как в Балто-Черноморье игра была напряжена и не закончена. Тема «Новой России» разыгрывается в степях, прежде всего черноморских, на южной окраине системы.
Итак, с разрушением автономного Балто-Черноморья выбор стоял между двумя сценариями: отбрасыванием в Евразию (или добровольным уходом, но тогда непременно с присоединением к Евразии выхода в Черное море и части Балкан) – либо борьбой, где один из центров Запада опирался бы на Россию, которая, в конце концов, становилась бы гарантом Европы (отсюда – «Завещание Петра Великого» и т. п.), боязнь остаться в «ауксилиарных» державах. Такие образования, как «Северный аккорд» и «греческий проект» в их конкретике порождены историческими перипетиями фазы, как бы паузой в истории европейского милитаризма. Таким образом, в этот период мы имеем действия России на входе в Европу с двумя мыслимыми развязками, из которых проистекал выбор: отойти в Евразию (отступление в национальную нишу) versus вхождение в европейскую игру в качестве опоры более слабого центра. В промежутке – попытки сконструировать на стыке Европы свое Большое Пространство, северное или южное.
Мог ли бы я повторить то, что написал три года назад насчет «похищения Европы» как подоплеке нашей геостратегии? Не однозначно. Несомненно, что голштинское сватовство Петра продиктовано стремлением в любом качестве «зацепиться» за европейский мир, так же как и его военные акции 1710–1716 гг. Все позднейшие игры – смешение прагматического и идеального компонентов. Несомненны попытки достроить Балто-Черноморье, предотвратить варианты, при которых запад этого давнего «мира России» был бы развернут против нее. А с другой стороны, сами средства – не перехлестывали ли за грань цели? Союз с Австрией против Франции, конструирование Северного аккорда как противоцентра европейскому униполю; наконец, «греческий проект» – можно ли было предотвратить странное склеивание систем в условиях деградации запада БЧС (игра в Восточную и Западную Империи в рамках «греческого проекта»)? Игры в противоцентр (Северный аккорд и т. п.). С другой стороны, мотив центра, вынесенного за пределы России, конструируемого и полагаемого ею, дополнительно к ней, опирающегося на нее, но с нею неслиянного («греческий проект»; планы России как «гаранта Европы»), – <игры>, объективно превращающие Россию в чье-то орудие против чьего-то самоутверждения.
Глава 4 Искусы Священного Союза
I
Эпоха, начавшаяся в 1813–1814 гг. и продлившаяся до начала Крымской войны, по праву может быть оценена как первый «европейский геостратегический максимум России» – максимум ее вовлеченности в политические судьбы Европы. В это время и в глазах русских, и в глазах европейцев она выступает крупнейшей силой, воздействующей на политическую жизнь этого субконтинента и встречающей как претендент на гегемонию всё более сильное европейское сопротивление. Парадокс в том, что формально Россия не предъявляет в это время никаких агрессивных претензий к европейскому миру, выступая с позиций статус-кво и нерушимости границ, и в то же время примыкая к «европейскому концерту» в тех случаях, когда он склонен был признать те или иные территориально-политические изменения (как в случае с отделением Бельгии от Нидерландов в 1830-х). И, тем не менее, мотив «державности» России отчетливо звучит в европейской политической мысли этих лет и исподволь проступает в политической практике крупнейших европейских держав (Австрии, Англии, в меньшей степени Франции), чтобы вылиться в кризис конца 1850-х, когда эти государства переходят к прямому отбрасыванию России на восток (переход к фазе D).
Каковы геополитические предпосылки этого поворота? Во-первых, очевидно происходит ликвидация балтийско-черноморской системы. Швеция теряет свой последний плацдарм на европейском субконтиненте – Померанию. Он переходит в руки Пруссии, которая тем самым становится крупнейшей силой на юге Балтики, контролирующей устья Вислы и Немана. В руках Австрии оказывались Карпаты с Восточной Галицией, иначе говоря – крупнейший выступ земной поверхности в западной части балтийско-черноморского промежутка – водораздел крупных рек, текущих на юг и на север (с одной стороны – Дунай, Днепр, Южный Буг, с другой – система Висла-Неман). Таким образом, важнейшие геополитические позиции, которыми определялись «шведская» и «польская» роли в системе, переходят к Австрии и Пруссии (историческому гегемону Центральной Европы и восходящему претенденту на ту же роль). Европейская система интегрирует в себя балтийско-черноморскую; таким образом, Турция объективно становится большим слабым государством на юге Европы, способным представлять плацдарм против Австрии. Одновременно Россия с присоединенным к ней Царством Польским обретает прямой доступ к германским землям, получая возможность непосредственно влиять на их судьбу.
Но между тем – серьезные перемены в раскладе европейской системы. Во-первых, с разгромом Наполеона Франция оказалась обессилена, оккупирована, опустошена контрибуциями, поставлена под контроль Четверного союза. Внешне западный центр оказался ослаблен и на какое-то время устранен из большой игры. Австрия, получив во владение Италию, выступая политическим лидером Германского Союза, представала крупнейшей силой Европы. Между тем, поражение Австрии в 1805–1806 и 1809 гг., ее фактическая интеграция в систему Наполеоновой «Пан-Европы» (ср. отказ австрийских императоров от титула правителей «Священной Римской Империи») – всё говорило о дряхлении старого восточного центра, утверждавшего свои позиции только поддержкой других держав – в огромной мере России, нависавшей над Австрией с севера и подступавшей к ее южному «подбрюшью». Западный центр был временно ослаблен, восточный разбух непомерно – но в то же время оказывался уязвим в своей возрастающей зависимости от России. В германских рамках ему грозили не только претензии Пруссии, но и настроения мелких немецких государств, обращавших взоры на Россию как официального гаранта Германского Союза – гаранта, заинтересованного в ограничении мощи и Австрии, и Пруссии, в утверждении Германского Союза как нейтрального буфера, не усиливающего ни Австрию, ни Пруссию, но скорее связывающего их и нейтрализующего. Условия благоприятствовали втягиванию в европейскую игру в качестве крупнейших сил как России, так и Англии, которая через связанные с нею династическим союзом Нидерланды получала позиции на континенте. Вместе с тем, комбинируются интересы Англии – морской державы и Англии – европейской силы; наступление России на Турцию угрожало не только связям Англии с Индией, но и подрывом позиций Австрии и формированием нового мощного восточного центра. (Вмешательство Каслри в польский вопрос в 1814–1815 гг.) Если Англия была заинтересована в сдерживании России и в невосстановлении Франции, то Австрия в лице Меттерниха разыгрывала более сложную игру, стремясь соединить сдерживание России с использованием ее потенциала традиционного внешнего союзника восточного центра. Фактически речь шла об использовании силы, способной угрожать позициям Австрии в интересах упрочения этих позиций.
Итак, Россия – один из столпов европейского порядка, влиятельная сила в Германии, и Россия – потенциальный претендент на роль восточного центра Европы – и в этом последнем качестве Россия должна была быть нейтрализована. Новую ситуацию очень точно сформулировал в 1817 г. статс-секретарь И.А. Каподистрия, обсуждая ситуацию после Аахенского конгресса (весь интерес к Англии и Франции, пренебрежительно о Пруссии). Отмечалось, что «как держава европейская», Австрия «хочет занять центральное место в общей системе, стать ее главной планетой, а другие государства превратить в свои сателлиты. Ее иллюзии простираются так далеко, что она подчас относит к категории последних и Англию». Австрия испытывает опасение перед существованием под властью Александра I Царства Польского и перед выступлением русских против Турции, а также перед возрождением Франции. Как только у нее будет для того повод, «Австрия окажется во главе огромной коалиции, готовой выступить против России или попытаться низвергнуть Российскую империю с того пьедестала, на который она была вознесена провидением». Вместе с тем, характеристика Англии – «она претендует на абсолютное господство на море и в торговых отношениях обоих полушарий. Она не пренебрегает и европейским континентом. В Германии она действует через Ганновер и использует свои тесные отношения с Австрией и Пруссией; она владеет Португалией, держит под своим влиянием Бельгию, оказывает давление на Францию, принижает Испанию … и дает коварные советы властителям Турции и Персии. Никогда еще ни одна держава не проявляла открыто столь далеко идущих честолюбивых устремлений».
Задача «связывания» России была в большой мере облегчена самим Александром I с его проектом Священного Союза. Фразеология договора о Священном Союзе была встречена большинством европейских участников как пышное и ни к чему не обязывающее суесловие, – и этим восприятием наглядно обнаружилось различие в интеллектуальных структурах русского императора и его контрагентов. Вложенная в декларацию о Священном Союзе характеристика европейских монархов как «соотечественников» (compatriotes), руководствующихся христианскими ценностями и нормами, наглядно свидетельствует: Александр исходил из видения Европы с Россией как христианской федерации, политически консолидированного «христианского мира». С точки зрения Европы суверенных государств, живущей балансом сил, это был нонсенс, с точки зрения европейской истории, это было возвращение к европейской идентичности зрелого Средневековья, когда католическое сообщество отождествляло себя с «христианским миром» (не случайно проект Александра вызвал беспокойство в Турции, усмотревшей здесь намерение сплотить христиан для крестового похода). Недоумение, с которым европейские монархи встретили этот проект, хорошо объясняет Хэй: в конфликт вступили идеи европейской цивилизации и «христианского мира», причем последняя была представлена страной – спутником Европы, претендующим побудить коренные европейские державы к пересмотру и реконструкции системы этого субконтинента. Идея системы Европы становится частью александровского «официоза», причем эта система мыслилась как одинаково противостоящая и «старой системе» баланса сил («право сильного»), и новой революционной системе дестабилизирующих движений. Европейским кабинетам ставилось в вину, что они, похоже, отнюдь не отказались от прежних политических комбинаций, имеющих целью разделить и обособить интересы различных государств и создать таким путем при помощи геополитического соотношения разных сил т. н. систему «равновесия». Несмотря ни на что, Александр был уверен, что новый курс позволит выстроить и скрепить новую систему европейского консенсуса, краеугольным камнем которой станет мощь и влияние России. Г. Киссинджер не случайно восхищался талантом Меттерниха, использовавшего эту установку Александра, чтобы «подменить его проект, подставив на место федерации „христианского мира“ олигархическое правление сильнейших европейских держав, фактически связавшее Александра собственными принципами легитимности и обязанностью подстраиваться к европейскому, собственно, англо-австрийскому (с прусским участием) консенсусу»[26].
Политика Николая I может рассматриваться как вполне последовательный курс, направленный на преодоление того тупика, который представляла для России ситуация Священного Союза в его варианте 1815–1825 гг. Прослеживая все действия Николая по 1853 г., обнаруживаем за ними намерение решить двойную задачу: сохраняя за Россией ее положение гегемона европейского порядка (иначе говоря, сохраняя единое европейско-российское пространство), одновременно создать благоприятные условия для экспансии в дунайско-балканское «подбрюшье» Европы. В конечном счете, речь шла о стратегии, всё более увеличивающей уязвимость Австрии и завязывающей ее на Россию – оформляющийся восточный центр Европы.
Первым подступом к этой задаче стало англо-русское вмешательство в греческий вопрос. С английской точки зрения, Россия наперед отказывалась в новой войне от территориальных приобретений на Балканах, выглядела силой ведомой, следующей британскому курсу. С точки зрения Николая, эта война (утверждавшая Россию в устье Дуная и на Кавказском Черноморском побережье, открывшая русским судам свободный проход через Черноморские проливы, а русским подданным обеспечившая торговлю в Турции, расширившая льготы сербов и создавшая суверенную Грецию) была важна как опыт англо-русского сотрудничества, позволяющего решить Восточный вопрос в обход Австрии. Последняя всё это время панически пыталась создать антирусскую коалицию, оказываясь перед роковым фактом отсутствия у нее союзников. Таким образом, первым выводом была необходимость и возможность сотрудничества с «владычицей морей» в реконструкции балкано-подунайского пространства помимо Австрии. Во имя этого курса правительство Николая (несмотря на значительные успехи в русско-персидской войне) ограничивает претензии на Среднем Востоке, идя на большие компромиссы с Англией (игра, жертвой которой стал нарушивший ее правила Грибоедов). Итак, частью стратегии становилось ослабление активности на средневосточном направлении ради того, чтобы купить союз с Англией в балкано-ближневосточных делах.
Одновременно возникает необходимость пересмотреть европейскую политику, где в то время возвышается Франция как новый центр мощи. Первым и наиболее очевидным решением было то, к которому Николай I склонялся в конце 20-х гг., добиваясь в турецких делах англо-франко-российского союза. Фактически этот курс предполагал сделку на Балканах с Англией при резком усилении позиций Франции в Европе, своего рода план русско-французской гегемонии при подрыве позиций Австрии. Французская дипломатия подхватила мяч, выдвинув т. н. встречный «проект Полиньяка», решительно отвергающий тезис о том, что Бурбоны якобы «ничему не научились» у революционного и наполеоновского режимов: ясно, что они научились, по крайней мере, реорганизации и перекомпоновке пространств. Проект предполагал ликвидацию Бельгии и Голландии, широкие земельные приращения Франции, Саксонии и Пруссии. Утратившая позиции в Центральной и Западной Европе Австрия вознаграждалась Сербией и Боснией и переориентировалась на юг, где она становилась противовесом России. На Балканах создавалось большое буферное государство под властью бывшего голландского короля, а Россия, застолбив за собой Молдову и Валахию, т. е. проведя границу по Дунаю, получала возможность неограниченно расширяться за счет Азиатской Турции. «Проект Полиньяка» разительно перекликался с «проектом Талейрана» в 1800-x: Франция – гегемон Европы, Россия, развернутая к Азии, Австрия и оранский буфер – как «стражи» против России в Средиземноморье.
Едва ли подобный план устраивал всерьез Николая. Поэтому, похоже, он с удовлетворением встретил Июльскую революцию, которая позволила ему, вернувшись к идеологическим лозунгам Священного Союза, реорганизовать европейский порядок. Интенсивно создавая имидж Июльской монархии как силы революционной и агрессивной, Николай завязывает на себя германские монархии и добивается подписания договоров, превращающих Россию в оплот противостоящего Парижу восточно– и центрально-европейского блока (совместные военные маневры в Калише и т. д.). В частности, он включает в договор с Австрией пункт, предусматривающий взаимодействие в случае разрушения Турции. Воспользовавшись негативным имиджем Франции, Николай удачно использует французскую инициативу по разделу Оттоманской Порты: Франция делает ставку на арабов, пытающихся создать империю во главе с Магометом Али; Россия как заступница – при молчаливой поддержке Австрии – привязывает к себе Турцию союзом и утверждает контроль над проливами. Следствием становится формирование англо-французского блока (первой в истории Entente cordiale[27]), развернутого против русско-германского блока на востоке. Фактически эти годы, а отнюдь не 1815, представляли подлинный максимум российского напора на Европу в XIX в. – напора, основанного на расколе Европы.
Эта стратегия вызывала серьезную, жесткую критику в прошлом столетии. Славянофилы яростно критиковали политику, предполагающую русские гарантии центрально-европейским империям, и тем самым исключающую здесь революционные шаги, направленные на создание славянского пространства под русской гегемонией. Позднейшие историки (например, С.С. Татищев) полагали намного более предпочтительным для России сговор с Францией в видах одновременно дестабилизации и раздела Турции и ослабления Германии. Защитники политики Николая I оказали ей не лучшую услугу: так, КВ. Нессельроде в известной отповеди Погодину утверждал, что у Николая перед постоянной угрозой польской революции просто и выхода не было, как ориентироваться на союз с Веной и Берлином. На самом деле положение было не таким уж безвыходным, судя по тому, что сам Николай какое-то время помышлял сбросить с рук польскую обузу, передав земли Царства Польского Австрии и Пруссии (и тем подложив под эти монархии геополитическую мину, делающую их заложниками союза с Россией, но вместе с тем, теряя прямой доступ в германские земли, утрачивая гарантированную возможность вмешательства в их дела, ослабляя «европейское присутствие» России). На самом деле, в условиях, когда выбор был между центральным блоком и опорой на Францию, едва ли последний выбор был лучше: раздел Турции при австрийском сопротивлении был маловероятным, между тем со стороны Франции, выдвигающейся на роль центра, территориально дистанцированного от России, постоянно приходилось ждать чего-либо вроде «проекта Талейрана» или «проекта Полиньяка», где французская гегемония в Европе компенсировалась бы господством на Балканах Австрии – противороссийского сторожа. Биполярность, оформившаяся в 30-х, была не просто производна от идеологических спекуляций; фактически благодаря ей возрождался старый европейский расклад с противостоянием двух центров (притом, что мятежная Пруссия инкорпорировалась в восточное пространство, а вместе с тем, в его рамках гегемонистское одеяло очевидно «перетягивалось» в пользу Петербурга, выдвигавшегося на роль «центра Германии»). Между тем, Франции – покровительнице Магомета Али – отводилась роль козла отпущения, пугающего германские власти и заодно дестабилизирующего Турцию, обнаруживая перед миром нежизнеспособность этой державы и снимая с России ответственность за назревающий ее передел. Николай I делал лучшее, что можно было в ситуации, когда Россия пыталась сохранить за собой роль европейского оплота. Собственно, его шаги в конце 1840-х и после 1850-х – поход на подавление венгерской революции, а затем в 1850-х – обуздание претензий Пруссии на северогерманскую гегемонию – были всё в том же ключе. Приверженцы радикальной политики, как Погодин или Тютчев, жестоко упрекали режим за то, что тот не воспользовался шансами прямой экспансии, которые открывала революционно-националистическая дестабилизация, разрыхляющая Европу. Разумеется, «революциефобия» Николая сыграла свою роль, делая некоторые сценарии заведомо подозрительными для него. Можно лишь сказать, что он продолжил свой предыдущий континентальный курс: всё более превращая Германию в подставное имя для России и препятствуя функционированию в лице Франции нового гегемонистского центра (тот же Тютчев после венгерского похода признавался, что «Австрия спасаемая – это уже наполовину Австрия поглощенная»). Собственно, в сложившейся ситуации это был путь вполне оправданный – и если считать, что в 1848–1849 гг. Николай упустил какие-то шансы (что спорно), то единственно, что можно сказать: над ним тяготела инерция 15-летнего и, как представлялось, плодотворного курса.
С другой стороны, любые дальнейшие шаги на Балканах, даже при нейтрализации Австрии, выглядели малооправданными при сопротивлении Англии – сильнейшей морской державы. Поэтому с формированием англо-французского фокуса биполярной Европы Восточный вопрос оказывался «подморожен» в позиции, благоприятной для Николая. Следующий шанс определился в 1839 г., когда Магомет Али с французской подачи предпринял новую дестабилизацию Порты. Эта попытка была пресечена совместным выступлением Австрии, России и Англии. Известны критические обвинения в адрес Николая, отрекшегося от одностороннего российского контроля над проливами в пользу международного контроля. Однако следует иметь в виду: выступление Англии вместе с континентальными державами расценивалось как раскол англо-французской Антанты.
Возглавляемый Николаем блок, казалось, обретал жесткий перевес на европейском континенте, в то же время вхождение Англии в консорциум по «турецким делам» выглядело необходимым подготовительным шагом к последующему разделу Турции. Не случайно именно после этого Николай начинает зондажи в Англии на предмет раздела Турции, отклоненные англичанами под предлогом их заинтересованности в стабильности на Суэцком перешейке, что не помешало русскому императору возобновить переговоры в 1853 г.
Можно ли говорить о провале этой стратегии? Очевидно, что вовлечение Англии кончилось неудачей. С другой стороны, несомненно, что на исходе Крымской войны исключительно сказалась позиция Австрии, занявшей подунайские княжества и, по сути, примкнувшей к возобновленному англо-французскому блоку. Вся политика континентального блока, на которой основывался Николай, была дискредитирована, но следует ли такое развитие событий ставить ему в вину? Австрия пыталась выйти из-под русской опеки и восстановиться как центрально-европейская сила в условиях, когда она всё менее могла притязать на эту роль. Выступление против России оказалась для нее шагом к самоликвидации: через три года после Парижского мира французы изгоняют ее из Италии, а еще через шесть лет пруссаки выдворяют ее из Германии с тем, чтобы к концу 70-х взять ее на свой военно-политический буксир. Австрия, отказываясь от блока с Россией, шла на самоликвидацию, это был, по сути, иррациональный шаг, рассчитывать на который было невозможно. Это был момент, когда логика взаимоотталкивания Европы и России явно взяла верх над логикой европейской игры, на которую опирался Николай. В случае с Англией просчет очевиден, но в случае с Австрией надо понять, что речь шла о ходе иррациональном на уровне европейской игры, – именно поэтому невозможно упрекать Николая в подобном просчете: нелегко было ждать от союзника решения, которое должно было стать и стало губительным для этой империи?
Другое дело – отмечаемое в это время снижение прямого влияния России в суверенизирующихся балканских областях, где утверждаются силы, ориентированные либо на Австрию, либо на англо-французский блок (в Греции с 1831 г., в Сербии со второй половины 30-х, в Валахии и Молдавии с конца 40-х). Стремление формировать зоны влияния, опираясь на притягивание к России правящих режимов, избегая провоцировать силы, притязающие на революционное дробление имперских пространств (даже в тех случаях, когда исподволь готовился их передел, как в случае с Турцией), – в какой-то мере имело идеологическую мотивацию. Вопрос, однако, в другом. Критики, осуждающие, в том числе с панславистских позиций, легитимистскую политику этих лет, противопоставляли ей политику, использующую революционную дестабилизацию имперских пространств Центральной и Юго-Восточной Европы как свой инструмент. Несомненно, правительство Николая I могло воздержаться от использования этого инструмента из идеологических соображений; вопрос лишь в том, что самоопределение подобных территорий, создавая сложную политическую конъюнктуру, усугубляя их порубежный характер, далеко не всегда оказывалось предпосылкой проецирования влияния России. Далеко не очевидно, что с точки зрения приращения российского влияния и мощи освобождение местных национальностей с предоставлением им свободы самоопределения представляло оптимальную политику для России. Объективно как легитимизм в варианте Николая I (с возрождением европейской биполярности), так и зарождающиеся освободительные и панславистские проекты в эту эпоху выступают как альтернативные формы проецирования российской мощи на Европу и на Ближний Восток. В то же время ни один из этих курсов не имеет права притязать по преимуществу на звание «национальной» политики (в перспективе последующих десятилетий), потому что как легитимизм, так и «освобождение» здешних национальностей именно с точки зрения проецирования мощи давали по меньшей мере двусмысленные результаты.
Обращу внимание на одну особенность этого периода. В то время как режим Александра сосредотачивает свои интересы на европейской псевдо-«федерации» и фактически оказывается политически парализован на перифериях (ближневосточной, прикаспийской, даже – тихоокеанской), политическая оппозиция в своих проектах всё больше внимания уделяет периферии, именно периферии азиатской и тихоокеанской, не имея ясных планов европейской стратегии. Интерес будущих декабристов к революциям, полыхавшим в 1820–1823 гг. по средиземноморской кайме Европы, готовность видеть в этих движениях то источник воодушевления, то предостерегающий урок – не выливались в готовность связывать будущую судьбу России с неким европейским переустройством. Правда, в конце 1814 – начале 1815 гг. первая протодекабристская организация «Орден русских рыцарей» во главе с М.Ф. Орловым и М.А. Дмитриевым-Мамоновым готовит план, ведущий к серьезному переустройству Восточного Средиземноморья и Юго-Восточной Европы – со славянскими и венгерскими землями, инкорпорированными в Россию, с Турцией, обращенной в Азию, с греческими протекторатами и морским контролем над Архипелагом. Однако в дальнейшем подобные планы, возникшие на гребне русского наступления в Западной Европе, для оппозиции мало характерны. Можно вспомнить здесь как редкий случай радикальные выступления A.A. Бестужева-Марлинского, полагавшего, что с уничтожением самодержавия русские революционеры тем самым окажутся «освободителями» и «героями» Европы. Однако не похоже, чтобы эти мысли воплотились в стратегических планах, самое большее – проскальзывают мотивы конфронтации с Турцией, может быть, Австрией и Пруссией; однако подобные предположения могли возникнуть независимо от каких бы то ни было идей типа экспорта революции в Европу.
Лишь одна сравнительно небольшая группа, т. н. «Общество соединенных славян», выдвинула проект панславянского пространства, став тем самым реальной зачинательницей традиции революционного панславизма. Идея соединения русских со славянами южными и западными, венграми, молдаванами и валахами – сценарий, несомненно, предполагавший конфликт с германскими империями и резюмирующийся в формуле: «Ты еси Славянин и на земле твоей при берегах морей, ее окружающих, построишь четыре флота – Черный, Белый, Далмацкий и Ледовитый, а в средине оных воздвигнешь <город> и в нем богиню просвещения и своим могуществом на троне посадишь» [Достян 1980, 293]. При всем славном будущем этой программы существенно, что «Общество» осталось крайне немногочисленным и в конце концов сливается с Южным Обществом, чей программный документ – «Русская Правда» Пестеля с приложенным к нему проектом «царства Греческого» – основывался на совершенно ином проекте. По-видимому, правы авторы, утверждающие, что в кругу интересов большинства декабристов мотивы единения славянских народов в «одно политическое тело» не получили развития.
С другой стороны, можно принять свидетельство М. Лунина, который в комментариях к решению Следственной комиссии указывал на вмешательство в греческое восстание, как один из ключевых мотивов декабристского движения. С другой стороны, столь же очевидно, что во всех декабристских документах звучит мотив восстановления польской государственности, иначе говоря, формирование дружественного буфера между Россией и романо-германской Европой. Эти мотивы – восстановление Польши; с другой стороны, активные действия на Балканах на стыке Европы и Ближнего Востока – обнаруживают резкое отталкивание от официального курса. Любопытно, что Пестель в показаниях на следствии прямо говорил о переходе от «завоевательной» системы к «покровительственной». Воссоздание самостоятельной Польши, связанной с Россией сходством политического строя и военным союзом, – явное воплощение «покровительственной системы». Но также правы историки, видящие дальнейшее развитие идеи «покровительственной системы» в пестелевском наброске проекта «царства Греческого» с включением Балкан и Юго-Восточной Европы – от Проливов до Дуная и Ионического моря с разделением на ряд независимых земель с греческим лидерством. Пестеля упрекают за неучет национальных устремлений, важнее для него другое – формирование обширного покровительственного пространства, прикрывающего Россию на Юго-Востоке, так же как Польша прикрывала бы ее на Западе. Интересно, что в перечне стран, с которыми, по Пестелю, смыкалась бы Россия, фигурирует наряду с Австрией Венгрия. Остается не ясным, не мыслилась ли им Венгрия как сходный «покровительствуемый» буфер – звено между Греческим и Польским царствами. С учетом этих моментов следует осмыслить и иные черты проекта Пестеля, как он воплощен в «Русской Правде».
Ключевой задачей становится сконструировать контуры самодовлеющей и «окончательной» России. Центральным тезисом является различение двух принципов государственной организации: Принципа Народности и Принципа Благоудобства. Национальным меньшинствам, интегрированным в Империю («Большое Государство»), свойственно стремление к политической независимости. Точно так же Большое Государство с господствующим в нем народом стремится в видах безопасности к «установлению границ, крепких местным положением и сильных естественными оплотами». Вместе с тем, оно желает, чтобы силы маленьких народов, окружающих его, увеличивали его собственные силы, но не силы какого-либо «соседственного большого Государства». Принципы Народности и Благоудобства конфликтуют; чтобы примирить их, Пестель вводит третье как бы метаправило: «право Народности существует истинно для тех только Народов, которые пользуясь оным, имеют возможность оное сохранить», и наоборот, право Благоудобства принимается в соображение ради безопасности, а не для самодовлеющей экспансии. Парадоксально, что безопасность мыслится как проецирование мощи к пределам соседнего государства, в противном случае соседняя Империя спроецирует мощь к твоим пределам. Племена, которые не могут обеспечить свою независимость и так или иначе должны подпасть под власть одного из соседних государств, «не могут ограждаться правом Народности, ибо оно есть для них мнимое и не существующее». Империя должна принять под свою власть тех соседей, которые всё равно обречены быть под чьей-то властью. С этой точки зрения прибалтийские земли, Белоруссия, Малороссия, Новороссия, Бессарабия, Крым, Кавказ (даже Грузия с ее государственными традициями), Сибирь и киргизские степи должны быть инкорпорированы в Россию, ибо они в обозримое время не были независимыми, но колебались между Россией и соседними Империями.
Любопытно, однако, что аргументы, доказывающие, скажем, нежизнеспособность Польши или самостоятельность Крыма, с тем же основанием могли бы быть применимы к Польше XVIII в. и к землям проектируемого царства Греческого, тем более что земли Польши должны быть ограничены правилом Благоудобства для России, т. е. упрочением всех промежуточных территорий (многие авторы позднее будут доказывать нежизнеспособность урезанной Польши «в границах польского языка»). Тем более это должно быть применимо к балканским землям Турции. Тем самым вопреки собственным теоретическим положениям Пестель конструирует обширные квазинезависимые («покровительствуемые») «царства-буфера», прикрывающие Россию со стороны Европы и Средиземноморья. В этих рамках он и метит территории, которые должны быть инкорпорированы в Россию для упрочения ее границ. Молдова присоединяется к Бессарабии: естественной границей России становятся Карпаты, район Фокшан и Дунай. Зато на других направлениях должны быть присоединены – весь Кавказ (в т. ч. приморский к северу от основных территорий Турции и Персии, отнятый от этих Империй), «киргизские земли» до Хивы и Бухары (неспособные к независимости, изобилующие ресурсами, а кроме того, они могут быть пущены под Аральский удел, прикрывающий Россию с юга), Монголия («потому что сии места находятся под мнимым владением Китая, ибо обитаемы кочующими никому непокоряющимися народами, а следовательно, для Китая безполезны, между тем как большия бы доставили России выгоды и преимущества для ея торговли, а равно и для устроения флота на Восточном океане»). Кроме того, в России в ее тихоокеанских видах должно принадлежать всё течение Амура («сие приобретение необходимо и потому надобно оное достать непременно»). Итак, если на западе и юго-западе нужна система прикрывающих Россию со стороны Европы – сильных буферов, то на юге в Россию должны быть интегрированы все промежуточные земли, отделяющие ее от крупных азиатских государств. «Вообще можно сказать, что неизчислимы все выгодныя для России последствия от приобретения вышеназванных частей Кавказских Киргизских и Монгольских степей произойти могущих чрез удобность сношений которыя сии приобретения доставят России со всеми почти народами Азии. … Далее же отнюдь пределов не распространять». Отделение от Европы, но вместе с тем выход к платформам Азии, хотя и без их интеграции в Россию. Структурной частью того же проекта оказывается сдвиг столицы в Нижний Новгород, причем доводом становится пребывание столицы в центре страны на водной артерии и сочетание с Макарьевской ярмаркой, которая «соединяет Европу с Азиею в сухопутных торговых отношениях». Новая столица как евроазиатский узел. С этим в согласии – заметки о флотах (Плавнях) и прежде всего о Восточном, предназначенном базироваться в Петропавловске. («Что касается до Восточного Плавня, то оный мог бы быть один из важнейших, ибо Россия посредством сего плавня могла бы иметь первенствующее влияние на всю восточную и южную Азию: предмет, заслуживающий тщательного внимания». В этой связи примечателен фрагмент насчет формирования флотских кадров из вольнонаемных людей – поощрение создания сильного торгового флота.) И здесь в фокусе – выход на Восточную и Южную Азию.
В принципе, мы можем расценивать «Русскую Правду» в интересующем нас отношении как первый последовательно проведенный евразийский (и более широко – евразийско-тихоокеанский) проект России, расценивающий Балканы, Юго-Восточную и Центральную Европу как прикрытие страны, выдвигающейся к азиатским платформам со сдвигом политического центра на Волгу, претендующей на морское влияние в Тихом и Индийском океане и на мощную азиатскую торговлю. Можно было бы тут предположить семейную традицию Пестеля – сына сибирского генерал-губернатора. Однако среди декабристов это случай не единичный. Напомню здесь о деятельности K.P. Рылеева в качестве управляющего делами Российско-Американской компании и своеобразном декабристском «гнезде», сложившемся под крышей этого предприятия.
В первое десятилетие Священного Союза Российско-Американская компания представляла, несомненно, главный центр русской геополитической экспансии. Взгляд на деятельность этой компании поражает соединением хрупкости, слабости позиций, прежде всего из-за трудностей снабжения через Сибирь, болезненной оторванности от сибирского массива русских земель, и страстью к расширению. Впрочем, эти стороны связаны. Потребность в создании инфраструктуры на Тихом океане дает толчок попыткам утвердиться на Гавайских островах (имею в виду не только т. н. авантюру служащего компании Г. Шеффера в 1817–1822 гг., о которой существует большая литература, но и более осторожные попытки закрепиться здесь в 1819–1820 гг.) Уязвимость перед американским и английским напором побуждает компанию «пробивать» подписанный Александром I указ 1821 г., объявляющий Берингово море внутренним морем России (указ, дезавуированный в 1824 г. по соглашению с Англией и Америкой). Сейчас я совершенно не вдаюсь в давнюю полемику о связи между этим указом и «доктриной Монро». Мне близок взгляд Болховитинова и Дебидура, по которому доктрина Монро была, прежде всего, направлена против попыток перехвата «испанского наследства», в том числе против претензий Англии. Неоспоримо, однако, что одним из толчков к этому первому в новое время панконтинентальному проекту послужила попытка Русской компании взять под контроль северную часть Тихого океана, создав закольцованное морское пространство (континентальный проект Пан-Америки формально стал ответом на морскую экспансию России). И наконец, только трудности снабжения дали в 1824 г. толчок к выдвигаемым Рылеевым и Завалишиным планам расширения Русской Америки вглубь континента ради выкраивания «жизненного пространства» – территорий для самообеспечения на Аляске и в Калифорнии (пресеченный легитимистски ориентированным петербургским режимом). Это, повторяю, очень показательно – «гнездо» декабристов в центре русской тихоокеанской экспансии, вступающее в конфликт с центром, подавляющим эту экспансию, подрывающим попытки компании – ради уже явно улетучивающегося консенсуса «европейской федерации». Если говорить о деятелях околодекабристского круга, не исключено, что именно 30-летний опыт деятельности Российско-Американской компании послужил стимулом к проекту Российской Закавказской компании, предложенному в 1828 г. A.C. Грибоедовым. Фактически проект отталкивается от факта функционирования т. н. закавказского тарифа, превращающего русское Закавказье в центр посреднической торговли, в том числе небезопасный для российского производства. Проект Грибоедова предполагал создание автономной зоны («государство в государстве», по оценке И. Паскевича), предназначенной, сочетая экономическое влияние с политическим контролем, связать Кавказ и Персию, переключив на себя, как на крупнейший торговый центр, «караваны, идущие из глубин Азии в Алеппо и Дамаск». Иначе говоря, речь шла о направлении связей, идущих по схеме Восточного Шелкового Пути (Центральная Азия – Ближний Восток), сдвиг их на Север к Кавказскому Причерноморью, завязывание их на южные владения России (не зря этот проект вызвал у англичан беспокойство угрозой формирования зоны от Дона через Трапезунд к Индийскому океану). Речь шла о евразийском проекте, не только соединяющем степную и черную окраину России с Ираном, но, главное, призванным переключить на Россию движущиеся мимо нее трансазиатские торговые пути. Стимул к тарифу – турецко-персидская война, цель его – поднять роль Кавказа как посредника: в линии Индия – Ирак – Турция – Иран – Кавказ – Россия.
Таким образом, сопоставляя эти факты (геополитика «Русской Правды», деятельность декабристов в Российско-Американской компании, проект Грибоедова, переговоры Ермолова, подготовившие закавказский тариф), можно сделать вывод: в первые 12 лет Священного Союза интересы политиков, находящихся в оппозиции, привязаны к поясу территорий от Балкан и Ближнего Востока через Закавказье, центрально-азиатские степи, Монголию, Дальний Восток, Тихий океан к «Русской Америке». Причем стремление развязать руки для вмешательства на стороне греков ради реконструкции Юго-Восточной Европы сочетается со стремлением перерешить «польский вопрос» и обостренным стратегическим вниманием к Тихому океану и поясу территорий, пролегших между Россией и приокеанскими платформами Азии, к сквозным связям между ними. Впечатление таково, что, отталкиваясь от тупиковой попытки status quo, завязывающей интересы и действия России на поддержание консенсуса европейской федерации, оппозиция поворачивается к территориям, либо находящимся вне коренной Европы, либо способным послужить буферами, отодвигающими Россию от Европы, развивая концепции роста России за счет внеевропейских пространств (особенно это выступает в завершенной форме у Пестеля). Мы сталкиваемся с любопытнейшим фактом попытки «евразийского поворота» в геополитической идеологии в условиях геостратегической фазы максимального российского напора на Европу. Понятно, с чем это связано: европейская политика Александра воспринимается как неблагодарная служба интересам чужого сообщества, как «похмелье в чужом пиру». У оппозиции нет своей политики для Европы, и выходом из тупика видится переориентация на азиатско-тихоокеанскую политику. Любопытно, что в 1830–1840-х мы практически не видим больших азиатских проектов – и это не случайно наблюдается в годы оформления панславистских проектов. Фактически панславизм в его проимперских или революционных версиях обозначил возможность политики на европейском направлении, которая была бы альтернативой стагнационной политике европейского консенсуса. Геополитический панславизм смог во многом переключить на себя энергию альтернативного геополитического мышления именно потому, что он в соответствии с духом своей фазы – фазы геостратегического европейского максимума России – смог предстать в качестве проекта переустройства Европы[28].
II
Диктуемое стратегической фазой двусмысленное видение двух сообществ, неразрывно сцепленных на европейской земле и в то же время исподволь ведущих жесткое противоборство в рамках, казалось бы, общепризнанного и легитимного порядка, двойственной российской роли как одновременно основы этого порядка и сдерживаемой, парализуемой им, потенциально агрессивной и, на европейский взгляд, требующей обуздания силы, – все эти тенденции еще усугублялись собственной идейной эволюцией российского общества. Разумеется, я далек от любой формы геополитического детерминизма – от попыток мотивировать идеологическую динамику международной политикой и только. Ясно одно, что в эту эпоху идеологическая динамика и внешняя политика взаимодействовали, давая мощный «синэргетический» эффект в общественном сознании.
В 1990-х (точнее, даже с конца 1980-х) появился ряд интересных работ, связывающих становление крупнейших российских идеологических доктрин этого времени – прежде всего, доктрины т. н. «официальной народности» и пребывавшей с нею в сложных отношениях доктрины славянофильства – с перипетиями современной им европейской мысли. Напомню недавнюю работу А.Л. Зорина, демонстрирующего идейную ориентацию С. С. Уварова при разработке им знаменитой триады «официальной народности» на Шлегеля – именно, на его стремление придать фактору «народности» консервативный смысл. Широкую известность получила разработка Б. Гройса, связывающего генезис славянофильства с кризисом европейского Просвещения и развитием романтического шеллингианско-гегелевского «историзма». По Гройсу, претендуя на интеллектуальный «конец истории», выстраиваемый в единую перспективу эволюции Мирового Духа, романтический историзм неизбежно ставил России задачу «быть культурно оригинальной уже в постистории, когда оригинальность стала для нее недостижимой». Согласно Гройсу, славянофилы, подобно Шопенгауэру, Кьеркегору, Марксу, искали выход из ситуации «конца истории», апеллируя ко внелогической стихии жизни, по ту сторону исторической саморефлексии. Оригинальность славянофилов Гройс полагает в следующем: «Для западных авторов дискурс о бессознательном так или иначе является подрывным или даже революционным относительно существующего порядка, базирующегося на унаследованных идеалах истины, добра и красоты». «Для русских мыслителей их собственная страна оказалась носительницей Иного, и поскольку эта страна уже с самого начала находилась географически вне Запада, славянофилам не надо было разрушать европейский порядок, чтобы расчистить место для своей собственной жизни – они уже изначально находились вне Европы». Для них «русская бессознательная, внеисторичная жизнь изначально несет в себе гарантию как раз той идеальной цельности, которую … хочет, но которой не может достичь Запад» с его разрушительной рациональностью. «Они хотели соединиться с Европой, включить ее в собственную жизнь и тем стабилизировать ее распадающуюся культуру» [Гройс 1992, 53, 56].
Надо сказать, что традиция, рассматривающая идеологические процессы 30–50-х гг. XIX в. как производные от процесса европейского, сама по себе не нова. Еще Чаадаев писал о том, что Европе Россия обязана своей национальностью. Главное, однако, в другом: европейский стимул к утверждению российской национальной оригинальности с самого начала вылился не просто в цивилизационное самоутверждение, не просто в поиск оригинального призвания, но в конституирование роли, соотнесенной с трансцендентными началами и целями существования человечества, а вместе с тем имеющей и геополитико-географический (и геокультурный) аспект. Тем самым, вопреки Зорину проблема русской народности ставилась в перспективе, несоизмеримой с функционированием nation-state. Еще Уваровым «русский человек» был определен как тот, кто верит в свою церковь и в своего государя, иначе говоря, по цивилизационному, а не по национальному признаку: ориентация на определенную сакральную вертикаль и на политическое пространство, отмеченное этой вертикалью. Более того, характеризуя Европу как всеобщую цивилизацию, ставшую тем очагом, без которого современное общество, такое, как оно есть, не может существовать и который в то же время содержит в себе «зародыш всеобщего разрушения», Уваров ставил вопрос: «Как идти в ногу с Европой и не удалиться от нашего собственного места?» Россия представала сообществом, существующим и развивающимся рядом с Европой и в то же время дистанцированным от нее. Цель формулы «самодержавие, православие, народность» состояла, по верной оценке А.Л. Зорина, именно в том, чтобы «остаться в рамках европейской цивилизации… и отгородиться от этой цивилизации непроходимым барьером», иначе говоря, самоопределиться в качестве особой цивилизации-спутника, существующей и действующей в европейском пространстве. Такова оказывалась объективная логика доктрины. Сам Уваров во французском черновике мог рассматривать Церковь просто как фактор национально-консервативной русской самобытности, как Eglise nationale[29], но поскольку в русском беловике подставлялось «православие», ясно обозначалась неевропейская сакральная вертикаль, однако же в условиях 1830-х и 1840-х гг. политически проецируемая на Европу, в качестве консервативного оплота которой выступала Империя.
Тем более очевидным тот же крен оказывался у славянофилов. У них Россия выступала как геокультурное, пространственное определенное Иное Европы, обретающееся вне европейского исторического цикла. Россия получала в мировой истории свою роль, отличную от роли Запада, однако находящуюся в корреляции с последней. В частности, по одной из версий, Россия должна была вернуть Запад к истинной жизни – т. е. возродить Запад, вобрав его в себя. Объективно славянофильская доктрина могла интерпретироваться как проецирование и наползание на Европу ее геокультурного Иного. Объективно идеологические процессы заостряли процесс геостратегический, когда Россия – сообщество-спутник европейской системы – обретала небывало большую роль в функционировании этой системы, фактически притязая на роль ее восточного центра, более того, центра, объективно, независимо от деклараций и даже от намерений российских монархов, тяготевшего к гегемонии.
На уровне идеологии такая обстановка неизбежно провоцировала, во-первых, становление идеи особого «русского мира», во-вторых, трактовку этого мира как платформы для «особой цивилизации» – однако же цивилизации, призванной охватить европейское пространство. Показательно здесь поведение таких идеологов, как Н.И. Надеждин и М.П. Погодин: оба они фактически мыслили в рамках доктрины «официальной народности», причем Погодин развивает эту доктрину в направлении, приближающем его к славянофилам. Надеждин публикует в «Телескопе» «Философическое письмо» Чаадаева, доказывающего пребывание России вне европейского цивилизационного мира, – но публикует, готовя свой собственный мощный контрход, не состоявшийся из-за полицейского вмешательства. В набросках ответа Чаадаеву Надеждин пишет: «Мы, действительно, народ исключительный, не принадлежащий к современному европейскому семейству, не принимающий участия в его ходе и движениях! Но неужели это для нас унизительно? … Наше назначение – не быть эхом этой дряхлой, издыхающей цивилизации … а развить из себя новую, юную и могучую цивилизацию, цивилизацию собственно русскую, которая так же обновит ветхую Европу, как некогда эта Европа, еще чистая и девственная, еще не истерзанная бурями, не состарившаяся в волнениях, обновила ветхую Азию» [Надеждин 1989, 542–543]. Характерно, что лишенный возможности ответить Чаадаеву Надеждин в ссылке подготавливает статью «Опыт исторической географии Русского мира». Эта статья показательна не столько как один из первых текстов русской исторической географии и не только демонстративным введением понятия «русский мир». Не менее важна стыковка этих мотивов, трактовка «русского мира» не только как этнокультурного, но вместе и политико-географического, и физико-географического феномена. Задачи цивилизационного самоопределения поворачивали мыслителей к ценностному и политическому самоопределению географического пространства России.
Два года спустя Погодин в записке, подготовленной для наследника престола (будущего Александра II), настойчиво развивает две переплетающиеся идеи: идею России как особого самодовлеющего географического мира и, в то же время, трактовку ее на правах универсальной империи, определяющей европейские и мировые судьбы. С одной стороны, «Россия – государство, которое заключает в себе все почвы, все климаты, от самого жаркого до самого холодного, от знойных окрестностей Эривани до ледовитой Лапландии (предвосхищение дискурса евразийцев XX в. – В Ц.), которое обилует всеми произведениями, нужными для продовольствия, удобства, наслаждения жизнью, сообразно с нынешнею степенью ее развития, – целый мир какой-то самодовольный, независимый, абсолютный». По своей «близости к богатым странам азиатским: Персии, Индии, Китаю» не уступающий «Англии со всеми ее пароходами, хоть по Евфрату и Нилу, и железными дорогами чрез Суэцы и Панамы» [Погодин 1874, 3 и сл.]. С другой стороны, этот «абсолютный мир» наползает на Европу, подчиняя ее. «В наших ли руках политическая судьба Европы, и следственно судьба мира, если только мы захотим решить ее? … В противоположность русской силе, целости, единодушию, там распря, дробность, слабость, коими еще более, как тенью свет, возвышаются наши средства». Примечательно различие характеристик восточной и западной частей европейского сообщества. Погодин пренебрежительно пишет об Австрии в ее «противоестественных пределах», с ее народами, которые все «взаимно ненавидят друг друга и с нетерпением ожидают минуты разлучения», о Германии, чья политическая роль, «кажется, кончена в разрушении Римской империи и основании новых западных государств», о «незначительности» Пруссии с ее мощным славянским элементом. Остаются только «два государства в Европе самобытные, государства, которые могут быть почтены сим титлом: Франция и Англия», но и их вершинный час, по мнению Погодина, уже позади. Таким образом, в восточной части не остается государств, достойных этого титула, кроме России; на западе такие силы есть, но они уступают России мощью. Фактически мы имеем дело с бицентрической моделью континентальной Европы и с переходом роли ее восточного центра к России, наряду с предполагаемым ослаблением западного центра – Франции вместе с Англией (державой-балансиром). Отчетливо прорезается тенденция этого времени – возможность усвоения Россией положения реального восточного центра – вместе с притязаниями на силовое превосходство этого русско-германского центра над приморским Западом.
Завершает он эту картину выводом: «Русский Государь теперь, без планов, без желаний, без приуготовлений, без замыслов, спокойный, в своем Царскосельском кабинете, ближе Карла V и Наполеона к их мечте об универсальной монархии». Итак, рядом с Европой простирается некий «абсолютный мир», но вместе с тем мир, претендующий на роль «универсальной монархии», не вписанный в Европу, но вместе с тем утверждающий себя как ее восточный и сильнейший центр в уверенности, что европейские государства «отжили свой век, или по крайней мере истратили свои лучшие силы».
Обозначающиеся таким образом в формальных рамках «официальной народности» политические устремления, в конечном счете, приводили к выводам, несовместимым с ролью России как оплота существующего западноевропейского порядка. Главный вопрос, собственно, заключался в том, как понимать ключевые постулаты «официальной народности» – самодержавие, православие, народность? Представляют ли они просто программные устремления, как постулаты политического и идеологического проекта, – или это констатации, описывающие существующие основания «русского мира», «русской цивилизации»? Это – требования, навязываемые «русскому миру», или его онтологические характеристики? Но если истинно первое, и Россия – мир, по своим основаниям чужеродный «гнилому Западу», следовательно, революционные процессы в Европе не могут представлять никакой серьезной опасности для России, по крайней мере, на нынешней ступени ее истории. Славянофильская доктрина приводила к тем же выводам еще скорее и с еще большей несомненностью. А если так, значит, Россия – отнюдь не заложница консервативных принципов, как полагал Нессельроде, и прочность европейских монархических режимов так же, как неизменность европейских границ, для нее не имеет большого значения, во всяком случае, настолько большого, чтобы заставить ее поступиться своими, пусть даже весьма радикальными запросами – будь то на Ближнем Востоке или в Центральной Европе. Она – особый мир, притязающий на существенное переустройство Европы, но отнюдь не заложница европейского порядка. Таким образом, тезис о России как «особом мире» и «новой цивилизации» в эту эпоху был способен повлечь за собой революционные геостратегические следствия.
Совершенно очевидно, какие выводы в таких условиях должны были проистекать из лингвистической («племенной») связи русских – потенциальных гегемонов Европы – со славянами как подчиненными этническими группами германских государств. Объективно «славянский вопрос» становился неизмеримо важнее отходящего в прошлое греческого, именно как инструмент оформления восточного европейского центра. Наиболее революционные выводы в такой ситуации сумел сделать Погодин – своего рода духовный посредник между «официальной народностью» и славянофильством. В 1838 г. в записке престолонаследнику он рассматривает славян как резерв России. В 1842 г. в своей записке С.С. Уварову по возвращении из европейского путешествия, описывая духовные веяния в Словакии, он использует нашумевшее словечко «панславизм». В годы Крымской войны в расходящихся по России «Историко-политических письмах» он формулирует свою доктрину со всей агрессивностью и недвусмысленностью. На его взгляд, экспорт революции европейского образца в Россию немыслим. «Всякая революция условливается историей той страны, где происходит. Революции не перенимаются, а происходят каждая на своем месте, из своих причин» [там же, 202]. Легкость подавления декабристского восстания, пытавшегося внести в Россию европейские идеи, – тому доказательство, а против новой пугачевщины европейская стабильность Россию не гарантирует. Тезис о России как «европейском государстве», обязанном делить с европейскими монархиями их заботы, – пропаганда Меттерниха, стремящаяся связать Россию по рукам. Погодин с удовольствием использует фактическое присоединение Австрии к антироссийскому блоку – порядок, который Николай «сам поддерживал и установлял в продолжение тридцати лет. … Этот порядок изменил Ему, предал Его, вооружился против Него… этот законный, Австрийский порядок». Отчасти выгода России – если славяне будут освобождены от турецкого и австрийского гнета <англо->французами и образуют центр в Восточной Европе, противостоящий и угрожающий России. В Европе только враги, два клана врагов – враги «фрачные», либералы и радикалы, и «враги мундирные», официальные. Отказавшись от союза с европейским консерватизмом, Россия избавится от «фрачных врагов» и расколет Европу, а если тем самым она подтолкнет на Западе социальную революцию – тем лучше: «Выбор, кажется, не трудный: всю Европу иметь против себя или поставить одну половину ее на другую?» В конечном счете, Россия должна блокироваться со всеми режимами и движениями как в мире, так и в Европе, готовыми дестабилизировать европейский статус-кво; она должна подтолкнуть США против Англии, поддержать революцию в Италии, поддержать Испанию в претензиях на Гибралтар, Италию в посягательстве на Мальту, Грецию в борьбе за Эпир, Фессалию, Албанию и Ионические острова. Она должна стремиться к миру с Наполеоном III как разрушителем европейского порядка. Она должна быть готова даже освободить Польшу «в границах польского языка», если тем самым вызовет смуту в германских землях и откроет себе дорогу для наступления на юге. Определяя союзников, она должна иметь в виду не официальные центры, но точно так же племенные региональные движения: роль с превращением значительной части Европы в геополитическую щебенку как подготовительном этапе к формированию нового большого пространства. Причем, в конечном счете, этот «крестовый поход России», увенчавшись успехом, «обновит обветшавшую западную Европу» [там же, 220–221].
«Письма» Погодина времен Крымской войны – текст сложный. Созданные в условиях кризиса фазы С и по большей части приходящиеся уже на фазу D – надлом российской экспансии, отбрасывание России из европейской системы, – эти тексты, как я покажу ниже, уже отмечены признаками новой эпохи – нашей «первой евразийской фазы» с ее мировидением, ее данностями и сценариями. Они созданы как бы на историческом водоразделе, откуда вид в обе стороны – потому что в них приметы эпохи российского «натиска на Европу» смешиваются с веяниями «протоевразийскими», нарастающими с лета 1854 г. И, тем не менее, в этих текстах прослеживаются перспективы развития тезиса об «особой цивилизации» России в откровенно революционную (в том числе и геополитически революционную) доктрину, кладущую конец тупикам Священного Союза (на очереди стояла ликвидация и поглощение Австрии).
Очевидно, что эти радикальные выводы, подсказываемые логикой геостратегической ситуации, не нашли практического воплощения в имперской политике. Тупик, обозначившийся еще в конце 1810-x, остался не преодолен. В лучшем случае мы можем обнаружить признаки идеи «России – особого мира, проецирующегося на Европу», в некоторых сценариях, в те или иные моменты принимавшихся к сведению российскими самодержцами. Так, по-видимому, возник всерьез обдумывавшийся Николаем I в 1830-х (в пору его энергичных усилий по превращению Германии в европейский барьер России) вариант с уступкой полесских территорий Пруссии и Австрии. При этом Россия освобождалась от дестабилизирующего ее иноцивилизационного тела, а вместе с тем под германские государства подкладывалась бы «плоская бомба», делающая их выживание заложником русской гегемонии. Можно вспомнить и то, как в 1855–1856 гг. Александр II, по-видимому, допускал апелляцию к восстанию славянских народов как крайнее средство противодействия европейскому натиску на Россию [Тютчева[30]] (но это уже фаза D с собственной, пусть лишь фрагментарно обнаруживающейся логикой). Во всяком случае, ни один из этих замыслов не реализовался в практических решениях, нацеленных на разрыхление европейского порядка в видах оформления универсальной монархии.
И, однако, было бы неосторожно солидаризироваться с историком, утверждающим, что во внутренней жизни России 30–40-х гг. XIX в. не было явлений, которые служили бы основанием для раздуваемых в Западной Европе страхов перед угрозой русского завоевания и планов создания «универсальной славянской монархии» [Волков 1969, 54]. Как идеология «официальной народности», утвержденная свыше, так и во многом оппозиционная петербургской монархии идеология славянофильства давали реальную почву для доктрин, нацеленных на реконструкцию Европы по российской инициативе (с некоторыми из этих доктрин мы ознакомимся ниже). Не менее важно то, что сама геостратегическая ситуация предрасполагала к подобным проектам, с одной стороны, и предупреждениям – с другой: ситуация, когда Россия, еще не решив Восточного вопроса, становилась опорой европейского порядка, причем каждый шаг к решению этого вопроса в ее пользу усугублял уязвимость европейского сообщества. Ситуация, когда фундаментальным компонентом европейского порядка, притязающим на роль восточного центра, причем центра лидирующего, становилась держава, не входящая в романо-германское европейское сообщество и сдерживаемая усилиями большинства держав «коренной» Европы, – эта ситуация порождала проекты в России и страхи в Европе, вращающиеся вокруг темы надвигающегося на Запад «особого мира». Причем, в некоторых случаях проекты в России и русофобские страхи на Западе продуцировали друг друга.
Весьма правдоподобно, что русофобия западноевропейцев сыграла свою роль в агрессивном отношении Герцена начала 1850-х к Западу, в свою очередь дав толчок попыткам диффамировать Герцена как «русского агента» (как известно, даже Маркс не остался в стороне от этих попыток). Другой интереснейший случай представляет попытка Ф.И. Тютчева в 1844 г. привлечь Я. Фальмерайера на правах негласного агента Петербурга, разъясняющего немцам задачи европейской политики России. Несомненно, что в выборе Тютчева решающую роль сыграли выступления Фальмерайера на тему «России – особого мира», в частности его тезис славянского происхождения новогреческого этноса (объективно позволявший поставить греческий вопрос во внешней политике России). Между тем, под впечатлением тютчевских бесед о Восточной великой самостоятельной Европе в противовес Западной, о сдвиге российской столицы на юго-запад и т. д., Фальмерайер в своих «Восточных фрагментах» разразился новыми предупреждениями насчет стремления России «поглотить греков» и «втянуть эстетически восприимчивые новые германские племена в западню», каковая якобы составляет «душу и жизнь российства». Страхи по одну сторону, проекты по другую провоцировали друг друга, одинаково коренясь в структурных особенностях данной фазы стратегического цикла.
Несомненно, эта фаза способствовала первым геостратегическим разработкам, которые оказывались связаны с пространствами Европы (труд Милютина), трудам, посвященным географии «русского мира», развернутого к Европе (публикации Надеждина). Но вместе с тем она стимулировала появление историософских и политических концепций, внутри которых прослеживаются попытки разрешить тупиковую ситуацию Священного Союза. О выступлениях Погодина я уже говорил, но Погодин, декларируя «возрождение» Европы в результате формирования панславянского пространства, не предлагает сколько-нибудь ясного проекта отношений России к западноевропейскому ареалу, ее миссии в нем. Между тем, в 1830-1850-х гг. намечаются три концепции, стремящиеся так или иначе разрешить кризис этой фазы, – концепции, связанные с именами Тютчева, Чаадаева и Герцена. Из этих концепций одна, тютчевская, может рассматриваться как первый опыт русской панконтинентальной геополитики. Две другие сформулированы в иных категориях, однако сквозь эти категории то и дело проглядывает геостратегический импульс.
III
Необходимо со всей серьезностью оценить тот момент, что новая геополитическая конъюнктура существенно сказывается и на такой, казалось бы, вполне автономной духовной области, как религиозная идеология Империи. В этой связи исключительного интереса заслуживают пророчества великого православного святого первой трети XIX в. Серафима Саровского, относящиеся к 1831–1832 гг. Зафиксированные в бумагах «служки» Серафима Саровского, H.A. Мотовилова, по-видимому, относящихся к более позднему времени (1860–1870-е), эти пророчества известны, по крайней мере, в трех вариантах – двух развернутых и одном сокращенном (опубликованы эти тексты в конце 1980-х – первой половине 1990-х). Сквозь все эти варианты устойчиво проходит ряд мотивов, связующих прославление России с близящимися апокалиптическими временами. Общими местами являются следующие указания: l) До рождения антихриста должны произойти великая «продолжительная война и страшная революция в России … „превышающая всякое воображение человеческое“», сопровождающиеся гонениями на Церковь, однако, «Господь помилует Россию и приведет ее путем страданий к великой славе». 2) Также до рождения антихриста будет Восьмой Вселенский Собор с оставлением за папой «его царственной власти», 3) Все славянские племена соединятся с Россией, как сказано в одном варианте, «в грозное и непобедимое царство всероссийское, всеславянское – Гога Магога, пред которым в трепете все народы будут». 4) Антихрист родится в России в некой новой столице «Москво-Петрограде», которая возникнет между двумя старыми столицами после создания всеславянской империи. 5) Из всех народов мира антихриста не признают лишь евреи и русские, за что русско-славянская империя невиданно превознесется (но некий русский обличит пришельца)[31].
Фактически мы имеем дело со своеобразной обработкой третьеримского мифа. Финальные события мировой истории разыгрываются в России (приход антихриста, обличающая его проповедь). В ту же перспективу встраивается создание всеславянской империи, причем техника пророчества («Россия сольется в одно море великое с прочими землями и племенами славянскими, она составит одно море или … громадный вселенский океан народный») явно перекликается (в реальности или в позднем воспоминании Мотовилова) со строками пушкинского «Клеветникам России». Образность «Третьего Рима» обнаруживается и в видении России как единственного праведного царства в ойкумене, которая вся станет добычей антихриста.
Особенно интересен вариант, сохранившийся в архиве П.А. Флоренского и гласящий, что антихрист воцарится в «старом Иерусалиме, на всей поверхности земного шара, кроме нынешней территории России и внутренней Азии, где живут 10 колен царства Израильского». Таким образом, Россия оказывается связана в конечной исторической перспективе с внутренней Азией уже тем, что эти земли остаются вне власти пришельца, между тем как Европа и Средиземноморье окажутся под его владычеством. Не ясно, но вполне возможно, что этот пассаж допускал господство всеславянской империи над внутренней Азией в «грозном и непобедимом царстве Гога Магога». Земли внутренней Европы-Азии оказываются свободны от воцаряющегося всемирного нечестия, причем к ним присоединяется славянский пояс Европы.
Вариант из архива Флоренского особенно интересен целым рядом геополитических мотивов, трактующих историю России и Европы во времена, предшествующие последним событиям. Так, наряду с созданием всеславянской империи описывается «полонение» Константинополя и Иерусалима «соединенными силами России и других». «При разделе Турции (т. е. Оттоманской империи. – В.Ц.) она почти вся останется за Россией», которая вырастет в великую средиземноморскую державу. Следующий удар должен быть обрушен на Австрийскую империю: «Россия соединенными силами со многими другими государствами возьмет Вену, а за домом Габсбургов останется около 7 миллионов коренных венцев, и там устроится территория Австрийской империи». Любопытно, что разрушение Дунайской монархии не должно было привести в пророчестве Серафима к возвеличению Франции: предполагалось, что Франция будет сведена к государству в 17 млн. человек «со столицей городом Реймсом», а рассадник революций Париж «будет совершенно уничтожен». (Учитывая, что к концу 1820-х население Франции достигло уже 31 млн. человек, очевидно, что территория этой державы должна была быть сокращена почти вдвое.) Итак, в среднесрочной перспективе Серафим предполагает не только революционные потрясения в России, но, если можно так выразиться, тотальную реконструкцию Средиземноморья и Европы по инициативе России, вырастающей во всеславянскую империю и сколачивающей вокруг себя некую коалицию. Австрия и Оттоманская Порта гибнут: турецкое и австрийское наследие почти полностью переходит к России, но вместе с тем в чью-то пользу (может быть, российских союзников?) радикально перекраивается Франция, лишающаяся традиционной столицы. Не ясно, как этот «геополитический блок» прорицаний св. Серафима соотносится с иными мотивами: страшной российской революции, восстановления патриаршества и проведения Восьмого Вселенского собора. Ясно лишь, что после создания новой Империи будет перенесена столица в «Град конца», а с другой стороны, что под конец времен значительная часть созданной империи (Иерусалим, Европа и т. д.) отпадет под власть врага. Тогда судьбы России соприкоснутся с судьбами внутренней Азии, и это всё приведет к окончательному прославлению России: «… будет всемогущественный язык на земле, и другого царства более всемогущественного Русско-Славянского не будет на земле».
Несомненно, что Серафим резко отступает от библейской трактовки Гога и Магога, которые должны подступиться к граду праведных и быть сокрушенными. В частности, по Иезекиилю, во главе Гога и Магога должен в этом строю следовать «некий Рош», что было постоянным искусом для русофобских толкований (ср. у Серафима – «царство всероссийское, всеславянское – Гога Магога»). По Библии, это царство должно быть истреблено, св. Серафим предвещает ему награду и всемогущество за его противостояние антихристу! Самое же существенное, что в перспективе Серафиму видятся панславянское объединение и решение Восточного вопроса как путь к решительной перекройке Западной Европы, ликвидации ее старых центров, так что не остается ни одной силы, способной сравниться влиянием с Россией в этой части света. Эсхатологическим решениям должна предшествовать всеевропейская гегемония России (хотя собственно в последние времена пересекутся судьбы России и внутренней Азии).
Интересный, но совершенно не ясный вопрос – насколько пророчества Серафима получили распространение в 1830–1840-х в кругах российских идеологов, в т. ч. славянофильского движения. Такие соприкосновения личностей намечаются. «Служка» Серафима Мотовилов до 1832 г. претендовал на руку Е.М. Языковой, вскорости, однако, ставшей супругой Хомякова. Таким образом, по этой линии возможна была передача пророчества. Впрочем, у самого Хомякова тема геополитических судеб России, похоже, не нашла развития, а русское мессианство преподносится им в сугубо религиозном ключе («И станешь в славе ты чудесной / Превыше всех земных сынов, / Как этот синий свод небесный – / Прозрачный Вышнего покров!») Тютчев после возвращения из Германии в начале 1840-х гг. посещавший Языковых, с 1843 г. разрабатывает крупномасштабный, подлинно геополитический (едва ли не первый в русской истории панконтинентальный) проект, где явно прослеживаются соприкосновения с провидениями Серафима. Учитывая, что по воспоминаниям А.Ф. Тютчевой в семействе ее отца царило преклонение перед этим святым, едва ли следует думать о случайности этих соприкосновений.
IV
Проект Тютчева представляет крупнейшее и предельно заостренное выражение тенденций русской геополитической идеологии эпохи Священного Союза. Более того, этот проект вообще может рассматриваться как первый памятник русской геополитической мысли, выходящий за рамки частных геостратегических наработок (вроде «Греческого проекта» Екатерины II или плана Ростопчина) до уровня философии Больших Пространств. С Тютчева следует отсчитывать формирование в России высшего яруса геополитики. Отсюда не случайные переклички его построений с позднейшими наработками континенталистской геополитики Ратцеля – Челлена – Хаусхофера, выдвинувшей доктрину «государства-континента», организуемого «пан-идеей». Вместе с тем, несомненны домодернистские особенности политической ментальности Тютчева, перекликающиеся с концепциями европейского Средневековья: идея кочующего мирового центра, разные ипостаси которого связаны непрерывностью жизни в веках, тема истинного и ложного центров, торжествующей квазиимперии и сокрытой истинной империи, пребывающей в потаенном состоянии. Странное соединение «средневековых черт» (напоминающих «Пир» Данте и т. д.) с иными, предвосхищающими европейскую геополитику начала XX в., тем интереснее, что в последней, как уже говорилось, усматривается отменяющая, игнорирующая национальные принципы апелляция к имперскому мироустройству домодерной фазы Европы.
Ничего не может быть ошибочнее, чем видеть в геополитике Тютчева выражение славянофильских идей. Исследователь Тютчева К.В. Пигарев, какое-то время оценивавший этого мыслителя как «скорее панслависта, чем славянофила», кончил тем, что оценил его проект как «чудовищную утопию, до какой не додумывался ни один из самых крайних панславистов» [Пигарев 1962, 130], – и тем самым исключил Тютчева из числа последних. Я полностью присоединяюсь к мнению такого исследователя, как В. Кожинов, подчеркивающего инструментальное значение в глазах Тютчева «славянского вопроса» как «исходного пункта для истинного решения важнейших проблем русской и мировой политики» [Кожинов 1994, 445 и сл.]. Тютчев первый по времени русский панконтиненталист, положивший краеугольным камнем своей доктрины идею «второй», «Восточной, или Русской», Европы. В 1995 г.я предпринял попытку проанализировать становление комплекса тютчевских идей, вырастающего вокруг этого мотива. Сейчас я могу лишь воспроизвести основные выводы моего тогдашнего анализа[32].
Тема «другой Европы» проходит через всё творчество Тютчева-идеолога, начиная с «России и Германии» (1844) и кончая письмами последних лет жизни. Заслуживает особого внимания письмо к М. Погодину от 30 августа 1868 г., где он полагает «лозунгом завтрашнего дня – возрождение Восточной Европы» и призывает русскую печать «усвоить себе это слово: Восточная Европа как определенный политический термин» [Литературное наследство 1988, 425]. Что вкладывает он в этот термин? Исследование тютчевских контекстов позволяет выделить три ключевые идеи, связанные с мотивом «Восточной Европы». Во-первых, Восточная Европа связывается им с разрушением европейского порядка и его реорганизацией по инициативе России. Так, в начале 1870 г. он видел во франко-прусской войне мировой поворот в пользу Восточной Европы, который должен состоять в «первой сознательной племенной войне между составными частями Европы Карла Великого», в «первом шаге к… разложению Западной Европы». Он обуславливал «возрождение Восточной Европы» «светопреставлением» Европы Западной и призывал историю в «интересах всей Восточной, т. е. Русской, Европы» продлить еще на несколько лет этот тлетворный мир, так сильно содействующий процессу разложения, поскольку без «полного, коренного разложения нельзя будет приступить к перестройке». Итак, принцип «Восточной Европы» не выражает для Тютчева идеи особого пространства, отдельного от Запада, – это именно принцип организации Европы (включая и романо-германский мир) как целого из центра, лежащего на Востоке.
Во-вторых, для Тютчева идея «Восточной Европы» связана с предысторией России. Историческое существование последней он ограничивал в «России и Германии» в одном месте тремя, в другом – четырьмя столетиями, т. е. отсчитывая ее с возникновения Московского государства и не включая в нее Киевскую Русь. Между тем, идея «Восточной Европы» увязывается им именно с Киевом – возьмем ли стихи начала 1850-х об окончательном замирении России и Польши «не в Петербурге, не в Москве, // а в Киеве или в Царьграде», или письмо к А. Майкову из Киева 1869 г. о привидевшейся здесь ему «какой-то новой своеобразной Европе, которая вдруг раскрылась и расходилась по этим широким русским пространствам» [Тютчев 1993, 487]. Итак, «Восточная Европа» связывается с землями, выступающими средоточием русской предыстории.
В-третьих, с идеей «Восточной Европы» связан мотив, который можно определить как «воля русских к бытию». Этот мотив проступает в беседах Тютчева 1843 г. с Я. Фальмерайером. В этих беседах, проникнутых, согласно Фальмерайеру, «зудом перенесения столицы», словам о «Киеве – центре и сердце славянства» и о «Византии, священном городе, патриархе и торговле», предпосланы слова: «Wir wollen nur existieren» – «Мы хотим лишь существовать» [Казанович 1928, 151]. Сходным образом в 1855 г. Тютчев настаивал на том, что у России «нет исторической жизни» без «воссоздания самостоятельности» для всей славянской расы (мотив, известный уже по пушкинскому «Клеветникам России», где альтернативой «слиянию» славянских ручьев в русском море мыслится «иссякание» самого этого моря). Становление и возвышение «Восточной Европы» – единственная гарантия бытия России, само существование которой без этого неполноценно и не гарантировано.
Таким образом, лозунг «Восточной Европы» осмысляется как некое утверждение существования исторической России через «расчистку» Западной Европы и утверждение «нового европейского строя», причем сам этот акт мыслится как некий прорыв из российского исторического бытия в византийско-киевскую предысторию.
Изучая генезис проекта, можно выделить первую фазу, отраженную в «России и Германии», где Тютчев пробует вписать становящуюся концепцию в рамки идеологии формально существующего Священного Союза. Именно на этой стадии проект вызвал безоговорочное одобрение Николая I, увидевшего в «России и Германии» точное воплощение собственных мыслей. Тютчев опирался на бушевавшую в историографии Европы первой половины XIX в. романо-германскую контроверзу, представлявшую как внешнеполитические, так и социальные процессы в ключе «борьбы рас». Он ставит знак равенства между романизмом и революционностью; французская революция и ее войны оказываются восстанием галло-римлян против франков, развернувшимся в масштабах всей Западной Европы, сокрушающим европейскую германскую империю и водружающим на ее место романскую революционную империю Наполеона. Но растление Европы пресекает своим вмешательством Россия. Запад много веков верил, «что не было и не могло быть другой Европы, кроме него». Между тем, втайне от него «существовала другая Европа, законная сестра христианского Запада» и даже «еще более христианская». «Наконец, когда судьбы совершились, рука исполина сдернула эту завесу, и Европа Карла Великого оказалась лицом к лицу с Европой Петра Великого» [Тютчев 1976, 16 и сл.]. Для Тютчева Петр – не европеизатор России: он герой, поставивший Запад перед фактом существования «другой Европы», пребывавшей до того сокрытой от обитателей «Европы Карла Великого».
Разрабатывая свою модель, Тютчев предельно остро поставил вопрос о цивилизационном статусе восточно-европейских народов, обретающихся между Россией и романо-германским Западом, будь то славяне, греки или венгры. Я уже писал, что при этом Тютчев «столкнулся с важнейшей и сегодня для цивилизационной геополитики проблемой наличия у цивилизаций, помимо опорных этногеографических ядер, также обширных периферий, образующих переходные континуумы между цивилизациями» [Цымбурский 1995а, 90]. Осмысляя восточно-европейскую ситуацию, Тютчев подводит цивилизационный аргумент под тезис об «органичности» и «естественности» российских «мнимых насилий» и «мнимых завоеваний». Все нероманские и негерманские племена данного ареала выступают в противоположность коренному Западу как «Новый Свет – Восточная Европа», которая способна получить «историческое бытие» лишь от той части, которая его завоевала раньше всего, – от России (выходит, «Восточная Европа» обретает основы политического существования в России, но одновременно, судя по другим текстам Тютчева, Россия получит гарантии своего существования лишь через проект «Восточной Европы»). Позже Тютчев напишет о «панславизме масс», проявляющемся в солидарности «русского солдата с первым встретившимся ему славянским крестьянином … даже мадьяром … по отношению к немцу» [Литературное наследство 1988, 222]. Решение, предлагаемое Тютчевым для народов этих краев, свелось к вымыванию любых промежуточных состояний, не подпадающих ни под одну из двух цивилизаций. По словам И. Аксакова, он ставит славяно-католиков перед выбором: «или объединение с Россией, или объединение полное и окончательное с Западною Европою» в смысле этнической германизации [Аксаков 1886, 216]. Тютчев отстаивает группировку всей массы неромано-германских или не принадлежащих к западному христианству восточноевропейских народов с Россией против Запада (тот самый вариант, который был реально опробован во второй половине XX в. и рухнул на наших глазах). По Тютчеву, вместе с «историческим бытием» Россия имеет право дать этому Новому Свету свое имя, уничтожая в нем «противоестественные стремления, правительства и учреждения», возникшие под западным влиянием, например, в Польше. В своем органическом росте «Восточная Европа, уже на три четверти установившаяся», получит и Константинополь – «свое последнее, самое существенное дополнение», – «получит ли она его путем естественного хода событий или будет вынуждена достигать его силой оружия, подвергая мир величайшим бедствиям» [Тютчев 1976, 18].
В то время как Германия, саморазрушаясь в религиозных распрях и революционных утопиях, склоняется перед романской империей, Россия – «исторически законная сила», вступив на «поле битвы Европейского Запада», из уважения к такой же «исторической законности» Европы Карла Великого спасает германский мир от самораспада и обеспечивает ему перевес над романизмом. Впрочем, уже через несколько лет Тютчев решительно оспорит «законность» империи Карла, а в 1870-х при виде воссоздания новой Германской империи («пробуждение Фридриха Барбароссы») объявляет насчет миссии «объединенной славянской Европы» – «быть естественной союзницей латинских рас и, в особенности, Франции» [Пигарев 1936, 768]. Естественно заключить, что и в 1840-х он симпатизировал германской Центральной Европе лишь разделенной и ослабленной, поддерживающей относительное превосходство над приморскими романскими странами только ценой абсолютной зависимости от «другой Европы».
Итак, Тютчев как бы различает «Россию-1» в современных ему имперских границах и ту «Россию-2», которая должна возникнуть с включением народов Европы, не принадлежащих Западу. Так утверждается первое толкование топоса «другой Европы». Христианство приравнивается к европеизму, конфессиональная особость православия оказывается «другим европеизмом». Отсюда вытекают выводы, отдающие фарсом. Во-первых, другая Европа не может быть судима по западным цивилизационным меркам, и потому Тютчев легко соглашается с доводами немецких оппонентов, твердящих ему насчет чуждости Западу «самого начала цивилизации России». Во-вторых, по праву другой Европы Россия может «органически» вобрать в себя все народы, не охваченные коренным Западом, включая и те, которые он попытался бы «присвоить себе, стараясь исказить их национальный характер». В-третьих, «другая Европа» – тоже Европа и имеет право действовать «на поле битвы Европейского Запада».
Два постулата «России и Германии» – о сущностной чужеродности российского и западного цивилизационных полей, а вместе с тем и о «России – другой Европе» – давали в своем синтезе картину напряженного, небесконфликтного сосуществования двух разных цивилизаций под общим именем «Европы». Отсюда лишь один шаг к идее их войны за право преимущественного самообозначения этим именем и гегемонию над всеми народами, пытающимися под него подверстаться. Между первым и вторым вариантами был только шаг, и этот шаг состоял в том, чтобы объявить: раз православие – «единственно истинное христианство», значит, весь христианский мир обязан будет стать Россией.
Этот шаг Тютчев и совершает в революционном 1848 г. Этот год поставил верхушку Империи перед вопросом: сохраняются ли у России какие-то обязательства перед европейским порядком, престижным для нее, зато связывавшим ее по рукам и ногам? Свой ответ на этот вопрос Тютчев предложил в записке Николаю I, изданной затем в Париже под названием «Россия и Революция». Смысл записки состоял в том, что революция, разрушая признанный международный порядок, вручает carte blanche России, силе контрреволюционной (по формулировке Э.Ф. Тютчевой: «Россия (в Европе. – В.Ц.) защищает… не собственные интересы, а великий принцип власти… Но… если эта власть окажется неспособной к дальнейшему существованию, Россия будет обязана, во имя того же принципа, взять власть в свои руки, дабы не уступить ее революции» [Литературное наследство 1989, 231]). Европейская революция становится тараном, прокладывающим дорогу российской гегемонии во имя нового европейского порядка.
Глубокая ошибка воспринимать слова в начале тютчевской статьи-записки: «Давно уже в Европе существуют только две силы – Россия и Революция. Эти две силы теперь противостоят одна другой и, может быть, завтра они вступят в борьбу» [Тютчев 1976, 32], – как кредо «жандарма Европы». На деле они нацелены именно против Европы легитимной: задача Тютчева – доказать адресату, что этой Европы больше нет как политической величины, а значит, нет и политических обязательств, связывающих Россию. Что считаться с Европой анархии и разыгравшихся национальных эгоизмов? (В частности, Германией, где главенствуют радикалы – «передовой отряд французского нашествия»?) С ее консерваторами, духовно отравленными революцией и готовыми на сделку с нею? Чего стоит соглашение с Австрией – «бедным старым отцом, впавшим в детство и сданным в опеку» революционными «азиатами»-венграми? «Те жертвы, которые мы тогда приносили делу порядка, нам пришлось бы ныне совершать в пользу Революции». Хватит самоограничений! Вся контрреволюционная риторика Тютчева призвана подтолкнуть императора к началу немедленной оккупации славянских областей Австрии. «Запад исчезает, все гибнет в этом общем воспламенении, Европа Карла Великого и Европа трактатов 1815 года (конец Священному Союзу! – В.Ц.), римское папство и все западные королевства … и над всеми этими развалинами, ею же созданными, цивилизация, убивающая себя собственными руками. И когда над этим громадным крушением мы видим всплывающею святым Ковчегом эту Империю еще более громадную, то кто дерзнет сомневаться в ее призвании?..» [там же, 46, 50]. Призвание это не в том, чтобы спасать цивилизацию-самоубийцу.
Католические консерваторы Европы не без оснований расслышали в тютчевских трудах тех лет «радостный крик варвара» над руинами ненавистного ему мира. Один из этих авторов даже перефразировал броскую формулу Тютчева, объявив, что две силы, борющиеся за Европу, – это католическая церковь и революция, Россия же представляет одну из революционных сил, штурмующих твердыню западного христианства.
Вместе с тем в письме 1848 г. к Вяземскому Тютчев обосновывает свой проект уже без всяких ссылок на борьбу с революцией. Исходные позиции здесь совсем иные. Отмечается, что русские пребывают в «бесконечных заблуждениях и неизбежных недоразумениях» из-за необходимости «называть Европой то, что никогда не должно бы иметь другого имени, кроме своего собственного: Цивилизация» [Тютчев 1993, 362]. Далее следует: «Впрочем, я все больше убеждаюсь, что все, что могло сделать и могло дать мирное подражание Европе, – все это мы уже получили. Правда, это очень немного. Это не разбило лед, а лишь прикрыло его слоем мха, который довольно хорошо имитирует растительность. Теперь никакой действительный прогресс не может быть достигнут без борьбы… Нужна была эта, с каждым днем все более явная враждебность (Запада. – В.Ц.), чтобы принудить нас углубиться в самих себя, чтобы осознать себя. А для общества так же, как для отдельной личности, первое условие всякого прогресса есть самопознание» [там же]. Понятно, что славянофилу имперская цивилизация XVIII-XIX вв., поверхностная европейская псевдоморфоза, могла бы увидеться как «мох на льду, имитирующий растительность». Однако в этом случае славянофил апеллировал бы к допетровским национальным началам, а у Тютчева нечто иное: подо мхом – некий «лед», не пробитый, а еще утолщенный наносным европейским слоем. Прогресс – «пробивание льда»? – возможен лишь через глубинное самопознание русских. В свою очередь это самопознание будет обретено в борьбе с Европой; причем весь контекст исканий Тютчева в те годы показывает, что под борьбой разумелась борьба политическая и военная. Европейские революции – повод отрешиться от иллюзий Священного Союза и взамен прокламировать прямое противоборство цивилизаций, в ходе которого Россия стремилась бы утвердить «другую», или «Восточную», Европу как другой принцип жизни и веры в нераздельной Европе.
Конкретные задачи этой стратегии Тютчев очертил в набросках к «России и Западу» и в выросшей из них статье о «Папстве и римском вопросе». Воплощением этих исканий стала заметка от 9 сентября 1849 г. о двух фактах, которые могли бы «в положенное время заключить на Западе революционное междуцарствие трех последних столетий (с начала Реформации. – В.Ц.) и открыть в Европе новую эру. Эти два факта суть: l) окончательное образование великой православной Империи, законной Империи Востока, одним словом, России будущего, осуществленное поглощением Австрии и возвращением Константинополя; 2) воссоединение двух церквей – восточной и западной. Эти два факта, по правде сказать, составляют один… Православный император в Константинополе, повелитель и покровитель Италии и Рима. Православный папа в Риме, подданный императора» [Пигарев 1935, 196]. «Восточная Европа», она же «Россия будущего», она же «новая эра в Европе» и «новый европейский строй» (из писем 1860-x), – раскрывается как ряд названий для панконтиненталистского плана, который бы не только геополитически «ориентализировал» всю Европу, подчинив ее центру в Восточном Средиземноморье, но также хронополитически закрыл в Европе «междуцарствие» Реформации, модернизации и эпохи национальных государств.
Черновики «России и Запада» – зрелость тютчевского проекта. Теперь, наряду с условными «Россией-1» и «Россией-2», в «России и Западе» и в стихах «Русской географии» у этого понятия намечается третий круг расширения: идеал «России-3», объемлющий, за вычетом Китая, весь континент и в первую очередь Средиземноморье с романо-германской Европой. Уже версия «России-2» предполагала контроль России над Германией и прочное русское присутствие на «поле битвы Европейского Запада». Похоже, что развертывание «России-2» в «Россию-3» могло бы идти через следующие промежуточные этапы. Сперва по славянскому следу поглощались бы онемеченные славянские земли «до Эльбы» («Русская география») и Австрия, которую Тютчев полагал «подставным именем» славянской расы [Тютчев 1993, 365]. Спасение Австрии Николаем I в 1849 г. Тютчев расценил как первый шаг к ее поглощению, которое, в свою очередь, трактовалось не только в смысле «необходимого для России как для славянской Империи восполнения», но и в качестве подступа к подчинению Россией по австро-имперскому следу всей Италии и Германии, «двух земель Империи» [Литературное наследство 1988, 225]. Вероятно, в проект входила оккупация вслед за «возвращением» Константинополя ближневосточных земель Порты – до Нила и Евфрата («Русская география»). И наконец, важнейшей задачей представлялось подчинение папства, а через него – контроль над большей частью западного человечества.
Здесь мы прямо выходим на хронополитический аспект доктрины Тютчева, получившего в Европе после выхода «Папства и римского вопроса» прозвище «русского де Местра» [Лейн 1988, 238, 247]. Однако это прозвище затушевывает подлинный смысл тютчевского манипулирования идеями де Местра. Де Местр строил свои аргументы изнутри западной цивилизации; он пытался избавить эту цивилизацию от социальной и политической катастрофы, восстановив духовную империю зрелого Средневековья, т. е. вернув Запад к его исходному домодернизационному пункту. Тютчев переписал аргументы с позиций критика, обретающегося вне цивилизации и доказывающего незаконность ее генезиса уже на уровне Европы Карла Великого. По Тютчеву, претензии Запада на Империю были началом спуска в социальный ад. Здесь идея Империи, бывшая в течение многих веков «душою всей истории», представляла достояние, похищенное папами и германскими квази-императорами у Императоров Востока. Распря двух кланов узурпаторов – германских кесарей и пап, выразив первородный грех Запада, дискредитировала институты светской и духовной власти, в конце концов привела к Реформации, торжеству секуляризма, крушению монархий – и, наконец, к волне социальных революций, которых не сдержать ни бонапартистскими, ни иными диктатурами. Если западные народы хотят исцелиться, они должны отречься от исходных исторических предпосылок своей цивилизации.
Русские должны в борьбе с Западом познать свою «историческую законность», удостоверившись в «незаконности» Запада, вся история последнего была рядом «беззаконных» фактов, которые были бы «снимаемы» русскими по ходу становления «другой Европы». Библейская вереница великих царств должна была восполниться в их сознании рисуемым в Книге Даниила последним царством – Империей Константина Равноапостольного. Русские должны были уверовать, что эта империя пребыла до XIX века, хотя и претерпевала в веках «слабости, приостановки, затмения». После XV в. она была перенесена на север и здесь крепла втайне от Запада, между тем как турки невольно выступали хранителями Константинополя от романо-германских притязаний.
Приняв императорский титул, Петр I вновь явил Западу Империю, исполненную воли вновь собрать владения Константина, ибо «только в качестве императора Востока царь является императором России» [Литературное наследство 1988, 222]. Похоже, Тютчев воспринимал наречение новой российской столицы «градом святого Петра» как знак претензий на отвоевание Рима [Пигарев 1962, 130]. Точно из далекого будущего пишет Тютчев о том, что, наконец, «Революция уничтожила на Западе Власть внутреннюю, местную (т. е. власть, включающую сакральное измерение. – В.Ц.) и вследствие этого подчинила его Власти чужеземной, внешней. Ибо никакое общество не могло бы жить без Власти… Таким образом, с 1815 года (с падения псевдо-Империи Наполеона. – В.Ц.) Империя Запада уже не на Западе. Империя полностью ушла оттуда и сосредоточилась там, где во все века существовала законная традиция Империи» [Литературное наследство 1988, 225], т. е. в России, преемнице Византии.
По такой логике все консервативные европейские движения оказывались бессмысленными, если они не превращались полностью в российскую агентуру. Принимая как должное необратимую десакрализацию власти на Западе, Тютчев пришел к тому, что в конце жизни приветствовал Третью республику Тьера как «почин в деле великого преобразования, открывающего республиканскую эпоху в европейском мире» и глумился над западными приверженцами династических принципов, оказывающихся «только лишним источником революционного брожения» [Пигарев 1936, 765, 768]. Однако уже на страницах «России и Запада» он увлеченно выявляет и анализирует болезненные процессы и антагонизмы в жизни всех западноевропейских обществ, одного за другим, якобы делающие их беззащитными перед наступлением России. В центре предполагаемой «перестройки» Европы оказывались два события, отменяющих или инвертирующих события предреформационного XV в. Константинополь восстанавливается как столица средиземноморской христианской монархии. В то же время итальянская революция позволяла инвертировать эпизод с Флорентийской унией 1439 г. – теперь не папа соблазнял бы посулами помощи обложенную турками Византию, но православный император выручал бы и возвращал в православие папу, осажденного в Риме повстанцами. Заодно над фактами-знаками надстраивался бы второй план еще более фундаментального «сворачивания» времен: возврат папы в православие символизировал бы отречение Запада от цивилизационной самости, а попутно аннексией Австрии «снимался» бы исторический факт существования германской Империи Запада.
«Другая Европа», она же «Россия будущего», оказывалась возвращением Империи из ее временного северного пристанища на средиземноморскую родину. Только эту «Россию будущего» Тютчев принимал за «окончательную» (c’est la Russie défi nitive). Про любую же «неокончательную» он презрительно писал: «Si la Russie n’aboutissait pas а l’Empire, elle avоrterait» [Литературное наследство 1988, 215] – «Если бы Россия не достигла (состояния. – В.Ц.) Империи, она бы разродилась выкидышем»[33], предвосхищая замечания Тойнби и Шпенглера насчет «абортированных цивилизаций».
Во время Крымской войны в письме к Погодину (от 11 октября 1855 г.), где «историческая жизнь» России намертво связывалась с «самостоятельностью славянской расы» (т. е. формированием «России-2»), звучит утверждение более сильное: «От исхода предстоящей борьбы зависит решение вопроса, которая из двух самостоятельностей должна погибнуть: наша или Западная; но одна из них должна погибнуть непременно – быть или не быть, мы или они» [Литературное наследство 1988, 422]. Оказывалось, Россия не может исторически существовать не только, пока она не вырастет в «Россию-2», но и пока не уничтожит цивилизационной самостоятельности Запада и не станет сама «Россией-3», «другой Европой» – «другой» также в смысле хронологическом (не зря в «России и Западе» Тютчев осуждает Тильзитский мир, утверждая неделимость европейской Империи). «Самопознание» русских должно заключаться в усвоении ими мифа об исторической России как временной, преходящей стоянке средиземноморской Империи в ее изгнании, причем ценой этого самопознания и платой за него должна была стать борьба, в которой бы сгинула одна из цивилизаций, принимающих на себя имя Европы.
Переклички проекта Тютчева с пророчествами Серафима Саровского неоспоримы. Достаточно отметить, как увязываются: занятие Вены и ликвидация Австрии как великой державы, занятие Константинополя и переход турецких владений к России, вырастание последней во всеславянское государство и глубокая реконструкция всей Западной Европы («переход к новому европейскому строю») с мотивом воссоединения церквей (Восьмой Вселенский Собор, по св. Серафиму; возвращение папы в православие с сохранением за ним первенствующего положения в Церкви, по Тютчеву). Тютчев фактически связывает в единый сюжет – политическую программу – мотивы, фигурирующие у св. Серафима порознь. Не все мотивы имеют соответствие: в обоих случаях налицо перенос столицы, но у Тютчева речь идет о Константинополе и Риме, а также о некой новой роли Киева, тогда как в пророчествах св. Серафима возникает загадочный «Москво-Петроград», или «Град конца». Тютчев явно проигнорировал и мотив грандиозной революции в России. В то же время мотив великой истребительной войны, предшествующий славе России, перекликается с любопытнейшей мифологемой, появляющейся в выкладках Тютчева конца 1850-х.
Сам он писал о бывшем ему в 1851 г. «знамении», предуказавшем близость «эпохи крови и разрушений… под страшным наименованием: Великая Резня народов». В 1870-м, увидев во франко-прусской войне исполнение этого знамения, он приветствовал ее словами: ««Западная Европа, как сила совокупная, окончательно сокрушена, и отныне наше будущее широко раскрыто перед нами» [Пигарев 1936, 754]. Судя по этим словам, «знамение» представляло Великую Резню народов в форме военной катастрофы, которая должна была постигнуть западный мир без участия России, открыв русским путь к новому европейскому порядку. Отсветы этого «знамения» проступают в заявлениях Тютчева времени Крымской войны, например, в попытках вызвать на помощь России Красного демона европейской революции: «Теперь, если бы Запад был единым, мы, я полагаю, погибли бы. Но их два: Красный и тот, которого он должен поглотить. В течение 40 лет мы оспаривали его у Красного – и вот мы на краю пропасти. И теперь-то именно Красный и спасет нас в свою очередь» [Тютчев 1993, 398].
Похоже, что это «знамение» ассоциировалось у Тютчева с мотивом ломающегося льда. Слова по поводу приготовлений Запада против России в 1854 г., что якобы «борьба, которую готовят, не состоится, но катастрофа произойдет, и в конце концов окажется, что все это вооружение и все эти армии накоплены не для того, чтобы сражаться, но чтобы под ними скорее треснул лед, который их держит» [там же, 407], – отзовутся во время франко-прусской войны сравнением современной цивилизации со «льдиной, которую унесет ледоход, но на этой льдине построен целый мир» [Пигарев 1936, 762]. Мотив ломающегося льда стал для Тютчева символом Великой Резни народов, от которой Россия сперва должна остаться в стороне, чтобы катастрофа, дестабилизировав Запад и сокрушив его основы, проложила бы путь «другой Европе».
Исследователь политической метафорики мог бы отметить, что метафора «ломки льда», символизирующая у Тютчева гибель западной цивилизации, пересекается с «пробиванием льда» как символом самопознания России, растворяющим ее судьбы в истории средиземноморской империи. Любопытно, что та же метафора «ломки льдины» возникает в поэзии Тютчева как символ «человеческого Я», расточаемого во вселенской «бездне роковой».
Собственно, речь идет о метафоре, передающей распадение личной либо исторической, цивилизационной индивидуальности. В этом смысле использование метафоры «ломки льда» для самопознания России в борьбе наводит на определенные раздумья. В письмах Тютчева, обличающих национальную отчужденность российской государственной элиты, настойчиво выдвигается задача «отличения нашего Я от нашего не-Я» и настойчивы выпады в адрес «кретинической» политики, растворяющей это отличие в идеологии «европейских интересов» [Тютчев 1993, 458]. Однако если подойти в этом смысле к проекту самого Тютчева, всё окажется не так просто. Концепция «другой Европы» приписывает России в качестве «стремления к существованию» стремление к такому состоянию мира, где разница между Я и не-Я исчезает, теряет смысл. Что остается от России в державе с политическим центром в Константинополе, а духовным – в Риме, объединяющей в подданстве массы славян, германцев, итальянцев, греков, турок и иных обитателей Ближнего Востока? Самопознание русских, по Тютчеву, состояло бы во взгляде на Россию, еще отличающую свое Я от того не-Я, каким является Запад, как на не выполнившую своего назначения, «неокончательную» и даже буквально «недоношенную».
Обращение Тютчева к эмбриологической метафоре, употребление глагола avorter не случайно. Оно должно быть сопоставлено с возгласом «Мы хотим лишь существовать!» из монолога перед Фальмерайером, с письмом к Погодину от 1855 г., где «бытие» России обусловливалось уничтожением самостоятельности Запада. Напомню слово Тютчева о «видении», бывшем ему в сентябре 1855 г. во время богослужения по поводу сдачи Севастополя, когда ему привиделась состоявшаяся после многолетней борьбы «Россия будущего»: «Она начинала свое бесконечное существование там, в краях иных, под солнцем более ярким, ближе к дуновениям Юга и Средиземного моря. Новые поколения, с совсем иными воззрениями и убеждениями, господствовали над миром и, уверенные в достигнутых успехах, едва помнили о тех печалях, о той тоске и темной ограниченности, в которой мы живем теперь» [там же, 417]. Мотивы пребывания России на ее исторической платформе в «тоске и темной ограниченности», «желании существовать», обрести «историческую жизнь» в образе «другой Европы», темы «недозрелости», «аборта», которые могут помешать прорыву «под солнце более яркое», где бы новые правители почти утратили память об исторической северной России и ее жизни, – весь этот пучок метафор отражает восприятие России в качестве не то эмбриона, не то утробы, где зреет эмбрион Мировой Империи, как бы помнящий о предсуществовании и пытающийся изойти в иное географическое пространство.
Психоаналитики, работающие с т. н. перинатальными матрицами, могли бы соотнести тютчевский дискурс с т. н. опытом «смерти эмбрионального Эго», будто бы переживаемым эмбрионом при переходе к внеутробному существованию [см.: Гроф 1994, 46, 50]. Судя по соответствующей литературе, возможны были бы психоаналитические «перинатальные» интерпретации для мотивов «разложения» и «взрыва», «Великой Резни» и «ломки льда», предшествующих в построениях Тютчева рождению «другой Европы – России будущего». Геополитический проект Тютчева глубоко мифологизирован, привязан к историческому сюжету, трактующему реальность исторической России как преходящий эпизод в скитаниях бессмертной Империи. В «России и Германии» он писал об отсутствии потребности в оправдании России, которая уже оправдана своей трех– или четырехвековой историей. На самом деле, он ищет ей оправдание именно за пределами этой истории, и весь проект Тютчева подчинен ее оправданию через надежду на прыжок державы по ту сторону исторической и географической идентичности. Геополитика Тютчева, заложенный в ней мотив «воли к существованию» нацелены на реализацию ее судеб не на ее земле и не в ее истории, на сдвиг геополитического фокуса с российской платформы на иные и аннексируемые земли и акватории Запада, превращаемые в «другую Россию». Внутри девиза Wir wollen nur existieren это existieren экспансии оспаривает и ставит под сомнение самое wir в рамках странного сюжета, где мотив Третьего Рима подменяется поставленной задачей сделать столицами России первые два.
Поэтому я позволю себе скептически относиться к звучащим трафаретным оценкам Тютчева как «опытного государственного мужа, упрямого защитника интересов России»[34]. В Тютчеве мало от политического реалиста. Но он значим как творец геополитического мифа, выразившего с предельной остротой те мотивы, которые проявляются в политической идеологии России именно в фазах нашего стратегического цикла, отмеченных максимальным российским напором на Европу. Это мотивы слияния, сращения двух платформ, превращения России в крупнейший лидирующий центр романо-германской платформы, вплоть до отхода российских земель на периферию нового образования, ее самоколонизации. Тютчев выразил эту тенденцию с той предельной остротой, которая обеспечивает ему почетное место в истории нашей геополитической мысли.
V
Необходимо подчеркнуть: геостратегическая ситуация России могла воздействовать на направление мысли не только авторов, склонных облекать свои концепции в виде политико-прагматических планов, – не менее оно влияло и на некоторых мыслителей, подчеркнуто отказывавшихся трактовать судьбы России в категориях государственного интереса. Вероятно, ярчайший пример здесь П.Я. Чаадаев. Мыслитель, принципиально не желавший рассматривать отношения России с Западом в категориях реальной политики, более того, отрицавший за Россией право на частный (национальный) интерес, – этот мыслитель сложился под влиянием обстановки дней Священного Союза. Больше того, сама «доктрина» Чаадаева в некоторой степени может расцениваться как выражение тогдашней российской ситуации – ее соблазнов и вместе с тем ее очевидной тупиковости.
Основные позиции Чаадаева обозначились уже в первом из «Философических писем», завершенном в 1829 г. В дальнейшем, в текстах 1830-х гг. мы находим уточнения, прояснения и некоторую корректировку этих положений, но в принципе позиция остается та же самая. Таким образом, очевидно, что видение «Философических писем» сложилось в 1820-е годы, когда система Священного Союза в основном еще сохраняла тот облик, который определился при Александре I. Не случайно Июльская революция обозначила первый серьезный кризис в развертывании этой доктрины: кризис Союза оказался и ее кризисом.
Основные положения доктрины Чаадаева таковы. Понятия христианства и Европы по сути тождественны. До недавнего времени Европа носила имя христианского мира, она «и сейчас еще христианский мир, что бы она ни делала и что бы она ни говорила» [Чаадаев 1989, 100]. Благодаря христианству, конкретно – благодаря церкви, независимой от мирских властей, она обрела процветание и свободу во исполнение обещания Христа «ищите Царствия Небесного, а остальное приложится». Европа «является последним выражением всех прежних цивилизаций» [там же, 142] именно благодаря католицизму. «Остальные человеческие племена настолько ей подчинились, что можно считать их как бы существующими только в меру ее произволения». Другие цивилизации, как и другие виды христианства, – тупиковые образования. «Христианство абиссинцев и цивилизация японцев… нелепые отступления от Божеских и человеческих истин» [там же, 28]. Вне европейско-католической целостности христианство обречено на «призрачное бытие особи, оторванной от своего видового целого» [там же, 23].
Реформация была болезнью Европы – она «вернула мир в разобщенность язычества», разрушив средневековый, по сути, федеративный строй Европы, – «она восстановила основные индивидуальные черты национальностей, обособление душ и умов», которые Спаситель приходил разрушить, «во всех протестантских церквах есть какое-то странное пристрастие к разрушению» [там же, по-111]. Но, тем не менее, «западное христианство… совершенно выполнило цель, предназначенную христианству вообще, а особенно на Западе, где находились все начала, потребные для составления нового гражданского мира» [там же, 4–10]. Ныне христианство вправе отказаться от политических притязаний и трансформироваться во власть и силу чисто духовную, но столь же католическую, всемирную, отрицающую расовые и племенные разделения [там же].
С учетом этой доктрины в целом следует учитывать чаадаевские представления о месте России. Россия вне европейского творчества не приняла никакого участия в становлении Европы. «До нас же, замкнутых в нашей схизме, ничего из происходившего в Европе не доходило… Словом, новые судьбы человеческого рода не для нас совершались. Хотя мы и христиане, не для нас созревали плоды христианства» [там же, 27]. Российская власть «от Берингова пролива до Одера» всего лишь факт, не проникнутый никакой идеей, чисто географическое, но не цивилизационное явление. В трудах последующих десятилетий Чаадаев приходит к выводу, что эта географическая детерминированность России представляет для нее благо. Рассредоточившись на больших пространствах, русские оказались податливы любой берущей над ними верх власти и в то же время неспособны к творческой координации усилий, которая позволила бы им сформировать выраженный национальный стиль. Отсюда уникальная культурная пластичность русских, их «смиренность», позволяющая им по воле властей принимать различные культурные облики. Точно так же Россия по воле власти приняла облик европейский и настойчиво желает «слиться» с вершиной всех цивилизаций – Западной Европой. В первом «Философическом письме» Чаадаев утверждает, что Россия приняла христианство «из растленной Византии». Позднее, однако, он объявляет особенностью России именно то, что она не наложила на христианство никакого национального своеобразия.
Отсюда главная установка Чаадаева, которую можно определить как предельно футуристическую в отношении к России. Сперва он отрицает наличие у нее какого-либо прошлого и настоящего, связывая ее надежды исключительно с будущим. Позднее, под влиянием исторических штудий 1840-х годов он идет на уступки, однако в целом продолжает настаивать на том, что допетровское прошлое для судеб нынешней России малорелевантно. Он предпочитает исходить из тезиса, согласно которому, русские – просто народ, с предельной пластичностью усваивающий общеевропейские черты (помимо всех «языческих» национальных различий, всплывших благодаря Реформации), народ, утерявший прошлое и традиции, именно как ученик всей Европы способный сыграть особую роль в осуществлении ее судеб. Отсюда мессианство Чаадаева, связанное с идеей отрицания у русских какой бы то ни было отягощающей исторической «самости». Не имеющие «исторической» непреложной необходимости, «рокового давления линии времен», русские «призваны решить большую часть проблем социального порядка, завершить большую часть идей, возникших в старых обществах, ответить на важнейшие вопросы, какие занимают человечество». Они «самой природой вещей предназначены быть настоящим совестным судом по многим тяжбам, которые ведутся перед великими трибуналами человеческого духа и человеческого общества» [там же, 150], «законные судьи по всем высшим мировым вопросам» [там же, 370; ср. 373], призванные «осуществить раньше всех других стран все обетования христианства» [там же, 409], т. е., в конечном счете, до конца реализовать потенции католической Европы, в самой Европе замутненные веяниями «языческого» протестантства и Нового времени. Можно думать, что эта перспектива как-то связывалась Чаадаевым с его программой перехода Европы от господства политического христианства к господству христианства духовного. Русские достигнут этого благодаря своему статусу народа, обретающегося «при Европе».
Важнейшим условием осуществления этой миссии, по Чаадаеву, оказывается отказ от всяких сепаратных национальных целей. «Россия слишком могущественна, чтобы проводить национальную политику; … ее дело в мире есть политика рода человеческого;… император Александр прекрасно понял это, и… это составляет лучшую славу его; … в этом наше будущее, в этом наш прогресс; … мы представляем огромную непосредственность без тесной связи с прошлым мира, без какого-либо безусловного соотношения к его настоящему» [там же, 377]. Отсюда вытекает отрицание политики любых частных европейских блоков для России: «… нам нет дела до крутни Запада, ибо сами-то мы не Запад» [там же]. Но вместе с тем, русским менее всего следует отключаться от дел Запада ради частной национальной политики на Востоке. Правда, европейцы «упорно уступают нам Восток; по какому-то (непонятному для Чаадаева! – В.Ц.) инстинкту европейской национальности они оттесняют нас на Восток, чтобы не встречать нас больше на Западе. Нам не следует попадаться на их невольную хитрость; постараемся сами открыть наше будущее и не будем спрашивать у других, что нам делать. Восток – удел господствующих над морями, это очевидно; мы значительно более удалены от него, чем англичане, и теперь уж не те времена, когда все перевороты на Востоке шли из Центральной Азии. Новый устав Индийской компании – вот отныне действительное цивилизующее начало Азии. Мы призваны, напротив, обучить Европу бесконечному множеству вещей, которых ей не понять без этого» [там же, 379–380]. Россия должна пренебречь всеми интересами, уступить европейским державам весь мир с тем, чтобы самой состоять при Европе в целом в надежде некогда разрешить все беспокоящие Запад вопросы.
В истории развития Чаадаевым этой доктрины был единственный момент, когда он серьезно заколебался: это была Июльская революция, потрясшая основы и принципы Священного Союза, фактически ограничивая сферу действия этого блока Центральной и Восточной Европой, отнимая у него приморье. Первая половина 1830-х для Чаадаева отмечена переживаниями этого потрясения, «отодвинувшего мир на полстолетия назад, спустившего окончательно все социальные идеи», – «этого волканического извержения всей накопленной Францией грязи, выбросившего в свет плачевную золотую посредственность» [там же, 376]. Реакция проявилась в солидарности Чаадаева с пушкинским «Клеветникам России», в заметках по польскому вопросу, где в первый и единственный раз зазвучали выпады против католицизма. В этих заметках он объявляет (точно перекликаясь с декларацией Тютчева через десять лет), что Россия – «политический союз, объединяющий две трети всего славянского племени, единственный среди всех народов того же племени, ведущий независимое существование и на самом деле представляющий славянское начало во всей его неприкосновенности». А поскольку «благополучие народов может найти свое полное выражение лишь в составе больших политических тел», то и «в частности, народ польский, славянский по племени, должен разделить судьбы братского народа, который способен внести в жизнь обоих народов так много силы и благоденствия» [там же, 224]. В эту пору он наиболее дрейфует в сторону «официальной народности». В записке к Бенкендорфу от имени Киреевского он твердит о немыслимости ориентации на новую Европу для России, значительно отставшей от Запада и имеющей особенности в учреждениях, не допускающих заимствований, о необходимости «извлекать блага из собственного запаса»; о невозможности для «великой нации, создавшей себя самостоятельно… удовольствоваться ролью спутника в системе социального мира». Вывод, однако, оказывался поразительным. Чаадаев призывает к «перестройке цивилизации» России «на религиозной основе», а для этого призывает к позаимствованиям «не из внешних сторон той цивилизации, которую мы находим в настоящее время в Европе, а скорее от той, которая ей предшествовала и которая произвела все, что есть истинно хорошего в теперешней цивилизации» [там же, 226–227]. Россия должна обратиться, сказали бы мы, к домодернистским и антимодернистским движениям Европы, сделав на них ставку. Фактически он пытается решить задачу Уварова – как не оторваться от «всеобщей цивилизации, без которой современное общество не может существовать», и нейтрализовать «зародыши всеобщего разрушения». Вывод Чаадаева гораздо более деместровский, чем у Тютчева: развивать в России те черты, которые ее сблизят со «старой Европой» – духовной империей католицизма. Тем не менее, при всех оговорках он обращается к идее российского состояния «при Европе».
Если вглядываться в генезис этого проекта, очевидна та геостратегическая ситуация России, с которой он связан: это именно фаза Священного Союза, как он оформлялся при Александре I и каким он, казалось, существовал до 1830 г. Это тем более очевидно, что в качестве образца поведения в отношении к Западу Чаадаев неизменно указывает Александра, при котором якобы ее отречение от былого преступного одиночества «увенчалось… торжеством самым высоким, невиданным в истории рода человеческого» [там же, 593]. Он прославляет Александра за его «политику рода человеческого», которая «составила лучшую славу» этого императора [там же, 377]. Он уверяет, что любит отечество «по образцу Петра Великого, Екатерины и Александра» [там же, 276], воспринимая политику XVIII в. сквозь призму эпохи 1813–1825 гг. Мы можем сказать, что вся концепция Чаадаева вышла из этих парадоксальных лет, когда формальное величие России как якобы основы европейского благополучия сочеталось с признаками политического паралича, лишившего императора возможности сколько-нибудь самостоятельной политики. Вся эпоха Николая I была поисками выхода из того тупика, который Чаадаев возводит в идеал, связывая пребывание России при Европе с отречением от национальных интересов, с отказом от политики вообще в надежде войти в историю Европы когда-нибудь решением ее задач. Тупик, в котором оказалась политика Александра, полагается Чаадаевым в основание позитивной цивилизационной программы, основанной на принципе «пластичности» России и на ее отречении от своей самости.
Трудность Чаадаева состояла в том, что с середины 1830-х он на протяжении 20 лет вынужден был иметь дело не с противопоставлением «старой» и «новой» Европы, но с доктринами, атакующими новую Европу и одновременно старую: будь то попытки славянофилов противостоять порокам новой Европы во имя проекта, извлеченного из допетровской Руси, или еще более радикальный и обретающий геополитическое измерение план Тютчева, предполагающий ликвидацию самих предпосылок существования христианского Запада ради прорыва в предысторию всех христианских обществ (раннехристианскую, не то позднеязыческую). Все эти проекты предполагали, что у России есть своя история, отличная от западной, и противостояние новой Европе на основе этой истории, в конечном счете – преобразование судеб Западной Европы на основе этой другой истории, – возможно. Чаадаеву приходится вести борьбу против этих доктрин, как видно по его заметкам. То он ставит под сомнение возможность множества цивилизаций, то, опираясь на схематику «Запад» против «Востока», оспаривает попытки трактовать Россию как нечто «третье», то, отталкиваясь от той же, по правде, сугубо схоластической схематики, доказывает немыслимость нового «христианского Востока», и тут же он признает возможность относить Россию к Востоку вообще, ибо «некоторые из наших областей, правда, граничат с государствами Востока, но наши центры не там, не там наша жизнь» [там же, 148]. На фоне этой тотальной полемики, обосновывающей пребывание России «при Европе», стушевываются выпады Чаадаева в адрес «нового Запада» – будь то Июльская монархия или диктатура Луи Наполеона. В конце концов, в этой дискуссии он резко протестует против катастрофизма в оценке «нового» Запада («общество под ударом, но оно защищается, и в этой защите оно просвещается. Оно, несомненно, найдет средство выйти из беды»). В конце концов, для него разрыв между «старой» и «новой» Европой утрачивается. В конце Крымской войны он уже видит в столкновении России и европейских держав – противостояние народа, «который живет лишь со вчерашнего дня» и «цивилизации в ее целом… применяемой, развиваемой, усовершенствованной тысячелетними трудами и усилиями».
В результате он оказывается едва ли не единственным крупным идеологом России, последовательно принявшим сторону западной коалиции в Крымской войне: «Россия, как масляное пятно, все расширяется, и Европа нашла нужным поставить предел этому расширению». Чаадаев, как и Тютчев, и Герцен, не сомневается в том, что это – война за возможность для России «стать вершителем судеб мира», что Европа вынуждена выбирать между сохранением Турции и всемогуществом России. Иначе говоря, это не локальная война для идеологов, а битва за гегемонию России над Европой. Турецкий конфликт – только повод. Суть «Восточного вопроса» в другом: «Россия, не довольствуясь тем, что она как государство входит в состав европейской системы, посягает еще в этой семье цивилизованных народов на звание народа с высшей, против других, цивилизацией… И заметьте, эти претензии предъявляет уже не одно только правительство, а вся страна целиком. Вместо послушных и подчиненных учеников, какими мы еще не так давно пребывали, мы вдруг стали сами учителями тех, кого вчера еще признавали своими учителями» [там же, 271]. Восточный вопрос – это вопрос о цивилизационной гегемонии. Правительство, по Чаадаеву, лишь захвачено волной, поднятой идеологами-гегемонистами, придумывающими для собственного «употребления» фантастический христианский «восток» и не понимающими, что, «обособляясь от европейских народов морально, мы тем самым обособляемся от них и политически» [там же, 276], сталкиваясь с враждебной отчужденностью Запада в целом.
Любопытно, что, перечисляя грехи этой генерации идеологов, якобы втянувших Россию в войну, Чаадаев в том числе перечисляет положения, чрезвычайно близкие к тем, какие еще в 1830-х исповедовал он сам. Они полагают, что «Россия олицетворяла собою некий отвлеченный принцип, заключающий в себе конечное решение социального вопроса», – не он ли писал, что «мы призваны решить большую часть проблем социального порядка»? Они верят, будто «Европа готова снова впасть в варварство и… мы призваны спасти цивилизацию посредством» почерпнутых «крупиц этой самой цивилизации», – не он ли писал Бенкендорфу о «старой» и «новой» цивилизации Европы и о задаче России связать себя со старой цивилизацией? Эти идеологи верят, что на России «лежала нарочитая миссия вобрать в себя все славянские народности», – но писал же Чаадаев о России как «политическом союзе … представляющем славянское начало во всей его неприкосновенности»!
На самом деле, он расходится с критикуемыми им идеологами в том, что они верят в панславизм как путь к «совершенному обновлению ради человеческого», в Россию как «особый мир, являющийся прямым и законным наследником славной восточной империи, равно как и всех ее прав и достоинств» (выпады в адрес Тютчева). Выбор фиксируется так: останется ли Россия гарантом и опорой Европы как она есть, покупая моральное с ней единение отказом от «национальной политики» (ситуация Священного Союза 1820-х), или она устремляется к переустройству той Европы сообразно с неким проектом, архаическим и вместе футуристическим, влекущим за собою переустройство Европы, слияние с нею России и самоколонизацию последней? В том, что любой выход за рамки паралича 1820-х приведет к войне за абсолютную гегемонию России, не было сомнений ни у одного из этих идеологов.
VI
Одним из интереснейших документов этой фазы служит работа видного экономиста И.В. Вернадского «Политическое равновесие и Англия». Успех этой работы в свое время виден по ее издательской истории: сперва опубликованная как серия статей в 1854 г., в том же году выходит отдельным оттиском, в 1855 г. переиздается, а в 1877 г., в разгар русско-английского противостояния переиздается с поправками. Наметившийся у Вяземского и, в общем, укоренившийся в те годы тезис о перерождении Восточного вопроса в «английский вопрос» находит у И. Вернадского виртуозную разработку, которая позволяет видеть в этой книге полноценное произведение русской геополитики.
Задолго до того, как в годы гражданской войны в США возник план «Анаконда» как прообраз определенного типа стратегических сценариев и многим ранее, чем А. Мэхен высказал проект применения этой стратегии в борьбе морской державы с континентальной силой; и еще ранее того, как немецкие геополитики 1920–1930-х и русские геостратеги 1990-х обвинили англосаксонские державы в пользовании этим планом в борьбе с Германией и, позднее, с СССР, Вернадский, по существу, впервые усмотрел признаки подобной удушающей стратегии в политике Великобритании. Для него контроль над морями ведет к «измору» Англией континентов и тем самым являет крупнейшее нарушение мирового равновесия. Важнейший тезис Вернадского – о невозможности для политики ограничиваться европейской почвой в условиях, когда успехи транспорта делают Индию ближе к Германии, чем в былые дни находились к ней Лондон или Константинополь. Книга Вернадского в годы деградации европейского статуса России – первая модель мира, перешагивающая рамки Евразии.
Главный образ – три петли Британского могущества, связующие Англию с Индией, вместе с тем ставя под контроль материки. Самая опасная из этих линий, по Вернадскому, начинается с Гельголанда, контролирующего морское побережье Германии и устья ее рек, через Португалию (британский сателлит с XVIII в.), Гибралтар, Мальту, Ионические острова: эта линия протягивается к Египту. Далее, через Суэцкий перешеек она выходит в Красное море (Сокотора), далее острова у входа в Персидский залив и возле устья Шатель-Араба. Достройка этой линии пойдет через внедрение в Архипелаг и низведение Турции на роль вассального государства, что позволит взять под контроль Дарданеллы и проложить прямой путь от Константинополя до слияния Тигра и Евфрата, т. е. до Басры. С завершением этого строительства Турция, Греция и Италия подпадают под власть Англии, и сама Германия теряет независимость, оказываясь связующим компонентом в этой дуге. «Европа не видит всей опасности; но она не должна забывать хода событий: сперва отделенные далекими пространствами, английские владения в настоящем столетии все ближе и ближе подвигаются к Европе» [Вернадский И. 1855, 37 и сл.]. Вторая линия-петля образуется английскими колониями на западном и восточном африканском побережье. Ее ключевое звено – мыс Доброй Надежды, на Индийском океане ее продолжают острова: Маврикия (Иль-де-Франс) – Сокотора – Сейшельские и Амирантские. Линия третья идет через Карибские островные владения Англии, через Фолкленды и мыс Горн. Помимо этих основных петель дополнительные линии из Австралии (через Борнео) и из Индии (через Цейлон, Малакку, Сингапур) протягиваются к китайскому побережью. Кроме того, Англия через Канаду и Карибы блокирует устье Миссисипи и реки святого Лаврентия, контролируя доступ к океану из района Великих Американских озер.
Очертив макроструктуру Империи, Вернадский мастерски воссоздает ее генезис, отказ от сплошного контроля пространств, захват ударных, узловых <точек>, позволяющих автоматически держать во власти замкнутые на них территории и пути. « Кто научил Англию занимать перепутья, устья рек, острова, удобные для пристаней, как бы пренебрегая остальным?» [там же, 50.] «Она начинает обыкновенно с занятия острова у входа в море… потом укрепляется в узком проливе… далее овладевает устьями главной реки… и портами, и – оттуда проникает глубже и глубже в континент, который и покоряет окончательно» [там же, 61–62]. В Азии «Англия владеет… всеми выходами из морей, а где это по географическому положению страны делается невозможным, там занимает самые берега материка» [там же, 65]. Россия с ее выходом на Тихий океан и в континентальную Азию почти вся охватывается английской петлей, а русский контроль над Беринговым проливом перекрывает один из потенциальных английских путей к Тихому океану. Вернадский первый связал обострение англо-русского противостояния с изменяющейся в середине века конъюнктурой Восточной и Центральной Азии и Тихого океана. «Утверждение нашей власти на Аральском море, события в Китае, близость открытия Японии для мировой торговли, открытие прохода через Ледовитое море вокруг Северной Америки, все это не было ли причиной, хотя скрытой, того ожесточения, которое проявилось против нас в Великобритании?» [там же, 117.] Фактически Крымская война переводится в иной регистр – из войны, отбрасывающей Россию из Европы, она переосмысляется в эпизод борьбы России с европейской силой, действующей за пределами материка, причем заявляется, что в этой борьбе Россия представляет истинные интересы самой Европы, как и Азии, против мирового паразита, обвивающего своей сетью континент извне. Рухнувшее похищение Европы переосмысляется в борьбу континентальной силы с морским разбойником, что позволяет провозгласить решительную перефокусировку ориентальных взглядов на Россию, обязанность руководствоваться не европейскими, но всемирными интересами. Мотив всемирных интересов – предлог к перестройке стратегической картины, освобождение от «магии Европы»; европейское прибрежье – лишь часть пространства, на котором предлагается игра.
Согласно этой картине, «Гельголанд, с одной стороны, Кишм, Маскат и пр. – с другой, должны быть очищены Англиею, если Европа не хочет находиться под полным ее господством. Но важнейшие пункты на этом пространстве, бесспорно, Дарданеллы и Архипелаг». Разорвать систему петель британской геостратегии «едва ли возможно даже для сильной коалиции континентальных держав; но в прямом интересе их не допускать образования третьей, Эвфрато-Константинопольской, которая не существенно необходима для Англии, а может быть гибельною для независимости европейских государств». Дарданеллы, Архипелаг, Ближний Восток – поле интереса России, ключ к ее позиции на юге. «Если Англия имеет право связывать целым миром свои неправильно приобретенные владения, то неужели Россия не имеет такого же права обеспечить свои владения, приобретенные десятивековыми усилиями, слившиеся с нею в одно целое и составляющие прямое дополнение ее?»
Однако это направление, столь высоко ценное в глазах политиков эпохи Священного Союза, уравновешивается с массой иных сегментов океанского периметра. Чуть ли не впервые со времен Павла I Вернадский обращается к плану удара по Индии, причем любопытно, что в отличие от пути через Астрабад и Герат он предполагает при посредстве союзного Ирана сплав российских сил по Евфрату и Персидскому заливу, что должно повлечь дестабилизацию английского контроля над побережьем Старого Света. «Если не будет сделано подобной попытки, то великобританская власть одолеет и Китай, как она поработила Индию» [там же, 70]. Одним из первых русских (за Герценом) Вернадский провозглашает близкое выдвижение Тихого океана в фокус всемирных интересов. «Державы, противодействующие Англии, должны бы поэтому спешить остановить, пока еще можно, наплыв английского элемента в этот океанический мир» [там же, 81]. В этом плане дорога России – завладеть рядом тихоокеанских морских баз для отдыха на морском пути из наших сибирских стран в Европу – направление, смыкающееся с выходом через Евфрат в Персидский залив. Одновременно Россия обязана удерживать выход из Ледовитого в Тихий океан, поддерживая в качестве союзника США. Последним предстоит при поддержке России освободить от британского контроля свое побережье, овладеть пространством Карибского моря с его берегами и островами, а заодно Панамским перешейком [там же, 99–100]. Важнейшая задача – дестабилизировать британскую промышленность, подорвав привоз континентального сырья. Поразительно, что концепция И. Вернадского предусматривает все мыслимые варианты, от использования недовольства в Австралии британским подавлением местной шерстяной промышленности для возбуждения в пользу независимости этого континента-колонии – до вовлечения в антианглийский союз Наполеона III, что дало бы возможность угрожать прямым десантом на Британские острова.
Модель Вернадского – редчайший случай в русской геополитической мысли XIX в. концепции с акцентом на океанах и евроазиатском приморье. Это модель, во многом предвосхищающая советскую стратегию 2-ой половины XX в.: сдерживание на европейском направлении, переход к компенсаторной активности по морским линиям. Редчайшая попытка – моделировать в рамках постулируемого глобального противостояния весь мир без замыкания на континентальном «русском пространстве»; однако достигается это упором на морскую мощь России, проецированием ее интересов и мощи вне ее тотального поля. Россия Вернадского становится мировой силой именно потому, что у нее оказываются крайне ослаблены качества континентальной державы (она обороняет континент, минимально на него опираясь; исключение – Иран и то лишь как плацдарм к Персидскому заливу). Континентальные параметры России присутствуют лишь имплицитно, как чисто оборонительный аспект – как особенности, препятствующие Англии блокировать большую часть российского периметра.
VII Итоги
Итак, тенденции благоприятствуют зарождению геополитических изысканий на нескольких направлениях. Идея самодовлеющего «русского мира», заключающего в себе «все почвы, все климаты», искала себе географического воплощения. Не случайно Надеждин, провозглашая генезис русской «цивилизации», которой предстоит сменить цивилизацию Европы, выступает одним из создателей русской исторической географии. Более того – его «Опыт исторической географии Русского мира» можно рассматривать по праву как первый подступ к структурной географии, как ее позднее понимали евразийцы. Однако симптоматично, что «русский мир» Надеждина по преимуществу сводится к Европейской России (Сибирь остается его внешним довеском), описываясь как система трех возвышенностей – Валдайской, Авратынской (Прикарпатской) и служащей продолжением Скандинавского хребта на русском Северо-Западе, соединяющих их цепей, мотивированной этим рельефом гидрографии. Симптоматично, что «Русский мир» Надеждина предстает территорией, отрезанной от Азии и открытой в сторону Европы. Она «с трех сторон ограничена естественными рубежами, Северным Океаном, Уральским поясом, Киргиз-Кайсацкими степями, морем Каспийским, хребтом Кавказским и Черным морем. Но с четвертой, западной, ее отрезывает от остальной Европы черта условная». Поразительно, что при этом Урал оказывается естественным рубежом, а Карпаты – нет, при той же средней высоте 1000–1200 м и при значительно большей максимальной высоте, чем уральские горы (Карпаты – 2655 м, Урал – 1895 м). «Русский мир» Надеждина с цивилизацией, призванной сменить европейскую, физико-географически развернут к Европе, а исторически он представляет окраину славянского ареала, имеющего эпицентр в Карпатах и три периферийные «Украины» – Днепровскую, Эльбскую и Дунайскую.
Во-вторых, непрерывное присутствие России в Европе становится стимулом к зарождению практической геостратегии, которая трудами Д.А. Милютина утверждается под именем «военной статистики». Впервые на разработки Милютина как подступ к геополитике указал Е.Ф. Морозов, и с ним я полностью солидарен, если понимать под геостратегией дисциплину, обеспечивающую разворачивание геополитических установок в практические сценарии на основе физико-географических, политических, хозяйственных и культурных особенностей определенного пространства. Сформулировав понимание «статистики» как науки, которая «обнимает все разнообразнейшие явления сложного организма политического тела» и при этом, аналитически исследуя разнородные данные, характеризует «действительное развитие известного государства в один лишь данный момент». Военная же статистика, по Милютину, призвана устанавливать это состояние государства, с точки зрения «средств и способов, необходимых в государстве для войны, оборонительной и наступательной». С этой точки зрения, военная статистика призвана изучить «территорию государства, его поселения, его устройство и финансы, его военную систему, а также те части государства, которые могут стать театрами ведения войны». Самые факты статистики перейдут в историю, но сделанный из них вывод, если был верен, останется и для будущих исследований ступенью к новым выводам.
Симптоматично, что крупнейшая практическая разработка Милютина по военной статистике оказывалась посвящена Германии и в особенности Пруссии. Работа вся проникнута видением Германии как оплота европейского мира и ее зарейнских форпостов как гарантий против Франции. Всё сосредоточено на шансах войны Франции против Австрии и Пруссии и обоих этих государств между собою. В работе немало ошибочных прогнозов. Таково предположение, якобы «значительная война в Европе неизбежно будет иметь главным театром своим Германию» (на самом деле первой большой европейской войной стала Крымская, выбросившая Россию с западно-европейского театра, второй – австро-франко-итальянская, устранившая Австрию из Италии, и лишь затем произошла австро-прусская, положившая конец роли Австрии как великой державы; ошибка, связанная с не учетом особенности системы «Европа-Россия» и ее взаимодействия с системой Европы). Тем не менее, эта работа изобилует ценными характеристиками значимости границ с точки зрения тенденций государства. На примерах Швеции XVII в. и Пруссии XVIII-XIX вв. Милютин доказывает, что «не всегда растянутое и даже разобщенное положение территории должно считаться признаком особости государства», так же как защищенность, недоступность для внешнего мира и неуязвимость границы – не всегда благо. Собственно, эти черты выгодны для обороняющегося, а значит, слабого государства, заинтересованного в уменьшении прямого соприкосновения с опасными внешними противниками. Для государства, находящегося на подъеме, растянутость границ, множество соседей и прямой контакт с ними – благо, ибо тем самым создается масса наступательных плацдармов, а уязвимость такого государства для обороны тем более толкает его к наступлению (пример политики Швеции XVII в. с ее владениями в Европе, используемыми для экспансии, и Швеции XIX в., получившей Норвегию, чтобы замкнуться на Скандинавском полуострове). Собственно, с этого вывода начинается русская геостратегия, а сосредоточенность автора на Германии как западном барьере безопасности России отвечает ситуации нашего первого геостратегического европейского максимума.
И, наконец, третье направление русской геополитической мысли в это время – это формирование моделей и проектов евророссийского пространства, как бы снимающих те напряжения, которые несла в себе эпоха. Важно понять, что в эту эпоху влияние геополитической ситуации на идеологию, философскую и политическую мысль не всегда явное. Другое дело, что концепции отношений между Европой и Россией обладают геополитическим субстратом. Это приводит к тому, что подобная подоснова может быть выявлена и у концепций, не имеющих геополитического облика и лишь в отдельных случаях намечающих геополитические решения цивилизационных проблем.
Эпоха Священного Союза, если оценить ее роль в русской истории, уникальна: в это время вырабатываются важнейшие парадигмы нашей идеологии, причем во многих случаях оказывается возможным проследить влияние геостратегического положения России, парадоксального характера ее отношений с Западом в этой фазе, на идеологическую динамику. В это время мы видим появление идеологических проектов, которые могут рассматриваться как опосредованные попытки разрешения и осмысления российской и мировой ситуации (особенно это относится к проектам авторов, занимающих парадоксальную двусмысленную роль в славянофильско-западническом споре: Тютчева, Герцена, Чаадаева). На материале этой эпохи наиболее определенно можно говорить о геополитической детерминированности русской культуры и русской философии, проявляющейся порой в превращенных формах, но иногда, как в случае с Тютчевым, выходящей на поверхность, воплощаясь в философски и цивилизационно нагруженных геополитических проектах.
Главная особенность фазы: Россия с самого начала определяется как одна из лидирующих в Европе сил, основа нового европейского порядка. Александр I полагает принцип этого порядка в доминировании ценностного консенсуса европейских правительств над разногласиями и сепаратными конфликтующими интересами. Мощь России должна была стать гарантией «новой системы». Ради этой конфедерации Россия отказывалась от дестабилизирующих в глазах Европы действий на тех флангах, которые обретались на окраине Европы или даже за ее пределами, оставляя спорные вопросы открытыми на неопределенный срок. В то же время в глазах Запада претензии России на роль столпа европейского порядка (пусть порядка глубоко консервативного) означали складывание нового восточного центра. Таким образом, неизбежно возникает конкуренция между Россией и Австрией за роль восточного центра, в то же время в условиях явного ослабления посленаполеоновской Франции на роль крупнейшей силы западного центра выдвигается балансир – Англия. Впервые возникают предпосылки для ситуации, когда крупнейшие силы Европы нацелены на сдерживание России, в свою очередь притязающей на роль консервативного стабилизирующего фактора. Результатом становилось то, что оплот европейского порядка одновременно становился изолянтом, сдерживаемым порой от Балтики до Каспия. Роль фактически сводилась к моральной легитимации и поддержке сепаратных акций европейских держав, сдерживающих собственные потенциалы и сферы контроля под предлогом европейской стабильности. Между тем, вопросы, которые Россия оставила открытыми, таковыми и оставались, а во время греческого кризиса оборачивались прямым вызовом России – вызовом, поддержанным лидерами Запада.
Такое положение Александр оставил брату, и Николай во всё царствование искал выход. Максимум первой половины 30-х: легитимно устанавливается гегемония в Турции, а диффамация Орлеанской монархии как революционного режима позволяет Николаю притязать на роль гаранта безопасности германских держав, завязав на себя Австрию как подопечную монархию. Тем не менее, принципиальный расклад оставался. Как гарант Европы Россия выступала в глазах последней претендентом на гегемонию, приверженность устоям она вынуждена была подтверждать, снимая вызовы; однако, обнаруживая слабость, она вместе с тем утрачивала европейские функции, оказываясь «выталкиваема» из Европы (что не могло не иметь следствием крушение Австрии в первую очередь).
Соответственно, попытки разрешения ситуации. Несколько направлений. Одно из них представлено декабристами и полное воплощение находит в разработках Пестеля, которые (наряду с публикациями Тютчева) следует рассматривать как подступы к русской геополитике. По основным параметрам можно видеть попытку отстранения из европейской системы: сдвиг столицы в Нижний Новгород, средоточие Азиатских путей – одна из примет. Перечень необходимых восполнений России привлекает внимание геополитическим интересом к казахско-киргизским степям и Монголии и задачей формирования и усиления тихоокеанского флота. Сложнее с проектом царства Греческого: сам по себе этот проект (особенно учитывая аннексию Молдовы и Валахии, неясный момент со статусом Константинополя) выглядел продолжением экспансии XVIII в. Однако его следует рассматривать в увязке с проектом расширения суверенитета Царства Польского. Фактически Пестель предполагает создание сильных буферов на Западе, снижающих (даже сводящих к минимуму) прямые соприкосновения России с германскими монархиями, инкорпорирование в состав России Центральной Азии, создание предпосылок для политики на Тихом океане. Это можно сопоставить с формированием декабристского «гнезда» в Российско-Американской компании и его активностью, фактически приведшей к неудачной попытке в 1819–1820 гг. утвердить статус Берингова моря как внутреннего моря России. Проекты декабристов могут рассматриваться как попытка выхода из тупика, созданного «системой» Священного Союза, на путях евразийской и тихоокеанско-американской политики. Итак, обнаруживается важная особенность евразийской стратегии в эти годы: она предстает своего рода выходом из тупиков, возникающих на западе в пиках нашей фазы С.
В годы Николая восточное направление сохраняет тот же самый смысл. Таковы прощупывание Хивы в 1839 г. В .А. Перовским и постепенный сдвиг в казахстанские степи в 1840-х, прощупывание устья Амура в конце 1840-х и начале 1830-х – это как бы компенсации за тупиковость положения на западе и юго-западе и застойный характер войны на Кавказе. Симптоматично, однако, что в это время не выдвигается сколько-нибудь значимых проектов, акцентирующих восточное направление интересов России. Основное направление – запад и юго-запад, причем главная особенность эпохи в отличие от фазы Е в том, что экспансия на юге непосредственно увязывается в глазах России с собственно европейскими судьбами. Претензии на юге выглядят обходом Австрии с фланга, увязываясь с претензиями на роль покровителя и умиротворителя Германии (позиция, сформулированная Тютчевым в «России и Германии»). Россия как восточный центр, причем центр доминирующий. Такова объективная логика, и эта логика порождает реакцию на Западе. Правительства, формально принимая претензии России на роль гаранта европейского спокойствия, зорко следят за каждым ее шагом. Любая попытка апеллировать к европейским державам ради легитимизации интересов и позиций России на Балканах немедленно оборачивается потерями. Одновременно следует бурная реакция общественности, воспринимающей Россию не просто как реакционную по внутреннему устройству державу, но как силу, наступающую на Европу.
Неизбежно появление идеологов, пропагандирующих миссию России как паневропейской универсальной монархии. Встречная реакция – пафос воссоздания Польши как буфера против России и сплочения Германии. Конъюнктура благоприятствует славянским движениям Восточной и Центральной Европы, улавливающим момент, чтобы поднять престиж здешних народов, играя на две стороны, в конечном счете, заставляя Европу колебаться между трактовкой славянства как буфера Запада против России и восприятием его же как авангарда России против Запада. Страна, не прирастившая новых территорий, воспринимается как грозно напирающая на Запад, порождая у немногих надежды, у многих страх и соображения насчет вариантов отпора. В свою очередь, брожения на этих территориях, интеграция Польши и т. д. – стимул к развитию революционных и консервативных версий славянской идеи, приводящих к тому, что революционеры и консерваторы начинают играть на одной почве, причем революционеры, которым терять всё равно нечего, выдвигают идеи славянского «гроссраума» последовательнее и радикальнее, чем консерваторы (правда, ценою формирования славянского сообщества они считают отказ от монархии, но тем самым только умножается количество аранжировок пан-идеи европейского присутствия). А самое главное – в условиях российского присутствия в Европе славянская пан-идея становится одним из проектов европейского переустройства в целом с формированием новой системы гегемоний (как у Тютчева: славянское доминирование над Германией ради ее преимуществ над Францией). В Европе, в свою очередь, – страхи, противославянская реакция, а с другой стороны – появление текстов А. Мицкевича, то утверждающих славянское братство, то «реабилитирующих» славян в связи с Россией, представляя последнюю псевдославянским туранским образованием.
Очевидно, что постановка вопроса о русской «особости» была стимулирована многими факторами, в том числе русской рецепцией философско-идеологических процессов в Европе. Можно вспомнить замечание Б. Гройса: усвоение гегелевской философии, трактующей Запад как итог истории, поднимало вопрос о роли России: таким образом, эта роль должна была соотноситься с ролью Запада и вместе с тем лежать за ее пределами. Тема жизни, а не мысли, позиция России как иного Запада. Если в таком направлении шла рецепция Гегеля и Гизо, то, с другой стороны, под влиянием Шеллинга была предпринята попытка сконструировать особость России в отличие от Европы. Чаадаев писал, что Россия под влиянием Европы конструировала свою национальность. На самом же деле, конструирование «национальности» в противовес европейскому сообществу в целом неизбежно оборачивалось мотивом не национальной, но цивилизационной особости; преподнесение же этой особости по контрасту и в дополнение к «самости» Запада неизбежно оказывается, вероятно, первой попыткой ухватить особость положения России как сообщества-спутника, цивилизации-спутника Европы. В то же время этот поиск, несомненно, перекликался с особенностями положения России в эпоху Священного Союза, среди которых – формально признаваемая ее роль как важнейшего компонента европейского порядка при отторжении ее от Европы, ее сдерживании, бурной реакции европейских обществ на русское присутствие в Европе, всплеск славянских движений по стыку этих сообществ и т. д. Геостратегия стимулировала искания в плане цивилизационного самоопределения, но более того, идея особого «русского мира» почти сразу же получает географическое воплощение. Во второй половине 1830-х наблюдаем первую попытку интерпретации русского пространства как сбалансированной пространственной структуры (Надеждин), способной послужить опорой для становления новой цивилизации. Симптоматично, что такую структуру Надеждин усматривает исключительно в пространстве Европейской России до Урала, вынося Сибирь за пределы коренного русского мира. Отсюда очевидно, что географическая мысль идет к идее двух автономных пространств-цивилизаций внутри Европы. Собственно, ранний Тютчев, Тютчев «России и Германии», отталкивается от той же позиции, разрабатывая свою схему русской гегемонии в Европе («то мы и это мы же»).
Во-вторых, мы видим, как геостратегическая проблема России собственно проецируется в философию, и здесь обретают важное значение три фигуры, занимающие особое место в споре славянофилов и западников. Герцен – западник, верящий, что русская община – ключ к решению проблем «разлагающегося» Запада. Чаадаев – западник, веривший, что Россия исполнит все обетования христианства и решит все вопросы Европы. Тютчев – славянофил, игнорировавший разрыв между допетровской и послепетровской Россией и рассматривавший Рим как одну из столиц России будущего. Каждый из них (беру Герцена до 1855 г.) предлагал концепцию, которая представляла косвенно или прямо разрешение того кризиса, к которому приходит Россия на вершине своего европейского влияния. Все они убеждены, что назревающее в 1850-х столкновение России с силами Западной Европы в форме локальной войны будет представлять войну России за всеевропейское и мировое владычество.
Двое из них, Герцен и Тютчев, приняли этот вариант. Чаадаев его отверг, возведя фактически в идеал то соотношение между Россией и Европой, которое сложилось при Александре I, и в рамках этого проекта (с поправкой на особый статус России как неевропейского государства, пребывающего на службе Европы), разрабатывая свое видение российского будущего, отвергая те попытки идейного и практического выхода из тупика, которые возникли в николаевское царствование. Герцен и Тютчев одинаково исходят из того, что завоевание Константинополя Россией и превращение его в центр притяжения славянских народов должно быть переворотом в судьбах Европы и России: оба сознают, что подобный ход означал бы полное изменение имперской идентичности, а вместе с тем начало перестройки европейского порядка, изменение отношений между Европой и Россией. Этот общий постулат аранжируется в разных идеологических ключах. Для Тютчева социализм – по преимуществу фактор, разлагающий старую Европу и расчищающий путь к российской гегемонии. Для Герцена Россия проникнута социализмом, и торжество Николая над Европой лишь расчищает путь к социалистическому перевороту на российско-европейском пространстве с освобождением от старых европейских традиций, причем Россия сыграет решающую роль в этом перевороте.
Надо признать, что проект Тютчева заслуживает особого интереса как один из двух (наряду с проектом Пестеля) фундаментальных геополитических проектов России будущего, порожденных этой эпохой. Если концепция России Пестеля – это выход из системы Священного Союза, предвосхищающий будущие разработки наших евразийских фаз (Россия с Центральной Азией, с интересами на Тихом океане, отделенная от Европы буферами Греческого и Польского царств), то Тютчев доводит до предела тенденции эпохи Священного Союза, рисуя образ России с центрами в Константинополе и Риме, инкорпорировавшей Австрию и основную часть Германии, контролирующей судьбы континента… и почти утратившей память об историческом бытии северной России, съеживающейся на периферии панконтинентальной Империи. Ряд моментов, заслуживающих внимания: это проблема статуса межцивилизационных народов, интеграция которых становится промежуточным этапом к охвату Россией всего христианско-средиземноморского мира. И, кроме того, подход к геостратегии как своего рода «машине времени», снимающей особенности цивилизационной «самости» России и Запада, возрождающей, казалось бы, давно ушедшие в прошлое принципы устройства европейско-российского пространства, стирающей его разделения, возникшие в результате тех или иных политических мутаций. Если в одном измерении мы сополагаем имена Тютчева, Герцена и Чаадаева, обсуждая воздействие геостратегии на перипетии русской философии и русского цивилизационного самосознания, то в другом аспекте имена Тютчева и Пестеля представляют два проекта России: России, до предела развившей все тенденции данной фазы, преодолев сопротивление Европы (Россия со столицами в Константинополе и Риме), и, с другой стороны, России, вышедшей из этой фазы как из тупика и выбравшей прямо противоположную стратегию (Россия Пестеля со столицей на Волге). Евразийский поворот определяется в 20-х как альтернатива фазе наползания России на Европу. К этой альтернативе и обратила русских идеологов Крымская война.
Альтернативное видение изнутри русской истории в 1850-х предложил Погодин, сформулировав концепцию маятникового переноса русских политических центров. Первый взмах маятника – смещение центра из Новгорода в Киев. Второму взмаху маятника – движению из Киева через Москву на Балтику, в Петербург – должно отвечать симметричное движение в сторону Средиземноморья, в Константинополь. Причем здесь маятник может остановиться с трансформацией Константинополя из окраины России в центр империи славян, тех, которые «простираются до Адриатического моря, до пределов Рима и Неаполя к Западу, а к Северу до Среднего Дуная и Эльбы» (так что Константинополь оказывается как бы на пересечении меридиональной и широтной осей славянского рассеяния в Европе). Собственно, эту модель сближает с построениями Тютчева и Герцена усмотрение некоего скачка по ту сторону собственно русской истории, с прекращением ее многовековых ритмов, с радикальной переменой отношений Центра и Периферии (вспомним старые, еще киевские поверья конца света, который наступит, когда Греция будет там, где Русь, а Русь – там, где Греция). С другой же стороны, алгоритм перемещения российских центров станет устойчивым компонентом русских геополитических построений: евразийцы XX в. обогатят его, введя в график татаро-монгольские и тюркские центры, и тем самым заставят маятник двигаться внутри континентальной Евро-Азии без уклонений к Средиземноморью (как бы исключая эсхатологические прорывы по ту сторону истории «России-Евразии»; но евразийцы из списка центров исключили Киев и Новгород, объявив их фокусами иной геополитической системы).
Нельзя не отметить, что уже в начале 40-х гг. М.П. Погодин с тревогой в своих заграничных отчетах обсуждает сценарии соединения Силезии, Галиции и чешских земель с Восточной Германией (иначе говоря, собирания значительной части промежуточных территорий вокруг северной, заэльбской окраины германского мира) и с тревогой еще большей – вариант формирования при англо-французской поддержке нового славянского государства, сербо-болгарского, которое, подобно старой Польше, приняло бы на себя роль славянского центра, развернутого против России. Уже позднее, в начале Крымской войны Погодин напишет: «Имея против себя славян, – и это будут уже самые лютые враги России, – укрепляйте Киев и чините Годуновскую стену в Смоленске. Россия снизойдет на степень держав второго класса ко времени Андрусовского мира … Если не вперед, то назад – таков непреложный закон Истории» (также о славянских кафедрах в Бреслау и Бородине как орудиях западной пропаганды против России). Фактически Погодин объединяет славянскую окраину России со славянскими землями, лежащими за российскими пределами, в единый пояс. Если на этих землях создается собственный центр самоорганизации, цепная реакция способна привести к редукции России до ее исходной платформы середины XVII века. У России выбор – редукция или движение вперед ради интеграции всех промежуточных пространств до коренной романо-германской Европы.
Таким образом, проект, который в наибольшей степени мог бы быть оценен как «геополитика славянофильства», по существу, выходит за пределы будь то славянофильства или панславизма. Панславизм в нем оказывается только промежуточной ступенью в развертывании проекта реорганизации Европы и Средиземноморья. Особняком выделяется такая фигура, как М.П. Погодин, с его «Историко-политическими письмами и записками в продолжение Крымской войны». В этих выступлениях, разошедшихся по России в 1853–1856 гг. в тысячах списков, находим целый ряд мотивов, перекликающихся с концепцией Тютчева. Вместе с тем, эти тексты, как и «Письма русского ветерана» П.А. Вяземского, объективно соотносятся уже с иной фазой геостратегического цикла – фазой надлома русского напора на Европу, ее отбрасывания силами Запада и отката. Элементы, несомненно, сложившиеся в годы нашего первого «европейского максимума», пересекаются в этих письмах с элементами уже иной парадигмы, парадигмы Большого Пространства вне Европы, нашего «протоевразийского» хода, отчасти предвосхищенного проектами Пестеля. Поэтому разработки Погодина я предпочту обсудить в следующем разделе, где речь пойдет уже о кристаллизации этой парадигмы русской геополитики.
Глава 5 Первая евразийская эпоха России: от Севастополя до Порт-Артура[35]
Логика стратегического цикла во многом определила восприятие русскими не только самой Крымской войны, но и ее итогов: и здесь опять налицо разрыв между фактами и вкладываемым в них значением. Каковы были итоги войны по существу? Россия теряла кусок земли в Бессарабии; ей, как и Турции, навязывалась нейтрализация Черного моря, где обе стороны сохраняли по нескольку кораблей для береговой службы, зато военным кораблям западных держав в подтверждение Лондонского протокола 1841 г. воспрещался проход через проливы. Вот и весь проигрыш России, которая покрыла себя военной славой в битве со сплоченной Европой, затратившей огромные силы на взятие одной российской крепости.
Смысл этих событий выглядел иначе – едва ли не катастрофически. «После 1856 г. Россия оказывала на европейские дела меньше влияния, чем в любой период после окончания Великой северной войны в 1721 году» [Тэйлор <1958, 120>]. Либерал H.A. Мельгунов, подводя итоги правления Николая I, писал: «У нас теперь нет друзей, нет прочных и естественных союзников: мы предоставлены самим себе, отчуждены ото всех и одиноки» [Мельгунов 1974, 73]. Б.Н. Чичерин расценивал войну как катастрофу, которая «разорвала союз царя с народом, окончательно опозорила царствование, которое без того могло бы гордиться внешними успехами и внешним могуществом» [Чичерин 1906, 153]. В некоторых публикациях середины 1850-х сквозит трактовка Парижского мира как перемирия, за которым продолжится западный натиск, нацеленный на уничтожение России, – но изредка проскальзывают надежды на то, что возобновление войны может стать для Империи отыгрышем [Погодин 1874, 351. Мельгунов 1976, 141–143]. Россия по состоянию на 1855–1856 гг. расценивается как страна, выпавшая из круга великих держав. Мельгунов пишет: «Россия, слава Богу, не Турция, даже не Австрия; ее не сотрешь с карты Европы и Азии; она всегда будет стоять во главе – если не первенствующих, то, по крайней мере, второстепенных держав, а это чрезвычайно много» [Мельгунов 1976, 141–142] (ср. с сегодняшними суждениями о России как «региональной державе»).
Рядом с мотивами «перемирия» и «нисхождения во второй разряд» в ряде выступлений звучит мотив «окукливания» страны ради «внутренней работы». Цитировать Герцена, Погодина или Мельгунова на сей счет можно без конца. Уходящий в отставку канцлер КВ. Нессельроде пишет о том, что «внутренняя работа является первой нуждою страны, и всякая внешняя деятельность, которая могла бы тому препятствовать, должна быть тщательно устранена. … Политика наша … может допускать возможность войны, но лишь в том случае, когда будет сознательно явствовать неуклонная необходимость или явная выгода оной для России» [Нессельроде 1872, 341]. Как и в конце 1980-х, лозунг «национальных интересов» звучит «трубным зовом почти изоляционизма». Преемник Нессельроде А.М. Горчаков синтезирует эти настроения в нашумевшей формуле «сосредоточивающейся России» (la Russie se recueille), каковую формулу, кстати, современники охотно переводили: «Россия задумывается» («собирается с мыслями»).
Что же происходит в эту пору «собирания с мыслями» – с геополитической мыслью России?
I
Объективно фаза сжатия Парижским миром исчерпалась. На рубеже 1850-х и 1860-x гг. видим новые явления: на юге – замирение Кавказа, прокладка железных дорог к Черному морю, на востоке – использовав англо-французскую войну против Китая, Россия, как «добрая посредница» и «защитница» Китая, утверждается на Амуре и в амуро-уссурийском междуречье. В 1857 г. иранский шах с российской подачи вновь пытается наступать на Герат, всполошив англичан угрозою Индии. И всё же до середины 1860-x психология и идеология эпохи отмечены духом фазы D (фазы сжатия): брожение и революционный террор в Польше; наконец, восстание здесь, перекинувшееся в Литву и Белоруссию; английские поставки оружия мятежным кавказцам; попытки снаряжения польских отрядов в помощь силам Шамиля; демарши западных держав с угрозой признать поляков-повстанцев воюющей стороной – всё создавало картину продолжающегося расшатывания западных и юго-западных границ Империи агентурой европейских держав при поддержке последних. На Тихом океане маячили в Цусимском проливе английские корабли, а Русская Америка пребывала под давлением со стороны Британской Канады.
Политика Горчакова вся проникнута духом фазы D. Эта фаза определила тот курс, к которому позднее канцлер пытался адаптировать совершенно новую конъюнктуру, обозначившуюся со второй половины 1860-x и на протяжении 1870-х гг. сперва толкавшую Россию к азиатской экспансии, а позже как бы дававшую шанс нового «возврата в Европу».
Настроение этой фазы предельно отчетливо выразила знаменитая горчаковская депеша от 21 августа 1856 г., где прозвучали слова о «сосредоточивающейся России». «Сообщества тех, кто много лет вместе с нами отстаивали принципы, коим Европа обязана более чем четвертью века мира, – этого сообщества больше нет в прежней его целостности. Не по воле нашего августейшего повелителя возник этот результат. Обстоятельства вернули нам полную свободу действий. Император решил по преимуществу посвятить свое внимание благополучию своих подданных и сосредоточиться на развитии внутренних ресурсов страны, обращая свою активность вовне только тогда, когда этого будут абсолютно требовать позитивные интересы России. Что касается молчания, в котором нас обвиняют, мы могли бы напомнить то искусственное возбуждение, которое недавно организовывалось против нас…. На той охранительной деятельности во благо правительств, из которой сама Россия не извлекла никакой выгоды, спекулировали, чтобы обвинить нас в стремлении к невесть какому универсальному владычеству. Мы могли бы считать, что нашим молчанием напоминаем об этих обстоятельствах. Но мы не верим, что такая поза приличествует державе, которой Провидение отвело в Европе место, занимаемое Россией» [Сборник 1881, 5 (2-я пагинация)].
Тут весь Горчаков: попытка «оставаться в Европе», не «обращая активность вовне» и не рискуя новыми кризисами. Язвительный генерал-майор М.И. Венюков по праву писал о том, что за броской формулой «сосредоточения России» скрывалась обостренная осторожность. Именно она побуждала Горчакова праздновать Пекинский договор 1860 г. не как блестящую компенсаторную экспансию Империи, но как улаживание спора на востоке, завязавшегося одновременно с кризисом на западе. Она побуждала его трактовать судьбу проливов и Балкан как предмет общеевропейского надзора, воздерживаясь от всякой спонтанной российской активности – вплоть до готовности в 1876–1877 гг., когда Балканы полыхали антитурецким восстанием, оставить воюющих их собственной участи. Она же будет толкать его к замирению с Англией в Средней Азии, к попыткам сконструировать здесь в переговорах конца 1860-x – начала 1870-х некий буферный пояс. Этот пояс предотвращал бы столкновение, а значит, не позволил бы использовать редкие изначальные успехи России ради давления на Англию в новой балканской игре, но Горчаков к такой игре и не стремился.
Собственно, успехи Горчакова были связаны либо с защитой тех позиций, на которых оказалась Россия с 1856 г. (отпор европейскому демаршу по польскому вопросу), либо с демонстративным исправлением неких ущемлений России, не предполагающим какого-либо «проецирования мощи» с ее стороны (негоциации 1870–1871 гг., когда Горчаков отыграл формальное право России на черноморский флот, – но в обмен на право Турции по желанию пропускать в Черное море флоты своих европейских союзников).
Идеологи эпохи первой «евразийской интермедии» по-разному переживают это время. В статьях Погодина первой половины 1860-x звучат одни и те же навязчивые темы: вооружение Европы; крепнущий турецкий флот; план Наполеона III (вернувшегося к идеям Людовика XV и Талейрана) развернуть Австрию на восток, превратить ее из европейской державы в «восточное царство» (Ost-Reich), защищающее европейский вход от России; доступ Англии к Черному морю – «Милости просим хоть в Одессу, которая, кстати, получает более и более польский характер и готова соединиться железными дорогами с Польшей». По сравнению с погодинской публицистикой Крымской войны новые статьи поражают концептуальной бедностью, при общем лейтмотиве: Россия «упала с высоты своего величия и очутилась вдруг среди держав второклассных и третьеклассных и не смеет говорить там, где Англия и Франция, даже Австрия решают дела, лично до нее касающиеся, не только посторонние» [Погодин 1876, 136, 140, 153, 165, 335–336].
Иначе адаптируется к новой эпохе Тютчев. Опираясь на свой миф «Великой Резни народов», которая должна разыграться без участия России и открыть путь к созиданию «другой Европы», он приветствует созревающее противостояние Пруссии и Франции. Он усматривает в «первой сознательной племенной войне между составными частями Европы Карла Великого» – «первый шаг к ее разложению» и начало «мирового поворота в судьбах Европы Восточной», отговаривая в специальной записке Александра II от любых попыток умиротворения; но живя ожиданием «взрывов», надеясь на одновременную комбинацию взрыва «восточного» на Балканах со взрывом «западным» в сердцевине романо-германской Европы, он готов примириться с длительным фактическим пребыванием России вне европейского пространства. «В интересе всей Восточной, т. е. Русской, Европы самое желательное – продлить еще на несколько лет этот тлетворный мир, так сильно содействующий процессу разложения, – а без полного, коренного разложения нельзя будет приступить к перестройке. Не в призвании России являться на сцене как deus ex machina. Надо, чтобы сама История очистила наперед для нее место». Так, жаждущий «взрывов» Тютчев оказывается союзником «сосредоточенного» Горчакова, конструируя сюжет-компромисс между идеалами и реалиями, в рамках которого самоотстранение России от мировой (европейской) игры становится необходимо в видах полного, коренного и т. п. «разложения» западного миропорядка и «расчистки сцены»
Между тем, поднимается генерация популярных публицистов, как бы открыто брезгующих внешней проблематикой, демонстративно сводящей вопросы России к внутреннему обустройству, просвещению и благосостоянию. Чернышевский недоумевает: как возможна борьба с Западом? Запад хлопочет о лучшем устройстве человеческого общежития, как же с ним бороться? Неужели средневековые порядки утверждать? На все декларации о славянах – естественных союзниках России (сейчас бы сказали – ее естественном Большом Пространстве) – он отвечает, что коли война, не дай Бог, подвернется, союзником послужит тот, кому в данный момент будет с Россией по пути, а так-то войны с ее хозяйственными осложнениями и напряжением общественного организма лучше загодя не планировать. В том же духе заверяет Добролюбов, что исламистская проблема на Кавказе возникла только от русских грубостей и бестактностей, но просвещение и благосостояние всё поправят. Все проблемы России как бы становятся разрешимыми внутри нее, по ходу внутреннего совершенствования, без каких-либо планов, нацеленных на внешний мир (видение вполне горчаковское).
Как часть новой ориентировки, порожденной фазой сжатия, но вместе с тем несущей в себе потенциал «евразийского поворота», формируется русское, особенно сибирское, областничество. Любопытны позднейшие воспоминания Г.Н. Потанина об обстановке, в которой оно поднималось. Выступления Костомарова и Щапова с планами федерализации России в условиях подготовки Земской реформы 1864 г.; взволнованная среда образованных провинциалов, уверяющихся, что «каждая область должна иметь интеллигенцию, которая должна служить местному населению»; споры в Русском географическом обществе 1860-x насчет правомерности вкладывания средств в развитие Сибири, которое, мол, неизбежно приведет к ее отпадению; при этом академик Бэр доказывает, что отпадение земледельческих колоний – дело естественное и не вредящее метрополии, а Великий князь Константин Николаевич уверяет: «Сибирь – не колония, а расширение государственной территории» [Потанин 1907, 16]. Дискуссии переходят в практическое поле, создается «Общество независимости Сибири», участник его арестовывается с листовками, следуют разгром и судебный процесс. От тех лет остались забавные стихи в одном из писем юного Потанина: «Пора провинциям вставать, / Оковы, цепи вековые / Централизации свергать, / Сзывать Советы областные» [Потанин 1987, 61].
Позднее, переосмысляя те годы, Потанин напишет о чисто территориальных предпосылках сибирского областничества, коренившихся в особенностях коммуникаций Европейской России и Сибири. «Чувство, вызвавшее эту идею, нужно искать в умах сибирского крестьянства. … Сибирское население не могло не чувствовать, что оно живет вдали от остального русского мира. Оно не входило в район той сложной системы взаимных общений, которую экономическая жизнь создала в Европейской России. … Сибирь входила в общение с этой округленной сферой только по одному направлению – с востока на запад (и обратно с запада на восток). … Если в Сибири тоже была сеть перекрещивающихся торговых путей, то это была самостоятельная сеть, независимая от сети европейской России, потому что у Сибири был свой север, отдельный от севера европейской России, и свой юг, отдельный от юга европейской России» [Потанин 1907, 8-ю]. Формулируя основные идеи для особого государственного статуса Сибири, Потанин вводит в перечень черты геополитические: «Отсутствие дворянства, оторванность от великорусских традиций, индивидуализм в сельском мире; распыление земельной общины и tabula rasa в сфере землеустройства, нахождение в крае многочисленных некультурных рас, другие физические условия, другой климат, другая природа, другое направление рек, другие морские берега и другие заграничные соседи, – всё это поводы к тому, чтобы сибирское хозяйство, сибирские финансы были выделены из общеимперских» [там же, 60].
Тема областничества в то время обретает двоякий политический смысл. С одной стороны, областники исповедовали мнение, что «чем обширнее территория, тяготеющая к одному центру, тем остальное пространство обездоленнее и пустыннее в культурном и духовном отношениях» [там же, 61–62]. Уже в 1870-х, после отбытия ссылки Потанин напряженно занимается опытами – складывания местных центров, местных ресурсных потоков, на которые резко возникает общественный спрос в пореформенных условиях. Тезис Потанина о неизбежности конфликта сибирского населения не только с правительством, но и с могущественной буржуазией Европейской России толкает его к рассмотрению в письмах и статьях проблем капитализма, как и проблем Империи, с точки зрения отношения центров и опустошаемых, «высасываемых» ими окрестных пространств – подход, предвосхищающий построение «миросистемников» и неомарксистской географии XX в.
С другой стороны, современники связывали областничество, отнюдь не только сибирское, с выпадением России из большой европейской игры, с ослаблением западной фокусировки. Достоевский в 1870-х прямо объяснял областническую волну тенденцией к «закрытию европейского окошка» российским политическим откатом из Европы и последовавшим затем снижением значимости столиц как центров, имеющих якобы исключительный и прямой выход в европейский мир. И. Аксаков даже в 1880-x будет приветствовать областничество как надежную опору почвенничества и противовес западничеству столичных кругов. Надо признать: отступление из Европы, пафос «сосредоточения», лозунг национальных интересов как «трубный глас почти изоляционизма» и встречное повышение массового интереса к внутренней геополитике, к вопросам самоуправления и федерализации, возрастающее внимание к зауральскому сибирскому массиву, споры о его будущем и его значении в русской истории, переходящие в революционные планы и ответные репрессии, – вся эта констелляция ярко характеризует фазу «сжатия» России после «европейского максимума» (фаза D) при ее переходе в собственно евразийскую интермедию, а в какой-то мере и последнюю в ее развертывании, переплетаясь с попытками созидания российского пространства вне Европы. Показательна в этом плане личная судьба Потанина – активист зауральского областничества с 1860-x, разработчик вопросов российской локальной (краевой) геоэкономики в начале 70-х, с конца 70-х по 90-е он выступает сперва участником, потом организатором прославленных экспедиций в Туву, Монголию, Тибет, застенный Китай – одной из знаковых фигур первого азиатского крена Империи.
II
Симптоматично, что в ту пору сильным раздражителем русской мысли становятся сочинения такого автора, как польский эмигрант Ф. Духинский. Публиковавшийся с 1840-х, сам Духинский видел в себе продолжателя идей, выдвинутых А. Мицкевичем в его парижских лекциях после краха польского восстания 1830 г. В этих лекциях Мицкевич трактовал русских как славянское племя, «погибшее» или роковым образом мутировавшее под влиянием впитанных им финских и татарских (туранских) компонентов и сохранившее со славянским миром лишь лингвистическую связь. По словам А. Гильфердинга, Мицкевич видел в современных русских «массу», проникнутую «духом монгольского племени», «духом рабства и разрушений» – т. е. духом «противославянским» [Гильфердинг 1868, 63]. Эту эмоциональную схему Духинский переработал в целую доктрину столкновения «арийского» и «туранского» (по-современному, урало-алтайского) миров, с фронтиром между ними по рубежу Днепр – Западная Двина. Славяне оказываются на краю «арийского» европейского пространства; по ту сторону фронтира им противостоит лингвистически ославянившееся племя «московитов», сохранившее азиатскую традицию боготворения царской власти (по Духинскому, tsarat). Доктрина Духинского выпячивала историческую роль украинцев, или «рутенов», как крайнего на востоке чисто славянского племени, в первую очередь принявшего на себя давление московитов и подпавшего под их власть. Духинский допускал мирное сосуществование «московитов» в случае сознательного и четкого размежевания их географических пространств. Как писал один его поздний поклонник и популяризатор, «московиты в настоящее время должны выбирать между двумя судьбами: или они становятся в авангарде Европы … против азиатских орд, чтобы их задержать и отбить в Азию, или они становятся во главе самих этих орд, чтобы руководить ими и направлять их в нашествии и в оккупации ими всей Европы» [Pret 1892, XX]. Последний вариант – это собственно схема из «Завещания Петра Великого». Первый же связан с разворотом «Московии» прочь от Европы вглубь Азии. Россия становится азиатским «авангардом Европы», если откажется от присутствия в европейском мире. Надо отметить, что если лекции Мицкевича не получили никакого отклика в российской идеологии времен нашего первого европейского максимума, то в 60-х реакция на Духинского впечатляет: на него откликаются Костомаров, Погодин, Данилевский, СМ. Соловьев, А. Гильфердинг, причем последний в этой связи вспоминает и о первоисточнике Духинского – Мицкевиче.
Нелепости у Духинского налицо: чего стоит его мысль, якобы нашествие Батыя было спровоцировано продвижением древнерусских князей (славян-рутенов) в бассейны Оки и Волги, на земли будущей Московии, – и монголы якобы шли на помощь еще не ославянившимся предкам московитов! Однако раздражающие фантазии Духинского оказались слишком актуальны: развернув схему столкновения европейской и российской цивилизаций, этот автор выдвинул тезис об особом неевропейском русском пространстве не где-то за Уралом, а по восточную сторону того самого двинско-днепровского барьера, который в Крымскую войну рисовался Погодину и многим другим пугающей линией рокового максимального отката России к допетровским пределам. Сделав упор на «туранских» элементах русской истории, Духинский подкапывался под идею «1000-летия России», объявляя ее значительно моложе и вместе с тем заявляя об особом генезисе цивилизации на российских пространствах, лежащих вне славянского окраинно-европейского ареала. Позднее Пыпин отметил, что Духинский прямо сомкнулся с атаковавшими его поздними славянофилами в ключевой идее цивилизационного размежевания двух миров; спор, собственно, шел о том, по какую сторону фронтира быть славянам, не входящим в цивилизационное ядро Великороссии. Если по русскую – разлом пойдет по линии Данциг-Триест, если по европейскую, как у Духинского, – то по линии двинско-днепровской. В этой полемике, как раньше в текстах Тютчева, вырисовывалась широкая полоса на входе Европы, в пределах которой могут конструироваться разные варианты расширения и сжатия «русского пространства» на Западе и, напротив, западноевропейского на Востоке.
Очень любопытны интеллектуальные «встречи» Духинского с популярнейшим в конце 50-х и начале 60-х Герценом. Последний, сохраняя веру в «новый» славянский мир, противостоящий враждебной ему «старой» Европе, после Крымской войны великолепно переработал эту установку применительно к новому раскладу. Если в частных письмах он обзывает сочинение Духинского «белибердой», то в работе «Россия и Польша», оформленной как послание польским эмигрантам, он с уникальной духовной переимчивостью обыгрывает мотивы польского «фантазера». Оттолкнувшись от старого тезиса об «обманчивом сходстве правительственных форм» России и Запада, подстроенном под культурным и бытовым разрывом, он солидаризируется с корреспондентом в том, что лучше и естественнее было бы славянскому миру разделиться на две отдельные части: т. е. по одну сторону была бы Россия – славяне, смешанные с чудью и туранскими племенами, по другую – Польша и старые славяне (т. е. южные. – В.Ц.). Призвание и поприще первых – «огромные плоскости Азии до Тихого океана». Назначение других – «отпор германскому владычеству и завоевание Турции» [Герцен XIV, 39]. Согласившись с этой доктриной, отводящей европейским славянам роль заслона Европы от России (балтийско-босфорского), Герцен признает: «России действительно главное дело дома и в Азии». Смакуя оценку России как «плохого славянского мира с примесью чудских и туранских элементов», он восклицает: перед европейским цивилизационным тупиком «едва ли не придется нам также благословить „чудские и туранские“ элементы, попризадержавшие наше „старославянское“ развитие» и позволившие теперь нам выбрать неевропейский цивилизационный путь [там же, 57]. Он верит, что лучшим для русских поляков вариантом был бы свободный союз, крушащий Австрию и освобождающий западных славян. Но он готов признать и независимую Польшу, если она «действительно больше принадлежит к старозападному миру и хочет рыцарски делить его последние судьбы» [там же, 59], и даже независимую Украину [там же, 21]. Иначе говоря, его веру в азиатско-тихоокеанские перспективы России не смущал бы и днепровско-двинский барьер.
Еще в 1853 г. он отчеканил формулу о «Тихом океане – этом Средиземном море будущего», на два года отстав от высказавшего подобную же метафору Маркса и на 40 с лишним лет опередив Ф. Ратцеля. Последний сам едва ли не почерпнул ее во время поездок в Америку из тамошней прессы, где, по данным Герцена, этот афоризм со ссылкой на русского мыслителя муссировался в 1850-х. Сопоставление американской и русской колонизаций в «Былом и думах»; раздумья в «России и Польше» о ненужных Европе двух странах, которые «нарождались по сторонам ее, как два огромных флигеля»; особая статья «Америка и Сибирь» на тему русско-американской встречи «по ту сторону» европейской цивилизации – все эти контексты тяготеют к идее тихоокеанского союза двух миров, оторвавшихся от бонапартистской Европы. Итоги Крымской войны им рассматриваются как конец петербургского «осадного положения» – кошмара российского псевдоевропеизма. С тем же пафосом, с каким он раньше предрекал в победе Николая I над Западом прорыв России по ту сторону петербургской эпохи, он пишет в 1858 г.: «Если Россия освободится от петербургской традиции, у нее есть один союзник – Северно-Американские Штаты». Он прославляет Муравьева-Амурского и Путятина: «Во время мрачных европейских похорон, где каждый что-нибудь оплакивал, они с одной стороны, американцы с другой, сколачивали колыбель» [Герцен XIII, 399, 403].
Образцом совершенно иной, глубоко продуманной и пережитой реакции нам предстают сочинения знаменитого панслависта 1860-x и 1870-х генерала P.A. Фадеева. Он ясно различает две России, причем первой, опорной для него оказывается вовсе не наличная Империя, как для Тютчева, но «коренная Россия, от Днепра до Тихого океана, Россия царей и Екатерины II». Ей, как единый феномен, противопоставлена «Россия настоящего и будущего, одолевшая Польшу и воссоединенная, единственная ныне представительница, в глазах света, славянского племени». В условиях Империи ядровая, коренная Россия «неприкосновенна для внешнего врага» – и в том ее преимущество перед всеми европейскими державами, у которых национальное ядро не окутано такой защитой. Вся западная граница Империи (от Балтики до Черного моря), по Фадееву, «не иное что, как произвольная черта, которая может так же легко отодвинуться далеко назад, как и выступить вперед, смотря по обстоятельствам и умению пользоваться своими средствами» [Фадеев 1889–1890, 32]. Эта неопределенность границ Империи на западе для него – неизменное состояние с момента ее выхода за пределы «коренной России»: «С того времени как Россия … выступила из пределов чисто русского племени … и вдвинулась в чересполосицу восточного края средней Европы, славянского по населению, немецкого по официальной окраске, западная ее граница стала произвольной и случайной чертой, зависящей от первого крупного политического события». У этой границы масса откатится назад к российскому «ядру», что вело бы к поглощению славянской «породы» – «породою» немецкой, хотя промежуточной ступенью на этом пути может быть формирование с западной подачи «славянского союза помимо России» [там же, 244, 313].
Итак, выбор зависает между редукцией Империи к «ядровой» России или созданием по этнолингвистическому критерию на западе панславистского Большого Пространства. Каждое из этих решений явится самоопределением России, пока застывшей в цивилизационной неопределенности. «Что мы выиграем нравственно с восстановлением славянского мира? Мы выиграем то, что будем знать, кто мы и куда идем» [там же, 319]. В случае неблагоприятного решения, «такого решения, которое перенесет вопрос с наших внешних окраин на внутренние окраины» [там же, 293], «коренная Россия» – прямо по Духинскому и со ссылкой на него – определится как фрагмент исторически ушедшего туранского мира: «или мы – славянство с его будущим, или мы – Туран, незаконное вторжение прошлого». «Славянство или Туран – другого выхода нет» [там же, 326]. В отличие от Духинского Фадеев не считает Россию исконным Тураном, пытающимся поглотить славянскую окраину Европы, но это некая нестойкая восточная часть славянства, которая будет обречена на «туранизацию» в случае, если не сконструирует и не утвердит себя по-иному через панславистскую сборку. Для Фадеева, Туран – исход без будущего (почему – он не детализирует). Единственный для нее способ обрести будущее – на путях осуществляемого размежевания двух великих «пород»: славянской и немецкой.
Переходя с уровня геополитической имагинации к геостратегии, от постулируемых для России ценностей и интересов к практическим целям и задачам, Фадеев прежде всего настаивает на радикальном изменении смысла так называемого «Восточного вопроса»: «От прежнего восточного вопроса осталось одно название; всё прочее – сущность и размеры стали иными» [там же, 249]. Если за точку отсчета принимать конец XVIII в., когда Восточный вопрос связывался с «турецким наследием», то «расширение вопроса» связывается исключительно с меняющимся положением Австрии, слабеющей и отчаянно пугающейся за свои славянские владения[36]. «Английский аспект» проблемы мало интересен для генерала: британский флот – слабая помеха для наступления на Балканы со стороны континента. Главной препоной для интересов России становится Австрия, держащая в руках ворота между юго-восточным углом Карпат и устьем Дуная, нависающая с тыла над театром любой российской балканской кампании. Отказавшись уже в 1853 г. быть континентальной опорой России, она содействовала антироссийской коалиции в осуществлении ее замыслов со стороны моря. Занимая центральное положение в балтийско-балканской полосе, Австрия полностью контролирует все действия России в интервале между российским ядром и коренной Европой. Кроме того, как свидетель австро-прусской войны, Фадеев констатирует: с утратой собственно европейской роли Австрия становится по преимуществу развернутым в неевропейские пространства европейским (германским) авангардом, получающим в этом качестве полную поддержку нового, северогерманского центра коренной Европы.
В отличие, как увидим, от Данилевского Фадеев понял сразу, что задача Бисмарка – не только формирование германского национального пространства, но и сохранение контроля немецких центров над восточными пределами Европы – над Балканами и Балто-Черноморьем. Даже тогда, когда Бисмарк субъективно, может быть, и искренне выражал готовность считать проливы достоянием России, Фадеев предсказывает будущие попытки включения в германскую зону турецко-славянских и румынских областей, становление сперва германо-турецкой, а затем и прямо германской гегемонии на Черном море (опережая историческую динамику на 40 лет). В таких условиях Восточный вопрос в старом смысле по стратегическим обстоятельствам становится «южной половиной славянского вопроса», в рамках которого главным фокусом на первых порах должна стать не задунайская, южнославянская группа, а северная, центрально-европейская: чехи, словаки, поляки[37].
Восток Центральной Европы должен стать главным направлением атаки, причем должна считаться «главным врагом никак не Западная Европа (франко-английская. – В.Ц.), а немецкое племя с его непомерными притязаниями (в Балто-Черноморье – В.Ц.)» [там же, 296]. Контуры будущей Антанты как бы прорисовываются в указании Фадеева на то, что при глубочайшем российско-европейском расхождении и противостоянии «от России ни в каком случае не зависит создать союз» в Европе. «Россия может только пристать к одному из двух лагерей, на которые по временам делится Европа» [там же, 269]. Чтобы избежать «пути в Туран», Россия должна быть готова к сближению с тем лагерем в Европе, который стерпит ее контроль над выступающей как стратегическая целостность полосой от Балтики до Балкан, вплоть до границ немецкого племени.
Фадеев забыл, что Восточный вопрос получил новый смысл по сравнению с XVIII в. уже при Николае I, когда он зазвучал как вопрос русской гегемонии над восточным центром романо-германской Европы, а через него и над этой цивилизацией в целом. Для него как геополитика это – вопрос размежевания России с Европой, причем размежевания на преимущественных для России условиях, исключающих ее «сползание в Туран». «Воссоздание славянского мира значит ли всемирное преобладание? Конечно, нет; но первенство в Старом свете – да!» [там же, 318.] Славянская независимость есть, прежде всего, подручное средство конструирования пространства, обеспечивающего как культурное самоопределение, так и безопасность российскому ядру. «В наше время, когда Европа поделилась на несколько огромных масс, когда лишь тот имеет право на отдельное существование, кто выставляет полмиллиона солдат, когда даже старые государства, как Голландия и Швейцария, начинают бояться за свое будущее, что значит международный щебень, каковы чехи, хорваты и другие?» [там же, 290.] При этом дело не просто в полумиллионах солдат. «Первенство между народами решается теперь не на поле битвы, а географическим их положением» [там же, 318], – и панславянское решение обеспечит такое положение для России вместе с безопасностью ее ядра «от Днепра и до Тихого океана».
Подобно Герцену, Фадеев видит в САСШ партнера России по обустройству будущего миропорядка, совпадая с издателем «Колокола» почти что в словесных формулировках. «По окраинам Европы – в Америке и в России – выросли два новые, живые человечества, не замкнутые в тесной перегородке, как европейские нации, но разливающиеся без препятствий по необозримым горизонтам, растущие без меры во все стороны, насколько станет у них естественного роста» [там же, 318–319], обрекающие романо-германские старые нации на второразрядные роли сравнительно с восточными и западными соседями.
Несомненно, что «доктрина Духинского» при всей фантастичности ее исторической подоплеки всерьез спровоцировала русских авторов на вопрос о том, что такое пространство России вне коренной романо-германской Европы. Герцен и Фадеев отчеканили два варианта ответа. Оба приняли границы «ядровой» России по Духинскому – «от Днепра до Тихого океана» – без обозначения южных пределов. Герцен принял трактовку русских как «плохих славян, смешанных с чудью и финнами», и отвел им место – «дома и в Азии» при условии возникновения между ними и старой Европой славянского пространства, охватывающего часть Турции и сопротивляющегося германизации, с его обитателями, «рыцарски» разделяющими судьбу Европы. Для Фадеева немыслимы ни отступление России с балто-черноморского перешейка, означающее слияние с миром «отживших» племен, ни особый славянский союз между Россией и Европой, который ему видится переходной стадией к германизации Балто-Черноморья, включая Черноморский бассейн.
Два ответа российской геополитики Духинскому, представляя два разных видения русского пространства, вторили двум бросавшимся в глаза русскому середины 1860-x новым феноменам российской общественной жизни и политики: бурной активности создаваемых с конца 1850-х «Славянских комитетов» и в то же время поступающим сообщениям о стремительном расширении Империи в Центральной Азии. В этой первой части нашей протоевразийской фазы российская внешняя политика объективно обретает два фокуса, каждый из которых охватывает по-своему старый Восточный вопрос, придавая ему особую интерпретацию: в одном случае он представал как «вопрос австрийский», в другом – как вопрос английский по преимуществу.
III
С первых же лет мощного наступления России – пока между Каспием и китайским Восточным Туркестаном – начинаются попытки его истолкования в диапазоне от весьма наивных до крайне рафинированных, внесших в нашу геополитику богатый взнос. Продолжаются эти истолкования и по сей день.
Можно ли согласиться с версией, трактующей этот «натиск на юг» как изначально продуманное покушение на Британскую Индию? Я не говорю о дилетантских историософских экзерсисах, когда в одну схему грез об Индийском океане укладываются и народные сказания о богатой Индии, и «Хождение» Афанасия Никитина, и мечты Петра I, и куцый бросок Павла I, и т. д. вплоть до контактов Л.И. Брежнева с И. Ганди. Авторы подобных истолкований оказываются беспомощны перед вопросом: почему эта «индийская тяга» у русских могла никак не обнаруживаться в течение целых веков или, по крайней мере, десятилетий, не проявляясь ни между Петром I и Павлом I, ни в царствование детей Павла. Однако даже у весьма квалифицированных экспертов встречаем утверждение о Средней Азии как маловажном самом по себе интервале русского броска к Индии [Замятин 1998; 1999]. При этом не учитываются совершенно противоречащие такому толкованию свидетельства от 1860-x и 1870-х гг. В частности, не учитывается особенность первоначальных «индийских» планов в России XIX в., имевших чисто деструктивный смысл дестабилизирующего удара по Индостану как враждебной территории. Кроме того, игнорируется тот факт, что до 1860-x планы такого удара вовсе не предполагали освоения Средней Азии, имея в виду использование союза с Ираном для наступления на Индию либо морем (по И.В. Вернадскому), либо через юго-восточное побережье Каспия, Астрабад и далее Герат (как позднее сформулировал А.Е. Снесарев, «европейским путем в Индию»), оставляя Среднюю Азию в стороне. И в самом деле, если бы речь шла только об угрозе «жемчужине британской короны», из трех путей через Среднюю Азию, по Каспию или через Иран со стороны Кавказа естественно было бы по трудности первого пути предпочесть любой из двух последних.
На то были и возможности. Иран в 1858 г. возобновляет претензии на Герат, причем шах выступает с проектом русско-иранского договора против Англии.
Англичане и в 1830-х и после Крымской войны рассматривали Иран с его афганскими претензиями как естественного агента России [Венюков 1877, 47]. С российской стороны в 1875 г. генерал М.А. Терентьев уверенно писал: «Персиянин навсегда останется тем, что он есть: впечатлительность – не его вина и отделаться от нее он не в силах. На этой-то струне мы и будем всегда играть свои победные марши! … Отрезав враждебные нам ханства от Турции … ненавидимая ими за шиитизм еще более чем мы за христианство – Персия есть наша естественная союзница» [Терентьев 1875, 206]. Он же: «Эта страна, благодаря своему географическому положению и религиозной отчужденности от остального мусульманства – есть наша естественная союзница. … Только тогда, когда этот страх (в Иране. – В.Ц.) перед Англией и это сомнение в силах России – поменяются местами, только тогда мы можем сказать, что наше влияние в Персии действительно сильнее английского» [Терентьев 1876, 246, 262]. Несомненно, что в военных и политических кругах России после Крымской войны крепнет течение, рассматривающее Англию как главного противника, а Восточный вопрос, подобно П.А. Вяземскому, – как «английский вопрос». Уже в 1857 г. военное командование в Петербурге и Тифлисе думает над планами «возмездия англичанам в Индии» [Венюков 1877, 48]. На рубеже 50-х и 60-х директор Азиатского департамента МИД Н.П. Игнатьев, герой Севастопольской обороны генерал CA. Хрулев и др. то рассуждают о неизбежности «войны с Англией за Азию», то, напротив, предполагают демонстративными угрозами Индии добиться от Англии компромисса на Ближнем Востоке (включая Балканы) [ИВПР 1997a, 88, 95]. Всё равно остается необъясненным – почему был избран не «европейский путь» с опорой на Иран, а многолетнее движение через степи и пустыни. Объяснение Терентьева [Терентьев 1876, 182]: «Пробовала она (Россия. – В.Ц.) доступиться (до Индии. – В.Ц.) через Персию – не пускают; пробовала из Астрахани через Бухару и Хиву – не повезло. Петр I указал третий путь через киргизские степи», – неудовлетворительно. Остается непонятным, кто «не пускал» через Иран, если шах, наоборот, был склонен к союзу. Что до англичан, они также склонны были «не пускать» Россию как со стороны Средней Азии, так и со стороны Ирана.
Здесь возникает надобность рассмотреть другую мотивировку, также широко встречающуюся в литературе. Она упирает на отсутствие у Империи жесткой южной границы, обрекавшей ее – приоткрытую степям, обиталищам кочевников – расширяться на юг до прочных естественных пределов. Сперва Россия пыталась, чтобы обеспечить себе мирную жизнь, воздвигнуть в степях оборонительные линии – Оренбургскую по Сыр-Дарье и Сибирскую по Иртышу. Между линиями образовался зазор, соединение же их в 1864 г. с захватом земель Южного Казахстана столкнуло Россию с Кокандом, Хивой и Бухарой. Покорение же этих государств привело русских в пустыни Туркмении. По словам того же Терентьева, противоречащих его собственному, цитированному только что утверждению, «наше движение на восток, конечно, не зависело … относительно возможности добраться этим путем до Индии… (мы. – В.Ц.) преследовали только свои насущные, ближайшие цели, понятные каждому простому солдату: «наших бьют, значит, надо выручать» – вот и поход» [Терентьев 1876, 183].
В другом месте он же [Терентьев 1875, 7–9] пытался развить то же обоснование более углубленно: «Сибирь мы заняли, так сказать, с налета, от степей же Средней Азии открещивались сколько могли. Судьба толкала нас к Аральскому морю, а мы упирались, не шли…. Соседство с дикими, не признающими ни международных и никаких прав, кроме права силы – вынуждало нас укреплять границу линией крепостей; под защиту этих крепостей являлись по временам, с просьбой о правах гражданства, то есть о защите – дикие племена, теснимые более сильными; эти новые подданные чрез несколько времени оказывались хуже врагов; нам приходилось или задавить их окончательно, или прогнать, но и в том, и в другом случае необходимо было оцепить занятую ими территорию рядом новых укреплений – являлась, значит, новая линия. Так перекатными линиями и подвигается Русь на восток, в тщетной погоне за спокойствием». Он пробует показать, что проблема коренилась исконно в самом характере русского освоения Сибири, когда, концентрируясь в речных долинах, русские стремились оградить свои места обитания со стороны степи, «врезываясь по рекам вглубь степей, цепи укреплений образовали таким образом целую систему коридоров, ничем не перегороженных. Будучи связаны с центральными административными пунктами, сибирские цепи были крепки по долготе и слабы по широте, ибо укрепления соседних линий не имели поперечной связи, за безводием разделявших их степей. В эти коридоры беспрепятственно проникали шайки грабителей, опустошавших наши поселения» [там же, и].
Стремление объяснить бросок России в Среднюю Азию феноменом размытой «азиатской границы» изначально отличало руководителей Империи. Так, Горчаков в известном циркуляре от 21 ноября 1864 г., объяснявшем начало большого наступления на юг, рисует картину, когда каждый умиротворенный кочевой сосед становится объектом посягательств более далеких варваров, что заставляет ради защиты новых подданных переносить границы всё время вдаль. Горчаков философски заключал, что в варварском соседстве цивилизованное государство «должно решиться на что-нибудь одно: или отказаться от этой непрерывной работы и обречь свои границы на постоянные неурядицы… или же всё более и более подвигаться вглубь диких стран, где расстояния с каждым сделанным шагом увеличивают затруднения и тягости, которым оно подвергается» [Мартенс 1880, 23].
Развивая эту версию, Терентьев как-то не вдался в вопрос о причинах контраста между бросковым завоеванием русскими Сибири и медленным до поры до времени выдвижением их в Среднюю Азию. Подняв специально эту тему, видный востоковед В.В. Григорьев [Григорьев 1867] объяснял успехи русских в Сибирской экспансии преимущественно оседлым характером местного населения, будь то звероловы или даже пастухи. «Степи Южной Сибири заключили и заключают в себе население пастушеское, но не кочевое. … С настоящими кочевниками, летовища которых отстают от их зимовок на сотни, иногда на тысячи верст, встретились мы лишь в средней Азии, когда с тридцатых годов прошлого столетия господство наше распространяется на степи ее из Южной Сибири и заволжского низовья. Подчинить себе кочевников было для нас намного труднее, нежели утвердиться между бродячими скотоводами, перемещающимися на небольшие дистанции». «После бесчисленных ошибок в разных родах все-таки кончили мы, однако ж, тем, что познакомились с природой степей, со средствами их и недостатками, со способами войны в них, с потребностями, обычаями и духом кочевников». Григорьев не считает степи Южной Сибири, освоенные русскими в доимперскую эпоху, за степи подлинные; выход в настоящий мир степей он датирует началом сюзеренитета над Малым Жузом при Анне Иоанновне. В XX в. П.Н. Савицкий осмыслит это различие как оппозицию луговых степей или лесостепей с лесными вкраплениями – и ковыльно-полынной степи к югу.
В этом направлении глубже всего мыслил в те годы М.И. Венюков, усматривая причины «затягивания» России в Среднюю Азию в «ошибке», совершенной ранней Империей, когда первые группы дахов были при Анне приняты из-за имперского тщеславия в российское подданство. По Венюкову [Венюков 1873], в конце XVII столетия мы имели в Азиатской России совершенно естественную границу на юге, лучше которой во многих отношениях у нас нет и не было никогда. Казаки и промышленники остановились на Иртыше, на Алтайских и Саянских горах, на Аргуни и на Амуре, но ни киргизские степи, ни Туркестан, ни Джунгария и Монголия «их, представителей жизни оседлой, совсем не пленили». На его взгляд, границы «по рекам Уралу, Миасу, на Курган к Омску, отсюда по Иртышу, потом по предгорьям Алтая южнее Бийска… были, в некотором смысле, естественные пределы для нашей территории в северной Азии, ибо охватывали собою одни бассейны рек, текущих в северные моря, ни более, ни менее. Исключение составлял один Нерчинский край; но и он … представлял такую часть государства, которая была плотно связана с другими и притом еще могла служить в будущем базою для наступательных действий на Амуре, которого верховья лежат именно здесь. В степи Средней Азии, безводные или орошенные не имеющими выхода озерами с их незначительными притоками, мы тогда еще не делали шагу» [там же, 9–10].
Если Маккиндер определял хартленд через два типа вод – реки, текущие в Северный Ледовитый океан, и замкнутые водоемы Центральной Азии – и тем самым связал в один геополитический комплекс сибирские леса и центрально-азиатские степи, то для Венюкова лишь первые представляли естественную ландшафтную нишу русских. Исходной ошибкой, на его взгляд, было принятие в 1731 г. под опеку Империи Малой и Средней Орды и попытки сооружать линии в казахской степи. С 1730-х по 1820-е из-за несовпадения этих линий с областью передвижения «подданных» кочевников налицо было «странное явление двойной государственной границы – действительной и фиктивной – на пространстве от Каспийского моря до подножий Алтая» [там же, 26–27]. Второй ошибкой стали попытки, начиная с губернаторства М.М. Сперанского, превратить азиатскую границу-фронтир в прочный территориальный рубеж европейского типа. По Венюкову, «тут начало системы, которая привела нас за Балхаш, к Или, к Алатау и наконец в Небесные горы и в Туркестан, системы, выработанной не народом, не партиями завоевателей-колонистов, а администрацией, то есть самим правительством. … Здесь родилась та дорого стоящая России система движений вперед по степям бесплодным, безводным и населенным такими подданными, что от них нужно обороняться линиями крепостей» [там же, 12, 26]. Впрочем, он готов признать, что «в степях, по самому свойству их обитателей, приходится следовать правилу: ничего или всё. … Кочевых среднеазиатцев или не нужно совсем принимать в подданство, или неизбежно брать всех» [там же, 14]. Попытку притормозить на этом пути представляет, по Венюкову, стремление в 1840-х гг. опереть «довольно естественный рубеж России» на «северную окраину голодной и песчаной степной полосы, которая от Каспийского моря, через Усть-Урт, тянется на севере Аральского моря, Сыра и Чуя, а потом по берегу Балхаша» (собственно рубеж ковыльных степей и полынных пустынь. – В.Ц.). Тогда предполагалось «остановиться в распространении к югу и испытать, не довольно ли будет для охранения наших земель небольшого числа укреплений, поставленных вдоль этой окраины, севернее ее». Казалось, что «через голодные пустыни хищники не могут к нам проникать большими партиями из-за границы» [там же, 29]. Но этот вариант не пресек «двоеподданичества» ряда кочевых племен, и дрейф на юг продолжился, тем более что, приняв в 1846 г. под опеку Большую Орду, Россия совершила «второй роковой шаг», после которого уже не было поворота назад вплоть до горных хребтов, окаймляющих с юга Среднюю Азию, и до утверждения «русской украйны» по Аму-Дарье [Венюков 1877, 4].
Значение работ Венюкова в том, что он очертил две мыслимые «естественные границы» России на юге: это может быть либо экологическая граница, опирающаяся на переход лесостепи собственно в ковыльную степь так, чтобы Россия в основном контролировала долины рек Ледовитого океана, либо граница по южному горному поясу. Эти варианты соответствуют либо России, противостоящей тюркской Евразии, либо «России-Евразии» в собственном смысле. Он показал, что выход России в центрально-азиатскую степь – феномен имперский, тогда как Московское царство прочно противостояло степной Евразии, и границы его были едва ли не более мотивированы, чем любые промежуточные решения в диапазоне между двумя очерченными «естественными» рубежами. Наконец, в качестве паллиативной и нестойкой разделительной линии в этом интервале он выделил северный край полосы полынных степей – черту, сегодня условно отделяющую русифицированный Северный Казахстан от Южного.
Еще одну геокультурную границу в центрально-азиатском поясе провел В.В. Григорьев [Григорьев 1867], отмечая, что, перевалив через хребет Каратау (юг Казахстана), перейдя от страны кочевников к стране оседлых земледельцев, «вместо шаманистов, считающихся мусульманами лишь по недоразумению около полутораста лет уже, впрочем, продолжающемуся, мы будем иметь подданными настоящих магометан». Собственно в физико-географическом смысле этот переход можно описать как переход от казахских полынных полупустынь к узбекско-туркменским полынно-солянковым пустыням с областями поливного земледелия.
С другой стороны, Венюков предложил интересную, хотя и несколько мистифицирующую трактовку русского наползания на Среднюю Азию до встречи с ираноязычными народами Персии и Афганистана как возрождение в Азии единого «арийского пространства», некогда разорванного тюркским напором [Венюков 1878, 2 и сл.]. Поскольку надежными границами России могут быть лишь «северные подошвы Альбурса и Гиндукуша», постольку она «должна подчинить себе всех туркмен, узбеков и таджиков, живущих в арало-каспийской низменности». Соседями ее станут «персияне и афганы», арийцы, которые «всегда могут и должны быть сделаны "младшими братьями" России. … афгане, персияне и белуджии останутся надолго промежуточными между русскими владениями в Туране и английскими в Индии» [там же, 21]. Особенно интересным, хотя не до конца раскрытым, остается утверждение Венюкова о том, что, взяв под контроль Туран и начав вытеснять «чистых туранцев» смешанным населением [там же, 5 и сл.], Россия должна воздержаться от дальнейшего наступления на Средний Восток, ибо «всякие завоевания в том направлении внесли бы новую этнографическую рознь в населении, подвластном русскому скипетру» [там же, 22]. Наряду с геокультурным рубежом Григорьева, отделяющим казахов-«шаманистов» от оседлых тюрок-мусульман, Венюков приводит еще одну геокультурную черту, совпадающую со второй «естественной границей России» и отделяющую покоряемый Россией среднеазиатский Туран от иранского «ядрового» Среднего Востока.
Можно сказать, что русская геополитическая мысль 1860-x и 1870-х выстраивает сетку физико-географических и геокультурных характеристик, дифференцирующих Туран, описывающих его как последовательность признаковых переходов от коренной России к мусульманскому Среднему Востоку с его ираноязычным ядром.
Надо сказать определенно: если версия, связывающая экспансию Империи в Средней Азии с «порывом к Индии», не объясняет, почему оказался выбран столь трудный и проблематичный путь вместо иранского, хорошо просматриваемого пути, то версия, связывающая эти завоевания только с особенностями азиатской границы, не объясняет темпов и интенсивности наступления. На протяжении 90 лет существования двойной границы и потом почти 100-летних попыток провести твердую границу, связав ею степняков, имперское правительство, по словам Терентьева, на бухарскую, кокандскую и хивинскую торговлю русскими рабами отвечало «презрением». И вот за считанные 10 лет уничтожено три государства: одно из них поглощено Россией, два превращены в ее вассалов. Позднее А. Е. Снесарев всерьез замечал, что причиной этого похода было движение по линии наименьшего сопротивления – «просто туда, где прежде всего было легче пройти» [Снесарев 1906, 16]. Он по праву отмечал совершенно исключительную роль местных военачальников, генерал-губернаторов и т. д., действовавших при пассивном одобрении (а иногда даже при малоактивном неодобрении) правительства, совершенно наподобие атаманов XVI-XVII вв. [там же, 20]. Но разве в южном направлении стало в 1860–1870-е годы вдруг почему-то «легче пройти», чем в прошлые десятилетия? И если новоявленные «атаманы» могли увлечь за собой правительство, не говорит ли это о переменах геополитической идеологии эпохи? Связать ли это с Крымской войной и с «выталкиванием» России на восток? Но почему одновременно клокочет деятельность Славянских комитетов, и на славянском поприще встают такие же активисты-«атаманы», а некоторые, как знаменитый генерал-майор М.Г. Черняев, свободно перемещаются с одного поприща на другое, со среднеазиатского на славянское?
Мы объясним это, лишь усмотрев за всеми этими тенденциями единый геоидеологический импульс к конструированию «своего», особого российского пространства из земель, которые обретались бы за пределами «коренной» Европы, не входя в ее расклад, – или могли бы быть изъяты из этого расклада. При этом множатся критерии и обоснования для разных вариантов конструирования такого пространства, обоснования физико– и культур-географические. Причем последние могут предполагать как собирание вокруг России народов и пространств, близких к некоему признаку (панславизм или «панправославизм» Достоевского), либо, наоборот, собирание и замирение «чужого» пространства, источник многовековых беспокойств (мир тюрок, «шаманистов» и мусульман). Слова Терентьева о путеводном указании Петра I здесь знаменательны, заставляя вспомнить последний, «евразийский» период активности императора, предшествовавший вовлечению России в европейский расклад при его наследниках и вдохновлявший «птенца Петрова» И. Кирилова увидеть в приуральских и приаральских степях «Новую Россию».
IV
На этом фоне надо подойти и к вопросу об Индии. Очевидно, что Индия в это время – предмет раздумий авторов, уверенных, что борьба России с Англией уже развернулась, и для России речь может идти лишь об оптимальном варианте ее развертывания. Идея «угрозы» Индии со стороны Средней Азии для принуждения Англии к «хорошим отношениям» с Империей на Ближнем Востоке проскальзывала в записке Игнатьева Горчакову от начала 1860-x гг., предусматривавшей также союз с Ираном и усиление российской морской активности на Тихом океане. В литературе отмечается, что отправка в 1863 г. российской эскадры в США и принятие решения о соединении Оренбургской и Сибирской линий мыслились под влиянием Игнатьева Александром II и военным министром Д.А. Милютиным как ответ на английский демарш по поводу польского восстания [ИВПР 1997а, 97]. Однако для многих начинавшаяся «холодная война» не была очевидна. В 1864 г. и Горчаков, и Милютин верили, что среднеазиатское наступление ограничится примерно югом Казахстана, где следует «установить … прочную, неподвижную границу и придать оной значение настоящего государственного рубежа» [там же, 100].
Даже после первых столкновений русской армии с Кокандом и занятия русскими Ташкента некоторые петербургские эксперты оставались убеждены, что «о занятии Кокандского ханства … едва ли может возникнуть предположение не только теперь, но даже и в отдаленном будущем»; что «неприступные для военных экспедиций высоты … делают невозможным столкновение в средней Азии русских и английских войск»; что говорить здесь можно только о «состязании торговых интересов» [Долинский 1865, 52–53]. Но в 1867 гг. В.В. Григорьев твердо предрекает близкое столкновение России с Кокандом и Бухарой, снаряженных английским оружием (что и состоялось в следующем же году), и намекает на возможность применить к ней такие же меры. В 1870 г. Военный Совет уже прямо склоняется к тому, чтобы «умерить гордыню» Англии «с приближением русских войск к ее владениям в Индии» и занятием Бухары придать России «больше веса в решении Восточного вопроса» [ИВПР 1997а, 109]. «Сдерживание» Англии на Балканах и на Ближнем Востоке посредством «давления» на нее через Среднюю Азию становится, по сути, открыто проводимой политикой, во многом вопреки намерениям Горчакова.
Ясно, в таких условиях особое значение обретала тема «промежуточных пространств» между владениями России и Англии в Азии [Мартенс 1880]. С конца 1860-x между державами идут переговоры насчет нейтрального пояса, о чем особенно хлопочет Горчаков. Было очевидно, что буфер снизит действенность предполагаемого сдерживания, – и активность в этом плане Горчакова, сторонника «сосредоточения» России, стояла в прямой связи с его неприязнью к балканской ангажированности Империи. С занятием Россией Хивы и Коканда буферами были признаны подступы к Индии – Афганистан и Туркмения, причем каждая сторона была близка к аннексии своей части буфера. Если Горчаков стоял за нерушимость буфера, то Венюков, предрекая наступление Англии в Афганистане и занятие Россией Туркмении [Венюков 1875, 159], отстаивал не столько буферность Афганистана, сколько его сравнительную независимость от России, которая была бы ему гарантирована даже в случае разрушения Британской империи в Индии [Венюков 1878, 21–22].
Противники идеи буфера нападали на нее с разных сторон. Генерал-майор Терентьев настаивал на том, что именно непосредственная уязвимость Англии в Азии заставит ее «два раза подумать», прежде чем начинать войну с Россией, если последняя не будет прямо угрожать английским интересам [Терентьев 1875, 233]. Но оставалось откровенно неясным, где тот рубеж, за которым уязвимость Англии перейдет в прямую угрозу – провокацию войны. Подчеркивая, что с российских позиций на 1875 г. границы Индии крайне трудно достижимы, хотя Россия и будоражит враждебных к Англии индусов своим соседством [там же, 259], Терентьев колеблется между боязнью увязнуть в афганской войне в случае перехода русскими границ этого государства и признанием: нейтральный пояс мешает «привязать» Англию к России в европейских делах [там же, 241, 264].
С иных позиций существование буфера подверг критике прославленный правовед Ф.Ф. Мартенс. Юрист-миротворец отстаивал уничтожение буфера как провоцирующего державы фактора дестабилизации. По его мнению, прямое соприкосновение на твердых рубежах усилило бы их взаимозависимость и в конце концов склонило бы к сотрудничеству [Мартенс 1880]. Впрочем, эту аргументацию могли бы принять и сторонники давления на Англию, вложив свой смысл в понятие «сотрудничества».
Оригинальность рассуждениям Мартенса придает мотив «азиатского страха» как фактора, обрекающего империи на сотрудничество. По его словам, если Англия одолеет Россию в Азии индийским (азиатским) войском, – это будет начало конца английской власти над Индией. Но, с другой стороны, если Россия перенесет войну на ниву Индостана и вызванное ею восстание сметет британское владычество, – что делать России в покоренной 200-миллионной Индии? А дестабилизировав Индию, удержит ли она сама свою Центральную Азию? [там же, 86 и сл.] Апелляция к «азиатскому страху» была в какой-то мере понятна, например, Венюкову, предостерегавшему против усиления этнической розни в Империи по мере экспансии: избыток центрально-азиатских варваров по возможности следовало бы спихнуть на кого-нибудь другого – скажем, на Китай. В случае же разрушения британского господства в Индии взрывную волну должны сдержать «младшие братья» России – афганцы и персияне.
Итак, Индия была воспринята как слабое звено в структуре Британской империи, как объект давления, который мог бы парализовать Англию в классическом Восточном вопросе. Итак, для политиков, представлявших себе Восточный вопрос в качестве вопроса «английского», он неизбежно должен был трансформироваться в вопрос «индийский» и в таком качестве рационализировать строительство «русского пространства» в Центральной Азии – причем, пространства, не обязательно охватывающего Индию как таковую.
То же самое и в текстах, где авторы от «сдерживания» Англии, ведущего в тупики взаимозависимости, прямо переходят к планам войны с нею, в том числе с прямым переносом действий на индийскую почву. Венюков выпускает брошюру, где заявляет, что «материковые земли английской Азии могут и должны быть рассматриваемы как театр войны, в которой шансы успеха во многом будут зависеть от того, как противники Англии … сумеют воспользоваться физическими свойствами территории, приспособиться к ним и поставить англичан в невозможность оборонять обширную страну, ими захваченную, но чуждую и даже враждебную им по составу населения, а по отдаленности от самой Англии не могущую ожидать от нее больших подкреплений» [Венюков 1875, 2 и сл.]. Тут же он пишет «о путях из Индии на запад и север, которые по ходу политических событий приобретают теперь такое существенное значение … для Средней Азии, а следовательно и для нашего отечества» [там же, 169]. Через несколько лет, уже отставник и эмигрант, в памфлете против правительства Александра II он напишет о том, что это «правительство поступило нелепо, пытаясь в 1870-х годах сблизиться с Англией ценою азиатских своих интересов … Войну с Англией можно отсрочить, но избежать ее нельзя, и обязанностью русского правительства отныне становится подготовлять… ее успех заключением прочных союзов с естественными врагами Великобритании, изучением ее положения в Индии и в колониях, созданием большого наступательного флота». Но при этом он уверяет, что Россия уже утвердилась в «пределах, которые, вероятно, останутся на большей части протяжения ее всегдашними пределами» [Венюков 1878а, 385, 386]. Неизбежная война за разрушение Британской империи не должна быть войною за Индию, немыслимую для него в качестве российского владения.
Той же установкой отмечен, вероятно, самый известный из русских проектов прямого удара по Индии, выработанный в 1877 г. генералом М.Д. Скобелевым [Скобелев 1883]. Скобелев уверял, что с теми силами в Средней Азии, которые «наше правительство случайно скопило на здешней окраине … можно нанести Англии не только решительный удар в Индии, но и сокрушить ее в Европе» [там же, 544]. Ранее, еще в 1871 г. он полагал в духе общего имперского курса, угрожая Индии, обеспечить «решение в нашу пользу трудного восточного вопроса – другими словами, завоевать Царьград своевременною, политически и стратегически верно направленною, демонстрациею» [Скобелев 1882, 122]. Но через шесть лет[38] он говорит уже об ударе по Индии, чтобы или уничтожить враждебную империю, или, по крайней мере, «парализовать сухопутные силы Англии для войны в Европе или же для создания нового театра войны от Персидского залива на Таврис к Тифлису, в связи с турецкими и персидскими силами, о чем уже с Крымской войны мечтают английские военные люди» [Скобелев 1883, 547]. Он призывает в случае быстро назревавшей русско-турецкой войны, ограничившись обороной на Дунае и в Азиатской Турции, предложить афганскому эмиру антианглийский союз и в случае отказа эмира разжечь в Афганистане гражданскую войну с вовлечением Персии. Предполагалось перебросить 30-тысячный российский конный корпус из Самарканда к Кабулу и оттуда «организовать массы азиатской кавалерии, которую во имя крови и грабежа направить в пределы Индии, возобновив времена Тимура!» [там же, 548.] Похоже, Скобелев вообще не планировал движение русской конницы далее Кабула, видя смысл операции в том, чтобы, провоцируя в Индии антианглийское «восстание», одновременно «всю Азию… поднять на Индию», повергнув «сокровище британской империи» в сплошной ад. Скобелев был убежден, что Восточный вопрос (о проливах) неразрешим прямыми действиями на Балканах и Кавказе. В XX в. сказали бы, что наступление на Индию, притом не русскими, но спровоцированными Россией азиатскими силами, рационализировалось в формах «стратегии непрямых действий».
Реальный подступ к подобному сценарию наметился в 1878 г., в первой половине, на протяжении которой в имперских кругах муссировалась неизбежность войны с Англией (в перспективе подготовки к этой войне Александр II давал согласие на Берлинский конгресс) [Милютин 1950, 27, 32, 42, 68]. В это время туркестанский генерал-губернатор К.П. Кауфман, один из самых активных «атаманов» центрально-азиатского наступления, планирует русский протекторат над Афганистаном. Посланный в Кабул эмиссар Кауфмана полковник Столетов заключил с эмиром Шир-Али договор, обязывавший Россию помочь Афганистану в войне против Англии [Терентьев 1906, 451–452].
Но к осени того же года, когда двора, наконец, достигла просьба Шир-Али о русском покровительстве, Берлинский договор был уже заключен. Реакцией на эту просьбу стал страх Горчакова и Милютина – как бы такая сделка не дала повода англичанам к занятию Кабула. Петербург предал новоиспеченного союзника, бежавшего к Кауфману и вскоре умершего, а Кабул был-таки занят англичанами, что дало России моральное право окончательно демонтировать буфер, вторгнувшись в Туркмению. Похоже, контроль над Афганистаном был тем максимумом, дальше которого в глазах российских военных не могло простираться тотальное поле Империи. Другое дело, что выход на этот максимум увязывался с дестабилизацией Индии, которая, однако, могла мыслиться без прямого вовлечения России.
Итак, геоидеологический импульс к формированию особого пространства России вне коренной Европы толкал русских к конфронтации с основной силой, представлявшей Западную цивилизацию за пределами ее опорного ареала. Иными словами, к формированию из России и Англии новой конфликтной системы – евроазиатской, генезис которой был рационализирован ставкой на «непрямые» решения Восточного вопроса и которая, в конце концов, протянулась по югу Евро-Азии от Балкан до Тихоокеанского приморья гигантской дугой «холодной войны» (знавшей, как всякая холодная война, периоды обострения и разрядки). Логика этой борьбы подчиняла себе, иногда парадоксальным образом, политику, проводившуюся на тех или иных частных направлениях, в том числе, как я уже говорил, и решение о продаже Аляски. Обычное объяснение этого шага трудностями удержания Русской Америки под американо-английским натиском не учитывает комплекса мотивов, диктуемых логикой складывающейся евразийской конфликтной системы. Замечательная работа H.H. Болховитинова [1990] позволяет восстановить эту логику.
Еще весной 1853 г., когда оставались надежды привлечь Англию к разделу Турции, Муравьев-Амурский писал Николаю I: «Северо-Американские Штаты неминуемо распространятся по всей Северной Америке, и нам нельзя не иметь в виду, что рано или поздно придется им уступить североамериканские владения наши. Нельзя было, однако ж, при этом соображении не иметь в виду и другого: что весьма натурально и России, если не владеть всей восточной Азией, то господствовать на всем азиатском прибрежье Восточного океана. По обстоятельствам мы допустили вторгнуться в эту часть Азии англичанам … Но дело это еще может поправиться тесной связью нашей с Северо-Американскими Штатами» [там же, 92]. За САСШ признавалась роль гегемона Америки и Карибского бассейна: на этом пути им предназначалось – выбить из Нового Света Англию. В 1850–1860-х гг. Соединенные Штаты, казалось, шли навстречу этим российским расчетам. В январе 1854 г., когда противоборство России с Англией стало очевидным, Вашингтон через акт фиктивной покупки взял под защиту Русскую Америку. Президент Ф. Пирс прямо склонялся к мысли о вступлении Штатов в войну на стороне России [там же, 96]. В 1859 г., когда началось обсуждение плана реальной продажи колоний, посол России в США Э.А. Стекль утверждал: «Если Соединенные Штаты станут обладателями наших владений, британский Орегон окажется стиснутым американцами с севера и юга и едва ли ускользнет от их нападений» [там же, 114]. 1860-e и 1870-е становятся пиком русско-американского сближения. Столь разные авторы, как Герцен, Фадеев, Венюков, Терентьев, твердят о союзе этих держав: американский визит российской эскадры в 1863 г. одновременно защищал воюющий Север от вмешательства Англии на стороне южан и грозил Англии возмездием за демарш в пользу мятежных поляков. Роль Англии в развитии двух мятежей сближала Петербург с Вашингтоном. В глазах американской общественности убийство Линкольна и покушение на Александра II объединялись общей схемой «террор против лидеров-освободителей». Визит морского замминистра Фокса к Александру с приветствиями по поводу «спасения от каракозовского выстрела» становится звеном в формировании союза; следующим оказывается продажа Аляски. Как предполагал в те годы К. Маркс [Маркс, Энгельс XXXII, 542], «янки благодаря этому отрежут с одной стороны Англию от моря и ускорят присоединение всей британской Северной Америки к Соединенным Штатам. Вот где собака зарыта!»
Отказ России в 1810-x гг. от присоединения Гавай сделал беспочвенными попытки конституировать север Тихого океана в качестве закрытого «русского моря». После этого отказ от Форта Росс был неизбежен и ограничил русское присутствие на Тихоокеанском западе. С присоединением междуречья Амура и Уссури Империя обретала на этом океане другую, значительно более южную базу, прямо связанную в отличие от Русской Америки с массивом евроазиатских южных земель. Через полвека Г.В. Вернадский будет скорбеть о том, что выход русских в Тихий океан через устье Амура не был использован для подпитки Русской Америки притоком переселенцев [Вернадский Г. 1914]. Напротив, для политиков 1860-x он снизил ее стратегическую ценность. Возможность превратить часть Тихого океана в закольцованное морскими базами «русское море» была утрачена поколением раньше; оставалось попытаться превратить запад океана в союзное России пространство, тем самым предотвратить эксцессы вроде английского нападения в 1854 г. на Петропавловск-Камчатский и обеспечить себе на этом направлении прикрытие для активных действий Империи по дуге русско-английского евразиатского противостояния. Права СВ. Лурье в том, что Россия выращивала Соединенные Штаты, как и Иран, на роль региональных агрессоров, подрывающих британские позиции и тем самым призванных облегчить русским нажим на Индию и оттягивание английского внимания от черноморских проливов. Аляска продавалась неформальному союзнику в видах упрочения союза. Другое дело – при этом не были учтены масштабы собственно американской активности на Тихом океане, обозначившейся уже с 1850-х плаванием эскадры адмирала М. Перри в Японию и принуждением последней к Ансэйским договорам. Россия поддерживала САСШ как панамериканскую и карибскую, но не как пантихоокеанскую и не восточноазиатскую силу. В общем, это был просчет, очень сходный с тем, какой позднее потерпели германские геополитики, отводя Соединенным Штатам роль строителей Панамерики, не вмешивающейся в судьбы восточно-азиатской «Великой зоны процветания», создаваемой Японией. Тихоокеанский консенсус дал трещину уже в 1877–1878 гг., когда САСШ в перспективе русско-английской войны резервировали нейтралитет, воздержавшись от предоставления базы российской эскадре, направляемой для угрозы Британской Канаде. Впрочем, на начало 1890-х Штаты в российских верхах трактовались на правах союзника. В 1893 г.в публикации Министерства финансов, обосновывавшей строительство Транссиба, в числе прочих причин для этого шага указывалось установление контакта со Штатами как державой, которую сближает с Империей «солидарность… политических интересов», несмотря на их конкуренцию на хлебных рынках [Сибирь 1893, 308]. Через всю нашу первую евразийскую фазу от Герцена до Витте прошло представление о Вашингтоне как силе, содействующей созиданию «русского дома» на пространствах внеевропейского Старого Света, – представление, подорванное по-настоящему лишь американской ролью в русско-японской войне.
В рамках евразийской бинарной системы классический Восточный вопрос оказался сцеплен с судьбами таких стран и территорий, к которым прежде он не мог иметь никакого касательства. Движение в Среднюю Азию заставило Россию в конце концов под лозунгом защиты Китая вмешаться в его отношения с мятежными мусульманами Восточного Туркестана. В 1869 г. она отказывается признать Кашгар нейтральной зоной и фактически заполоняет его северную часть своими товарами. Английская реакция не замедлила. Терентьев отмечает: «Англичане теперь зачастили в Кашгар; и мы не без удовольствия видим, что есть и еще один путь (к Индии. – В.Ц.): чрез перерыв Каракорумского хребта от истоков р. Каракама к Ладаку» [Терентьев 1876, 182 и сл.]. Любые территории, ведущие к «ахиллесовой пяте» Англии, становятся предметом внимания русских. Если Венюков радуется возможности часть тюрок и монголов спихнуть на Китай как империю слабую и якобы не опасную для России, то для Терентьева мусульманские восстания по западной кайме Китая – хороший повод для России выдвинуться прямо на стык Китая, Индии и Среднего Востока. По случаю мусульманских волнений в Урумчинском округе он находит «весьма вероятным, что нам придется и здесь выступить навстречу китайской власти и покорить для нее Урумци, как это сделано уже <с> Кульджею» [там же, 79]. Он готов даже говорить, что в Китайском Туркестане «готов разыграться самый интересный эпизод нашего, исторически необходимого, исторически неуклонного движения на Восток» [там же, 62]. В 1870-х Потанин предпринимает свои экспедиции в Монголию и Тибет. В 1881 г. после кризиса в отношениях с Китаем по поводу участи «умиротворенной» русскими Кульджи Мартенс публикует осуждение европейских и особенно английских бесчинств в Китае, якобы по недоразумению навлекающих китайский гнев и на русских. Миссией России объявлено – быть защитницей Китая.
Прочитывается внутренняя континентальная кайма всех приморских цивилизационных платформ Евро-Азии: миру предстает Россия, вобравшая почти все земли между нею и коренным Китаем, Индией, иранским Средним Востоком.
В лучшей работе Терентьева «Россия и Англия в борьбе за рынки» [Терентьев 1876] намечается политическая программа, которая по-настоящему станет на повестку дня после Берлинского конгресса. Терентьев формулирует задачи большой игры двух неазиатских сил в Азии: перекрыть ввоз товаров из Индии; в дополнение к этому отменить закавказский облегченный транзит, открывающий Англии путь в Среднюю Азию через Кавказ; ввиду того, что Бухара и Хива «сделались передовыми складными пунктами для произведений соперничающей с нами нации», – либо перейти к силовому, «непосредственному подчинению среднеазиатских рынков», либо, в крайнем случае, насадить здесь собственную промышленность, способную подавить индийский привоз. Терентьев, кажется, с наибольшей отчетливостью обозначил положение Средней Азии как «прекрасного этапа, станции, где мы можем отдыхать и собираться с силами», готовясь к войне с Англией [там же, 183]. Намного отчетливее, чем И.В. Вернадский, он понял, что борьба России с «владычицей морей» может вестись под лозунгами «защиты континента», но также, что эта война не обязана вестись только в близкой англичанам стихии, что Россия в ней может опереться на континент как источник своей силы. «Все игроки, опиравшиеся на море, на флот, побеждены «владычицей морей». Мы опираемся на сушу, на пехоту – нам трудно пробиваться вперед, но зато трудно и возвращаться, а потому резоннее всего оставаться там, куда привела нас судьба, и постараться стать там твердою ногою. Игра наша далеко еще не началась».
Для Терентьева, Англия – постоянный враг, «относительно Англии мы, по крайней мере, гарантированы от неожиданностей, ибо всегда должны ожидать противодействия своим интересам» [там же, 210]. Задачи развития русского флота на Черном море, помимо всего прочего, определяются и близостью выходов из этого моря к Суэцкому каналу: натиск пехоты с севера на евроазиатское приморье (опять Индия!) надо поддержать морским присутствием на торговых линиях, ведущих в Индийский океан, особенно мимо Суэца. «Истинные устья Днепра и Дона не в Херсоне и Таганроге, а в Дарданеллах. … С прорытием Суэцкого канала Черное море приобрело еще и то значение, что Россия стала ближе к Индии, чем Англия – мы, значит, выиграли больше. Рано или поздно нам, вероятно, придется перенести центр тяжести на юг. Киев как столица во многих отношениях лучше Петербурга и Москвы» [там же, 246].
Этот дрейф на юг мыслится всецело вне «коренной» Европы. Более того, трактуя объединенную Пруссией Германию только как балтийскую силу, Терентьев ей готов полностью уступить гегемонию на Балтике. «Конечно, за кусок земли, прилегающий к Мраморному морю, нам, может быть, придется отдать часть балтийского побережья, но тут и колебаться в выборе не следует» [там же]. Терентьев сознает, что при новых условиях Европы, с возвышением ее нового восточного центра в Германии Восточного вопроса не решить без участия Берлина, – и в то же время он полагает, что это участие сведется к балтийской сделке, как если бы речь шла о доимперской Пруссии. Австрия вообще выпадает из его поля зрения. В основном же этот вопрос для него стоит «в прямой зависимости от расстояния между русскими и английскими передовыми постами» [там же]. Натиск на Индию с севера – инструмент овладения проливами, но овладение проливами выведет российский военный и торговый флот к Суэцу, всё в тот же Великий океан, так что Южная Азия будет зажата между топотом пехоты с севера и торговыми русскими флагами по морской окраине: «вслед за штыком в Азию торжественно вступает и наш шестнадцативершковый аршин» [там же, 254]. Терентьев остро ощущает внутреннюю системность отношений на всех участках огромной евразийской полосы, где идет русско-английская борьба. Но он совершенно не чувствует такой же системности и напряженности в балтийско-черноморской, восточноевропейской полосе, на которой сосредоточен взгляд P.A. Фадеева. Он считает, что Германии можно спокойно отдать Балтику, и это никак не скажется на ситуации балканской и черноморской. В его глазах, проливы входят в одну линию с Ираном, Суэцем, Индией, даже с Восточным Туркестаном, – но вовсе не с Балтикой, не с Польшей, не с Богемией, не с Галицией. В свою очередь Фадеев, страшащийся расточения России в Туране, практически не воспринимает «английской», т. е. евразийской, проблематики. Эти два видения дополняют друг друга: где у одного автора – фокус российских задач, у другого – глухой хинтерланд. Так обозначаются два лика российской геополитики на начальной стадии первой евразийской фазы – именно на той стадии, что пролегла между Парижским конгрессом и Берлинским миром.
Собственно, это – та ситуация, где «евроазиатская» линия нашей политики начинает определяться как прогерманская, а линия балто-черноморская как антигерманская, и обе они драматически сталкиваются в определении главного российского противника на Балканах и на Черном море: Британская империя или Великая Германия, Пан-Европа. Но об этом подробнее – дальше.
V
Данилевский как автор «России и Европы» – фигура, порожденная этим двусмысленным временем. С первых страниц книги очевидно, что ее концепция сложилась под влиянием «крымского шага», пережитого как столкновение чужеродных друг другу сообществ России и Европы. Разбираемое вначале принципиальное различие реакции Европы на российскую экспансию в Подунавье в 1853 г. и на австро-прусскую агрессию 1864 г. против Дании приводят к выводу: в последнем случае речь идет о конфликте внутри Европы, а в первом – о столкновении цивилизаций, различных по своим основаниям. За этот вывод и основанную на нем программу Данилевского иногда называют создателем теории борьбы цивилизаций. Однако ему были, несомненно, известны построения Духинского, – об этом говорит его фраза насчет русского правительства, «которое, по отзывам поляков, указами создает русский язык и научает ему своих монгольских подданных» [Данилевский 1991, 28].
Существенно другое. О столкновении в европейском пространстве двух цивилизаций ярко писал Тютчев, тема России как «христианского Востока» была камнем преткновения между Чаадаевым и славянофилами, в Германии 1840-х о России как наступающем на Европу «особом мире» толковал Я. Фальмерайер. Что разводит с ними со всеми Данилевского – это восприятие двух цивилизаций не как противостоящих принципов жизни на едином пространстве и его организации, но в качестве двух раздельных, лишь формально соприкасающихся и в силу этого конфликтующих на своих рубежах геокультурных пространств. Собственно, эта новая постановка вопроса видна в самом заглавии «России и Европы» в отличие от тютчевского «России и Запада». Тютчев рассуждает о «двух Европах» – России и Западе – как о двух мыслимых проектах единой Европы. Данилевский видит Россию вне Европы и возлагает на нее миссию создания особого неевропейского политического и цивилизационного пространства, способного потеснить пространство европейское, но отнюдь не стремящегося поглощать этот чужеродный мир.
Интересно, что по своему интеллектуальному аппарату Данилевский – типичный европеец третьей четверти XIX в., свободный от тех «средневековых» моделей, которые столь явственны у Тютчева и вновь проступят у Вл. С. Соловьева. Призывы к политике либеральной и вместе с тем национальной; восхищение Бисмарком, Кавуром и Гарибальди; пафос национальности как единственной законной основы существования государства, трактуемого организмически; почерпнутое у Г. Рюккерта учение о «культурно-исторических типах», мыслимых опять же в виде суперорганизмов; при декларируемой неприязни к Дарвину четко воспринятое представление о борьбе этих суперорганизмов за жизнь и пространство; налет расхожего гегельянства на глаголании насчет «мелкой текущей дребедени», каковую история предоставляет «текущему производству дипломатии» в отличие от «великих вселенских решений, каковые провозглашает она сама безо всяких посредников, окруженная громами и молниями, как Саваоф с вершины Синая»; наконец, навеянное успехами сравнительного языкознания, также проникнутого в те годы органицистскими метафорами и схемами (А. Шлейхер), отождествление «культурно-исторических типов» с семьями языков. Отчасти из-за этого последнего принципа, а отчасти из-за его нарушений у Данилевского возникает масса натяжек. Первый случай лучше представляют: разделение цивилизации римской и греческой; исключение из «новосемитской» мусульманской цивилизации; сложности, связанные с двухкомпонентностью романо-германской Европы, похоже, склоняющие Данилевского видеть ее движущую силу исключительно в германизме; второй случай можно проиллюстрировать выделением евреев в особый тип, оторванный от «древнесемитского» явно по религиозному признаку. Всё это приметы европейской, в основном немецкой, отчасти английской интеллектуальной «почвы» – именно той, на которой позже сложится антропогеография Ратцеля и из которой разовьется германская геополитика. Этот заемный аппарат в условиях «послекризисной» России используется для выработки геостратегии, как бы встроенной в долгосрочные цивилизационные тенденции и их обслуживающей.
Доктрина «культурно-исторических типов» как высших форм человеческой общности, предельно полно выявляющих в разных аспектах и комбинациях потенциалы человеческой природы, позволяет провозгласить принцип лояльности к своему культурно-историческому типу (цивилизации) высшим по сравнению с приверженностью своему государству. Введенная же Данилевским якобы универсальная схема эволюции этих типов (этнографическая фаза, фаза политической самостоятельности, фаза расцвета культуры, ее полного самовыражения) вместе с отождествлением цивилизации и языковой семьи становятся основанием для прямых политических выводов. Каждая языковая семья имеет шанс развиться в цивилизацию, если все ее члены добьются политической независимости и перейдут к выявлению своих культуротворческих способностей. Поэтому, коль скоро народ, принадлежащий к некой языковой группе, достигнет независимости и создаст государство, его первое призвание состоит в том, чтобы всеми средствами, включая военные, обеспечить независимость другим народам той же языковой группы и тем самым создать предпосылку для новой цивилизации. Говорить о развитии такой цивилизации к высшим ее формам бесполезно, пока одни из народов данной семьи пребывают под чужим гнетом, а добившийся независимости – вынужден в одиночку противостоять чужеродному миру, борясь за простое выживание. Итак, наличие языковой семьи – абстрактная возможность цивилизации, реальной же возможностью она становится через политическую борьбу. Вопрос о России как носительнице специфической цивилизации оказывается на данном этапе чисто политическим, другие же его аспекты за несвоевременностью могут быть отодвинуты на второй план.
Отсюда три типа установленных Данилевским исторических ролей для народов. Во-первых, это народы – создатели культурно-исторических типов, прошедшие все ступени их становления. В своей экспансии и самоутверждении эти «организмы» неизбежно вступают между собой в борьбу: «Народы, которые принадлежат к одному культурно-историческому типу, имеют естественную склонность расширять свою деятельность и свое влияние насколько хватит сил и средств … Это естественное честолюбие необходимо приводит в столкновение народы одного культурного типа с народами другого, независимо от того, совпадают ли их границы с отчасти произвольно проведенными географическими границами частей света» [там же, 305].
Вторая роль – это народы – «Бичи Божьи», разрушители старых цивилизаций (очевидно, что эти народы могут добиться политической самостоятельности, но отнюдь не обязательно они разовьются в цивилизацию). Наконец, в-третьих, «народы – этнографический материал», который ассимилируется со строителями культурно-исторических типов и увеличивает плодотворное разнообразие последних. Народы, не достигшие государственной фазы, не должны проявлять претензии «на политическую самостоятельность, ибо, не имея ее в сознании, они и потребности в ней не чувствуют и даже чувствовать не могут». Их удел – «сливаться постепенно и нечувствительно с тою историческою народностью, среди которой они рассеяны, ассимилироваться ею и служить к увеличению разнообразия ее исторических проявлений» [там же, 26]. Впрочем, во многих случаях Данилевский пользуется «принципом Пестеля», отстаивая адаптацию Россией тех народов, которые, когда-то имея политическую независимость, не смогли ее удержать (например, закавказских христиан). Впрочем, добавлю от себя, почему бы нашему автору не допустить, что народы, неспособные отстоять свою независимость, тем самым обнаруживают свое бессилие удержаться на уровне «государственной фазы», и для них «естествен» откат в «этнографическую фазу», а значит, и превращение в этнографический материал для соседней цивилизации? Кстати, о праве народов «этнографической фазы» на свою культуру, о праве их не становиться для кого-либо строительным «материалом» Данилевский вообще не задумывается: о каком бы то ни было праве он начинает трактовать с момента обретения народом политической воли и силы – лишнее подтверждение того, что «государственная фаза» является основным интересующим его звеном цивилизационного процесса.
В своих раздумьях Данилевский приходит к идее, несколько предвосхищающей постулат «комплиментарности» Л.Н. Гумилева, говоря о «неизведанных глубинах тех племенных симпатий и антипатий, которые составляют как бы исторический инстинкт народов» [там же, 52]. Он ссылается на то, как «хорошо уживаются вместе и потом мало-помалу сливаются германские племена с романскими, а славянские с финскими… Германские же со славянскими, напротив, друг друга отталкивают, антипатичны одно другому». «Инстинктивное» притяжение и отталкивание им учитывается исключительно как фактор, содействующий или мешающий интеграции народов в утверждающийся чужой культурно-исторический тип, определяющий меру их пригодности к тому, чтобы пойти на этнографический материал, увеличивающий политическую мощь и внутреннюю дифференцированность этого типа.
И так везде: политическая точка зрения преобладает, когда речь заходит об этнической самобытности. Достаточно прочитать его раздумья о том, что этнографическая обособленность оберегает народ от привязки к чужеземной моде и к иностранной промышленности и как при отсутствии самобытного уклада его приходится заменять политикой, отстаивающей экономическую независимость. Или о том, как «европейничанье» русских замедляет политическую интеграцию народов Империи, позволяя им вместо русификации с ее неизбежными политическими следствиями – попросту европеизироваться, сохраняя в своем самосознании дистанцию от русских и постепенно приходя к идее государственной независимости при общеевропейском культурном знаменателе. Этот политико-прагматический подход к культурным и цивилизационным проблемам полностью возобладал у Данилевского, когда он прямо заявил, что вопрос о принадлежности или непринадлежности России к Европе его интересует исключительно как проблема международно-политического расклада.
Суверенность цивилизации для него мыслима лишь как суверенность политическая, как контроль группы народов, говорящих на близких языках, над пространством, гарантированным от вмешательства народов иной цивилизации. Иначе говоря, речь идет о том, что будет названо в Германии суверенным Большим Пространством. Данилевский прямо требует «доктрины Монро» для России; позднее ее предтечей он объявит Пушкина, сказавшего европейцам: «спор славян между собою… / Вопрос, которого не разрешите вы». Русская «доктрина Монро» предполагала бы невмешательство европейцев в курируемые Россией славянские дела, но, вместе с тем, по примеру американского прообраза – готовность России к военному вмешательству в случае конфликта славянского народа с народом другой цивилизации (именно так, как произошло в августе 1914 г.).
Позднее евразийцы с их идеей «месторазвития» цивилизаций ссылались на Данилевского как своего учителя, цитируя его слова об особых географических «поприщах» культурно-исторических типов. Но надо помнить, что к этому тезису Данилевский прибегает в очень специфическом случае, стремясь отсечь европейскую цивилизацию от цивилизаций античных, греческой и римской, ссылаясь на то, что «естественным» пространством для последних была вовсе не Европа, а перипл Средиземноморья, включая его африканское и азиатское прибрежье. Существеннее всего, что он оказался совершенно не готов применить тот же критерий к России. Подвергнув, как и те же евразийцы, резкой критике миф Уральского хребта как «природной» европейско-азиатской границы, вводящей часть России в Европу, он не смог указать какого бы то ни было другого физико-географического предела Европы. Более того, он вообще отказался рассматривать Европу как естественно-географическое явление (хотя определение Европы как «полуострова» Азии уже бытовало в его время; в частности, оно представлено в «Космосе» А. фон Гумбольдта). Вместо этого он ее определил исключительно как ареал Азии, охваченный романо-германской цивилизацией, т. е. как явление геокультурное, не пытаясь как-то укоренить европейскую и российскую цивилизации в их особенной «почве» (собственно, даже применительно к античности он нарушил критерий «поприща», разделив ее по языковому признаку на две цивилизации, без ясных границ).
Причины понятны. Данилевский, подобно немцам-индоевропеистам, твердо исповедовал мысль о «культурородной силе леса», опирая славянскую цивилизацию на тот же евроазиатский лесной пояс, в котором сложилась и западная цивилизация. Степь – пристанище кочевников – на его взгляд, есть зона, для цивилизаций вообще неподходящая. Экспансию Империи в Средней Азии он ставит невысоко, иронически оценивая ее как «потчевание европейской цивилизацией пяти или шести миллионов кокандских, бухарских и хивинских оборванцев, да, пожалуй, еще двух-трех миллионов монгольских кочевников»; стратегическое значение тихоокеанского побережья оценивает очень невысоко, а колонизация на Амуре, в его глазах, столь же сомнительна, как эпопея с только что проданной Русской Америкой (всё это страшно противоречит выдвигаемым им далее притязаниям на долю славянской цивилизации в мировом разделе). Итак, областью его первостепенных интересов оказываются земли Евро-Азии, непосредственно прилегающие к коренной Европе, т. е. населенная в основном славянами балто-балкано-черноморская полоса, которую должна была сразу же охватить русская «доктрина Монро». Вопрос о естественных поприщах двух цивилизаций лишался смысла, коль скоро они мыслились прямо сталкивающимися на Европейском полуострове и Средиземноморских акваториях.
Отсюда и понимание Данилевским Восточного вопроса, который в его глазах есть борьба между славянским и романо-германским культурно-историческими типами. Вероятный исход этой борьбы должен доставить «совершенно новое содержание исторической жизни человечества». «Восточный вопрос касается всего славянства, всех народов, населяющих европейский полуостров и не принадлежащих к числу народов германского и германо-романского племени, – не принадлежащих, следовательно, к Европе в культурно-историческом смысле этого слова». «Восточный вопрос», в свою очередь, есть порождение древневосточного вопроса, заключавшегося в борьбе римского начала с греческим [там же, 306, 329]. Противостояние двух цивилизационных полюсов античности находит продолжение в столкновении двух цивилизаций на полуострове Европы. Борясь за независимость славян, Россия бьется за суверенность своей цивилизации, будущее самовыявление и расцвет которой только и смогут оправдать существование России как силы, волей-неволей сдерживающей распространение европейского влияния вглубь материка. Претензии России на европейское культуртрегерство в Азии смешны: не будь ее, Запад с этой задачей справился бы куда лучше. Без борьбы за славянство Россия для Данилевского, как и для Р. Фадеева, была бы каким-то «привидением прошедшего», не имеющим иной цели, кроме выживания, так что «ей действительно ничего бы не оставалось, как сбросить скорей с себя свой славянский облик. Это было бы существование без смысла и значения, следовательно, в сущности, существование невозможное» [там же, 318].
Как и Тютчева, Данилевского мучит страх перед возможностью «недотягивания» России до своего назначения, впадения ее в ирреальное «абортивное» бытие. Но разница между этими мыслителями велика. Для Тютчева Россия s'avorterait[39], если не реализует новый европейский порядок, не выстроит «другую Европу». Порожденный в условиях «европейского максимума» России (фазы С первого стратегического цикла), этот проект был отмечен пафосом «последней битвы», решающей мировые судьбы. Поэтому поэт-политик настойчиво отмечает моменты неблагополучия обществ, дающие шанс для удачного наступления России, которая якобы станет «сама собой», лишь истребив «принцип бытия» Западной Европы. Взгляд Данилевского – иной. Борьба цивилизаций, даже выливающаяся в открытую войну, желательна и для него – но лишь как средство, пробудив славянское самосознание, сформировать Всеславянский союз – гроссраум новой цивилизации. Если Россия и может упустить шанс, то не шанс переустройства Запада, а исключительно шанс своего собственного выхода в фазу цивилизационной зрелости, якобы недостижимую без общеславянской независимости (постановка вопроса, несколько напоминающая позднейшие споры о возможности или невозможности построения социализма и коммунизма в одной стране). Отмечая на Западе кризис, вызванный пролетарской угрозой («кимвры и тевтоны у ворот Рима», «новые Марии», военные диктатуры и т. д.), Данилевский, однако, не думает, как Тютчев, о «взрыве» Европы и ее сдаче перед славянским напором. Он готов даже признать западную культуру вошедшей в стадию максимального плодоношения. Но ссылка на якобы общий принцип «максимального действия энергии после того, как ее источник уже угас», позволяет ему утверждать: «Солнце, взрастившее эти плоды, уже прошло свой пик», – время благоприятно для политического возвышения новой цивилизации. Иначе говоря, он думает не о включении Запада в «Россию будущего», но об условиях непобедимости славянства, если бы оно пожелало образовать суверенный гроссраум.
Пафос лояльности перед своей цивилизацией доходит у Данилевского до разительных высот. По его оценке, истинное богатство цивилизации возможно лишь при относительной независимости ее народов друг от друга. Но раздробленность цивилизации уменьшает для нее возможности отпора внешним угрозам. Поэтому, в зависимости от размера внешней опасности, жизнеспособная цивилизация может иметь вид либо федерации, либо союза конфедераций, либо устойчивой международной системы. Для Европы, развившейся из средневекового христианского мира в надежно обособленное на своем полуострове сообщество государств, естественная структура – международная система, регулируемая балансом сил. Для славянской цивилизации гарантией безопасности может быть лишь гегемония России. Но парадоксальность этой гегемонии в том, что любое насилие России над меньшими членами союза, любая попытка слишком сильной интеграции может дестабилизировать союз и дать Европе повод вмешаться в его дела. Всеславянский союз и Россия как его гегемон оказываются заложниками поведения малых государств с его западной периферии – с первой линии межцивилизационного фронта. Залогом устойчивости союза может быть только общая опасность и успехи пропаганды, добивающейся поглощения русского, польского или чешского честолюбия – честолюбием общеславянским (преданностью своей цивилизации и ее Большому Пространству) [там же, 388]. Все интересы России должны сосредоточиться на благоустройстве и обороне пространства, охваченного «русской доктриной Монро». Итак, Европе, регулируемой балансом сил, должна противостоять тесная славянская федерация, однако всецело зависящая от поведения ее прифронтовых народов и потому требующая постоянных жертв от русских.
Данилевский не просто обрушивается, подобно Погодину, на политику императоров, тративших силы России на борьбу с европейскими революциями. Не менее жестока его критика в адрес усвоенной Россией с XVIII в. политики поддержания европейского баланса. Он силится доказать (с большими натяжками), что эпохи прочного европейского равновесия были временами бурного наступления западных держав на неевропейские народы. Эта гипотеза очень слаба, поскольку не учитывает, что заморские империи с XIV по XVII в. создавались в основном государствами, игравшими тогда второстепенную роль во внутреннем балансе Европы (Венецией, Нидерландами, Португалией, Англией), а единственное исключение – колониальная империя Испании – противоречит тезису Данилевского, ибо она возникла в первой половине XVI в. в пору жесточайшей борьбы Габсбургского блока с Францией. В лучшем случае эта модель частично описывает динамику XVIII – первой половины XIX в., когда важнейшим фактором европейского баланса становится Англия с ее колониальными интересами. Однако, очень шаткая применительно к прошлым векам модель позволяет Данилевскому вывести точный прогноз на близкое будущее: наступающее к 1860-m с объединением Италии и Германии (и вполне утвердившееся после предвидимой им франко-прусской войны) относительное равновесие еще не разделенной на союзные блоки Европы больших национальных государств, по этому прогнозу, должно обернуться их экспансией за пределами Европы (что и впрямь проявилось в колониальной дележке мира последней четверти XIX в.).
Большое равновесие на Западе, по Данилевскому, опасно не только для человечества вообще, но и конкретно для России. Лишь явное нарушение баланса, появление в Европе сильного претендента на гегемонию притягивает к России все враждебные ему режимы, так что сам претендент оказывается вынужден ее задабривать. (Ярчайшим примером Данилевский полагает Тильзитский мир, якобы открывавший возможности, коих Россия не смогла использовать.) Напротив, в периоды равновесия, когда энергия Запада выплескивается вовне, России легко стать объектом агрессии (как в Крымскую войну). Отсюда вывод, что в интересах России поддерживать продолжительное, но не слишком устойчивое неравновесие на Западе, используя его для строительства славянского пространства. В условиях 1860-x выбор России был очень ограничен. Она могла бы поддержать западный центр Европы – Францию Наполеона III, но, как уже помним, российские авторы не без оснований подозревали этого императора в попытках воскресить политику Людовика XV, используя германские государства как стражей против России. Данилевскому периода «России и Европы» казалось соблазнительней поддержать Пруссию в собирании нового германского центра Европы вокруг Берлина, и побудив ее к разделу Австрии – необходимому условию славянского гроссраума. Как приманку он готов был уступить пруссакам якобы всё равно недостижимую для России балтийскую гегемонию, причем возрастала бы уязвимость Империи со стороны Балтики и Запада. Однако, Данилевский возлагал надежды на леса и болота Северо-Западной России, на сезонное оледенение Балтийского моря и обоюдоострый для России и Пруссии польский фактор.
Эта модель изобилует концептуальными ляпсусами. Жертвовать Балтикой было естественно для Терентьева, видящего Восточный вопрос в рамках «вопроса английского», – ситуации, сложившейся по ходу русско-английского противостояния на фронте от Балкан до Кашгара, с продолжением на Тихом океане. Но Данилевский как бы игнорирует этот фронт, концентрируясь на том же пространстве Балто-Черноморья, что и Р. Фадеев, но в отличие от Фадеева игнорирует системное строение Балто-Черноморья, которое должно было ориентировать и впрямь ориентировало новый германский центр на меридиональное развертывание Империи (что отлично ухватил Фадеев). Данилевский совершенно не считается с реальной возможностью того, что поднимающийся лидер Европы способен достичь и такого могущества, когда у него будет велик соблазн разделаться с Россией как сохраняющейся надеждой его европейских недругов. Данилевский не видит, что неустойчивость Тильзитского порядка практически сделала его проводником наполеоновского вторжения в Россию. А не видит потому, что реальная политическая динамика начала XIX в. в его глазах заслонена мифом, инспирированным реальностью иного порядка – реальностью системы «Европа-Россия» как таковой.
Это типичный для евразийской фазы нашего стратегического цикла миф о «необходимости» России потенциальному гегемону Запада («первому Риму») в ее роли «второго Рима», который поддерживал бы эту гегемонию, дружественно для него контролируя пространства к востоку от «коренной» Европы, каковые она сама якобы не может удержать под своим прямым влиянием. «Второй Рим» – одна из трактовок положения России в евразийской интермедии ее стратегического цикла, когда элементы бинарной метасистемы «Европа-Россия» тяготеют к предельному дистанцированию друг от друга. Но есть и другая трактовка положения России в данной фазе – и ее мы тоже найдем у Данилевского, когда он начинает выводить конкретные задачи для Империи.
Программа-минимум Данилевского проста: государство «достигает полного роста, только когда соединит воедино весь тот народ, который его сложил, поддерживает и живит его (в этот русский народ он включает и западных украинцев-галицийцев. – В.Ц.); когда оно сделалось полным хозяином всей земли, населяемой этим народом, то есть держит в руках своих входы и выходы из нее, устья рек, орошающих ее почти на всем протяжении их течения, и устья своих внутренних морей… Не надо еще, говоря о пространстве России, забывать и того, что она находится в менее благоприятных почвенных и климатических условиях, чем все великие государства Европы, Азии и Америки, что, следовательно, она должна собирать элементы своего богатства и своего могущества с большего пространства, нежели они» [там же, 377]. Как уже сказано, под словами об «устьях внутренних морей» Данилевский не может понимать Зунда. Прибалтика для него – труднопроходимый край, слабо связанный с Россией, а вопросы безопасности Петербурга его мало волнуют, поскольку он не видит в этом городе естественной российской столицы. Но он тверд в требовании сделать Черное море внутренним морем России, сузив оборонительную линию до ширины проливов и вместе с тем используя это море как бухту русского флота: отсюда он мог бы свободно вторгаться в Средиземное море, притом что российское побережье всё равно оставалось бы неуязвимым.
В рамках же доктрины Всеславянского союза Данилевский намечает своего рода компенсацию ослаблению Империи на Балтике: такой компенсацией оказывается выдвижение сил Союза на уровень «Чешского бастиона» – горной гряды, с высоты которой этот Союз держал бы под прицелом центрально-европейские германские земли. Он признаёт, что такая программа с европейским равновесием несовместима. Но опыт Крымской войны и пафос «русской доктрины Монро» делают для него одиозной мысль о русской гегемонии в коренной Европе. Выход он находит в призыве к России «войти в свою настоящую, этнографическими и историческими условиями предназначенную роль и служить противовесом не тому или другому европейскому государству, а Европе вообще, в ее целости и общности» [там же, 401].
Образ России – противовеса всей Европе в ее «целости и общности» – истинное открытие Данилевского, отражающее реальности геополитического бытия России XVIII-XX вв. как цивилизации-спутника западного сообщества, как одного из элементов ритмически пульсирующей системы «Европа-Россия», другим элементом которой оказывается собственно европейский мир с его имманентной глубинной биполярностью. Показательно, что это открытие оказалось возможным в фазе наибольшего отталкивания и отдаления России от «внутренних дел» Запада в евразийской интермедии, когда динамика Запада протекала как бы без России. Но сам этот ход еще больше запутывает когнитивную структуру текста Данилевского.
Прямым развитием смыслообраза «России-противовеса» становится тезис о необходимости для нее в условиях прогнозируемого всплеска европейского колониального экспансионизма расширить ту же миссию до масштабов Старого Света как целого (Новый Свет остается целиком полем деятельности США). Целью Всеславянского союза должно быть «не всемирное владычество, а равный и справедливый раздел власти и влияния между теми народами или группами народов, которые в настоящем периоде всемирной истории могут считаться активными ее деятелями: Европой, славянством и Америкой… Сообразно их положению и общему направлению, принятому их расселением и распространением их владычества, – власти или влиянию Европы подлежали бы преимущественно Африка, Австралия и южные полуострова Азиатского материка; Американским Штатам – Америка; славянству – западная, средняя и восточная Азия, т. е. весь этот материк за исключением Аравии и обоих Индийских полуостровов» [там же, 425]. Если перевести этот проект в категории Маккиндера, на долю Европы оставались осколки Внешнего и Внутреннего полумесяца, а собственно в Евро-Азии – исконные западно– и центрально-европейские земли плюс Скандинавия, Аравия, Индия и Индо-Китай, т. е. ряд окраинных полуостровов, оказывающихся под постоянной угрозой со стороны Империи Всеславянского союза: прибрежные страны Средиземноморья – из Черного моря, ставшего «русской бухтой», Центральная Европа – из-за Чешского Бастиона, Аравия – из Западной Азии, Индия – из Средней. Как бы пренебрежительно ни отзывался Данилевский об амурских и среднеазиатских акциях России, логика образа «России – противовеса Европе» в предвидении колониального бума толкает его к проекту Империи, держащей под властью ядро Старого Материка и под опекой или под стратегическим давлением – его приморье. Как частный случай такого давления видится Данилевскому возможность грозить Англии походом на Индию – походом, на его взгляд 1869 года, вполне осуществимым в видах удара по противнику, но неоправданно обременительным для Империи в качестве реальной завоевательной акции.
Внутри дискурса «России и Европы» властвует напряжение между несколькими трудно сочетающимися мотивами, ставшими после Данилевского неизменным достоянием нашей геополитической мысли. Один мотив трактует Россию как «второй Рим», наряду с «первым Римом» Запада держащий пространства, неподвластные «первому Риму». При этом «второй Рим» заинтересован в европейском дисбалансе, в выделении на Западе реального или потенциального гегемона, позиции которого зависели бы от благожелательства России (проявляющегося хотя бы в намерении дистанцироваться от европейских дел). Согласно другому мотиву, она являет мировой противовес Европе (Западу) в целом, соизмеряющий свою мощь с мощью не отдельных европейских стран, но всего западного сообщества, и стремится закрепить за собой положение, когда она могла бы стратегически контролировать даже не входящий в российское пространство географический «дом» западной цивилизации. Данилевский просто не замечает, что из одной посылки вытекают следствия, когнитивно отрицающие другую посылку. Он хочет использовать для России нарушение европейского баланса, а в то же время планирует такой гроссраум, который по военной мощи немногим уступил бы всей Европе, включая Скандинавию. Ему как бы невдомек, что формирование такого Большого Пространства, да еще выдвинувшегося на Европейский полуостров и нависшего над коренной Европой высотами чешского бастиона, – неизбежно подорвет саму основу европейского баланса сил: защищенность западного сообщества от внешней угрозы. Объективно калькуляции Данилевского предполагают возникновение, по крайней мере, союзной Пан-Европы, стоящей против Всеславянского союза: гроссраум против гроссраума. В таких условиях гегемон, нарушающий баланс внутри Европы и тяготящийся зависимостью от России, вынужден перейти в наступление, получив поддержку со стороны едва ли не всего Запада и бряцая той же риторикой «борьбы цивилизаций», правда, скорее, в варианте Духинского. Создание такого Всеславянского союза, о котором говорит Данилевский и на пути к которому он хочет использовать европейский дисбаланс, объективно вело бы к последствиям, лишающим проблему дисбаланса всякого смысла перед лицом угрозы Европе как цивилизационному целому.
Данилевский пытается «выстроить» для России пространство, отдельное от Европы, но видит его в таких рубежах, с которыми она угрожала бы выживанию самой Европы не менее, чем тютчевский замысел «России будущего».
Как и у Тютчева, у Данилевского Турция не актуализирована в качестве противника России. В развиваемом им мировом сюжете оттоманский эпизод – что-то вроде ретардации в истории Восточного вопроса, ретардации в условиях заката Греции-Византии и слабости славянских государств. Мусульманство осложняет большую игру православия с Европой. Последняя то использует мусульманский фактор для рикошетных ударов по православию (четвертый крестовый поход), для шантажа православия и попыток его поглотить (Флорентийская уния), то, отвлекаясь на борьбу с мусульманской угрозой, позволяет славянству самосохраниться, а России выжить и вырасти в Империю. Мусульманство не дало Европе решить Восточный вопрос в свою пользу (ср. у Тютчева о турках – «хранителях» Константинополя). С возвышением России синхронизируются закат Турции как отвлекающего Запад фактора и упадок Австрии, лишающейся всех своих функций – барьера коренной Европы против Турции (эта функция просто отмирает), восточного германского центра Европы (функция уходит к Пруссии), формы самосохранения южного славянства (эту функцию готова непосредственно принять Россия). В этих рассуждениях прорезается провиденциальный компонент, как бы надстроенный над секулярной по своей сути доктриной Данилевского. Данью тому же провиденциализму звучат суждения о трансцендентных причинах, которые скрываются за разнородными факторами, дающими единый исторический эффект. Трансцендентные, или идеальные, причины – единственный и, в общем, не очень конструктивный <религиозный> элемент доктрины Данилевского, фокусирующейся на политическом служении своему культурно-историческому типу ради полного раскрытия многообразия человеческого рода.
Глубокая психологическая секуляризованность[40] позволила Данилевскому по-новому поставить вопрос о черноморских проливах, отделив его от вопроса о Константинополе, и рассмотреть первый во всем его чисто геостратегическом спектре. Закрыть Россию с юга; обречь любого противника с запада либо пятиться перед замерзающей Балтикой, либо растягиваться по огромной западной границе, дробить и рассредоточивать силы по лесам и болотам; предотвратить возможность «второй Крымской войны», чего, в общем, не добился Горчаков; сжать морскую пограничную линию России на юге в точку; заложить основы реальной морской мощи, когда флот мог бы из «русской бухты» выходить в Средиземноморье, грозить английским базам и французскому побережью и даже выходить в Индийский океан (имея позади прочное убежище), – обо всех этих задачах Данилевский пишет с наступательным восторгом. Но лишь на последнем месте стоит моральный и религиозный момент – момент уже сугубо константинопольский, внушающий геополитику сугубую, обостренную осторожность, несмотря на всю захватывающую архаику воскресающей под его пером картины Царьграда как точки, с которой «нет места на земном шаре, могущего сравниться центральностью своего местоположения».
Именно в 1860-x у русских авторов прорезается тревога перед включением в геополитическое поле России в качестве цивилизационного и политического центра – нерусского города, лежащего вне исторического пространства России, хотя и бывшего в веках объектом экстраверсии. Еще в 1867 г. Погодин, ссылаясь на некоего генерала, заговорил насчет скверных последствий для России от Константинополя, который способен оттянуть ее силы, и выдвинул тему проливов как внешнего доступа к России [Погодин 1876, 178]. О том же следом твердит и Данилевский: «Столица, лежащая не только не в центре, но даже вне территории государства, не может не произвести замешательства в отправлениях государственной и народной жизни, не произвести уродства неправильным отклонением жизненных, физических и духовных соков в политическом организме». Константинополь грозит произвести тот же эффект, что и Петербург, но в размерах неизмеримо больших: превратить страну в придаток выдвинутого за ее пределы города, отсасывающего из России «нравственные, умственные и материальные силы». Отсюда вывод, что «Константинополь не должен быть столицей России, не должен сосредоточивать в себе ее народной и государственной жизни – и, следовательно, не должен и входить в непосредственный состав Русского государства». Как центр Всеславянского союза он останется вне России, но войдет в обслуживающее мировые позиции славян политическое пространство. Данилевский осознал опасность управления Россией из центра, вынесенного на крайнюю периферию и грозящего разрушить российскую идентичность (хотя этот взрыв идентичности не смущал ни Тютчева, ни Герцена 1848–1854 гг., приветствовавших поход на Константинополь как шаг, за которым кончается обособленное существование России и Европы, и обе они сливаются в общем новом состоянии на едином пространстве). Однако, не очевидно, что решение, намеченное Данилевским, принесет тот результат, которого бы ему хотелось, поскольку смыслом существования России оказывается строительство Всеславянского союза с Константинополем, и ядро этого союза всё равно будет из российского географического и человеческого материала; избежать «оттягивания» русских сил в Константинополь всё равно едва ли бы удалось, так что на панславистском пространстве возникла бы борьба двух центров – борьба без явных правил в отличие, скажем, от комплементарного, гармонизированного в XIX в. «соперничества» Москвы с Петербургом.
Сравнивая проект Данилевского с проектом Тютчева, можно прийти к интересным заключениям. У обоих отсутствует чувство российского ядра от Днепра до Тихого океана, отличающее Р. Фадеева; за точку отсчета принимаются наличные границы Империи, для которой намечаются две ступени расширения. У обоих второй ступенью расширения оказывается интеграция в Россию народов Европы, не принадлежащих к ее романо-германскому ядру. Рядом со славянами тут оказываются народы (греки, румыны, венгры), «которых неразрывно, на горе и радость, связала с нами историческая судьба, втиснув их в славянское тело» [Данилевский 1991, 363]. Надо ли это читать – «превратив в этнографический материал славянской цивилизации»? Едва ли. Данилевский, похоже, сознаёт особый статус этих народов, как бы зависших между двумя цивилизациями, и даже готов к ним присоединить цивилизационно мутировавших, вестернизировавшихся славян – поляков. Вместе с венграми поляки для него – враждебный элемент, обреченный присутствовать в Союзе (на его переднем крае, впритык к Европе!) Греков и румын он готов расценивать как племена, искупающие отсутствие кровного (= лингвистического) родства с Россией – родством религиозным. Однако сам же испытывает жестокую вражду к любым попыткам возродить «греческий проект»: «новая Византия» для него – это потенциально новая Австрия с греко-румынским дуализмом, работающая на «нравственное порабощение славянства» [там же, 324]. Итак, во Всеславянский союз попадают народы переходного статуса со специфическими претензиями и, главное, способные при отстаивании этих претензий отталкиваться от России и опереться на «коренной» Запад (правда, в отличие от Погодина, Достоевского и Леонтьева он не видит возможности оборотничества самого славянства, его способности выступить враждебным России элементом, по Духинскому).
И наконец, что особенно показательно, у Тютчева третий пояс расширения России в основном предполагал поглощение Европы и Средиземноморья, т. е. интеграция славян оказывалась подготовительной, переходной ступенью к этому финальному акту. У Данилевского таким последним расширением становится контроль «всеславянства» над всем азиатским материком, кроме его великих полуостровов. Иначе говоря, в этом пределе славяне должны войти в один гроссраум с массой азиатов (хотя Данилевский и не допускал присоединения Турции к России, перегрузки страны «магометанским инородным населением»). Панславизм Тютчева и панславизм Данилевского – феномены принципиально различные, ибо, соответствуя разным фазам нашего стратегического цикла, они выступают опорными компонентами радикально различающихся мировых проектов.
Уточнение и развитие взглядов Данилевского в 1870-х после «России и Европы» достойно пристального комментария. В 1871 г. в своем отклике на предвиденную им франко-прусскую войну он неожиданно быстро отошел от некоторых прежних оценок: вырастая в крупнейший центр Европы, Берлин объективно перестает быть потенциальным союзником, но, как главный представитель романо-германской цивилизации, предстает главным противником России – особенно из-за своей резкой выдвинутости к востоку. Австрия неизбежно окажется в германском фарватере и, заключенная в систему Второго рейха, обретет вознаграждение на Балканах (это значило бы, что восходящий центр Европы отведет Австрии ту роль, которую ей когда-то готовила ныне слабеющая Франция устами Людовика XV и Талейрана, Полиньяка и Наполеона, – роль прикрытия против России, отвлекающего ее силы). Отсюда пересмотр отношения к Франции. Данилевский уверен, что, организуя барьеры против России, как гегемон своей цивилизации, Франция не имела во вражде к России интереса жизненно-национального в отличие от глядящей на славянский восток Германии (как сказать, если учесть, что до середины XIX в. Россия усиленно поддерживала дряхлевший австрийский центр и стремилась минимизировать французское превосходство). Теперь, в новом раскладе Англия должна поддержать Германию против России, а ослабленная Франция станет российским союзником, что позволит Петербургу использовать в своих видах «французскую партию» славянских и балканских либералов.
Данилевский замолкает в следующие годы, когда российское правительство пытается подключиться к обустройству обновленной Европы через «Союз трех императоров» – иначе говоря, через поддержку Россией обновленного и грозно окрепшего восточного центра европейской системы. Он возвращается в политическую публицистику во время русско-турецкой войны, чтобы повторить прежнюю программу «русской доктрины Монро» с добавлением нового пункта – о желательности обращения Турции в вассальное владение России. Помня уроки Ункяр-Искелесийского договора, он считает, что речь должна идти не об аморфном дипломатическом «влиянии», но о совокупности жестких военных и финансовых обязательств, которые, будучи наложены на Турцию, связали бы ее безоговорочно: «политическое влияние только тогда прочно, когда нет сил ему противиться». Отвергая как «нейтрализацию» проливов (запирающую России выход в мир), так и их «свободу» (подпускающую любого желающего противника к российским южным берегам), он разрабатывает уникальную геостратегическую типологию проливов, беря за критерий возможности обойти их или преградить.
Его взгляд на Константинополь уже не только полностью свободен от религиозно-исторических мотиваций, но сами эти мотивации им отвергаются даже с какой-то ожесточенностью. «В настоящем виде своем Константинополь не имеет даже значения великого памятника христианской святыни, подобно Иерусалиму, или даже подобно Афону, нашему Киеву, Троицкой Лавре. Он не привлекает к себе толпы поклонников». Отрицая в нынешнем Стамбуле «даже присутствие элемента религиозного», Данилевский допускает его возрождение лишь в рамках панславистского проекта. Он не мыслим ни как военный город (опора международных интриг против России), ни как город греческий (что сделало бы Грецию враждебным России проевропейским сторожем проливов). Но еще настойчивее выступает Данилевский против включения Царьграда в «государственное тело» России, где он фатально «перевернет центр тяжести». Россия должна быть «ограждена от обаятельной и притягательной силы, присущей этому величию», несущему с собою возмущение российской цивилизации и всей жизни. В идеале Константинополь – вольный город под исключительным протекторатом России. Пока же следует «оставить Константинополь и проливы под властью» Турции, притом что сама «Турция будет поставлена в … полную зависимость от России». Речь идет о притяжении Турции к панславянскому проекту в числе иных неславянских конструктивных элементов. В отличие от Австрии к Турции он не питает никакой вражды, и это вопреки несчетным в те годы газетным сообщениям о турецких зверствах, чинимых над славянами. «Мы под личиной войны с Турцией вели войну с Европой». Поэтому, когда после войны «от Турции останется одна тень», турок можно использовать для прикрытия российского хозяйничания в проливах: «тень эта должна еще до поры до времени оттенять берега Босфора и Дарданелл» [Данилевский 1890, 84].
В месяцы Берлинского конгресса намечается крупнейший перелом в дискурсе Данилевского, панславизм куда-то отходит вдаль. Оказывается [там же, 136, 137], что «истинный и непримиримый, всегда и во всем, и в мире и в войне стремящийся вредить России враг есть – Англия» (не Австрия и не Германия, теснящие славянство). Теперь Данилевский – не с Фадеевым, а с Терентьевым; отвернувшись от Балто-Черноморья, он видит Восточный вопрос в системе отношений двух сверхдержав, выстроенной по евроазиатскому югу. Черноморские проливы как фактор российской уязвимости уравновешиваются ведущими в Индию горными проходами. Данилевский еще пытается осмыслить «англо-азиатскую» тему как развитие темы борьбы России и Европы, как противодействие державе, главным образом утверждающей европейское владычество в мире. Но эта, новая тема всё более развивается в автономный компонент, и Данилевский смыкается с И.В. Вернадским, твердя о миссии России – сокрушить «то исполинское хищение, ту громадную неправду, то угнетение, распространяющееся на все народы Земли (значит, и на европейцев? – В.Ц.), которые именуются английским всемирным морским владычеством» [там же, 205]. Или когда он умиленно пишет о наполеоновской «континентальной системе – мере, неоцененной современниками, но которая, тем не менее, могущественнейшим образом содействовала развитию промышленности на материке» [там же, 164]. Восточный вопрос выступает теперь для него, как и для массы его современников, «английским вопросом». Под маской «духа пространств», «духа непримиримого противостояния континента и моря» действует дух времени – именно той фазы стратегического цикла, когда Россия, по пророчеству Талейрана, будучи отброшена из Европы «в азиатские степи», составила новую конфликтную систему с Англией. Два географических маргинала континентальной Европы, в XVIII в. служившие европейскими балансирами, с уходом России из европейской игры были обречены на эту борьбу за европейскими пределами. Панславизм с попыткой создать особое пространство России от Балтики до Балкан – «неевропейское» пространство на Европейском полуострове – лишь затушевывал и осложнял логику нового расклада. Берлинский конгресс стал для Данилевского моментом той истины, которую наш автор выразил с четкостью, достойной Терентьева или Скобелева: «России ничего другого не остается, как постараться, чтобы проливы потеряли для нее (Англии. – В.Ц.) всякую ценность, чтобы свободное сообщение с Индией утратило для нее всякое значение. Князю Паскевичу приписывают слова, что путь в Константинополь идет через Вену. Видимо, и путь к Босфору и Дарданеллам идет через Дели и Калькутту» [там же, 138]. Столкновение этих двух афоризмов раскрывает логику двух контрастных фаз стратегического цикла, изменчивую функцию т. н. Восточного вопроса, мотивировавшего в одном случае – превращение России в протектора Германии, а в другом – крепнущую южно-азиатскую фокусировку.
Сообразно с логикой новой фазы Данилевский провозглашает неизбежность окольного азиатского пути не только к проливам, но и к объединению славянства [там же, 178, 219], решительно поменяв местами намеченные в «России и Европе» фазы расширения Империи, чтобы затем, очистив совесть панслависта, обратиться к характеристикам России как державы азиатской, «державшей в своих руках судьбы Востока, обаяние которой… должно было утвердиться не только на берегах Босфора, но и на берегах Инда, Ганга и Ирравади» [там же, 149], которая одна «имеет возможность угрожать Индии, в случае нужды подать помощь Китаю, защитить Персию» и в случае «ослабления Турции, с одной стороны овладеть проливами», «с другой же, по соседству, сделаться наследницей богатейших стран Азиатской Турции» [там же, 177]. В свою очередь, «владение Эрзрумом позволило бы нейтрализовать английские дороги от Босфора к Персидскому заливу» [там же, 146].
Написанная по следам Берлинского конгресса статья «Горе победителям!» выразила новое мировидение Данилевского с предельной чеканностью. Статья констатирует полное крушение попыток России решать Восточный вопрос в свою пользу, опираясь на европейский баланс. Круто разведя вопросы о культурно-цивилизационной и политической принадлежности России к Европе, он заявляет, что его интересует только последний аспект. «Я готов даже согласиться (конечно, не иначе, как в виде риторической фигуры уступления), на эту нашу культурную принадлежность к Европе. … Но именно сопредельность России с Европой причиной тому, что интересы России не только иные, чем интересы Европы, но что они взаимно противоположны, что в политическом плане Россия не только не Европа, но Анти-Европа. … Всякий организм – будь то индивидуальный, как человек, или сложный как государство, или коллективный, как система государств, получает сознание о своем отдельном бытии только при пробуждении сознания своей противоположности чему-либо. … Анти-Европа» и есть Россия и представляемый ею Славянский союз [там же, 172, 173–174, 180]. Отвлекаясь от каких-либо позитивных характеристик России как цивилизации («культурно-исторического типа»), Данилевский ограничивается сугубо функциональным международно-политическим отношением России к системе Европы и в этом ракурсе определяет Россию как «Анти-Европу», как член бинарной системы, другим членом которой выступает западное сообщество в целом с его внутренним балансом. Россия для позднего Данилевского – не просто самобытная цивилизация, но функциональное «иное» западного сообщества. Тем самым он вплотную подошел к выводу не просто о некой миссии России быть противовесом европейскому сообществу как целому, но о реальном существовании такого международного образования как метасистема «Европа-Россия». Я полагаю, что именно эта модель находит свой культурологический эквивалент в предложенной Б. Гройсом трактовке ряда явлений русской мысли как представления Запада о «своем ином, своем «анти-». Тем самым понятие «Анти-Европы», введенное Данилевским применительно к функционированию международных политических структур, может получить и культурологическое измерение.
Однако, после этого вывода следует курьезное утверждение, что для России перестать отождествлять свои интересы с европейскими, начать руководствоваться сугубо собственным эгоизмом – это и значит начать жить по-европейски, как живут между собою отдельные страны. Как будто осознать себя «Анти-Европой» значит перестать соотносить себя с Европой как целым. Как будто дистанцирование от европейского концерта и переориентация интереса в Азию, взгляд на Восточный вопрос в азиатском контексте мог привести к иным результатам, кроме возникновения сверхсистемы «Европа-Россия», а также второй биполярной системы «Англия-Россия». Апелляции Данилевского к Екатерининскому веку как эпохе истинно национальной политики имели характер столь же мифотворческий, как и попытки Чаадаева увидеть в той эпохе пример бескорыстного служения России Западу. Факты – говорящие о том, что идеология фазы А, участия России в игре разъединенной Европы в качестве балансира, единственной фазы, когда Россия вправе видеть перед собой не Европу в целом, а отдельные государства, оставалась совершенно непрозрачной для мыслителей, погруженных в ситуацию как наших «европейских максимумов», так и «евразийских интермедий».
Как реалист-геостратег Данилевский кончил жизнь типичным «протоевразийским мыслителем», рвущимся на Босфор через Колхиду и Калькутту и склоняющимся к мысли, что собирание славянства как-то проистечет из парализующего Англию контроля нашей Империи над платформами Азии.
VI
А между тем, 1870-е вносят сугубое осложнение в график российского стратегического цикла. Объективная ситуация в Средней Азии (конфликт с Хивой, восстание 1875–1876 гг. в Коканде, столкновения с туркменами), как и говорил Венюков, не давали России остановиться на каком-либо азиатском рубеже. А вместе с тем, в Европе обозначилась конъюнктура, которая, казалось бы, позволяла Империи возвратиться в европейский расклад и уже с опорою на него сфокусироваться на балканском направлении, на проливах, сохранявших первое место в национальном перечне стратегических приоритетов. В главке I я уже очертил геостратегическую механику этого времени. «Уход» России из Европы во второй половине 1850-х стал возмездием Австрии: изгнанная из Италии Кавуром и Наполеоном III, а из Германского союза – Бисмарком, к концу 60-х реформированная на началах австро-венгерского дуализма, она перестает быть восточным силовым центром Европы, самое большее цепляясь за роль балансира в новой франко-прусской игре. Разгром Франции определил восхождение бисмарковской Германии в роли потенциального европейского гегемона, но гегемона, сохраняющего уязвимость с востока.
С начала 1870-х проявляется двойственное отношение новой Германии к России: формальное сотрудничество при попытке подстраховаться против русских, втянув Австрию в германскую сферу влияния, соединив балтийский и карпатский узлы Балто-Черноморья. Будет ли Россия опорным глубоким тылом нового германского восточного центра, или она представит вызов этому центру, нейтрализуемый австрийским авангардом? – такой вопрос вставал перед Германией. С устранением Австрии из биполярного расклада Европы, в глазах Бисмарка и его преемников, она обретала роль, которая ранее ей отводилась в планах стремившихся к европейской гегемонии французских руководств – в планах Людовика XV, Талейрана, Полиньяка, Наполеона III. Сама же Россия оказывалась в положении, когда, соотнося себя с европейским раскладом, она должна была выбирать между ролью германского тыла и попыткой бросить Германии вызов в качестве ее соперницы, потенциального восточного центра Европы, претендентки на австрийское наследство. Кто будет основным тылом Германии, обеспечивающим ей перевес над Францией, – Австрия или Россия? Ответ на этот вопрос во многом определял выживание Австрии и Франции. Все эти выборы оказывались связаны зависимостью. Россия, не позволяющая немцам подмять и подавить Францию, становилась тылом ненадежным, на роль главного тыла выдвигалась Австрия, а Петербург становился центром, конкурирующим с Берлином. Последний оказывался прямо заинтересован в развороте России лицом к Азии, и Россия, которая позволила бы подавить до конца Францию, становилась бы привилегированным германским тылом: но при этом перед Берлином вставал призрак грозной восточной силы, контролирующей балто-черноморский «вход» Европы и ликвидирующей суверенную Австрию. Все эти связи можно представить в таблице:
В мемуарах Бисмарка сквозит постоянный страх, что Австрия в целом окажется притянута к России как таковой или в рамках новой франко-русско-австрийской «коалиции Семилетней войны» [Бисмарк II, 212 и сл., 227 и сл.]. Точно так же страшился он грез русских панславистов о дезинтеграции Австрии и включении ее немецких земель в Великую Германию: его пугала как дестабилизация пространств от Тироля до Буковины, так и появление внутри Германии нового ядра – Вены, которой в силу ее традиций «нельзя было бы управлять из Берлина как <его> придатком» [там же, 42] и которая, утратив роль объединителя негерманской Центральной Европы, вновь стала бы «контрцентром», разрывающим Германию. Тяготея к «органическому» германо-австрийскому союзу, гарантирующему поддержку Австрии против России, Бисмарк опасался сделать Германию жертвой антирусского авантюризма: не воевать с Россией он хотел, а удержать ее вне Европы и для этого постоянно связывать ее Австрией [там же, 225]. Россия как германский тыл могла означать подавление Франции, но за это потребовать или осуществить де-факто ликвидацию Австрии, что превратило бы европейскую биполярность в противостояние Европы и России (аналог Ялтинской системы). Россия, поддерживающая выживание Франции, толкала Германию к союзу с Австрией и рано или поздно должна была определиться в качестве конкурирующего с Берлином и союзного Франции претендента на австрийское наследство в Европе.
Вся эта логика нового расклада выявлялась в 1870–1880-х постепенно в результате неудачных попыток России вернуться в Европу – опираясь на этот расклад, открыть новую фазу А в новом стратегическом цикле. Я говорил уже о реальном основании этой неудачи: вхождение повышательной сверхдлинной волны европейского милитаризма в срединную интермедию, когда уже определились стиль и тип «народных войн» на полное уничтожение противника, но не созрел проект, который бы оправдывал подобную войну в общеевропейском масштабе, да и конфигурация сил оставалась неопределенной, и поводы к войне – сомнительны. Русские политические мыслители сумели констатировать это положение. Данилевский отмечал, что после объединения Германии и Италии в Европе консолидированных национальных государств наступит затишье – ибо будет очевидно, что надлом любого из них в новой войне повлечет ощетинивание остальной Европы против победителя: наступает эра баланса и колониальных переделов внешнего мира. Достоевский отмечал трудность создания в эту пору в Европе коалиций из-за разнородности потенциальных интересов, из которых не собирались конфигурации, способные консолидировать державы.
В этих условиях опора Германии на Россию как тыл ради большого германского наступления в Европе оказывалась вариантом более рискованным, чем поддержка Австрии как стража против России при сохраняющемся перевесе германского центра над Францией. Еще оптимальнее Бисмарку казался вариант, который позволил бы сочетать «органический союз» Германии с Австрией и удержание России в качестве лояльного тыла. Этот вариант, на который Бисмарк пошел бы особенно охотно, предполагал передачу проливов, а может, и Константинополя России с разделом Балкан на русскую (Румыния, Болгария) и австрийскую (Босния, Сербия) зоны. Россия, владеющая Константинополем и находящаяся в открытом антагонизме с Англией, попадала бы в полную зависимость от Австрии и Германии и была бы отстранена от какого-либо серьезного вмешательства в дела Европы [Бисмарк II, 239 и сл.]. Россия получала бы южный участок старой балтийско-черноморской системы (без ее расширения на запад), после чего всецело сосредоточивалась бы на борьбе с Англией вдоль евроазиатской дуги от Балкан до Тихого океана. Австрия нависла бы над юго-западным флангом России как германский аванпост, Германия главенствовала бы на Балтике и выходила в европейские лидеры. В общем, Бисмарк был существенно щедрее Вильгельма II и Гитлера, а блестяще предвиденная им логика германского движения к Черному морю и на Ближний Восток была достаточно чужда «железному канцлеру».
Помимо других моментов, осложнявших реализацию этого плана (распространяющееся в России панславистское видение в стиле Фадеева-Данилевского и т. п.), следует назвать и позицию Горчакова. Едва ли можно согласиться с акад. С.Д. Сказкиным, писавшем о Горчакове, что «дипломатические победы его были весьма сомнительны, и вся его деятельность едва ли может быть названа успешной» [Сказкин 1964, 414]. Успехи были – вроде отражения европейских демаршей по польскому вопросу, улаживания среднеазиатских осложнений с Англией, – но если исключить «возмездие» Австрии руками Наполеона III, эти успехи были в основном оборонительного характера. Исповедуя принцип сосредоточения на внутренних делах и «свободы рук», Горчаков не имел ясной стратегии возвращения России в Европу, но не стремился и к балканской ангажированности, а расширение в Средней Азии, видимо, искренне трактовал как вынужденную политику, которую стремился ограничить созданием там буфера. При этом к германской гегемонии в Европе он испытывал сильнейшую неприязнь, стремясь предотвратить надлом Франции [ИВПР 1997а, 80]. Россия при Горчакове отказывалась определяться как германский тыл, а потому ей трудно было рассчитывать на германскую поддержку в балканском наступлении, – но Горчаков к этому наступлению, в общем, и не стремился. Придя к руководству российским МИДом в фазе D и выразив дух этой фазы в формуле «сосредоточение», или «собирание с мыслями», Горчаков был втянут в евразийскую игру и в ее рамках пытался делать то, что ему казалось наилучшим, но он не был готов к каким-либо крупным акциям на европейском направлении.
Вся политика 1870-х выглядит рядом накладок и противоречий. Уже в 1870–1873 гг. с возвышением Второго рейха военное министерство (Милютин) разрабатывает план создания по Висле и Неману системы укреплений для обороны против Австрии и Германии и перехода против них в наступление [там же, 38]. В то же время конвенция Александра II и Вильгельма I от 1873 г. утверждала включение России в расклад Европы в качестве союзницы Берлина. Но Бисмарк фактически блокировал конвенцию, сделав ее условием присоединение к ней Австрии, а тем самым исключив возможность использовать конвенцию в панславистских раскладах. Созданный взамен «Союз трех императоров» страховал Германию с Востока, а России развязывал руки в Центральной Азии, любые же балканские акции Петербурга ставил под берлинский и венский контроль. Итак, активность России направлялась против Англии и распределялась вдоль «евроазиатской дуги», так что действия на Балканах – околоевропейском участке дуги – оказывались затруднительны. Настаивая на радикальной локализации русско-турецкой войны, Горчаков, по словам современников, сознательно создавал условия для «полувойны», которая «могла привести только к полумиру» [Бисмарк II, 193 и сл. Сказкин 1964, 415]. Принимая такую ситуацию как должную, Горчаков ее усугубил демаршами середины 1870-х в пользу Франции, убеждая лишний раз Бисмарка в значении Австрии как аванпоста против России. Чем прочнее становилось германо-австрийское пространство, тем более сужался выбор России, сводясь к двум вариантам: либо игра вдоль евразийской дуги в отдалении вне Европы, либо возвращение в Европу в качестве противницы Германии и союзницы западного центра (но для этого и самому западному центру предстояло быть существенно укрепленным и реорганизованным, и должны были быть полностью пересмотрены отношения России к Англии).
В этом тупике прорезались единичные случаи, когда перед Россией намечался третий вариант решения Восточного вопроса и влиятельное возвращение в Европу на основе сделки с Германией в качестве ее тыла. Первый случай – это конвенция 1873 г. в изначальном варианте, без участия Австрии, перечеркнутая Бисмарком. Случай второй – запрос Александра II в 1876 г. в начале войны на Балканах насчет возможности германского нейтралитета в случае наступления России против Австрии. Бисмарк конфиденциально объявил таким условием согласие России на «совершенный разгром Франции», – и сделка была заблокирована Горчаковым [ИД II, 37" 41. ИВПР 1997а, 188]. В последний раз подобные шансы обозначились в 1886–1887 гг., когда представители Александра III в Берлине Петр и Павел Шуваловы предложили Бисмарку русско-германский договор без участия Австрии, предполагающий нейтралитет России в войне Германии против Франции при любых условиях – вплоть до того, что первая «посадит прусского генерала в качестве парижского губернатора». Суля России проливы и Болгарию, Бисмарк опять-таки оговорил целостность Австрии и ее влияние в Сербии, и в результате договор был дезавуирован Александром III [ИД II, 248–251. ИВПР 1997а, 265]. Камнем преткновения постоянно оказывались славянские земли Австрии и прилегающие к ней участки Балкан: эти земли, с точки зрения Бисмарка принадлежавшие к германской Центральной Европе, а с русской – видевшиеся то ли естественной частью русского Балто-Черноморья (Фадеев), то ли западной оконечностью евроазиатской дуги, представляли собой участок, относительно которого сталкивающиеся «национальные геополитические коды» двух сторон не допускали согласования.
В результате России пришлось вести войну 1877–1878 гг. на жестких английских и австрийских условиях, а выход за рамки этих условий в Сан-Стефанском прелиминарном договоре был пресечен совместным германо-австро-английским нажимом на Берлинском конгрессе. На этот нажим Россия могла ответить лишь действиями в Афганистане, повлекшими его оккупацию Англией, – заставившую русских в их черед наступать в Туркмении. Россия оказывалась вынуждена идти на новые сделки с Германией и Австро-Венгрией, заключившими против нее в 1879 г. меридиональный комплот. Восстановленный «Союз трех императоров» гарантировал России нейтрализацию проливов, а значит, защиту ее черноморского побережья от Англии (зато Австрия развернула экспансию на Балканах от Бухареста до Белграда). Партнеры последовательно переориентировали Россию на отдаленные от Европы участки евроазиатской дуги. Впрочем, расходясь с австрийцами, Бисмарк постоянно оставлял в запасе вариант с уступкой русским Болгарии и проливов в обмен на европейскую гегемонию Берлина – при последующем сдерживании России австрийскими и английскими силами. Горчаков сопротивлялся «Союзу трех императоров», но никакой альтернативы не предлагал и вообще всё больше отходил от реальной политики. Берлинский конгресс и позиция, занятая на нем Германией, определили крушение преждевременного русского «возврата в Европу»: наметившаяся новая фаза А оказалась абортивной. «Союз трех императоров», по крайней мере, давал возможность возобновить евразийскую интермедию, достраивая русское пространство на юге, призывы же Горчакова к «свободе рук» оказывались совершенно неконструктивными. Существенно другое: на константинопольском направлении Россия была нейтрализована Австрией, за которой стоял Второй рейх, усиливающийся на Балтике и начавший с 1880-x инвестировать в перевооружение турецкой армии и насыщение ее германскими инструкторами. Официально трактовавшееся до сих пор как вспомогательное, поддерживающее босфорские и константинопольские замыслы среднеазиатско-индийское направление становится единственным, на котором Россия могла действовать до тех пор, пока не соглашалась на полную германизацию Европы (включая и Балтику, и значительную часть балкано-славянского пространства).
Оформляя новую ситуацию, в 1880 г. возникает проект Д.А. Милютина, изложенный в записке «Мысль о возможном решении Восточного вопроса в случае окончательного распада Оттоманской империи»: странная идея Балканской федерации с включением в нее же и Константинополя с Адрианопольским вилайетом, и управляемых Австрией Боснии и Герцеговины. Всё это скопище территорий виделось Милютину управляемым комиссией, образуемой представителями великих держав и хлопочущей о нейтрализации проливов Мраморного моря. Этот замысел – вырожденный итог целой серии русских проектов, включающей «греческие царства» Екатерины II и Пестеля, «Дунайский союз» Погодина и т. д., то продолжающих Россию на юго-запад, то, наоборот, прикрывающих ее с этого направления, которое Милютин, чтобы защититься от Англии, готов был полностью отдать под контроль «мирового сообщества». При этом политик-практик и организатор реформируемой армии даже не задается вопросом, который встает в те же годы перед разбирающими сходные планы Данилевским и Достоевским: во что же способно обратиться подобное, нейтрализуемое «мировым сообществом» пространство в случае возникновения в Европе большой войны, которой бы это сообщество раскололось на враждующие блоки. Весь проект Милютина рассчитан на долгий европейский мир и действия России по преимуществу вне Европы. Евразийская фаза продолжалась, толкая ко всё более глубокой переоценке ценностей и перестройке картины мира российских политиков и стратегов.
VII
Достоевский как публицист с обостренным интересом и вкусом к международной политике воплотил с особой силой веяния этого десятилетия с его зависанием между проскоком в новый цикл и продолжением евразийской фазы. Сравнивая его с Данилевским, видишь: с одной стороны, он больше, чем тот, живет спором с идеями европейского максимума (1840–1850-х), он более чуток к ускользнувшим в 1870-х шансам начать новый цикл; с другой стороны, он не ангажирован панславистски и потому глубже и богаче видит тему «русского пространства в Азии». Вообще, «Дневник писателя» и наброски к нему перенасыщены гео– и хронополитическими наблюдениями, заставляющими вспомнить о военном образовании автора. То он вспоминает выкладки Мальтуса насчет способности территории «поднять ту численность населения, которая сообразна с ее средствами и границами», – и заключает: «Таким образом, многоземельные государства будут самые огромные и сильные. Это очень интересно для русских» [Достоевский XXIV, 89]. То мимоходом заметит о войнах как «нормальном состоянии» с периодом в 25 лет [Достоевский XXV, юз; XXIV, 276], то рассуждает о случаях появления нового оружия задолго до того, как специфическое стечение обстоятельств обнаружит его подлинный потенциал [Достоевский XXIV, 269]. И много такого в «Дневнике» – от прогнозов насчет деградации России в перспективе нарастающего «безлесья» до пронзительной экологической эсхатологии высказываний о том, что «человечество обновится в Саду и Садом выправится» [Достоевский XXIII, 96 и сл.].
Связь с идеологией досевастопольских лет сквозит в монологе Князя из набросков к «Бесам», в то же время передразнивающем фразеологию («этнографический материал») «России и Европы» Данилевского: «никогда еще мир, земной шар, земля не видали такой громадной идеи, которая идет теперь от нас с Востока на смену европейских масс, чтобы возродить мир. Европа и войдет своим живым ручьем в нашу струю, а мертвою частию своею, обреченною на смерть, послужит нашим этнографическим материалом» [Достоевский XI, 167]. Вся «мертвая часть» Европы назначается на ту роль «материала» для российской цивилизации, которую Данилевский отводил финским племенам. Но это – из речи героя, а в собственных черновиках Достоевский не устает отрекаться от «устарелого панъевропеизма». «Может ли кто верить в такую дряхлую мечту (что русские покорят Европу)». «Нет человека теперь в Европе, чуть-чуть мыслящего и образованного, который бы верил теперь тому, что Россия хочет, может и в силах истребить цивилизацию…. Невероятно, чтобы не знали они, что Европа вдвое сильнее России, если б даже та и Константинополь держала в руках своих» [Достоевский XXIII, 185, 62].
Власть над Европой – идея «дряхлая», идея ушедшей эпохи. Но Достоевский лукавит: он сам постоянно возвращается к этой «дряхлой» идее, однако смещает ее в то неопределенное будущее, где Европа национальных государств будет расшатана социализмом (при этом крушение папских притязаний на светскую власть вызывает мысль о будущем переплетении «подрывной» работы католицизма с социалистическими движениями). Он, как и Тютчев, верит, что эти силы приведут к тому разложению, которое позволит России, до поры самоотстранившейся от западных дел, вернуться в Европу судьей, который, держа судьбу этого сообщества в своих руках, с православных позиций войдет в диалог с европейским социализмом. В этой временной дали «будущность Европы принадлежит России. Но вопрос: что будет тогда делать Россия в Европе?… Россия решит вовсе не в пользу одной стороны; ни одна сторона не останется довольна решением» [Достоевский XXII, 122; XXIV, 147]. Однако к тому столетию русские уже будут вполне самостоятельны и дистанцированы от европейских забот, обретя новую мощь, – и Достоевский не случайно в этой связи выписывает слова «Восточные окраины и Сибирь» [Достоевский XXIV, 147]. Откат русских к востоку – ретардация сюжета, отсрочивающая и в то же время подготавливающая паневропеистский финал «русского суда». Восприятие европейского социализма как фактора, который в своей разрушительности работает, в конечном счете, на Россию, выливается у Достоевского в раздумья о русских «левых западниках», которые обнаруживали свою русскую сущность именно тем, что в Европе примыкали к революционным силам, т. е. к потрясателям западной цивилизации. Достоевский их приветствует за это, правда, подчеркивая, что для полной стратегической последовательности им бы следовало сочетать революционность в Европе с консерватизмом применительно к России [Достоевский XXIII, 38–42; XXIV, 205].
Свое время Достоевский определяет как конец «эпохи прорубленного в Европу окошка», как время утраты столицами с их прикосновенностью к Европе особой просветительски-цивилизационной роли. Именно поэтому он связывает с этой фазой всплеск областничества [Достоевский XXIII, 6–7]. Но сама по себе эта фаза – лишь звено истории Восточного вопроса. По Достоевскому, Восточный вопрос родился «вместе с царством Московским» [Достоевский XXVI, 30]. Он формулирует его в различных местах по-разному, но неизменно этот вопрос выходит у него за пределы вопроса славянского. Разрешение Восточного вопроса России предстоит «после разрешения славянского вопроса». Точнее, у России «есть кроме славянского и другой вопрос … а именно Восточный вопрос», который разрешится лишь в Константинополе [там же, 81, 84]. «Восточный вопрос, то есть вопрос об объединении православия (и более ничего)» [Достоевский XXIV, 174]. «Весь православный Восток должен принадлежать православному царю, и мы не должны делить его (в дальнейшем на славян и греков)» [там же, 313]. Восточный вопрос – ключевой вопрос самосознания русских, как и у Тютчева [там же, 294]. В конечном счете, этот вопрос был поднят в истории как альтернатива миродержавию католической церкви с ее претензией «вести человечество мечом». Восточный вопрос заключает в себе потенцию панправославного мирового проекта, и славянский вопрос – лишь частная предварительная стадия на подступах к этому проекту. Понятно, что при таком видении Восточного вопроса он на самом деле и в Константинополе разрешен не будет: константинопольский вопрос в его исторической конкретике – такая же частность, как и вопрос о судьбе и назначении славянства; всё это подсюжеты, встроенные в сюжет пути к мировому панправославному единению для становления России миром и мира – Россией. В долгосрочной истории этой мировой трансмутации Достоевский предполагает четыре фазы. Фаза первая соответствует Московскому царству. «Древняя Россия была деятельна политически… но она в замкнутости своей готовилась быть неправа». Она сочетала православный идеал с «деловитостью»: при «тощих средствах, малой густоте населения, отчужденности от мира других народов», она умела «блюсти и соблюсти государство, единство, торговлю, колонизацию». Этап второй: «через реформу Петра мы сами собою сознали всемирное значение наше» [там же, 183 и сл.]. Однако самодовлеющий пафос «служения Европе» вылился в ложные зигзаги вроде «служения Меттерниху» [Достоевский XXVI, 171]. С Крымской войной эта вторая фаза кончилась. Намечается третья эпоха – возвращения России к себе, обретения ею вне Европы нового самосознания и новой мощи (тема русского Востока). Но эта эпоха подготавливает четвертую фазу финального русского возвращения в Европу, суда над нею и «собирания племен, тот акт, которым наш русский Восточный вопрос разрешится в мировой и вселенский» через крушение западного псевдохристианства (ср.: «Восточный вопрос есть в сущности своей разрешение судеб православия» [там же, 85], «утверждение всемирности России»). От деятельной самозамкнутости Московского царства через осознание всемирного положения России после Петра I и, далее – через новое понимание своего назначения на неевропейских путях – к финальному вливанию Европы и всего христианского человечества в Россию, покоряющую к тому времени под свою руку мусульманский восток. Такова четырехфазовая хронополитическая историософия Достоевского, где современность предстает третьей фазой созидания восточного царства, предшествующей четвертому времени – хилиастическому итогу мировых судеб (ср.: [Достоевский XXIII, 46 и сл.]). В этот долгосрочный сюжет встроен мотив второй, послепетровской эпохи как великого недоразумения, когда Россия отчаянно пыталась доказать себе и Западу свой европеизм, европейцам же эти попытки внушают страх видением чужеродной силы, пытающейся слиться с Западом, поглотив его [Достоевский XXV, 20–22]. Этот мотив, восходящий к опыту Священного союза, к истории с «Завещанием Петра Великого», у Достоевского исполняет двоякую миссию: с одной стороны, он оправдывает «исход» России с Запада, размежевание двух человечеств. С другой же стороны, европейский страх перед русскими оказывается правдивым предчувствием того последнего решения Восточного вопроса, когда Россия станет над Европой миродержавным судьей. Идеология фазы С нашего первого стратегического цикла, осуществление надежд, видевшееся Тютчеву и Герцену столь близким, относится Достоевским в будущий век; в результате же время, предшествовавшее Крымской войне, по смыслу своему оказывается недоразумением, но недоразумением пророческим.
Любопытно, однако, что разрешение славянского вопроса и овладение Константинополем Достоевский вовсе не относит к эсхатологической, долгосрочной перспективе становления мира – Россией: славянская и константинопольская проблематика образуют у него особый среднесрочный сюжет, который таким образом входит в сюжет долгосрочный (четырехфазный), что все эти проблемы, над которыми десятилетиями билась русская мысль, оказывается необходимым решить еще в фазе отстояния и отделения русских от Европы. Таким образом, в политической эссеистике Достоевского взаимодействуют два хронополитически разномасштабных сценария, которые объединяет тема кризиса католицизма как европейской сакральной вертикали и созидания вокруг России Восточного царства.
Среднесрочный сценарий организуется сюжетом заката Австрии и превращения Берлина в новый восточный центр Европы, чем резко изменяется непосредственный, ближайший смысл Восточного вопроса для России. «Восточный вопрос переносит центр тяжести; он не в Париже, не в Entente cordiale и даже не в Англии. Семя его перелетело вихрем обстоятельств на немецкую почву и что же в том, что он глубоко еще закопан в землю; природа возьмет свое и зерно даст рост. Восточный вопрос теперь в Берлине, да и всё теперь таится и гнездится в Берлине» [Достоевский XXIV, 163; ср. 171 и сл.]. К Германии переходит былая австрийская роль в кризисной Европе, Австрия получает германскую поддержку для действий на европейском «корневом» юго-востоке. «Австрия, по-видимому, оставлена хозяйкой этого движения. Надобно же ее вознаградить за немецкие земли» [там же, 171]. Австрия возьмет «турецких славян. Одним словом, уж конечно, Берлин теперь – владыка Восточного вопроса, а никто другой, а Россия пусть занимается Средней Азией и Берлин ее в том поощряет». «Таким образом… совершенно уничтожается Восточный вопрос и становится берлинским вопросом… Австрия в Константинополе» [там же, 187].[41]
<Неустойчивым элементом выстраиваемого Россией пространства оказываются западные славяне, слишком озабоченные> своей всё не получающейся кооптацией в «коренную» Европу и готовые (в лице своей интеллигенции и политиков) добиваться этого, враждебно отталкиваясь от России. Если для Погодина 1840-х гг. антироссийский славянский фронт, создаваемый с западной подачи, выглядел катастрофой Империи, то Достоевский спокойно размышляет о вероятности славянского союза под эгидой оседлавшей проливы Англии [Достоевский XXIII, 113 и сл.], о распространенной среди славян «затаенной недоверчивости к целям России, а потому даже враждебности к России и русским», о греческом и славянском элементах Юго-Восточной Европы «с огромными, совсем несоизмеримыми и фальшивыми мечтаниями» и готовностью в осуществлении этих мечтаний строить «союз и оплот против северного колосса» и т. д. [там же, 115–116]. Он готов признать вражду между «русскими» и «славянами» (именно так, а не между русскими и другими славянами) за «семейные ссоры», и вместе с тем для него славяне – «источник будущих несчастий России», вносящий к нам «начало раздора и разъединения» [Достоевский XXIV, 131, 288]. Он убежден, что в условиях сосуществования России и германо-австрийского блока славяне «первым делом будут подлизываться к Австрии и бранить и обвинять Россию», страшиться присоединения к ней [там же, 189].
Отсюда его программа отношения России к славянам. Во-первых, «мы не можем раствориться в славянстве, мы выше» [там же, 131]. Во-вторых, Россия не должна присоединять к своему пространству ни клочка славянских земель, но исключительно наблюдать за их «свободой, согласием и самостоятельностью», проводя здесь долгосрочную воспитательную работу: «делая им добро и проходя мимо», принимая как неизбежность всплески здесь вражды против нее [Достоевский XXIV, 131; XXV, 100; XXVI, 81]. «Дело славянское есть дело русское и должно быть решено окончательно лишь одной Россией и по идее русской» [Достоевский XXIII, 151]. Это значит, что, вопреки Данилевскому, смысл существования России вовсе не состоит в утверждении славянства, но сами судьбы славянства имеют подчиненный смысл относительно русской Пан-Идеи, а во-вторых, славянам отводится роль политического лимитрофа с достойной свободой по отношению к России. Лишь в пору увлечения дележом Европейского полуострова между Россией и Германией он увлекается «всеславянской философией». По сути же, славяне в его глазах образуют общинное окраинное соседство, окаймляющее Россию в пору ее отмежевания и отделения от Европы; цивилизационный же статус России не сводится к лингвистическому славянизму.
Поэтому понятно, что для него немыслимо соучастие России во владении Константинополем с другими славянами, по Данилевскому, «если Россия им неравна во всех отношениях – и каждому народцу порознь и всем им вместе взятым» [Достоевский XXVI, 83]. «Долго еще не поймут теперешние славяне, что такое Восточный вопрос» [там же, 81]. Царьград должен достаться России не как столица всеславянства, а необходим ей, помимо стратегического значения, как охранительнице православия. Но и в этом качестве он немыслим как русская столица без того, чтобы не спровоцировать в ней жестокий кризис. «Царьград не Россия и не может стать Россией» [Достоевский XXIII, 49]. Там императоры русские перестали бы быть русскими, а стали бы императорами всего православия; эта идея была близка допетровскому Царству и не чужда даже Петру. Слова о том, что новая империя должна была бы выйти из России, «как из желудя выходит дуб» [там же, 199], заставляют вспомнить эмбриологическую метафору Тютчева. Но в этом случае инстинкт самосохранения грозил бы разделением и взрывом такой православной империи, ее географическим расколом. «Мощный великорус остался бы в отдалении на своем мрачном снежном севере, служа не более как материалом для обновления Царьграда, и, может быть, под конец, совсем не признал бы нужным идти за ним. Юг же России весь бы подпал захвату греков. Даже, может быть (воспроизведя в более грандиозных формах русский раскол XVII в. – В.Ц.), совершилось бы распадение самого православия на два мира: на обновленный царьградский и старый русский» [там же, 48 и сл.].
С ужасом обращается Достоевский к картине опустевшего, переставшего служить столицей Петербурга – к той картине, что когда-то радовала воображение Погодина: «множество домов без поддержки, без штукатурки, дырья в окнах – а посреди – памятник Петра» [там же, 199]. Не исключено, что мотив Петербурга как города-призрака, готового исчезнуть, оставив сторожащего болота и пустоши Медного Всадника (в «Подростке»), изначально связан с идеей геополитического переворота, влекущего за собой перенос столицы (предвосхищение картины покинутого правительством Петрограда в дни Гражданской войны). Наконец, Достоевский договаривается и до того, что «завоевание Константинополя теперь (сентябрь[42] 1876 г. – В.Ц.) было бы более гибельно, чем полезно…. Великорус может согласиться лишь на первенство, но греки как теперь немцы…. И тогда … уже не великорус будет первенствовать и вести, а дело православия, ибо славян, греков и великорусов (поразительный ряд, где великорусы противополагаются одновременно грекам и славянам. – В.Ц.) могла бы связать в целом лишь весьма сильная идея, а только православие нет. И великорус, может быть, обособился бы, отъединился» [там же, 199]. Иначе говоря, Константинополь как столица породил бы кризис в отношениях между пан-православной имперской идеей и геокультурной идентичностью русских и Россией – кризис, который бы разрушил православие и «всемирное» самосознание русских, отвратил бы их от их «призвания» и толкнул к самоизоляции от южных центров православия. Единственным возможным решением, по Достоевскому, может быть Константинополь – нейтральный город под исключительным покровительством России – метрополии православия, обретший статус ее окраинного владения. Такой ход прочно закрепил бы перефокусировку православия на север и вглубь материка, закрепив за Константинополем и южными православными землями, как и за славянскими областями, положение опекаемых окраинных зон цивилизации северного православия[43].
Берлинский конгресс и последовавшее за ним возрождение на новых началах «Союза трех императоров» совпали с двухлетним перерывом в издании «Дневника писателя». У Достоевского было время пережить крах надежд на русско-германское соглашение, которое бы позволило включить в «русское пространство» Константинополь, выход в Средиземное море и славянский (балто-балканский) порог Европы. Перед смертью поворот в геополитической мысли Достоевского становится очевиден; причем, поворот не прямо геостратегический, как у Данилевского («в Константинополь через Калькутту»), но более фундаментальный, охватывавший сам стиль геополитической имагинации. На то были и давние предпосылки. Еще в набросках от ноября 1875 г. (до начала своего «германского эпизода») Достоевский связывает судьбы южной линии Сибирской железной дороги с будущим Китая. Задолго до того, как тема «желтой опасности» заполонит русскую прессу, он предсказывает, что Китаю «достаточно только некоторого расширения кругозора и мысли или толчка от реформ, несомненно имеющего последовать даже от самых первоначальных военных реформ (при которых не может не прийти сознание силы, сплоченности и единства), чтоб не догадаться, что кругом пустые и богатые земли, Сибирь не Средняя Азия, а их, китайцев, бесконечно много, чтоб не помыслить захватить эти земли. С первой военной идеей… чтоб не догадаться, до какой степени эти земли слабы и незащищенны и даже в дальнейшем защищены быть не могут». Предрекая наступление модернизированного Китая на русский Восток «не сейчас, но, конечно, лет через 50», Достоевский делает на полях заметку «О Японии» [Достоевский XXIV, 83–84]. Тема опасности с Востока начинает переплетаться с размышлениями о восточных окраинах и границах в контексте обсуждения новых задач – задач эпохи российского пребывания вне Европы.
Другим стимулом интереса Достоевского к Азии стала его крутая полемика с заметкой либерала Л.А. Полонского в «Вестнике Европы» за 1876 г. В этой заметке автор предупреждал насчет вероятных волнений российских мусульман в случае войны с Турцией: «Беспокойство, обнаружившееся в некоторых местностях Кавказа, должно напомнить нам, что православный великорус живет в семье, что он не единственный, хотя и старший сын России». Эта заметка в западническом журнале вызвала у Достоевского яростный ответ насчет того, что политика России не может быть ориентирована на предпочтения инородческих групп. «Русская земля принадлежат русским, одним русским… и ни клочка в ней нет татарской земли» [Достоевский XXIII, 127]. Однако, тогда же в набросках к «Дневнику» он записывает, что «пока существовала Казань, нельзя было предсказать, кому будет принадлежать европейская Россия: русским или татарам», а в самом «Дневнике» проскальзывают слова: «Я столько же русский, сколько и татарин» [Достоевский XXIV, 258; XXIII, 189]. Так намечается тема становления России из Азии, отступающей перед русскими и преображаемой ими, России, крепнущей наступлением на Азию и господством над нею, при этом являющей новое качество по сравнению с азиатским строительным материалом.
В последнем подготовленном номере «Дневника писателя» Достоевский помещает статью, посвященную развернувшемуся под прикрытием «Союза трех императоров» наступлению России в Туркмении и занятию Геок-Тепе экспедицией Скобелева. Овладение Константинополем и проливами сдвигается в неопределенное будущее (не в то ли, где видится суд России над Европой?) Подготовкой же эсхатологического будущего должно стать низведение широты азиатских пространств и массы исламских народов под руку Белого Царя, распространение его власти на мусульманский мир, подготавливающее самих турок к занятию русскими Константинополя как неизбежному итогу этого шествия Империи в Азии. Вся эта статья – своего рода геоидеологическое завещание Достоевского с ее декларациями о «мире-океане земли Русской, море необъятном и глубоком», о «понимании и смирении перед великой землей Русской, перед морем-океаном» (эта статья может рассматриваться как один из источников топики «континента-океана» у евразийца П.Н. Савицкого). С заметками 1876 г. ее объединяет один мотив – ожесточенное сопротивление тем энтропийным тенденциям, которые видятся Достоевскому в русском западничестве. Если в том году он спорил с призывами соотносить политику Империи с построениями и чувствами «инородцев», азиатского, неадаптированного человеческого материала, то в 1880-1881 гг. так же резко спорит с запугиваниями вроде «в Азию пойдем – сами азиатами сделаемся». В заметках того времени жестоки его нападки на западников-«редукционистов», чью логику он глумливо пародирует словами: «Окраины всё это вздор, всё это мелочи и с другого боку, всё мелочи, Россия до Урала, а дальше мы ничего и знать не хотим. Сибирь мы отдадим китайцам и американцам. Среднеазиатские владения подарим Англии. А там какую-нибудь киргизскую землю это просто забудем. Россия-де в Европе, и мы европейцы и преследуем цели веселости. А более никогда и ничего, вот и всё» [Достоевский XXVII, 73]. Любое из этих решений – и в «России масса инородцев, а потому политика не может не учитывать их международных ориентаций и пестроты», и «в Азию пойдем, если азиатами сделаемся… Окраины – это вздор, всё это мелочи и с другого боку, всё мелочи» – бескомпромиссно отвергается Достоевским в пользу резко контр-энтропийного образа Империи Белого Царя, простирающейся по материку и охватывающей миллионы азиатов, придавая этим массам новую форму бытия. Становление России из Азии вопреки «азиатчине», в преодолении и переоформлении ее – в этом образе колонизационно-цивилизаторский пафос вполне в духе наступившей колонизаторской интермедии европейского милитаризма слился с древней идеей Православного Царства, каковое, беря под свою руку массы неверных, подготавливает окончательное решение мировых судеб – в эсхатологической, четвертой фазе русской истории, по Достоевскому, куда после Берлинского конгресса сдвигается и решение константинопольской проблемы.
Осмысление Восточного вопроса в последней статье Достоевского и в его подготовительных заметках, несомненно, должно рассматриваться как одно из вершинных геоидеологических самовыражений нашей первой евразийской эпохи.
VIII
Итак, каковы особенности геополитической мысли этого времени, когда Россия входит в свою первую евразийскую фазу, еще не предвидя ее подлинной продолжительности, а в 1870-х пытается вновь вернуться в Европу, но терпит поражение, чтобы вернуться к более глубокой проработке евразийской сюжетики.
Некоторые черты этой мысли прорезались уже на исходе Крымской войны, в «откатной» фазе D первого стратегического цикла. Таковы жесткая констатация П.А. Вяземского «Россия и Европа уже не одно, а два существа», два сообщества на отдельных пространствах и его же мысль о том, что в новую эпоху Россия будет присутствовать в жизни Европы «своим отсутствием»; это тезис Погодина о необходимости для поворота России к Азии надежных буферов, которые бы прикрыли ее «от Балтики до Дарданелл»; это замечания Вяземского и И.В. Вернадского о превращении «восточного вопроса» в «английский вопрос». Позднее А.Е. Снесарев, развивая эту мысль, заявит, что в этой фазе Англия фактически навязала России свое понимание Восточного вопроса; он становится вопросом англо-русского баланса сил и влияния вдоль евроазиатского приморья от Дарданелл до Китая, причем фокусом спора становится с английской подачи зона Центральной Азии, нависшая над Индией. Восточный вопрос, казалось бы, получал формулировку, при которой он перестал соприкасаться с вопросами европейского баланса, определяя кристаллизацию за пределами «коренной» Европы – новой евразийской конфликтной системы, потенциально осмысляемой как противостояние вне коренной Европы ее морского и континентального маргиналов.
Нельзя сказать, чтобы это видение в России стало общепринятым. Официально борьба всё так же идет за черноморские проливы – настоящее «устье Днепра и Дона» (М.А. Терентьев). Угроза Индии мыслится огромным вспомогательным маневром, как отчасти и «сброс Аляски», но сама масштабность этого маневра ведет к тому, что тема Константинополя переосмысляется кардинально. СВ. Лурье отмечает очень точно: геополитическая игра России, обретя стратегическую виртуозность, утрачивает однозначную цель. Дело не только в том, что стремление к Константинополю в принципе перестает увязываться с задачами реконструкции коренной Европы, с перестройкой ее по русскому проекту. Дискредитированной оказывается сама идея выноса российского центра на освобожденный от мусульманства порог Ближнего Востока, в преддверие Средиземноморья.
Лурье связывает это явление с «константинопольским комплексом» России, со страхом перед возрождением Второго Рима, обессмысливающим Третий Рим (вспомним нежелание Бисмарка интегрировать Вену – центр Первого Рейха – непосредственно в пространство Второго Рейха, собираемое вокруг Берлина). Лурье считает этот комплекс константой нашей Империи, полагая, что он проявлялся уже в политике Николая I. Однако, как мы уже видели, геоидеологии времен нашего первого европейского максимума этот комплекс чужд – идет ли речь о Тютчеве, Герцене или Погодине начала 1850-х: все эти авторы не страшатся шага, за которым им видится переход России, Европы и мира в целом в новое качество, исчерпывающее как эпоху европейского буржуазного модерна, так и существование Петербургской монархии. В новую эпоху «константинопольская опасность» становится предметом геоидеологического дискурса, толкая к разработке сценариев, которые позволили бы встроить Царьград в российское или околороссийское пространство, не нарушая идентичности последнего, не порождая в нем цивилизационных и политических потрясений.
Данилевский оспаривал сакральность Константинополя и, стремясь избежать оттягивания этим городом сил России, не находит лучшего выхода, чем сделать его центром конструируемого Россией славянского Большого Пространства. Но поскольку, по логике его историософии, лояльность к этому пространству должна быть для самих русских выше лояльности к России, он в конце концов склоняется к тому, чтобы оставить Константинополь за турками, включив последних в российскую зону при разделе Евро-Азии. Тот же константинопольский страх сквозит и у Достоевского (связываясь с мотивом обращения Петербурга в город-призрак), и даже у позднего Погодина. Отстаивая панправославную трактовку Восточного вопроса, Достоевский приходит к заключению, что гармонично спаять русских, греков и славян в единое пространство могла бы лишь идея более мощная, чем православие в его исторической данности. В 1878 г. в записке Александру II Б.Н. Чичерин напишет о том, что «ни один здравомыслящий русский не думает о завоевании Турции и о присоединении себе Константинополя». Далее идут уже привычные аргументы насчет опасности ухода центра Империи на юг, утраты русскими своей мировой особенности, отодвигания их на второе место в Империи и т. д., с характерным заключением: «Если Россия должна оставаться Россией, она не может сойти со своего места и стать у Средиземного моря», – вызывающим у Александра II реплику «Совершенно справедливо» [Сказкин 1964, 418 и сл.]. Как и Данилевский, Чичерин выступает против «преждевременного» изгнания турок с Балкан, влекущего за собою экспансию в этом регионе европейских великих держав, что опять же получит полное одобрение Александра II. Вопреки Данилевскому, Милютин даже готов в 1880 г. нейтрализовать проливы общеевропейской опекой, чтобы тем самым прикрыть этот фланг евроазиатского англо-русского фронта (как на востоке тихоокеанский фланг укрепляла продажа Аляски). Второй Рим теряет свою эсхатологическую притягательность («близ есть, при дверях»).
Эпоха отмечена прощупыванием потенциальных евроазиатских пределов российского пространства, «русского дома»; причем Царьград ощущается как участок того пространства, где Россия уже определенно переходит в «не-Россию». В этом смысле другие направления меньше внушают тревогу; во всяком случае, авторы, испытывающие такую тревогу (перед «туранизацией» России), редко бывают способны ее строго аргументировать. Формулировка Р. Фадеева «Славянство или Туран» неубедительна ни для Данилевского, для которого «Туран» относится к естественным владениям славянства в Евро-Азии, ни для Достоевского, который настороженно трактует <мусульманские народы Империи> как маргиналов Европы и потенциальных недругов России, одновременно рисуя величественную картину покорения и преображения православной Россией (на пути к Константинополю и к финальному суду над Европой) всей подчиняющейся Белому Царю тюрко-мусульманской Азии. И в этом смысле очень интересен развернувшийся в первой половине 1880-x на страницах славянофильской «Руси» спор между Е.А. Марковым и И.С. Аксаковым по поводу взятия Мерва. Марков панически уверяет, что с момента русского выхода в XVI в. за Урал (Камень) «шаг за шагом, незаметно, каким-то роковым, будто невольным образом, оттянуло нас от себя самих, от Европы и европейского и утопило сперва по колени, потом по горло и теперь уже выше макушки … в азиатчине, в дичи всякого рода. Да поможет же нам наш русский Бог избавиться с этой поры от всяких подобных приобретений!.. Пора, наконец, знать, где кончаются стены нашего дома и где начинается чужбина!» Ответ Аксакова сводится к тому, что на деле границы русского дома еще вовсе не определены, Россия «все еще не сложилась, всё еще пребывает в периоде формации – формации даже внешней географической». Волга, которую Марков полагает «исконно русской» рекой – изначально река татарская, азиатская. «Русская» Волга с ее русской торговлей немыслимы без серьезного российского контроля над Каспием и его азиатскими берегами. Точно так же Черное море есть продолжение русских рек, и его безопасность невозможна без замирения Кавказа. Контроль же над Кавказом и Каспием требует соглашения с Персией, если не сюзеренитета над нею. Как и для Достоевского, для И. Аксакова, Россия строится на землях, отвоевываемых, изымаемых у Азии, обретающих новый образ по мере того, как русским приходится «догонять лютую азиатчину до самых ее источников и тем ослабить, обезвредить ее навеки». Но точно так же и прямых контактов с Европой Россия не могла добиться иначе, как встав в непосредственные отношения к более просвещенному Западу помимо его ретивых аванпостов, т. е. сокрушая буфера по его окраинам (польские, шведские, восточногерманские и иные). Черноморские проливы, юг Каспия, горная гряда по югу Средней Азии становятся, как и в модели Данилевского, единственно надежными пределами русского дома, на западе такой предел обозначает Галиция, позволяющая прочно опереться на Карпаты. Земли для «русского дома» должны быть отвоеваны у Азии и у окраинной Европы, надежна лишь та Россия, которая прочно обоснует себя и укрепит за счет не-России и недо-России.
Аксакова при всей яркости его пера оригинальным мыслителем считать трудно; скорее, он ярко озвучивает ряд тем, возникающих у авторов этого времени. Это тема азиатской границы России, намеченная Венюковым, фактически ставящим русских перед выбором: либо держаться границы «ядровой» России по рубежам леса и степи; либо опереться на прочную южную гряду гор с охватом русской границей массы тюрок-среднеазиатов; либо ограничиться бассейнами рек, текущих к Ледовитому океану и омывающих русские леса; либо полностью охватить бассейны закрытых центрально-азиатских водоемов, приходящихся на степи и пустыни. Любое промежуточное, половинчатое решение может быть временным, давая подвижную полуоткрытую границу типа фронтира. Работы Венюкова продемонстрировали крупнейший парадокс России, отличающий ее от европейских государств, где прочные территориальные разграничения тяготели к рубежам, разделяющим европейские нации. С эпохи выдвижения России в степи стремление утвердить на неевропейских направлениях твердые границы европейского типа, придать России на юге облик территориального государства неизбежно вело к перенасыщению ее инородческими элементами, к имперской полиэтничности. Если считать чертой национального государства прочную очерченность границ, а атрибутами империи одновременно полиэтничность и мирообъемлющую «открытость», потенциальную готовность к охвату ойкумены, то применительно к России эти типологические приметы входили в явное противоречие между собою; она могла утвердиться как прочная территориальная держава, только дойдя до рубежей, при которых охваченная ею масса народов исключила бы возможность осмыслить Россию в качестве национального государства (но тогда не могло быть никакой гарантии, что эти рубежи станут окончательными; возникала опасность распада России в поликультурных и полицивилизационных протяженностях континента). Или стоило бы, в конце концов, вспомнить слова Венюкова о том, что в своей истории более органичной границы, чем на начало XVIII в., границы, идущей за районом евроазиатских сибирских лесов, Россия никогда не имела. Венюков очертил, с одной стороны, границу «России-Евразии», вобравшей в себя все земли, лежащие за пределами арабо-иранского Среднего Востока – географической цитадели мусульманской цивилизации. С другой стороны, контревразийскую границу «ядровой России» – границу, имеющую характер фронтира, мотивированного экологически и окаймляющего гидрологически ядро российской цивилизации – и тем самым отличающегося по сути от произвольных, конъюнктурных фронтиров, которые, прочерчиваясь в XVIII – первой половине XIX в. в степях и пустынях Средней Азии, приближались к типу зыбких размежеваний между кочевническими империями (в ряде моих работ я трактую эти две границы, выделенные Венюковым, как границу России, вобравшей в себя межцивилизационную Евразию, и, соответственно, границу противопоставленного этой Евразии коренного «острова России», притом, что сам доимперский «остров Россия» XVI-XVII вв. трактуется в соответствии с моделями Достоевского и Аксакова как восставший из окраинных, тюрко-монгольских, азиатских пространств, взорвавший их и поставивший на них новую цивилизацию).
Ясно, что в таких именно условиях с конца 1850-х по 1870-е гг. закладываются основы евразийского видения русской истории, причем в этом отношении не приходится недооценивать значение отечественной реакции на построения Ф. Духинского в духе «борьбы цивилизаций». В частности, Погодин в этом споре предельно внятно сформулировал вывод Духинского о том, что «великороссияне, или москвитяне, есть вновь образовавшееся племя из смеси разных уральских племен – финнов, татар, турок, под влиянием немногих русских колонистов, уже после нашествия татар» [Погодин 1876, 415]. Педалируемая Духинским идея автономного пространства специфической «московитской» цивилизации, противостоящей цивилизации европейской (включающей и славянскую окраину), отвечала духу нашей евразийской интермедии. Двинско-днепровский барьер этой «московитской» цивилизации, по Духинскому, был принят и Горчаковым, и Р. Фадеевым за границу «ядровой России» (от сих и до Тихого океана). Причем, если Герцен принял эту делимитацию безоговорочно вместе с оценкой русских как «плохих славян», которых именно тюрко-финская примесь спасает от европейского «загнивания», то Фадеев в страхе перед «туранизацией» России сделал в судьбах ее упор на балто-черноморскую полосу между ядровой Россией и ядровым Западом, объявив о судьбоносности для России этого цивилизационного «междумирия» (на деле функционально аналогичного «интервалу Венюкова» между зоной северных евроазиатских лесов – исконной нишей России – и окаймленным горными хребтами иранским Средним Востоком). Впрочем, либералы 1870–1880-х гг. колеблются между страхом перед «погрязанием в Азию» и призывами учитывать в политике настроения российских мусульман как «меньших братьев» в имперской семье. Достоевский, с отчужденной настороженностью относясь к славянам, поставил решение «константинопольского вопроса» в связь с православным господством над тюрко-исламским миром вообще, а П.А. Вяземский еще в 1850-х додумался до «восточного» цивилизационного сродства славян (включая русских) и турок.
Так выстраиваются в эти десятилетия образы> России с различением глубинного ядра (на западе очерченного Герценом и Фадеевым, на юге – Венюковым) через различные расширения и укрепления «русского дома» вплоть до различных версий «российской доктрины Монро», исключающей романо-германский Запад, от которого эта доктрина требовала «не лезть в сферу нашей деятельности и оставить нас в покое» (И. Аксаков), вплоть до российского покровительства, по Данилевскому, всей континентальной Азии против Западного натиска с допусканием отвлекающих дестабилизирующих ударов по Британской Индии, каковую, кажется, ни один из идеологов этой поры не включал в пределы русского мира даже в крайне расширенном его понимании. Очевидно, во всех этих смыслах потенциальное «пространство России» конструируется как обособленное от «пространства Запада», противопоставленное ему и каким-то образом его уравновешивающее, хотя физико-географические основания такого разделения прочерчиваются достаточно условно. Именно упор на геокультурном контрасте миров делает возможным, как у Достоевского, недоверие к славянам (даже к украинцам), трактуемым, прежде всего, в качестве «параевропейцев», и увлечение Азией как миром, который Россия должна переустроить, на его покорении и преображении основав конечную свою судьбу: так результируются драматичнейшие колебания Достоевского между пафосом подавления и уничтожения Азии («ни метра земли татарской», «халаты и мыло») и пафосом сродства с ней («я столько же русский, сколько и татарин») – результируются мотивом перерождения Азии в русское «всечеловечество», тогда как отличением русских от славян, которые долго еще будут не способны понять смысл Восточного вопроса, намечается на западе различие между цивилизационным ядром и интервалами-лимитрофами.
Если горчаковская политика пытается следовать старому принципу российской заинтересованности в европейском балансе, то в трудах протоевразийских геоидеологов этот принцип претерпевает решительный пересмотр. Данилевский связывает строительство «славянского пространства» в континентальной Евро-Азии как Анти-Европы, противовеса Европе в рамках бинарной системы цивилизаций. При этом он формулирует причины заинтересованности России в поддержании Запада в состоянии неустойчивого контролируемого дисбаланса – и вместе с тем отмечает неизбежную зависимость устойчивости славянского пространства от политики прифронтовых государств, соседствующих по российскую сторону с ядровой Европой. Достоевский идет еще дальше, допуская прямую кооперацию России с восходящим Вторым Рейхом, вплоть до русского согласия на полную политическую германизацию Европы при условии уступки русским контроля над «Востоком» (причем, славянство оказывается независимым буфером). В конце концов, он доходит до идеи возрожденного союза России с восходящим германским центром Европы против западного центра, присоединяющего к себе Англию: вариант, в общем, несколько раз намечавшийся в 1870-х и 1880-x, но сорвавшийся отчасти из-за горчаковского страха перед германской гегемонией, главным же образом, из-за резкого расхождения трактовки положения Балкан и Восточной Европы в рамках российской и германской картин мира. Лучше всего оценил это расхождение Р. Фадеев, предсказав устремление германского блока к Черному морю и его ставку на полную «туранизацию» России (впрочем, и Достоевский в черновиках допускал такое развитие). Таким образом, Восточный вопрос становится вопросом преимущественно «берлинским» или «английским» в зависимости от того, рассматривается ли он по преимуществу в рамках балто-германского (resp. балто-балканского) пространства или в рамках евроазиатского англо-русского противостояния, – собственно, в зависимости от того, рассматривается ли Юго-Восточная и Центрально-Восточная Европа как часть русского пространства.
Наиболее всесторонние итоги первого периода нашей первой евразийской фазы попытался подвести Венюков в своем эмигрантском памфлете «Исторические очерки России со времени Крымской войны до заключения Берлинского договора». Он констатировал l) резкое умаление русского влияния в Европе («стоит ныне ниже, чем пятьдесят лет назад»); 2) содействуя выращиванию единой Германии, Россия, оказывается, охвачена германским давлением на Западе и английским на Востоке (Тихий океан); 3) германское сообщество всё полнее берет под контроль и Черноморские проливы, и Балтику; 4) Россия достигает на азиатском материке своих вероятных окончательных пределов, получая возможность устроить на совершенно дружеских началах свои отношения ко всем азиатским силам, кроме Турции и Англии; 5) однако, по Венюкову, у России якобы всё еще нет настоящей азиатской политики из-за «неведения правительством его азиатских интересов и… предпочтения им европейских, часто притом ложно разумеемых»; 6) один из таких ляпсусов – попытки ублаготворить Англию: между тем, «войну с Англией можно отсрочить, но избежать ее нельзя, и обязанностью русского правительства отныне становится подготовлять … ее успех» заключением прочных союзов с естественными врагами Великобритании (Соединенные Штаты, передачу коим Аляски Венюков одобряет), изучением ее положения в Индии и в колониях, созданием сильного наступательного флота и т. д. [Венюков 1878а, 382–387]. Итак, предлагается сосредоточение на евроазиатской борьбе с Англией при уступке балто-черноморского преобладания германскому блоку, несмотря на всю угрозу с его стороны.
Поразительно заключение Венюкова о том, что Россия после Крымской войны не может считаться мировой державой, поскольку ее деятельность не сказалась в Африке, Австралии и большей части Америки. Как если бы в пору нашего европейского максимума Россия оказывала влияние на эти части света (за исключением стратегически совершенно непонятной и неиспользованной Русской Америки). По сути, именно после Крымской войны роль России впервые начинает поверяться ее отношением к материковой и приморской Азии, что и побуждает ее геоидеологов всерьез задуматься о внешнем поясе территорий, колонизируемых европейцами, в особенности Англией (это уже подступ к моделям окруженного водами Срединного Мира или Мирового Острова, по Ламанскому и Маккиндеру, переходящим в парадигмальную геополитику XX в.). Тем самым конституируется мировая роль России вне Европы, не только определяющая российское присутствие в Европе через отсутствие в ней (по Вяземскому), но и привлекающая к России интерес представителей неевропейских цивилизационных сообществ.
Если наш европейский максимум отзывался на Западе то пугающими, то соблазнительными видениями российско-европейской универсальной монархии, то теперь английские авторы, намного опережая и как бы провоцируя русских, муссируют идею российского вторжения в Индию. Одновременно отец пантюркизма Исмаил-бей Гаспринский намечает контуры проекта, который он позднее назовет «русско-мусульманским соглашением». По Гаспринскому, «разрозненные ветви тюрко-татарского племени, в свое время единого и могущественного, постепенно переходят под власть России и делаются ее нераздельной составной частью. … Рано или поздно границы Руси заключат в себе все тюрко-татарские племена и в силу вещей … должны дойти туда, где кончается населенность тюрко-татар в Азии» [Гаспринский 1993, 17]. В свое время татарское господство «охранило Русь от более сильных чужеземных влияний и своеобразным характером своим способствовало выработке идеи единства Руси» [там же, 25]. При этом, отмечает Гаспринский, русские как государственные строители минимально способны к ассимиляторству; скорее, они ассимилируются сами, «поддаваясь влиянию окружающих инородцев, перенимая их язык, без оставления, конечно, своего, также как и некоторые обычаи, поверья и одежду» [там же, 38]. «России суждено будет сделаться одним из значительных мусульманских государств, что, я думаю, нисколько не умалит ее значения как великой христианской державы…. Рано или поздно русское мусульманство, воспитанное Россией, станет во главе умственного развития и цивилизации остального мусульманства» [там же, 18, 45]. Наша евразийская фаза оборачивается в воображении российского пантюркиста идеей России – «великой мусульманской державы», общей отчизны тюрок, когда-то у них почерпнувшей свою государственную идею и поднимающей их до роли авангарда мирового мусульманства.
Со стороны русских попытки религиозно осмыслить такое строительство, как у Достоевского, намечаются с определенным запозданием. Лурье склоняется к мысли о том, что в эту пору «константинопольский комплекс», вырывающийся на поверхность геоидеологии, и всё более усваиваемые «английские видения» Восточного вопроса в принципе дискредитируют принцип нашей Империи как универсального православного государства, стремящегося к умножению и политическому самоутверждению православного народа, к освобождению древних православных областей и внедрению православия в области, ранее им не охваченные. По Лурье, эта программа терпит крушение из-за попыток приспособить ее к строительству российского государства. Константинополь внушает страх превращением России в периферию воскресшего Второго Рима; в старых христианских областях (Грузии, Армении) к власти приходят национальные элиты, энергично противящиеся их русификации. Принцип утверждения русского центра берет, по Лурье, верх над служением православной идее, универсализм Империи подрывается отстаиванием самоидентичности (постоянное напряжение между «русскостью» и «всемирностью» у Достоевского, ведущее к отождествлению «всемирности» с «русскостью» в потенции, с предвидением Пан-Идеи, которая смогла бы сплотить православный мир, став «больше» православия, и определила бы российский «суд» над Европой). Еще курьезнее, что, распространяя свою власть на казахские степи и Среднюю Азию, Россия фактически отказывается от насаждения здесь православия, всё более сохраняя за ним статус узконациональной религии, применительно же к владениям подменяя его, с одной стороны, расплывчатым принципом «христианской цивилизации» (отождествляемой западниками с расплывчатым «европеизмом для Азии»), а с другой стороны, попечительством о традиционных религиях всех подданных Империи. Как отмечает Лурье, такая стратегия объективно ведет к исламизации народов, до тех пор не охваченных влиянием этой религии, широкому использованию ислама как средства дистанцирования от России наряду с подчеркиваемым в «России и Европе» Данилевского пафосом вхождения в Европу помимо России и в обход ее. Страху туранизации контревразийская реакция, собственно, не могла ничего противопоставить, кроме попыток, «преследуя цели веселости», вернуться в «Европу до Урала» (Е. Марков) или стремления переопределить российскую идентичность через упор на славянские пространства между Германией и Днепро-Двинским барьером, сродство которых с Россией выглядит всё более сомнительным. Позднее евразийцы, принимая за идеал России империю в тех границах[44] <,какие образовались с отпадением Польши, Финляндии и Прибалтики, прямо сделают ставку на «туранизацию» России как неизбежное следствие выхода Империи за пределы своей ниши на юге и ее отрыва от славянских пространств на западе.>
Глава 8 «Мы старый решали вопрос: кто мы в этой старой Европе?»
I
Итог русско-японской войны – крушение экстремального евразийства. Мы оказываемся практически заблокированы на Дальнем Востоке, на море и на суше, причем Япония, по соглашению 1906 г., выторговывает себе существенные льготы в русской зоне: последняя явным образом разрыхляется перед японским проникновением. Не самые лучшие отношения с Китаем, территория которого была только что превращена в очаг русско-японского побоища. Какие возможны варианты?
Г. В. Вернадский в одной из ранних работ очертил возможность смены интересов России еще восточнее – на север Тихого океана; оставалось лишь сетовать о том, что эта возможность была утеряна с продажей Аляски [Вернадский Г. 1914]. Стратеги типа Снесарева видели выход в том, чтобы вернуться к нажиму на индийском и иранском направлениях, отказавшись от азиатистского экстремизма [Снесарев 1906]. Сложность, однако, в том, что в это время реконструируется Европа, Англия Эдуарда VII вступает в блок с Францией: оформляется мощный западный центр, противостоящий Тройственному соглашению (прежде всего, Центральным державам). Очевидно, что Франция не собиралась поддерживать противостояние России, чья военная мощь после Портсмута внушала немалые сомнения, и новой союзницы – Англии.
Что оставалось? Соглашение императоров в Бьорке о союзе сегодня по праву рассматривается как попытка создания континентального блока против Англии, с расчетом Вильгельма II втянуть в блок и Францию, лишившуюся опоры на континенте. Реально, однако, это было бы расторжение русско-французского блока: финансовый кризис России, противостояние России и Англии на театре, где Германия не могла оказать никакой помощи, плюс неприкосновенность австрийских и турецких позиций на Балканах – просто мышеловка.
Протоевразийская фаза себя исчерпала, обернувшись жестким дискомфортом, а нарастающая поляризация Европы – уже явная, а не мнимая, как в 1870-х, – давала шанс изменить игру. Едва ли этот шанс на союз явился сразу. Сперва очевидные намеки Англии на готовность к большому Азиатскому урегулированию, что для ослабленной страны было очень кстати, плюс урегулирование с Японией, английской союзницей, повысило спрос на людей, склоняющихся к идее «самоограничения в Азии», к видению России как европейской державы, как одной из привходящих сил европейского расклада. Тем самым геостратегический цикл России получил новый старт. Мы снова возвращаемся к фазе, когда Россия выступит привходящей силой во внутренних играх Запада вокруг гегемонии и баланса на территории Европы и сопредельных пространствах, причем стимулом, оформляющим эту политику, становится, как и в XVIII в., стремление использовать роль России как одной из европейских сил для существенной реконструкции Балто-Черноморья, с прилегающими участками Ближнего Востока.
II
Эта конъюнктура в конечном счете определяет выдвижение на ключевые посты во внешней политике таких фигур, как А.П. Извольский и С.Д. Сазонов. Осмысливая свой путь дипломата и министра, Извольский напишет: «Будучи всегда сторонником европейской политики для России, я никогда не придерживался мнения, что нам следует распространять поле деятельности России в места, отдаленные от центра наших традиционных интересов, что несомненно ослабляло нашу позицию в Европе». Согласно Извольскому, «Сибирь должна быть рассматриваема как резерв для того дня, когда Россия окажется вынужденной направлять туда излишки своего населения» [Извольский 1924, 87]. Прав H.H. Рутыч, утверждая, что такой подход не мог не импонировать Столыпину, для которого Сибирь была зоной заселения, а не направлением экспансии и потому требовала исключения из политической игры. Альтернативу России 1900-х Извольский определял так: «Если бы Россия повернулась спиной к Франции и Англии и пошла бы по пути завоевания гегемонии в Азии, она оказалась бы вынужденной отказаться не только от ее исторической роли в Европе, но также и от своей экономической и моральной независимости vis-â-vis с Германией, становясь вассалом Германской империи и вызывая разруху для всей Европы, так как Германия, почувствовав себя свободной от всякой опасности со стороны своей восточной границы, выбирала бы только час для решительного нападения на Англию и Францию в целях реализовать свою мечту о мировом господстве» [там же, 61].
Собственно, почему бы не уступить Германии господства в Европе при условии русской гегемонии вне романо-германского мира? Но здесь-то и проявляются фундаментальные мотивы, которые ясно вычитываются у Сазонова.
В апреле 1912 г. он утверждал: «Россия держава европейская … государственность наша сложилась не на берегах Черного Иртыша, а на берегах Днепра и Москвы-реки. Увеличение русских владений в Азии не может составлять цели нашей политики: это повело бы к нежелательной сдвижке центра тяжести в государстве и, следовательно, к ослаблению нашего положения в Европе и на Ближнем Востоке» [ИВПР 1999, 363]. В конечном счете, главной задачей на Востоке является уменьшение любого прямого давления на российские границы. Размежевание 1907 и 1912 г. с Японией, большое размежевание 1907 г. с Англией по границам Тибета и Афганистана, а также в Иране – всё сюда. Даже откровенно имперские планы в отношении Китая – поддержка суверенности Монголии и Урянхайского края – имеют специфический оттенок формирования буферов, минимизирующих русско-китайское соприкосновение. Не случайно на предложение Вильгельма II об использовании Китая как противовеса Японии под покровительством России (1912 г.) Сазонов отвечал: в русских интересах было бы, скорее, распадение Китая.
Россия четко обособляется со стороны Азии, полагая себе пределы и стараясь снизить давление на них извне, а между тем обозначаются вопросы Балто-Черноморья. Настойчивая тема у Сазонова – формирование здесь германского пояса, обрекающего Россию на положение довеска. В воспоминаниях Сазонова два мотива – Россия не может и не должна уходить из Европы… в которой она является одним из главных и притом совершенно незаменимым политическим и экономическим фактором» [Сазонов 1991, 55]. Устранение России из Европы – стремление Германии, подталкивавшей русских к «дальневосточным приключениям» [там же, 56]. Сазонов, как ни странно, признает даже, что и для России была бы терпима германская гегемония в Европе, причем он приписывает самой Европе готовность смириться перед растущей германской экономической мощью: «Европа начала мириться с мыслью о неизбежности своего превращения в германскую данницу» [там же, 272]. Но «Германия была опасна для мира Европы не как европейская, а как мировая держава, поставившая себе цели, несовместимые с политическим существованием Великих Держав, выступивших несколькими столетиями раньше ее на путь империализма и не угрожавших более миру Европы». Уточняется, что речь, по преимуществу, идет о России и Англии [там же, 271].
Итак, Германия опасна миру Европы, куда входит и Россия, тем, что она, Германия, наступает на некие интересы Великих Держав Европы, выходящие за пределы Европы, более того, на этом пути она пытается положить конец «политическому существованию» Великих Держав, опирающемуся на неевропейские земли. Что бы это ни значило применительно к Англии, применительно к российско-германским отношениям смысл этих обвинений понятен: Германия стремится к владычеству в Балто-Черноморье, частью которого является Россия. Отсюда в текстах и выступлениях Сазонова навязчивый мотив «Берлинского халифата» – символа сборки Балто-Черноморья с прилегающими участками Ближнего Востока вокруг Берлина, империи «от берегов Рейна до устья Тигра и Евфрата» [там же, 231]. Тема германского военного присутствия в Турции: «окончательное водворение Германии на Босфоре и Дарданеллах было бы равносильно смертному приговору России» [там же, 215]. «Со дня захвата Германией власти в Константинополе Россия начала чувствовать себя… в положении угрожаемом, вследствие возможности … создания такого положения, при котором были бы сметены последние остатки турецкой власти над проливами» [там же, 150].
Два смысла: l) Россия – европейская держава и должна пребывать в европейской игре, 2) для России Германия опасна не как европейская держава (если уж «Европа готова смириться с превращением в германскую данницу»), а как гегемон Балто-Черноморья, создательница «Берлинского халифата». Концепцию Mitteleuropa Сазонов характеризует как «план пересоздания Средней Европы на новых началах, которые превратили бы ее для нужд и потребностей Германии в преддверие Ближнего Востока». Две темы завязаны в один узел – некая загадочная ответственность России перед Европой и ее балто-черноморская ангажированность сливаются в комплекс «европейская игра как путь к реконструкции Балто-Черноморья, особенно южного фланга»: обращение к Азии = осуществлению планов Германии в Европе и на Ближнем Востоке = германской гегемонии над Балто-Черноморьем, включая Россию.
Между тем, если вглядываться в действия руководителей российского МИДа в 1908–1914 гг., очевидно, что эта установка сложилась далеко не сразу. Прочерчиваются следующие фазы:
Фаза 1. Ситуация периода боснийского кризиса 1908 г., когда Россия пытается сговориться с Австро-Венгрией: свободный проход через проливы в обмен на Боснию и Герцеговину. В конечном счете, Австро-Венгрия, поддерживаемая Германией, Боснию получает, Россия же оказывается подставлена, ничего не получив взамен. На этом этапе Германия еще не противник, Австро-Венгрия – потенциальный партнер.
Фаза 2. 1909–1910 гг. – возвращение к планам Милютина: Россия пытается сформировать на Балканах славяно-турецкий союз, блокирующий экспансию Австро-Венгрии, и одновременно выторговывает у турок, как их защитница, свободный проход военным кораблям в проливах плюс предпринимает попытки договориться с Германией как силой, способной обуздать своего сателлита. Собственно, по эту пору к политике России применима характеристика Троцкого, трактовавшего ее как политику «паразитического оппортунизма», питающегося «преимущественно борьбой Германии с Англией» [Троцкий VI, 20]. Россия балансирует между блоками, но Троцкий тут же ошибается, полагая, что политика лишена объединяющей «идеи». Идея очевидна – это идея проливов и реконструкции в пользу России южного фланга Черноморья с противостоянием, пусть «мягким», сквозной сборке балто-черноморского Запада.
Любопытно, что в это время наблюдается переоценка славянской идеи: с одной стороны, оживленная деятельность разных славянских обществ, публикации, делающие упор на славянство в русской политике; с другой стороны, готовность за счет боснийских сербов пойти на сделку с Австрией ради выигрыша проливов, причем в кабинете министров (Столыпин) эта сделка встречает отпор не с точки зрения славянских интересов, а из страха до времени дестабилизировать Турцию. Это время, когда назревает зазвучавшее в июле 1910-го размежевание «общеславянского» интереса и собственно русского, связанного с положением на проливах. «Славянский интерес» обретает характер всё более инструментальный, подчиненный, как писал Сазонов, «задаче исключить возможность политического преобладания, а тем более господства на Балканах враждебной балканскому славянству и России иноземной власти» – иначе говоря, задаче предотвратить германскую сборку Балто-Черноморья, причем конкурент – Австро-Венгрия.
Фаза 3. 1912–1913 гг. – удар по югу из-за турецко-итальянской войны, а вслед за тем угроза болгарского прорыва к проливам в первую балканскую войну (намеки на желание Фердинанда Кобургского короноваться короной византийского императора). Двусмысленность поведения России по отношению к созданному под ее покровительством Балканскому союзу, осознание недопустимости появления славянской империи на проливах по соседству с Россией, планы броска русской экспедиции к проливам, чтобы предотвратить болгарское вступление в Константинополь. Постоянные новые обсуждения в МИДе и морском министерстве и морском Генштабе задач, связанных с оккупацией проливов, доклад морского Генштаба от 7.11.1913 со знаменательными словами: «Что касается задач по обороне морских путей России, то их, вообще говоря, всегда было постоянно три: обеспечить свободу морских путей России в Атлантический океан из Балтийского моря, в Тихий океан из Японского моря и в Средиземное море из Черного». Первая задача признана неосуществимой из-за германской гегемонии на Балтике, вторая – «по совокупности политических и стратегических обстоятельств в настоящее время не может быть поставлена на очередь», остается третья [Захер 1924, 67[45]].
Фаза 4. Дело с назначением германского генерала Лимана фон Сандерса в конце 1913 – начале 1914 гг. командующим турецким гарнизоном, перспектива войны с Германией. К двум контрастным проектам обустройства Балто-Черноморья добавляется план, согласованный Вильгельмом II с наследником австрийского престола в июне 1914 г. в замке Конопиште: Австро-Венгрия – рейх из трех держав: Польши с Литвой и Украиной от Балтийского до Черного моря, Венгрии с Чехией, Сербией, Боснией, Хорватией (от Адриатики до Эпира), прочей части Австрии в составе Германской империи на правах союзного государства. Это вариант полной германизации Балто-Черноморья (с дунайско-средиземноморским ареалом).
Ему противостоял русский план, сформулированный в начале войны в выступлениях Сазонова и беседах Николая II с французским послом М. Палеологом: контроль над проливами, восточной Галицией, тем не менее, воссоздание Польши с Прикарпатьем под русским покровительством, «исправление границ» в Восточной Пруссии, сведение Пруссии до статуса простого королевства. Соглашение 1915–1916 гг. о передаче России Константинополя с проливами и восточной Анатолии, причем отстаивалась задача сохранить за оставшейся Турцией выход к Средиземному морю, в перспективе – превращение этого государства в зависимое от России. Итак, собственно, русификация всего Балто-Черноморья вместе с закавказской каймой.
Черты тех лет: сепаратные предложения от Германии в июле 1915 г. России – проливы, Германии – Литву и Курляндию, склонность Николая II стабилизировать позиции с присоединением к России Восточной Галиции и Константинополя, чтобы перейти к обороне (1916 г.); отчаянное недоверие русских к операциям союзников в районе проливов – всё подводит к выводу: новая фаза разворачивается, Россия втягивается в европейский расклад как участник игры благодаря акцентировке войны на балтийско-черноморском пространстве. Задача переустройства этого пространства, особенно в южной части, оказывается ключевой, нейтрализуя собственно вопрос об отношении пространства России к пространству Европы, порождая сугубый прагматизм в отношении к славянским делам, подчиняя их задачам сборки Балкан и выстраивания различных конфигураций в противовес германской сборке.
Это время, когда возникает альтернатива: или – пространство России в противовес Европе, или – Россия как источник переустройства Европы и славяне как посредники в этом деле, реконструкция пространства по соседству с державой, вовлеченной как крупная сила в игру европейских центров. Формально это момент, когда Россия по типу поведения в наибольшей мере выглядит «просто европейской страной», обустраивающей за счет экспансии свои окраины (как в начале XIX в.) в отсутствии цивилизационно-геополитической выделенности. Об особом положении России говорит в этом случае лишь недолговечность этой фазы, быстрый надлом России и переход в фазу В. О том же свидетельствует двусмысленность – прагматичность «европеизма» из-за обустройства Балто-Черноморья и мотивы европейской миссии как союзной силы[46]*.
Собственно, попытка решить балто-черноморские задачи, балансируя между «блоками», «паразитируя», по Троцкому, на их конфликтах, – лишнее подтверждение важности самоотождествления со «своей» Европой против «не-своей», а также восприятие Европы как двух станов, что позволяет решать дела в Балто-Черноморье, никак не ставя задач определить отношение России к Европе как противолежащему целому (от разморозки Восточного вопроса до целей войны в формулировке 1914–1916 гг.).
III
Если так эволюционировало официальное руководство внешней политики, что можно сказать об оппозиции? Сейчас я не могу вдаваться в обзор полемики по внешней политике, в том числе – в споры, разгоревшиеся вокруг сазоновского тезиса о «России – европейской державе». Тем не менее, веяния нового цикла прослеживаются и в этой сфере с очевидностью. Почти одновременно состоялось выступление Извольского в Совете министров (3.2.1908) о необходимости «разморозки» Восточного вопроса и появление в № 1 «Русской мысли» статьи П.Б. Струве «Великая Россия» с ее декларацией о том, что «оселком и мерилом всей „внутренней политики“ как правительства, так и партии должен служить ответ на вопрос: в какой мере эта политика соответствует т. н. внешнему могуществу государства».
Освоение Дальнего Востока Струве назвал «венцом всей внешней политики царствования Александра III, когда реакционная Россия, по недостатку истинного государственного смысла, отвернулась от Востока Ближнего» [Струве 1997, 52]. Движение на Дальний Восток было объявлено «работой на иностранцев» в районе, далеком от «седалища нашей национальной мощи». Призыв сделать упор на бассейн Черного моря, т. е. на «все европейские и азиатские страны, „выходящие“ к Черному морю», опереть «Великую Россию» на донецкий уголь и сопряженную металлургию. Тезис о том, что вакуум силы в бассейне Черного моря активизирует Австрию как славянское государство и Германию как государство балтийское. Фактически Струве предрекал обвал России в балтийско-черноморской зоне с переходом Польши к «панславистской» Австрии, а Прибалтийского края – к Германии. Альтернатива – усиление России и ее кооперация с Австрией на Балканах: отсвет греческого проекта. Задолго до Первой мировой Германия рассматривается как потенциальный противник в ареале Черного моря, и утверждается необходимость опоры на Англию и Францию, на западный центр – для решения этой задачи.
Еще интереснее другая статья Струве «Современное международное положение под историческим углом зрения» (1909): мотив противостояния двух полюсов, неизбежность <для ослабленной в финансово-экономическом отношении России выбора в качестве покровителя Германии или Англии, «опоры на ту или другую … систему политических сил, представляемую богатыми капиталами великими державами», открытая аналогия того положения, в котором оказалась Россия после «поражения на Дальнем Востоке», и начала англо-германского соперничества с ситуацией начала XIX века, когда Англии противостояла наполеоновская Франция. Струве опасается, что в том случае, если Германия решится на поход против России, повторив путь Наполеона I, Англия и Франция могут не прийти на помощь, и «России одной придется бороться с враждебными ей западными державами». Если военного союза с Англией и Францией не сложится, Россия «при этом положении … всегда может быть в известном смысле отброшена назад в XVII век и низведена на ту ступень, которую она занимала до великой северной войны» [Струве 1911, 138–139][47].>
IV
В первую очередь обнаруживаем реакцию некоторых военных авторов, ориентированных на традиции протоевразийской фазы, против веяний нового цикла. Уже после договора, исключившего Афганистан из зоны российских интересов, «Общество ревнителей военных знаний» печатает работу А. Андогского, где эта страна анализируется в качестве театра наступательной войны России против Британской Индии [Андогский 1907]. В следующем году А.Е. Снесарев подвергает это соглашение жестокой критике.
В этой работе зафиксирован геостратегический образ Тибета, Афганистана, Персии как своего рода «шапки», огибающей «Индию или, что одно и то же, Англию … с севера, а на эти маленькие страны, в свою очередь, давит с еще большего севера Россия» [Снесарев 1908, 2], причем Иран оригинально рассматривается как «европейские подступы к Индии» [там же, 9]. Как и большинство авторов протоевразийской фазы, Снесарев отрицает, что Индия когда-либо была сознательной целью русского наступления в Азии (исключение он делает лишь для планов Кауфмана). И, тем не менее, он признает, что объективная инерция азиатского движения вела Россию на юг – к Индии и Персидскому заливу [там же, 12 и сл.]. Он настойчиво уверяет, будто линия размежевания по договору 1907 г. и так фактически соблюдалась русскими среднеазиатскими властями: «Никогда мы не нарушали неприкосновенности Афганистана, никогда не переходили заповедную для нас пограничную линию и даже не старались переходить ее, никогда не вступали в Тибете в политические интриги, хитроумные переговоры и т. д. … Мы можем утверждать это совершенно спокойно» [там же, 28], – точно не было ни посольства Столетова в 1878 г. в Афганистан, ни тибетских планов начала 1900-х. На фоне этой явной лжи выглядит поразительно, что главным недостатком переговоров Снесарев полагает… их неискренность. «Люди собираются наладить мирную обстановку, и ни та, ни другая сторона не говорят, по поводу чего же они решаются быть миролюбивыми» [там же, 24]. Речь на самом деле идет не о Тибете, не об Иране, не об Афганистане, а об Индии и о выходе русских к Персидскому заливу. Размежевываясь с Россией в буферных странах, Англия отказывается сказать, пустит она русских в Индию и к океану или нет, – и Снесарев возмущается этой двусмысленностью. Как будто он только что не уверял, что Россия всегда признавала проведенную границу, он возмущается: Англия «дает нам только то, что принадлежало нам, а сама заставляет нас официально отказаться от нашей исторической задачи – пробиться когда-либо к берегам Индийского океана» [там же, 26–27]. Он возмущается тем, что, заявляя себя союзницей, Англия не спешит приступить к планам строительства среднеазиатской дороги, долженствующей Индию соединить с Россией.
На этом фоне курьезны возмущения Снесарева тем, что договор якобы не учитывает суверенных прав народов, которыми распоряжаются великие державы. Это после того, как этот автор уже признал, что и так «вся северная Персия была по существу во власти или в экономической зависимости от России, точно так же имела наша родина здесь и политическое преобладание», – и выразил возмущение тем, что она по договору не получила серьезного приращения, – а после этого порицает договор за неучет интересов суверенного персидского народа. За этим подспудно звучит один мотив: Снесарев догадывается, что договор означает решительный поворот существовавшего десятилетиями фронта протоевразийской фазы и отчаянно не желает смириться с тем поворотом, который стоит за этим сквозным урегулированием.
Но о чем не написал Снесарев, о том открыто пишет в 1910 г. военный писатель князь Кочубей. По мнению Кочубея, Россия вынуждена приступить «к разрешению роковой задачи: открыто сделаться азиатской державой, чтобы властвовать над Востоком, или, отказываясь от него в пользу влияний в Европе, рано или поздно стать ее жертвой» [Кочубей 1910, 212]. «На Балканском полуострове России делать нечего уж потому, что наше вмешательство непременно встретит отпор со стороны Австрии, между тем Россия … упустила тот исторический момент, когда она могла с некоторым успехом бороться с австро-венгерским влиянием» [там же, 210]. России противостоит мощный германо-турецкий фронт от Скандинавии (Швеция как потенциальный противник) до Закавказья.
Кочубей тонко анализирует географию России со стратегической точки зрения, усматривая узел страны, средоточие ее коммуникаций в Нижнем Поволжье, в районе Царицына: обладание этим регионом позволяло монголо-татарам держать Русь под контролем, и в случае новой войны с Европой, по Кочубею, судьба России определялась бы не сохранением столиц, а военным контролем над нижневолжским узлом страны. Между тем, этот узел чересчур сдвинут на юг к Закавказью, и в случае столкновения России с германскими державами, этому узлу угрожает удар Турции через Закавказье, поддержанный мятежами местных мусульманских племен. Еще серьезнее на востоке напор не только Японии, но и милитаризирующегося Китая. Возникни союз Турции (и Румынии) с Тройственным союзом, «перед тем как мы успеем устроить наше стратегическое положение на Дальнем Востоке, и наша песня спета» [там же, 306]. Собственно, Извольский и Сазонов понимали ситуацию почти подобным образом – и именно потому их постоянная забота об обустройстве Дальнего Востока: создание полосы буферов, отражавших здесь переход к обороне в видах страховки для активной политики на западе.
Но вывод Кочубея другой. В Европе Россия себя исчерпала. «Чего мы хотим и куда мы стремимся? – Хотим ли вернуть России ее прежнее обаяние в краях, омываемых Тихим океаном, оправдать на деле гордое наименование Владивостока или, наоборот, оставив навсегда мечту о владычестве в Азии, создать из Балканского полуострова вассальную страну России? Желаем ли мы препятствовать развитию в Европе гегемонии германской расы или, напротив, отказавшись от непосредственного вмешательства в распри европейских держав, составить границу между вырождающейся христианской цивилизацией и воскрешающей культурой Востока?» Отказавшись от балканской политики и попыток овладения черноморскими проливами, «протянув дружескую руку Оттоманской Империи, сделавшись официальным покровителем мусульманских национальностей, русская держава стала бы вершительницей будущих судеб Востока. Но достижение этой великой цели сопряжено с наличностью соответствующего стратегического объекта, обусловленного строгой обороной в Европе и настойчивым наступлением по направлению к Востоку. К Желтому морю, к Персидскому заливу и к Афганистану – вот куда должны быть направлены политические и стратегические объекты России». А là Духинский и позднейшие евразийцы Кочубей открещивается от славизма великороссов: «Неужто достаточно было Долгорукому основать Москву с горстью варягов, чтобы превратить финно-монгольское население современной России в нацию славянского происхождения. Нет! Географическое положение и истинный этнографический состав страны верховодят над искусственными соображениями какого бы ни было рода» [там же, 270–271].
Отсюда два мыслимых варианта, полагаемых Кочубеем для России. Первый – просто оборона на Западе, причем оборона активная (типа 1812 г.), с затягиванием германских и австрийских войск вглубь российских пространств, с изматыванием их подрывом их международного кредита, чтобы в конце концов вынудить их к отходу и к переговорам о мире. В основе этого варианта стремление превратить в преимущество слабую инфраструктуру, невысокий культурный уровень российских пространств, небольшую зависимость России от внешних рынков – все преимущества менее культурного противника перед более культурным. В частности, Кочубей не останавливается перед «варварским» советом – к началу войны разорить, ввергнув в первобытное состояние, полосу высококультурных приграничных территорий Финляндии и Польши. Крайне уязвимая область – Юго-Запад (Украина), который противник может превратить в объект панславистской пропаганды, всё равно, будет ли центром славянского государства Вена или София (давно предвиденный Погодиным вариант – панславизм как орудие разрушения России), – кажется Кочубею наиболее угрожающим и реальным, но противопоставить ему он решается лишь жесткую оборону. (Главная защита – нижневолжского узла как ключа целостности России.)
Другой вариант – сближение с Германией и Турцией, лишающее Францию союзника на континенте и вынуждающее ее присоединиться к соглашению. Собственно, это возвращение к континентальному союзу, о котором думал Витте и на котором настаивал Вильгельм II в Бьорке, союзу, который обратил бы Германию к колониальной и морской экспансии и столкнул бы ее с Англией. Это вариант, означающий прямое преобладание германской расы в Европе, в том числе на Балканах, полный отказ от славянского вопроса ради беспрепятственного поворота на восток в духе «прото-евразийской» фазы. Собственно, как у Снесарева, в книге 1910 г. мы видим реакцию на намечающийся поворот, попытку поддержать инерцию предыдущей фазы, прерванной, но интеллектуально, концептуально не исчерпанной (германофилы части офицерского состава, продолжающие считать даже и в ходе Первой мировой войны Англию главным противником). Тем интереснее появление наработок в духе нового поворота.
V
Крупнейший геополитический мыслитель этого десятилетия – бесспорно, В.П. Семенов-Тян-Шанский. Это – едва ли не первый географ, поставивший свою эрудицию и талант эксперта в области экономической и демогеографии на службу политическому конструированию мира в категориях взаимодействия Больших Пространств. Сам себя он связывал с антропогеографией немецкой школы Ратцеля, однако в ряде моментов он соприкасается с геополитикой 1930-х и 1940-х. Но в то же время сам его когнитивный аппарат типичен для данной фазы российского цикла.
Наследие оборвавшейся, но не исчерпавшей себя евразийской фазы настойчиво проступает в двух крупнейших трудах Семенова «Город и деревня в Европейской России» и «О могущественном территориальном владении применительно к России». В первой части эта инерция особенно ощутима, как если бы она написана на гребне нашего дальневосточного натиска. Практические наработки из области экономической и культурной географии Европейской России в первой из этих книг встроены в мировую перспективу с ледникового периода. В центре этой перспективы – столкновение двух человечеств, которые в ледниковую эпоху занимали пространство – одно от Тихого океана до равнины Европейской России включительно, другое – от Индостана до Пиренейского полуострова, имея первоначально границами ряд нагорий от Гималаев на востоке до Карпат на северо-западе. В историческую эпоху – это борьба между тихоокеанско-монгольским и атлантическим очагами, причем в этой борьбе восточные славяне и особенно русские – передовой отряд атлантического человечества, непосредственно взявший на себя миссию завоевания континента до Тихого океана, между тем как основное атлантическое человечество под давлением Востока обратилось к мировой экспансии.
Под влиянием этой схемы Семенов, собственно, игнорирует проблему кочевников, сведя их к тонкому слою кочевников атлантического мира (в Аравии и Северной Африке), массам кочевников тюрко-монгольских, связанных с восточным ядром (курьезно, что скифы и сарматы для него – тонкий слой вокруг Черного, приатлантического моря, а не орда от Дуная до Алтая). Проблема ислама – приатлантической религии, исповедуемой массами народов «восточного ядра», – для него не актуальна, как и для Маккиндера.
Русские – окраинная, культурно наименее развитая часть атлантического мира, призванная сыграть великую роль в борьбе двух человечеств за континент. «После русско-японской борьбы и пробуждения Китая … в XX веке начинается второй акт этой великой человеческой борьбы, и неизвестно, ограничится ли всё мирным заселением и сожительством атлантического и тихоокеанского человечества в нынешних пределах их государственных территорий, или они будут нарушены, и тогда восточным славянам волей-неволей придется сказать себе (насчет Китая и Японии. – В.Ц.): «Ceterum censeo, Carthaginem esse delendam» и с последовательностью римлян постараться выполнить это, несмотря ни на какие потоки крови и материальные затраты, ибо всякое оттеснение с востока будет только временным, как то уже не раз доказала история русской колонизации, вызывая лишь новую энергичную работу над внутренним самоусовершенствованием и последующий в ее результате новый, более энергичный и более умелый напор всё в том же направлении к востоку» [Семенов-Тян-Шанский 1910, 5–6]. Таким образом, в центре – модель восточного наступления, причем русские – просто окраинная часть атлантического ядра с особой ролью. «Когда же наша волна окончательно закрепится на своем восточном конце, наша почва успеет претворить в новые виды пересаженные из атлантического мира растения и наши коренные дубы … выдержат какое угодно соперничество с восходящими от Тихого океана хризантемами и двойными драконами» [там же, 211]. Собственно, Россия – часть Евро-Атлантики, предназначенная выдвинуться к востоку Тихого океана. Это – инерции евразийской фазы, но не менее важно другое: фактический отказ от мысли, якобы погруженность в Азию открывает возможность конструировать особое, отдельное от Европы «пространство России», пусть в порядке осуществления христианской и т. п. миссии, как у Ламанского. На востоке Россия – часть Атлантики по преимуществу.
Гораздо сложнее ситуация с трудом «О могущественном территориальном владении», создававшимся с 1912 по 1915 г. В этом тексте явная раздвоенность. Инерции евразийской эпохи сталкиваются с установками и интуициями именно новой фазы.
В центре картины – Тихий океан, окаймленный огромным вулканическим кольцом, за пределами которого развивается человечество. За пределами кольца – огромные нагорья, либо скромно к нему прилегающие (в обеих Америках), либо отделенные от него узкими и глубокими провалами, образующими моря и равнины (в Азии). За нагорьями – гигантские равнины Евразии, Африки и обеих Америк, а среди этих равнин протекает огромная океаническая река – Атлантика. Человеческая жизнь процветает вне Великого кольца у побочных заливов, дуг и провалов; крупнейшие очаги у великих бухт: у Средиземного моря (с Черным), у Китайского (с Японским и Желтым), у Карибского (с Мексиканским заливом), мимоходом об Индийском океане? По берегам этих бухт цветущие плодородные края, а за ними – поля полупустынь и пустынь, откуда часто идут импульсы к развитию мировых религий. Таким образом, по Тян-Шанскому, эти «бухты» представляют как бы самодовлеющие миры. Государство, вполне владеющее такой бухтой, ее побережьями, может утверждаться в качестве «господина мира». В зависимости от того, будут ли бухты собраны под одним контролем или под разными, в мире может быть либо один «господин», либо несколько.
Поразительно, как здесь Семенов-Тян-Шанский предвосхищает работы Спайкмена и Маккиндера. Спайкмена 1940-х – с учением о трех мировых центрах мощи, совпадающих с семеновскими (особенность, что Спайкмен делает упор не на Средиземное море, а вообще на Европейское побережье Атлантики и предполагает четвертый центр на Индийском океане); Маккиндера – с концепцией «великого пояса пустынь», простирающегося по обеим сторонам Атлантики и выделяющего Европу, Америку и Россию – владения человечества, для которого Атлантика – «домашний океан».
На эту картину мира Семенов-Тян-Шанский опирает свою типологию «могущественных территориальных владений». Наиболее оправданным является кольцеобразный тип владения, ставящий под политический контроль ту или иную важную «бухту» (Балтику, Средиземноморье, Карибский бассейн и т. п.), оформляющий ее мир как политическую целостность. Второй тип – трансконтинентальный, связующий моря («мировые бухты»), строитель такой империи может даже не быть «господином мира», но у него возрастают шансы защитить себя от гегемонии. Наконец, третий тип – с разбросанными по морям и океанам отдельными островами и точками материков, связанными регулярными морскими рейсами. Эта типология – важнейший вклад Семенова-Тян-Шанского в геополитику. Наблюдения над конкуренцией этих типов, над складывающейся в начале XX в. модой на империи трансконтинентального типа (английские планы: Каир-Калькутта и Каир-Кейптаун; Берлин-Багдад и т. п.), растущее осознание военного и вообще коммуникационного преимущества трансконтинентальной империи, опирающейся на железнодорожные связи, над «клочкообразными» морскими системами.
Отсюда и рекомендации для России. В отличие от европейских империй (Германской, Британской), пытающихся смешать разные типы (в основном «клочкообразный» и «от моря до моря»), Россия обречена, если хочет строить империю, делать ставку на трансконтинентальный тип. При этом для нее оказывается наиболее наглядной возможностью тип широтный – от «бухт» Атлантики к Тихому океану. Сложность, однако, в следующем. При осуществлении такого проекта бросается в глаза: «Ни разу в истории человечества не было такого длинного протяжения государственной территории и сплошного земледельческого пояса, как в России, и ни разу столь густое население не обитало в таких высоких широтах». Но следствием такого строения становится то, что по мере удаления от основной базы на западе страны территория освоения всё более суживается между холодными пространствами севера и югом, испытывающим сильное давление соседних народов, прежде всего Китая. Зрелище «сужающегося, зазубренного» и истончающегося меча – между тем, обрубка только одного конца вполне достаточно, чтобы уничтожить всю суть системы «от моря до моря»».
Главная беда – слабость, неразвитость сердцевины, неспособной оказать существенную поддержку восточному краю, «острию меча». Еще в «Городе и деревне в Европейской России» Семенов писал: «Территориальная протяженность, при малейших застоях культуры в центре колонизационной волны, есть злейший внутренний враг ее политической целости и соблазн для более культурных соседей» [там же, 210]. Теперь он пишет: «Единственным серьезным средством для успешной борьбы в условиях растянутой государственной территории является неотложное доведение географического центра такой территории по возможности до одинаковой или близкой степени густоты поселения и экономического развития с западным, коренным концом государства, до возможного выравнения».
Опираясь на американский образец, Семенов-Тян-Шанский разделяет Россию условно на два типа пространств – «штаты» и «территории» (больше или меньше одного человека на l версту). Очевидна необходимость скорректировать резкое превалирование территорий над штатами на востоке страны. Реально, по мнению Семенова, за Енисеем до состояния «штатов» могут быть доведены земли, лежащие на 60° (широта Магадана), края более северные обречены пребывать «территориями» неопределенно долгое время. Задачей становится резкое усиление обжитости пространств между Енисеем и Волгой ради обещания скорейшей поддержки «острию меча».
Семенов следует традициям авторов евразийской волны, когда пишет: «Нам, более, чем кому-либо на свете, не следует различать Европы от Азии, а, напротив, стараться соединять ее в одно географическое целое, в противовес выдвигавшейся от времени до времени желтой расой доктрине "Азия для азиатов"» [Семенов-Тян-Шанский 1996, 603]. Однако это не мешает ему много раз использовать понятие «Европейской России» для земель «от Польши до Енисея». Таким образом, отказ от противопоставления Европы и Азии применительно к землям России важен ему не для того, чтобы выделить земли России как пространство, противолежащее Европе; напротив, включение запада России в Европу у него возражений не вызывает, но необходимо отстоять восток от напора Азии. Именно поэтому Семенов предлагает «выделить, на пространстве между Волгой и Енисеем от Ледовитого океана до самых южных граней государства, особую культурно-экономическую единицу в виде Русской Евразии, не считать ее никоим образом за окраину, а говорить о ней уже как о коренной и равноправной во всем русской земле, как мы привыкли говорить о Европейской России» [там же, 604].
По Семенову, в Петровские времена задача решилась бы перемещением столицы в Екатеринбург (снова дух первого евразийства). В XX же веке задача усиления Русской Евразии должна решиться по-иному. На основе четырех главных культурно-экономических колонизационных баз России (Новгородско-Петроградской, Украинской, Московской и Средневолжской) сформированы, сперва в порядке их филиалов, такие же «азональные бойкие торгово-промышленные наносы» – на Урале, Алтае (с горной частью Енисейской губернии), в горном Туркестане с Семиречьем, а затем в Кругобайкалье, жестко ориентированные на рынки востока России и азиатских стран, разделенные «зональными торгово-промышленными полосами – хлеботорговыми, лесоторговыми, скотоводческими и т. п.»
Сильна критика колониалистского подхода к землям «Русской Евразии», к стремлению рассматривать ее как источник сырья для Европейской России, предсказание насчет того, что такой подход, скорее всего, может привести к подрыву империи «от моря до моря» и т. п. Но, тем не менее, надо учитывать ту общую обстановку, в которую включается эта критика, несомненно реалистическая, несомненно отвечавшая реалиям сдвига наших промышленных баз на восток.
Очевидно, что концепция Семенова-Тян-Шанского мотивирована намерением сдержать «давление Азии» на наиболее хрупкую часть российского меча. Вместо непосредственного усиления переднего края империи в видах ее расширения упор делается на усиление глубокого тыла: по сути, это означает обеспечить Дальнему Востоку поддержку в обороне, но о наступлении речь уже заведомо не идет. Прошло время, когда столь разные люди, как Ламанский, Ухтомский, твердили об отсутствии у России реальных границ в Азии. У Семенова-Тян-Шанского есть, во-первых, чувство пределов в Азии и стремление совершить переход к их обороне, а во-вторых, – готовность рассматривать границы России в Азии как границы Европы в широком смысле. Его «Русская Евразия», по сути, – европеизированная Азия, часть Азии, в которую выдвинулась Европа; его протест против разделения Азии и Европы – попытка так или иначе связать русские земли за Уралом с Европой.
Важны и другие детали, связанные с конъюнктурой 1915 г. Призывая экономических лидеров юга России отказаться от своекорыстной экспансии на Востоке, он предлагает им компенсировать себе этот отказ обретением новых рынков сбыта на юге от Европейской России, что он связывает с победой над Германией и приобретением проливов. Среди разрабатываемых им планов железнодорожного строительства выделяется мотив продолжения магистралей Европейской России на Балканский полуостров «путем доведения нашей ширококолейной магистрали до Измаила и оттуда иностранной колеей через Добруджу и Болгарию на прямое соединение с Царьградом (так! – В.Ц.) и Афинами» [там же, 613]. В книге 1910 г. он иронически восклицал: «Только разве наступление новой ледниковой эпохи или сплошные вековые неудачи в Большой Азии и были бы в состоянии повернуть русскую колонизацию к югу – в Иран и Малую Азию» [Семенов-Тян-Шанский 1910, 6]. В 1915 г. он уже всерьез обсуждает вариант, когда русская колонизация, лишившись Круто-байкальской базы, стихийно и неудержимо ринулась бы в западной половине империи к югу, по направлению к Средиземному морю и Персидскому заливу и попыталась бы достичь еще пока никем не осуществленного господства «от моря до моря» в меридиональном направлении (так же, как разворачивались балтийско-индокитайские планы Германии. – В.Ц.). В этом случае «Кругобайкальская колонизационная база заменилась бы Малоазийско-Кавказской с обязательным обладанием Босфором и Дарданеллами».
И далее поразительное размышление о том, как природные движения, в отличие от колонизационных, как широтное развертывание поясов леса и степи при их меридиональном – клиньями – нападении друг на друга побуждают «оседлого человека, выросшего на этой равнине, бессознательно копировать эти оба движения в своей колонизации, и от преобладающего в данное время успеха в том или в другом направлении зависит и географическая форма его могущественного владения» [Семенов-Тян-Шанский 1996, 608]. И, однако же, «в обоих случаях все-таки в наиболее прочном обладании России остается западная половина Империи приблизительно в ее нынешних границах, и защита именно ее от стремительного и серьезного нападения внешнего врага, безразлично с какой стороны, стихийно вызывает тот героический подъем народного духа» [там же].
Фактически при всем блеске работы Семенова-Тян-Шанского 1915 г. мы не можем не признать в ней текст внутренне расколотый (надтреснутый) по семантике и прагматике. Защита востока, призывы к интенсивному развитию русской Евразии, к доведению восточных «территорий» до состояния «штатов», протесты против колониального подчинения «Русской Евразии» – «Европейской России», призывы к геоэкономическому реанимированию этих пространств, ратования за меры, которые были бы эквивалентом перенесению столицы на восток; а с другой стороны, превознесение Европейской России как наиболее прочного владения Империи, пафос овладения проливами, «стремительного и неудержимого» движения России к Средиземному морю, готовность даже смириться с потерей «Кругобайкальской базы», заменив ее базой «Малоазийско-Кавказской», планы железных дорог «к Царьграду и Афинам» – признаки этой раздвоенности. Весь комплекс малоазийско-черноморских мотивов – воплощение фазы А. Мотивы, связанные с востоком, по характеру более сложны – тут и последние отголоски не исчерпанной, а прерванной евразийской интермедии, тут и устойчивая внеконъюнктурная тенденция дрейфа экономики на восток, на которую накладываются геостратегические циклы, модифицируя ее осмысление. (При настойчивом причислении России к Атлантическому миру стремление сконструировать в отпор претензиям «желтой расы» «Русскую Евразию» до Енисея – продолжение той же тенденции, которая в 1720-х побудила Татищева и Страленберга двинуть границу Евразии от Дона к Уралу.) Неоспоримо, что применительно к востоку меры по укреплению «острия меча» имеют в глазах Семенова-Тян-Шанского характер сугубо оборонительный; между тем, для южной части Балто-Черноморья он проектирует экспансию в тех или иных масштабах (проливы, железные дороги на Балканы, новые рынки). Эксперт, в 1910 г. готовый трактовать Китай как «Карфаген, подлежащий разрушению» любой ценой, в 1915 г. при всем увлечении обживанием севера и востока, пожалуй, готов даже смириться с утратой Забайкалья и Кругобайкалья, если эта потеря будет компенсирована серьезными успехами в «русской реконструкции» южной части Балто-Черноморья и прилегающего переднеазиатского пространства.
VI
Вторым русским геополитиком, ярко воплотившим тенденции этой новой фазы, следует назвать E.H. Квашнина-Самарина, лейтенанта, автора книги «Морская идея в Русской земле. История допетровской Руси с военно-морской точки зрения» (1912). Навеянная конкретными обстоятельствами – возрождением погибшего в русско-японскую войну Балтийского флота, – книга далеко выходит за рамки этого заказа. С одной стороны, это вообще наиболее последовательное обоснование принципа «похищения Европы» во внешней политике России, обоснование глубокое и заостренное. С другой же стороны, в этом обосновании делается упор на роль Балто-Черноморья: тем самым эта книга обнаруживает характерную геостратегическую логику именно фазы А. Это текст, важный для понимания геостратегической ментальности данной фазы; в частности, очень важны типологические параллели с идеологией и «системами» XVIII в.
Исходные задачи России с конца XV в. – «ограничить себя от Востока и Запада», утверждая им в противовес свою государственность, которую Квашнин-Самарин определяет так: «Государственность страны есть умение народа жить независимо своим трудом, способность отстоять свою самобытность, готовность (граждан. – В.Ц.) применить свой личный труд на общую пользу всего народа. Государственность, следовательно, определяется количеством народного труда (творчества) и качественно умением его использовать. То и другое оказалось налицо в объединенном Русском государстве XV века: сельскохозяйственный (трудовой) склад центра и коммерческий (умеющий использовать) склад Новгорода…. Как труд гнал человека всё вперед и вперед в степь и победил восточного кочевника, так желание облегчить этот труд и получить за него награду, желание выяснить и улучшить формы жизни поставило Россию в соприкосновение с Западом; вызвало необходимость тяжелой борьбы России с Западом – владельцем культуры; вызвало длинную борьбу за право на культуру, на вполне самостоятельную облагороженную жизнь; борьбу, еще не законченную» [Квашнин-Самарин 1997, 61]. Таким образом, Запад предстает в двух ипостасях – создатель высочайшей материальной культуры и ее монополист, использующий монополию ради неэквивалентного использования ресурсов и труда России. Борьба за культуру, за облагороженную жизнь есть вся геополитическая борьба с Западом, усиление давления на него – борьба, так сказать, за усиление сделочной позиции России в противостоянии с центром-монополистом. Буквальная такая перекличка с декларацией Петра, по случаю празднования Ништадтского мира, насчет Прометеевского «похищения огня». Квашнин-Самарин превозносит Ивана IV, который якобы в сознании «недостатка формальных средств (приемов) для выражения духовной сущности» России – Третьего Рима поставил целью добиться для России права на «просвещение» и на участие в жизни Европы в семье европейских народов [там же, 68, 79]. Одно из средств к этому состояло в том, чтобы разрушить шведские и польские «буфера» между Россией и Европой, чтобы стать в непосредственные отношения с Европой [там же, 76].
Таким образом, задачей России, актуальной и для 1910-х, Квашнин полагает поиск форм «борьбы с Европой» за силовое приобщение к политике Европы, а последнее нужно ради усвоения формальной техники для выражения российской сущности, но вместе с тем и для признания за русским народом равных прав с народами коренной Европы.
Эта установка воплощается Квашниным-Самариным в доктрине двух мировых центров. Он пишет о том, что задача всякой восходящей Империи «олицетворить в себе центр мировой власти, мировой культуры – не есть ли это абсолютная цель, не есть ли это идеал деятельности всякого широкого и долговечного государства? Мы это думаем и в это верим, мы это знаем, но существует ли наш воображаемый мировой центр?» Квашнин вводит два понятия мирового центра. С одной стороны, «наш сознаваемый центр мировой культуры царствует над всей землей в области качества, т. е. царствует прежде всего и над людьми, ибо человек есть по преимуществу качественное проявление земной природы; в идеальном мировом центре, как мы его представляем, производится обобщение ценностей, оценка качества всех мировых сил и ценностей, возвышающаяся в прямой зависимости от близости этих сил и средств к фокусу человечества. … Центр мировой культуры не есть географическая мнимость», «он существует … в каком-то определенном географическом месте, где находится в данный момент тот живой народ, или, скажем бесспорнее, тот идеальный центр того живого народа, в котором воплощается мировой культурный центр». Очевидно, что для Квашнина-Самарина этот мировой культурный центр – русский Третий Рим, а его географическое местопребывание совпадает с местопребыванием духовных центров русского народа. Но в то же время за счет материальных ресурсов может создаваться географическое и социологическое скопление духовных сил, функционирующее как второй, «не истинный» мировой центр культуры, функционирующий за счет обилия приемов деятельности, экономического оборота труда, формальной культуры.
Вывод: «Таким образом, не подлежит сомнению, что существует и географически какой-то истинный центр духовной жизни (содержательный. – В.Ц.) и какой-то центр формальной культуры, которые находятся в борьбе, т. е. стремятся поглотить один другой, стремятся слиться воедино, и эта борьба есть реальное, законное, как природа, явление» [там же, 172].
Совокупность политических и экономических фактов подтверждает, что в XVI-XVII вв. произошло передвижение мирового центра к северу, со Средиземного моря на северо-восток Атлантики, и этот сдвиг выразился в закате Италии, пиренейских государств (название Священной Римской Империи), в возвышении Нидерландов, Англии, Франции, Швеции, в возвышении нового германского ядра – Пруссии.
Итак, в эпоху «сложения политических, т. е. культурных задач Московского государства центр чуждой ему (формальный, мнимый – В.Ц.) мировой культуры лежал где-то вблизи Балтийского моря и потому деятельность Русского государства в направлении Балтийского моря была деятельностью, наиболее приближавшей русскую государственность к всемирному государственному идеалу – к мировому культурному центру, а значит и наиболее государственною деятельностью» [там же]. Итак, всемирный государственный идеал может осуществиться в борьбе подлинного (духовного) и мнимого (материально-формального) центров мировой культуры, в гегемонии одного над другим, а потому задача России как Третьего Рима, средоточия «истинной» культуры, не «дотягивающего» в формальных средствах ее выражения, – состоит в борьбе за контроль над средоточием чуждой России «мнимой» культуры и, вместе с тем, в овладении всем богатым формальным арсеналом этой цветущей мнимости.
«Если общая цель и неизменная цель всякого империального государства есть достижение мирового центра при помощи приемов, ведущих ближе всего к этой цели, и соответствующих средств, то общей неизменной целью всякой империальной военной силы будет – разбить воображаемую мировую военную силу … которой обладает, распоряжается в данное время мировой центр, которая служит …к охранению неподвижности мирового центра, находящегося в данный момент вне того империального государства; разбить с тою целью, чтобы переместить в свое государство положение мирового центра … Дело военной политики – разложить эту формулу, дифференцировать эту общую политическую цель свою на ряд приемов военной стратегической и тактической борьбы… на ряд войн с государствами, находящимися ближе, чем данное государство, к мировому центру культуры и потому качественно более могущественными, чем данное государство. … Реальная военная сила государств, близких по качеству к мировому центру, действуя на всем белом свете, неминуемо базируется на некоторую реальную географическую точку, находящуюся где-то вблизи места скопления не идейного только, но и формального богатства, – центр приемов работ и средств. И отсюда ясно то, как важно при войне стать своею силою между этим численным мировым центром и охраняющей его военной силой» [там же, 175]. Потому русская военная сила должна концентрироваться таким образом, чтобы быть «ближе всего от географических баз, спорящих за эту мировую базу и охраняющих в то же время ее военных сил империальных государств, более близких к мировому центру, и, таким образом, более всего способной явиться третейской стороной в борьбе двух сторон за мировую власть» [там же, 176][48]. Итак, цель России – «похищение» мирового центра через отрыв его от сил Запада, стремящихся его контролировать, а для этого Россия должна выступать третейским судьей, иначе говоря, вспомогательной силой держав, принадлежащих к центру и борющихся за удержание его в своей власти.
По этой логике, первостепенная задача военных сил России, в том числе и ее флота, должна была заключаться в создании условий для ее, если не прямого присутствия в мировом центре, то возможности на него давить в качестве «третейского судьи». Тем более что с XVI в. «экономический мировой центр в то же время являлся и главным русским рынком по сбыту продуктов народного, земледельческого и вообще добывающего труда» [там же]. Таким образом, балтийско-черноморская борьба России в XVI-XVII вв. анализируется Квашниным-Самариным с точки зрения подступа к главной задаче – влияния на судьбы «мнимого мирового центра». Таким образом, балтийское направление становится главным, и Квашнин выступает восторженным апологетом Ордина-Нащокина. Он высоко ставит задачи борьбы за Царьград и Черное море, но для него южное направление балтийско-черноморской политики встроено в северное, контроль над проливами Черного моря мыслим лишь при условии превращения Балтики в надежный русский тыл (возможность атаки Босфора и Дарданелл со стороны Средиземного моря). В свою очередь, контроль над Балтикой немыслим без контроля над Польшей, включая все украинские, белорусские и литовские земли. Поэтому все варианты дележа земель от Днепра до Одера вызывают у него ироническое раздражение: будь то нежелание Алексея Михайловича отдавать «собакам» Украину – «кусок православного хлеба» или разделы Екатерины II. Польша должна быть целостным плацдармом для русского присутствия на Балтике и давления на мировой центр: ради решения этой задачи в XVII в. можно было пожертвовать и Малороссией, зато в XVIII-XIX вв. надо было добавить включение Польши в Россию целиком. Южное направление встроено в северное, но условием успеха на севере может быть либо союз с сердцевиной балтийско-черноморского запада, либо прямое ею владение, но не борьба с нею: либо Польша союзная, даже ценой самых больших уступок, либо Польша полностью поглощенная. Панславянский вопрос, Индийский океан, борьба с Англией по азиатскому периметру – для Квашнина отсутствуют полностью. Задачи внешней политики, военной и мирской – обеспечить возможность России давить на мировой центр, на Северную Атлантику, через благоприятное для России решение судеб Балто-Черноморья. Флоты на других направлениях обслуживают региональные задачи, лишь флот вблизи мирового центра утверждает задачи общеимперские[49].
Если есть политика в принципе неприемлемая для Квашнина-Самарина в русской истории – это политика, связываемая им с именем Бориса Годунова, политика «поворота лицом к обдорам», соединяющая освоение Северного Ледовитого океана и евразийской континентальной глубинки с отказом от активной политики в отношении держав «мнимого центра», со стремлением стать с ними со всеми в благоприятнейших отношениях и в то же время вне их борьбы. Экономическими выкладками, показателями курса русского рубля, размеров экспорта, положения иностранных торговцев и т. д. Квашнин стремится доказать тезис о том, что время «зарывания» в глубинах китайской цивилизации, как и самодовлеющей политики на юге – время обесценивания народного труда, ухудшения сделочной позиции России, ее попадания в зависимость от стран «мнимого центра».
Парадоксально, что время Александра II, для Квашнина, не годы гигантского роста страны за счет континентальной сердцевины, а время потерь, утраты Русской Америки, неудачной, по его оценке, войны 1877–1878 гг. И даже восточные успехи Александра III он связывает с возрождением на Балтике флота «на одну треть ее вероятного противника», т. е. опять с давлением на Северную Европу (синхронизация произвольная), японская война – чисто случайный эпизод – «вызванная чисто внешними обстоятельствами перемена исторического русского фронта» (скептические замечания насчет движения на восток как «пути наименьшего сопротивления»).
На материале XVI-XVII вв. Квашнин-Самарин пытается выстроить оригинальную модель, якобы доказывающую роль поворотов России на юг и восток как своего рода центробежного размаха, возникающего с уклонением энергии русского народа от основного направления на «мнимый мировой центр». Иван Грозный, терпя поражения в Ливонии, поворачивает к Архангельску (и к Сибири); Годунов ориентируется на Мангазею и глубину материка; при первых Романовых восточное движение докатывается до Тихого океана, якобы исчерпывая свою цель; Алексей Михайлович прощупывает пути в Персию, ведет войны на юго-западе и западе, спорадически сворачивая к Балтике; при его детях завершается поворот. «Это круговращение напоминает размах гири, привешенной к центру. Как будто бы русская естественная мощь, отброшенная от берегов балтийских Европою, при грозной попытке Иоанна IV ввести Россию в европейскую систему, географическим вращением вокруг своей оси, чисто инстинктивным, накопляет невероятную центробежную силу, чтобы в лице Петра нанести удар господствующей на Балтийском море европейской державе, роковой удар, сплотивший Россию с Европой навсегда… Это явление, по бессознательности своей, по отсутствии в таком политическом круговращении какого-либо преднамеренного человеческого замысла … есть явление инстинктивное, явление народного инстинкта, поглощения пространства, инстинкта стремления к океану, политическое подсознание народа» [там же, 167]. С Петром «прекратилось то инстинктивное географическое … кружение внешней и внутренней политики России, и с тех пор нет более перенесения столицы, стоящей на страже духовного и телесного русского бытия». И хотя «внутри государства еще происходит инстинктивный процесс расселения, движение от центра к периферии, некое перемещение экономического центра, и после каждой внешней неудачи усиливается стремление правительства поддерживать народное переселение от берега западного моря к берегу восточного… Но все эти попытки инстинктивного характера не привели еще пока к крушению петровской идеи» [там же, 186–187] – идеи похищения «Третьим Римом» «мнимого», формального центра мировой культуры.
Таким образом, Квашнин-Самарин в 1912 г. сформулировал тезис о «похищении Европы», предполагаемого мирового геокультурного центра, как о движущем импульсе российской имперской геостратегии. Тогда же он высказал мысль – правда, на не очень подходящем материале XVI-XVII вв., значительно более оправданную для XIX-XX вв. – о наших имперских евразийских поворотах как об «инвертированном европохитительстве». Можно считать, что этот автор на самом деле выдвинул тезис более глубокий, важный для понимания идеологии русской геополитики: идею мирового двоецентрия, когда один центр представляет историческая Россия, другой же центр – считается ли он «сверхистинным» или, наоборот, «мнимым» – вынесен вовне ее, причем ни мир, ни сама Россия не мыслятся вполне завершенными без слияния этих центров. Любопытен высказанный Квашниным-Самариным на исходе работы тезис: «Для решения политических вопросов современности полезнее широкое пользование современной статистикой, которая покажет, насколько изменилось положение мирового центра с тех пор, как Русское государство вошло как одно из самостоятельных тел в мировую систему» [там же, 195]. Намек на то, что дрейф мирового центра способен сдвинуть центр тяжести военного (в том числе военно-морского) строительства России.
При всем различии с Семеновым-Тян-Шанским (как моряк, Квашнин не интересуется внутренней геополитикой России, развитием ее ядра), общее у них: Россия как часть Европы, не особое пространство вне Европы, не источник переустройства европейского мира, но крайняя часть Европы, культурно незавершенная, с европейским ядром, неспешно, но твердо упирающая на балтийско-черноморское пространство, через него влияющая на европейские судьбы, в нем полагающая основную игру, выходящая на евроатлантические дела через балтийско-черноморские проблемы.[50]
VII
Наконец, в это время в печати появляется имя, которое займет почетное место в истории русской геополитики, – имя П.Н. Савицкого, будущего основоположника и классика евразийства. Однако, первые две его работы написаны совершенно в другом ключе, поэтому именно на примере Савицкого хорошо изучать влияние стратегических циклов системы «Европа-Россия» на установки русской геополитической мысли.
Две публикации Савицкого 1916 г. посвящены спору с тезисом М.И. Туган-Барановского о невозможности крупномасштабного промышленного развития России из-за бедности Европейской России полезными ископаемыми. Первая из этих заметок малооригинальна. Заявление Туган-Барановского о единственности в России Донецкого бассейна как истинного минерального топлива Савицкий дезавуирует, обнажая лингвистические подосновы этого утверждения: отождествление «России» с «Европейской Россией». Отмечая концентрацию ресурсов на Алтае, Урале, в киргизских степях с их углем, Савицкий подчеркивает ассоциацию понятия «русского рудника» не с равнинной Россией, а именно с периферией – с глубинами Азии, с Уралом, Алтаем, Нерчинском. «Разве Западная Сибирь не занимает во внутренней национально-экономической структуре империи положения, во всем принципиально аналогичного положению Новороссии (где находится Донецкий бассейн)» [Савицкий 1916, 42] (тезис, разительно перекликающийся с применением имени «Новой России» к Западной Сибири и Казахским степям в 1730-х за 30 лет до приложения названия «Новороссия» к югу Украины). Всё тот же аргумент, которым в 1881 г. оперировал Достоевский, отстаивая поворот в Азию («вся Азия есть синоним некультурности, азиат – это варвар, и потому путь в Азию есть путь к одичанию»).
Намного интереснее вторая работа – два ее главных тезиса. Первый – о том, что мера развития промышленности в России не может определяться относительными величинами развития ее на единицу площади в сравнении с подобным же развитием европейских стран. Савицкий подчеркивает ускоренную эволюцию стран типа Англии и Германии в начале века по типу «стран-городов», с абсолютным превалированием индустрии над аграрной сферой, обеспечивающих себя сельскохозяйственной продукцией извне. Таким образом, эти «страны-города» образуют геоэкономическое целое с комплексом «стран-деревень». Промышленные же районы России образуют такой же комплекс с ее же аграрными территориями: таким образом, комплекс, который страны Запада образуют со своими колониями в разных концах мира или с «политически неоформленными совокупностями стран и земель», Россия содержит внутри своих континентальных границ.
Тут же Савицкий подчеркивает, что обстоятельства мировой войны, обнаружив уязвимость экономических связей между странами, обостряют вопрос: «Как сохранить хозяйственную независимость не отдельного индивидуума или семьи, а обширных социальных целых, государственных образований, будь то национального, будь то многонационального характера» [Савицкий 1916а, 72–73]. Тем самым Савицкий предвосхитил проблему автаркии, которая будет столь характерна для политики Запада между мировыми войнами и которая преломилась, в частности, в германской геополитике с ее идеей хозяйственно самодостаточных «гроссраумов». Савицкий, по сути, рассматривает Российскую Империю как такой гроссраум, отмечая: «место России в некотором основном процессе, наметившемся в новейшем мировом хозяйстве, – процессе создания и спайки таможенно-политических образований, обширных и разнообразных по характеру объединенных в них хозяйственно-производственных областей, – таможенно-политических образований "империалистического" (имперского) характера».
Итак, формирование особого геоэкономического пространства России Савицкий рассматривает как часть процесса, объединяющего Россию с западными державами, более того, прямо стимулируемого вовлеченностью России в борьбу западных великих держав за гегемонию в Европе и в мире.
А отсюда и второй мотив этой работы. Это тезис об изначальной раздвоенности ориентации России. Исконное ее ядро, «между верхней Волгой с севера, степями Слободской Украины с юга, Средней Волгой с востока и Днепром с запада» – рисуется как край, обездоленный полезными ископаемыми, «дарами Земли и Солнца». Однако в русской истории берет верх импульс, направляющий страну прочь от природных богатств континента. «Тяготение к культуре Запада, стремление дышать воздухом Европы, который в то же время есть воздух моря, потребность приблизиться к ее центрам, чтобы завязать и сохранить свои с нею связи, – всё это определило культурное устремление на Запад и на север, к Европе и морю, и заставило … именно здесь, на северо-западе создать и закрепить свои культурные сосредоточия» [там же, 67]. Итак, подобно Квашнину-Самарину, Савицкий обнаруживает логику похищения Европы в основе российской геостратегии.
Однако Савицкий идет дальше. Отмечая, что «природные ресурсы промышленного развития имеются в России только на востоке и юге, но в силу указанных условий русского прошлого не сюда было направлено историческое устремление» ее, Савицкий делает вывод о «действительно роковом территориальном несовпадении средоточий русской культуры с центрами природных ресурсов России». Собственно, это и есть противоречие, открытое Квашниным-Самариным, между задачами экспансии «труда» и задачами «увеличения награды за труд» через давление на мировой центр. Собственно, это раздвоение между типами империи от моря – делающими упор на «Русскую Евразию» или на балтийско-ближневосточную ось, а также дополнение в рамках первой модели созидания новых баз в «Русской Евразии» экспансией старых центров на юг и на юго-запад через проливы.
Это раздвоение, напряжение характерно для трех крупных геополитических писателей данной фазы – значит, оно не случайно. Это напряжение между неисчерпанным импульсом евразийской фазы (тут же и долгосрочная тенденция, пробивающаяся сквозь циклическую динамику) и тенденциями данной фазы, ее конъюнктурой. Симптоматично, что областью нейтрализации двух ориентировок оказываются Новороссия и Причерноморье. Это участок, вписывающийся и в возобновленную балтийско-черноморскую игру, но также в программу освоения периферий юга и востока. В том или другом качестве это направление присутствует и у Квашнина (как встроенное в «северное»), и у Савицкого (как часть развития периферий), и у Семенова-Тян-Шанского (то как альтернативное тихоокеанскому, то как восполняющее его). (Ср. с тем, как в преевразийскую фазу этот участок вписывался неизменно в разные варианты конструирования пространства России.) Несомненны и переклички с фазой А первого цикла, но в своеобразном наложении на тенденции евразийской фазы (или все-таки на внефазовую динамику?) Ну, конечно, соглашение с Англией увязывается с задачей выхода к Индийскому океану, так что сторонники «славянской политики» видят здесь новую авантюру с теплыми океанами, а стратеги «преевразийской фазы» высказывают соответствующие ожидания и возмущаются их обманом.
VIII
Подобно тому, как в политике России этой фазы сперва могло видеться отсутствие объединяющей «идеи», паразитирование на европейских конфликтах (Троцкий), точно так же и интеллектуальное оформление фазы отличается крайней пестротой, может казаться простейшей эклектикой. Пережитки азианизма, всплески славянофильства и т. п. Однако, можно отличить принципиальную глубинную структуру, и она прямо связана с той двойственностью геополитического задания, которое отличает это время. На смену попыткам пометить особое геокультурное пространство России по критериям, отличающим его от Запада как геокультурного целого, в эту пору видим – возвращение в культурно гетерогенное, лежащее на входе Европы Балто-Черноморье и попытки его реконструировать, опираясь на союзническое участие России во внутренней борьбе разделенной Европы.
Итак, с одной стороны, упор на мотивы балто-черноморские: концепты регенерации, восстановления полувассальной Польши, а в то же время новый упор на темы Константинополя, проливов, Ближнего Востока как балто-черноморского предела. Кризис идей славянской общности, негативное отношение верхов к претензиям Болгарии на роль хранительницы проливов оборачивается возрождением схем, в какой-то мере перекликающихся с построениями К. Леонтьева, но скорее уходящих в допанславистскую эпоху России – в XVIII и даже в XVII в. Конфессиональный признак выпячивается вперед, заслоняя этнолингвистический. В церковных кругах появляется тема превращения мусульманского Ближнего Востока в православный, и всё это вперемежку с отзвуками греческого проекта (воссоздание союзной России греко-византийской империи в выступлениях владыки Антония Волынского), вассальная Турция, регенерация Польши и т. д.
С другой стороны, регенерации XVIII в. уводят в петровскую эпоху, но при большей рефлексивной способности выявления принципиальных глубинных структур имперской геостратегии. Такова концепция Квашнина-Самарина, одного из самых ярких геополитических мыслителей этого времени. Концепция мирового культурно-экономического центра, в данный момент лежащего вблизи Балтики и противостоящего духовному центру мира – России – Третьему Риму, и борьба этих центров за возобладание одного над другим, причем для России этот путь к возобладанию заключается в том, чтобы, включаясь в борьбу европейских стран за гегемонию, выдвинуться между «мнимым центром» и охраняющими его, но и соперничающими за него силами. Здесь и глубокий архаизм, и сложный ряд реминисценций (включая «Завещание Петра Великого»), и геоэкономическая зоркость, и поразительное разоблачение глубинных структур имперской геостратегии.
В то же время среди интеллектуальной общественности эта фаза отмечена, прежде всего, сознанием новой «европеизации» России, обострением идеи России как компонента (но не гегемона, а именно привходящего компонента) европейского сообщества, обострением сразу в международно-политическом, геокультурном и интеллектуальном планах вопроса «Кто мы в этой старой Европе?» – именно в Европе, а не рядом с ней, и не против нее как целого[51]*.
В какой-то мере еще живут (в начале поворота особенно) западнические версии протоевразийства: у Семенова-Тян-Шанского – противостояние атлантического и тихоокеанского человечеств, России (восточное славянство), приатлантического мира, выдвинутого навстречу Тихому океану и т. д. Но эти веяния встроены в попытку по-новому определить пределы Европы.
Продвижение русских на восток оценивается как расширение и новая конкретизация Европы. Подобно тому, как в первой фазе сдвиг русской индустрии к Уралу мистифицировано преломился в идее «Европы до Урала», теперь результаты Сибирской экспансии преломляются в конструировании Семеновым-Тян-Шанским «русской Евразии», собственно «европеизированной Азии», противостоящей претензиям на «Азию для азиатов» (переработка европейских конструкций типа «Eurasian или Euroasiatic plains») – по Енисею. Причем, как и в фазе А цикла I, появляется сознание неустойчивости восточных окраин России и, наконец, внутренняя готовность смириться с потерей земель за Енисеем, компенсировав эту утрату прорывом на ближневосточном направлении. Итак, впервые входит в русский обиход термин «Евразия», но в очень специфическом контекстном значении вроде «европеизированной Азии», части европейского мира, выдвинутой в Азию. Но и это для новой фазы – маргинально.
По преимуществу это время отмечено спросом на идею разделенной, неоднородной Европы, разбитой на полюса, где Россия обретает себя как привходящая часть одного полюса, полноправно в него входящая, наряду с европейскими обществами определенной группы; Россия как представитель одной из тенденций, законно действующей в романо-германском мире. Так расцветает оригинальное неославянофильство В.Ф. Эрна, СМ. Соловьева и др., парадоксально объединяющее Россию, как представительницу христианского логоса, против ratio с католицизмом против протестантизма, критицизма и прагматизма. Понятно, что с началом войны подобные идеи обретают прямую политическую актуализацию.
По словам Эрна, «старая антитеза Россия и Европа вдребезги разбивается настоящей войной, и в то же время из-под ее обломков с непреоборимой силой подымаются новые антиномий… Германия противостала Европе, и Европа противостала Германии…. Лицом к лицу тут встречаются две мысли, два самоопределения, два лика самой Европы или, еще лучше, Европа и ее двойник» [Эрн 1991, 372 – 373]. Россию и Европу «всегда внутренно… разделяло то, что… с такой силой объективировалось в подъявшем меч германизме» [там же, 381]. «Отношение России к Европе стало чрезвычайно простым после того, как отрицательные, богоубийственные энергии Запада стали сгущаться в Германии, как в каком-то мировом нарыве… Когда вспыхнула война и наяву в Бельгии, Франции и Англии воскресли „святые чудеса“, между Россией и этими странами установилось настоящее духовное единство» [там же, 382][52] **.
Аналогично Бердяев твердит о том, что «Европа не может быть более монополистом культуры. Европа – неустойчивое образование. … Россия должна стать для Европы внутренней, а не внешней силой, силой творчески преображающей». Но «для этого Россия должна быть культурно преображена по-европейски» [Бердяев 1990, 126, 129] (точно на дворе XVIII в.). Понятно, что в таких условиях, в конце концов, евразийские медитации насчет азиатской души России и т. п. даже в «западническом» их преломлении начинают восприниматься как пройденный этап, как нечто для России уже устаревшее, и не случайно Бердяев благожелательно-снисходительно откликнулся на «Две души» М. Горького с их противопоставлением Европы и Азии, подчеркивая, что речь должна идти о неоднородности Европы. Интеллигенция упивается этой неоднородностью, тогда как политики-практики к восторгу православных иерархов пытаются использовать эту неоднородность, достигшую антагонизма, для обустройства Балто-Черноморья.
Разумеется, остаются и инерции евразийской фазы. Э. Урибес-Санчес отмечает: если кадеты встраиваются в новый цикл полностью, разрабатывая и конкретизируя его идеологию, то в органах печати и изданиях, связанных с октябристскими и прогрессистскими кругами, евразийские инерции более отчетливы и сильны. Прогрессистский «Голос Москвы» (1912.18.04) мог оспаривать позицию Сазонова о России – европейской державе («конечно, государство наше зародилось и сложилось в Европе, но то было давно, а в настоящее время центр тяжести России неуклонно передвигается к Востоку, к центру великой, северной Равнины, и Азия нам столь же важна и близка, как и Европа»). Прогрессисты и октябристы могли подчеркивать, что Монголия и застенный Китай для России не менее важны, чем проливы («Утро России», 1911. 23.01; 15 и 22.02; 17 и 19.03; 23, 24 и 26.04; 9 и 11.10). И даже могли развиваться идеи сплочения славянства, Ближнего Востока, Средней Азии и монгольских земель вокруг России («Утро России», 1911. 28.07; 6 и 9.11) [ИВПР 1999, 384–390].
Существенно, однако, что евразийские концепции в эту пору отнюдь не всегда, как у B.C. Кочубея, имеют характер прямой и яростной реакции на господствующую тенденцию новой фазы. В это время вырабатываются новые схемы, позволяющие интегрировать преевразийские схемы в рамки новых установок. И тут не столько манипулирование временной перспективой, когда, скажем, оформление вокруг России азиатского пространства отодвигается во временную даль – после решения балтийско-черноморских и ближневосточных задач. Гораздо важнее для этой эпохи – обсуждаемая политиками и интеллектуалами всех направлений и толков в связи с европейской борьбой тема империализма, раздела неевропейского мира на сферы держав Запада. В рамках этой темы строительство геоэкономического и геополитического автономного пространства освобождалось от коннотаций геокультурного противостояния Европе, преподносилось как частный эпизод в рамках европейской истории, вырастающей в историю всемирную. Более того, возникновение мировых комплексов, объединяющих европейские державы с их азиатскими колониями, позволяло теперь перешагнуть через былое представление об уникальности «европейско-азиатского» положения России, избыть мнение об особом драматизме ее погружения в Азию, казалось бы, положить конец манипулированию этими мотивами в обоснование противоположности России и Запада. Теперь все крупнейшие державы Запада, а тем более их образования, становились комплексами европейско-азиатскими. В раздумьях Бердяева на этот счет броско прочерчиваются те же тенденции, которые легли в основание западной геополитики как политики разделенного и переделываемого глобуса, переход теории международных отношений из социологического в планетарно-космический план.
Бердяев пишет: «Тот духовный поворот, который я характеризую как переход от социологического мироощущения к мироощущению космическому, будет иметь и чисто политические последствия и выражения…. Перед социальным и политическим сознанием станет мировая ширь, проблема овладения и управления всей поверхностью земного шара, проблема сближения Востока и Запада, встреч всех типов и культур, объединения человечества через борьбу, взаимодействие и общение всех рас. Жизненная постановка всех этих проблем делает политику более космической, менее замкнутой, напоминает о космической шири самого исторического процесса. Поистине проблемы, связанные с Индией, Китаем или миром мусульманским, с океанами и материками, более космичны по своей природе, чем замкнутые проблемы борьбы партий и социальных групп…. В политике империалистической объективно был уже космический размах и космические задания» [Бердяев 1990, 142], – как бы вторя декларациям Маккиндера и Дж. Файргрива и предвосхищая германских геополитиков. Для того, чтобы тема империализма была воспринята русскими в таком ключе, как снимающая границы цивилизаций и прежде всего Запада и России, нужна была особая конъюнктура, типичная именно для фазы А с ее интеграцией России в игры расколотого Запада. Пройдет десять лет, – и та же империалистическая проблематика будет поставлена нашими евразийцами совершенно по-иному – в плане обособленности России-Евразии от империалистической ойкумены, выстроенной Западом (прежде всего Европой), с упором на роль России-Евразии как другого планетарного фокуса, скрыто союзного бунтующей империалистической периферии (старые схемы отчасти Данилевского, отчасти Ухтомского).
Впрочем, неоспоримо также, что в когнитивном аппарате того же Бердяева в запаснике пребывали и схемы «преевразийские» в их либерально-западнической обложке а là Соловьев и Мережковский. Во всяком случае, на надлом России, ее выпадение из европейской игры он откликается вот таким типично преевразийским апокалипсисом: «Теперь уже в результате мировой войны выиграть, реально победить может лишь крайний Восток, Япония и Китай, раса, не истощившая себя, да еще крайний Запад, Америка. После ослабления и разложения Европы и России воцарятся китаизм и американизм, две силы, которые могут найти точки сближения между собой (миллевско-герценовско-мережковское «Царство Середины». – В.Ц.). Тогда осуществится китайско-американское царство равенства, в котором невозможны уже будут никакие восхождения и подъемы» [там же, 5].
Здесь схематика новой фазы надламывается, утрачивает способность опосредовать и интегрировать материал преевразийских схем и реакций, пронесенный через всю эту фазу, скрытый под ламентациями о мире, где снимается различие Европы и не-Европы.
Любопытно, что в это время на периферии политической и интеллектуальной элиты, в кругах крайне левой социал-демократии перерабатываются схемы, которые в будущем войдут в интеллектуальный арсенал следующей, уже собственно евразийской фазы. Симптоматично, что на ключевом направлении международных игр этой фазы радикальная публицистика не выдвинула ничего нового, эксплуатируя схемы, ходячие в правящих кругах и в кругах лояльной оппозиции, и цитировала эти схемы, оснащая их антиправительственными шпильками. Извольский в 1908–1909 гг. хлопочет об антиавстрийской федерации с младотурками в основе, Милюков твердит о необходимости объединения балканских держав – «и непременно всех их», и Троцкий твердит, что «демократическая Турция ляжет в основу балканской федерации», присочинив только выкрик правящему Петербургу «Прочь от Балкан!» В июле 1910 г. Сазонов клянется в верности формуле «Балканский полуостров для балканских народов», и Ленин тут же повторяет: «Балканы – балканским народам», – и нападает от имени большевистской партии на Европу, мешающую созданию «Балканской федеративной республики». Относясь к балто-черноморской игре как предосудительному империалистическому «хищничеству», эти маргиналы большой политики не могут сформулировать на этом направлении никакого подхода, который не был бы, по существу, внесен в рамки имперской геостратегии тех лет – как ее кривляющаяся тень.
Тем интереснее, что на иных направлениях, оставленных вне основных акцентов этой фазы, Ленин формулирует подход, который не только ляжет в основу большевистской азиатской политики 1920-х, но и получит сочувственное отношение основателей евразийской школы proprio sensu. Мнение о передовом характере «молодого» капитализма и застойно-реакционном капитализма зрелого позволит Ленину под влиянием азиатских национальных революций сформулировать противостояние «отсталой Европы и передовой Азии». Опираясь на разработки Дж. Гобсона, первого теоретика империализма, и в споре с доктриной ультраимпериализма К. Каутского Ленин придет к мысли о мировой опасности, которую способна нести «Европейская федерация великих держав», основанная на эксплуатации цветных континентов и превращающая эти страны в рантье и их обслугу – страны без классовой борьбы. Исходя из этого положения, Ленин яростно отверг проект «Соединенных Штатов Европы» как идею сговора стран отсталого капитализма против капитализма передового – американского и японского. Если Бердяев в кризисном 1917 г. страшился подавления Европы напором энергий Японии, Китая и Америки (западническая версия «преевразийства»), то Ленин перед фактом грозящей депролетаризации Европы отдает все симпатии «младокапитализму» САСШ и «передовой Азии». Как сформулировал ленинский подход евразиец Г. Вернадский, «империализм создал новую базу капиталистического строя. База эта – колонии, полуколонии и финансово зависимые страны. Следовательно, для того чтобы сокрушить капиталистический строй, нужно разрушить эту базу» [Vernadsky 1931, 119]. Так на периферии политического спектра вырабатываются модели, которым суждена исключительная роль при циклической перемене стратегической конъюнктуры и которые войдут в симбиоз с преевразийскими наработками Данилевского и Ухтомского.
IX
При всей пестроте и эклектичной аморфности, которую на поверхностный взгляд обнаруживают геостратегия и идеология этой фазы, она обладает собственным стилем, собственным набором маргинальных доминантных и рецессивных установок. Неоспоримо, что ее доминанты, накладываясь на реальный историко-политический процесс, придавали ему специфический смысл, резко акцентируя, выстраивая в сюжетную связь одни сигналы и заглушая другие. Сигналы, идущие из Балто-Черноморья, духом времени усиливаются и преувеличиваются, наступающие с иных направлений либо игнорируются (оккупация Англией Тибета), либо вписываются в общую канву (революция в Китае, отделение Монголии воспринимаются не как стимулы к экспансии, но на правах факторов, позволяющих «застраховаться» в Азии, снизить ее давление на Россию и сконцентрироваться на западе и юго-западе). Обострение реакции на последствия итало-турецкой войны, на болгарскую угрозу проливам в 1912 г. и дело Лимана фон Сандерса в 1913 г., несомненно, эскалировало напряжение, подготавливая войну, и наоборот, ослабление реакции на сигналы с иных направлений сводило к минимуму возможности войны в Азии. Итак, налицо распределение доминант и рецессивов, обратное тому, что видим в нашу «дальневосточную фазу». Соответственно, геополитические наработки этих лет, выразившие дух цикла (Семенов-Тян-Шанский, Квашнин-Самарин, юный Савицкий), построены на сигналах, утверждающих определенные видения России и мира и блокирующих <сценарии, характерные для иных фаз геостратегического цикла>[53].
Глава 10 Вторая евразийская интермедия: новый исход к Востоку
I
Касаясь вклада евразийцев в российскую геополитику, я должен сразу же оговориться: в мои намерения не может входить рассмотрение всего комплекса евразийских воззрений, включая их философию, социально-экономическую доктрину, их правоведческие и государствоведческие взгляды. Евразийцы представляют для моего исследования важность в одном лишь аспекте, зато именно в том, в котором они сами полагали свою исключительную заслугу: эта группа идеологов и ученых заявила претензии на то, что она впервые последовательно провела геополитический взгляд на всю русскую историю. Именно в трудах евразийцев (в том числе авторов, одно время примыкавших к их движению, а затем отдалившихся от него, как П. Бицилли) впервые по-русски прозвучали термины «геополитика» и «геополитический», встречающиеся с 1927 г. многократно в текстах евразийцев и в заглавиях их работ, а кроме того, прямо присутствующие в таком (правда, относительно позднем) документе евразийского движения как «формулировка» 1932 г. С точки зрения предлагаемой мною концепции, евразийство должно рассматриваться как наиболее последовательное идейное выражение той конъюнктуры, что пришлась на 1920–1936 гг., представляя так называемую фазу Е (евразийскую интермедию) во втором геостратегическом цикле России, когда страна, потерявшая значительную часть имперского Запада, не просто отодвинулась от Европы, но оказалась от нее отделена новообразованным поясом т. н. центрально– и восточноевропейских лимитрофов, на которых великие державы Антанты конкурировали за влияние, создавая контрбольшевистские структуры, призванные удержать СССР в глубине континента.
Тот факт, что евразийская геополитическая доктрина была порождена конъюнктурой данной фазы, нисколько не противоречит известному обстоятельству: тому, что интересы и воззрения будущих лидеров евразийства (таких как Н.С. Трубецкой, П.Н. Савицкий, Г.В. Вернадский) отчасти сложились еще в 1910-х гг. и тогда же выразились в некоторых их публикациях. Мы уже видели, в частности, на примере работ Семенова-Тян-Шанского – фаза А данного цикла в общем-то была достаточно благоприятна для дополнительной проработки тем, доставшихся по наследству от прерванной японской войной преевразийской эпохи: на повестке дня остались проблемы Сибири как нуждающегося в развитии тыла России в любой большой мировой игре. В этом смысле очень интересно обратить внимание на первые работы Г.В. Вернадского и П.Н. Савицкого 1914–1916 гг. именно с тем, чтобы показать, что интерес к Востоку, заявленный в этих работах, проявляется в формах, существенно отличных от будущего евразийского видения.
Так, в статьях Вернадского, посвященных русской восточной экспансии (1914–1915 гг.), видим скептические отзывы о политике Московского царства, перекрывшего европейцам доступ к устьям сибирских рек и тем самым пресекшего проекты трансконтинентального речного пути из Европы в Центральную, Южную и Восточную Азию, бродившие в Европе XVI-XVII вв., – на много веков затормозившего развитие сибирской «малой Индии». Кроме того, в этих выкладках Вернадский настойчиво возвращается к проблеме утерянной Русской Америки, т. е. к мотиву русской истории, по сути чуждому евразийским построениям 20-х и 30-х гг. Обвинение в адрес Русско-Американской компании, предпочитавшей поддерживать связи напрямую с Петербургом без увязки своей экспансии с обживанием внутренней Сибири и особенно Приамурья, перекликается с призывами В.П. Семенова-Тян-Шанского, для которого именно Сибирь оказывалась ключом к удержанию тихоокеанских позиций. В фокусе – несостоявшаяся поддержка Россией Америки через Приамурье. Фактически в раздумьях Вернадского (о наступлении в Манчжурии как неудачном замещении реальной функции Приамурья – служить базой для Русской Америки; о том, что утерянный Порт-Артур – рана уже зажившая, а Русская Америка – рана незаживающая) можно видеть предельное смещение фокусировки русской геополитической мысли, описавшей за 60–70 лет гигантскую дугу: с Ближнего Востока через Средний Восток – к утраченной Азии, Манчжурии и Корее, чтобы, наконец, сместиться к крайнему северо-востоку Империи. Во всяком случае, всё это – акцент на приморских зонах вне основного континентального торса России, причем Сибирь по преимуществу видится как неиспользованный в океанической игре тыл.
Еще интереснее коснуться двух статей П.Н. Савицкого, опубликованных в 1916 г. Это тем любопытнее, что позднее этот автор перепечатал их в своей книге 1932 г. «Месторазвитие русской промышленности» под евразийскими названиями, пытаясь их интегрировать в ту парадигму, которую он энергично разрабатывает в 1920-х и 30-х. В этих статьях, несомненно, прочерчены темы, которые Савицкий позднее ставил и решал в качестве евразийского геополитика. Однако аранжировка этих тем лишена важнейших лейтмотивов, которые появятся в 1920-х. Эти статьи написаны в ответ на утверждения авторитетного экономиста М.И. Туган-Барановского насчет ограниченных возможностей промышленного развития России из-за якобы резко сниженных по сравнению с Англией и Германией запасов каменного угля в России на единицу площади. Савицкий начинает с тезиса о неправомерности отождествлять промышленное развитие России только с развитием ее европейского фланга и потому принимать в расчет лишь запасы угля донецкого. Относительная скудость Восточно-Европейской равнины на запасы этого топлива, а вместе с тем его значительная концентрация за Уралом делают неприменимой к России модель европейских колониальных империй с промышленным развитием исключительно в метрополии. В России приходится говорить об империи в целом, т. е. делая во многом упор на развитие периферии. Симптоматична критика цивилизационной ориентировки, скрывающейся за экономическими выкладками Туган-Барановского (прямая перекличка с «азиатским» завещанием Достоевского). Ведь Азия есть синоним некультурности, а потому путь в Азию есть путь к одичанию?
В следующей статье критика Туган-Барановского ведется с немного иных позиций, но в фокусе именно контраст России и европейских империй. Те могут развиваться в сплошные государства-фабрики именно потому, что всё более живут привозной сельскохозяйственной продукцией из колоний, из политически неоформленных торговых сфер. Для России ее деревня пребывает в ее пределах, именно поэтому лишены смысла сравнения удельных цифр развития промышленности в России и в европейских странах: сравнивать можно только абсолютные цифры развития промышленности России и западных стран. Савицкий прямо выходит на идею автаркического гроссраума, которая в те годы занимает геополитиков германского мира. Задача современности – как сохранить хозяйственную независимость не отдельного индивидуума или семьи, а обширных социальных, государственных образований, будь то национального или многонационального характера? По Савицкому, это задача любого империализма, решающего ее сообразно с подручным географическим материалом, – и Савицкий спокойно ставит в один ряд русский империализм с германским или британским: у них одна задача – обеспечить равновесие продуктообмена в имперских рамках, но Россия принуждена решать ее по-своему. Актуальность этой задачи обусловлена борьбой с Германией, уже овладевшей в войне железо-угольными бассейнами континентальной Европы.
Тезис Савицкого в том, что коренная Россия между Волгой, Днепром и украинскими степями, будучи лишена ресурсов, исторически стоит перед выбором направлений расширения. Культурные ориентиры заставляют ее развиваться в сторону центров Европы, но территории, поглощаемые на этом пути, ценные в культурном отношении, бедны ресурсно, тогда как области, обильные ресурсами, – малопритягательны в культурном плане. Савицкий мастерски вскрывает за формально-экономическими рассуждениями «скептиков относительно русского промышленного развития» цивилизационную апорию «действительно рокового территориального несовпадения средоточий русской культуры с центрами природных ресурсов России». И, тем не менее, задача в том, чтобы культуру, созданную в регионах, лишенных богатства земных недр и напряженной силы Солнца, выделить в энергию, нацеленную на освоение окраинно-европейских и азиатских областей: «Новороссии и Керченского полуострова, Кавказа, Урала и Алтая». Существенно, что для Савицкого юг и восток, в отличие от Семенова-Тян-Шанского, представляют как бы единую ориентировку, а включение Причерноморья в сферу основных приоритетов вполне отвечало построениям 1916 г. с обозначившимся русским рывком в сторону Ближнего Востока (что побуждает вспомнить не только Семенова-Тян-Шанского, но, скажем, и проекты Струве). Существенно, что Савицкий не отрицает до конца и культурно-ценного европейского направления экспансии, как бы ограничивая его значение, давая ему место. Итак, при всех попытках автора в 30-х интегрировать эти статьи в евразийскую парадигму общим оказывается лишь витавшая в первой трети века над европейской геополитикой тема самодовлеющего гроссраума вокруг великой державы, с указанием на те особенности строительства этого пространства, которые исторически обусловливают неизбежность такого строительства в силу местоположения России. Здесь, собственно, нет нового евразийского момента, который состоит в том, что Россия, как особый мир, именно обретается вне Европы. Как у Вернадского – фокус на морях не предполагает противостояния континента океаническому миру; наоборот, сожаление о том, что потенциал Сибири не был использован для морской стратегии – будь то в качестве базы для русского утверждения в северной части Тихого океана или же в целях связывания речных и морских путей в единые межокеанические магистрали. Но это, в общем, не евразийские конструкции.
II
Между тем, в предыстории евразийского движения мы обнаруживаем не только труды Вернадского и Савицкого 1913–1916 гг., где обозначается подступ к некоторым будущим темам евразийской доктрины, однако при отсутствии ее главного компонента – идеи самодовлеющего «российского мира». Не менее интригующим моментом оказывается идейный зигзаг, пережитый будущим классиком евразийства Савицким где-то в 1919 г. и документированный его брошюрой «Очерки международных отношений», выпущенной в указанном году в Екатеринодаре. Эта работа показательна как любопытнейший памятник недолгой фазы конца 1910 – начала 1920-х, фазы оборвавшегося большевистского наступления на Европу. Эту фазу открывают венгерская, баварская и словацкая революции лета 1919 г., максимумом ее становится выход Красной Армии к Висле, последними ее событиями – сорвавшиеся революции 1923 г. в Германии и Болгарии. Притом, что речь шла фактически об экспорте большевизма, – тем интереснее преломление этой фазы в работе будущего евразийца Савицкого, в 1919 году участника белогвардейского движения на юге России.
Савицкий отталкивается от исторической аналогии между событиями, разделенными столетием: мировой наполеоновской войной начала XIX в. и мировой войной 1914–1918 гг. Тезис – переплетение войны и революции как единый акт пересмотра европейского порядка. Революция, длящаяся в 1919 г. в России и охватившая часть Центральной Европы, позволяет ему утверждать, что мировая война еще не кончилась, и, соответственно, Версальские соглашения должны рассматриваться не как аналог венских решений 1815 г., но исключительно на правах краткосрочных перемирий вроде Тильзитского или Эрфуртского. Дальнейшее развитие связано с отмеченным переломом конъюнктуры: если на первых порах (в моей категории – фаза В) «русская революция … грозила уничтожить великодержавность России и отдать ее в национальную кабалу Германии», то уже через год, по Савицкому, видны приметы того, что «интернационализм российской Советской власти перерождается и неизбежно должен перерождаться в воинствующий российский империализм … в международном отношении под советскими знаменами можно чувствовать себя более непринужденно, чем под всякими иными, ибо для большевиков законы не писаны».
Тезис Савицкого в том, что трансформация гражданской смуты в гражданскую войну с формированием двух мощных станов, отстаивающих противоположные принципы, предвещает при любом исходе будущее милитаристское возвращение России. Победа большевиков приведет к наступлению на Европу «большевистских русских и спартаковских немецких полчищ, воодушевленных одновременно пафосом "всемирной революции", национальным ожесточением немцев и разбойничьими аппетитами русских профессионалов». Наоборот, победа Колчака и Деникина «утвердит собой национально-индивидуалистический строй во всей остальной Европе». Разорванная гражданской войной Россия 1919 г. видится как носительница проекта будущего обустройства Европы (фаза С во всей силе). Это видение воспринималось бы как чистая фантазия, если бы мы не имели аналогичных свидетельств из противоположного стана.
Здесь нет намека на евразийские воззрения. Русские 1914 г. расцениваются наряду с немцами как два самых крупных народа Европы, отличающихся наибольшим естественным приростом и имеющих право сыграть решающую роль в обустройстве континента. Куда попробует расширяться Германия – на восток или на запад? Этот вопрос будет в 20-х волновать многих, от автора «Майн Кампф» до устроителей конференции в Локарно. По Савицкому, как Россия Колчака-Деникина, так и Россия Ленина-Троцкого должна быть заинтересована в «соглашении расчета» с Германией: эти два народа призваны к строительству новой Европы; немыслимо ни помешать расширению Германии, ни превратить русских в удобрение немецкого поля. Границей российской сферы в Европе должна быть линия Познань – Богемские горы – Триест; всё, что к западу, – будет охвачено западноевропейским таможенным союзом, связывающим с Германией прибрежные страны Западной Европы и их колонии. Гарантиями России должно быть ослабляющее Германию сохранение морской мощи Англии (шаг, фактически обеспечивающий России – восточному центру – превосходство над западным центром, германо-романским), а вместе с тем, укрепление под покровительством России пояса образований на землях «не-немецкой бывшей Австро-Венгрии» и на Балканах. Речь идет о комбинации принципов «океанического равновесия» и «континентальных гарантий» для России (но не для Германии, к которой впритык тянулся бы пояс российских сателлитов). Это – реконструкция Европы с возведением России в статус восточного континентального центра при попадании западного центра, зажатого между Россией и Англией (устраняемой как фактор с материка), в зависимое, ослабленное положение. Таким образом, проект Савицкого при всей схематичности оказывается любопытнейшим памятником недолгой и, в общем, не состоявшейся экспансивной фазы в цикле В.
III
Проходит всего полтора-два года после этой брошюры – и в сознании лидеров становящегося евразийства происходит перелом, приводящий к становлению новой политической парадигмы. Ее основные постулаты были сформулированы в 1920–1921 гг. в дискуссии Трубецкого и Савицкого – точнее, в статье Савицкого «Европа и Евразия», представляющей рецензию-ответ на брошюру Трубецкого «Европа и человечество».
Основные постулаты статьи Трубецкого просты и, по его признанию, сформировались в его сознании в 1910–1911 гг. Между тем, показательно уже то, что в окончательном виде он решил предать их печати в 1920 г. – в год решительного броска Красной Армии на запад к Варшаве и германской границе и надлома этого натиска на Висле (которую немного повлиявший на размышления Трубецкого Шпенглер объявил в 1918 г. географической границей романо-германской «высокой культуры»). По Трубецкому, величайшее бедствие современности в том, что в мире под именем «общечеловеческой культуры» утверждается культура романо-германской группы народов. Европейский космополитизм, преподносящий эту культуру в качестве высшего достижения человечества, глубоко эгоистичен и заслуживает имени «общеромано-германского шовинизма». Между тем, нет никаких критериев, по которым можно было бы судить о большем или меньшем совершенстве той или иной культуры – поскольку все эти культуры удовлетворяют потребностям выработавших их народов. Претензии романо-германцев на всемирное превосходство базируются, прежде всего, на военных победах и совершенных средствах передвижения, иначе говоря, опираются на поклонение грубой силе: однако, сколько раз в истории высшие цивилизации были разрушаемы варварами! Рассуждения Трубецкого о глубочайшей разработке многих областей «дикарской культуры», о напряженной умственной жизни «дикарей», несмотря на то, что набивающий их головы обширный материал несопоставим с «материалом», наполняющим сознание европейца, – живо напоминают будущие постулаты К. Леви-Стросса и всего европейского структурализма, переходящего к концу XX в. в постмодерн. Вывод Трубецкого тот, что «момент оценки должен быть раз навсегда изгнан из этнологии и истории культуры, как и вообще из всех эволюционных наук, ибо оценка всегда основана на эгоцентризме. Нет высших и низших. Есть только похожие и непохожие» [Трубецкой 1995, 81].
Когда не-романо-германские народы стремятся усвоить «общечеловеческую» культуру Запада, они неизбежно вынуждены оценивать самих себя, новую традиционную культуру с точки зрения романо-германцев, что приводит к раздвоению культурного сознания, осложняет и запутывает культурную работу «европеизированных» народов, обрекает их на цивилизационную зависимость, на вечное превалирование культурного импорта над культурным экспортом. Следствием импорта культуры становятся разрушение национального единства европеизированных народов, распространяющийся среди них взгляд на самих себя как народы «отсталые», что облегчает романо-германцам превращение «отсталых» народов в объекты своей экономической и политической эксплуатации. Этот расклад не изменится при переходе Европы к социализму, более того, он будет еще усугублен экспортом социализма из Европы во все концы мира: «Во всех европеизированных государствах при социалистическом строе на первых ролях, в качестве инструкторов и, отчасти, правителей, будут сидеть представители чистых романо-германских народов или народов, полнее приобщившихся к романо-германской культуре. … Прочие "отсталые народы" постепенно попадут в положение их рабов». Бороться надо не против «милитаризма и капитализма», а против «ненасытной алчности, заложенной в самой природе международных хищников – романо-германцев» и против «эгоцентризма, проникающего всю их пресловутую "цивилизацию"» [Трубецкой 1995, 100]. Задача этой борьбы в том, чтобы произвести переворот в сознании интеллигенции европеизирующихся неромано-германских народов, очистить это сознание от влияния эгоцентризма, заставить эти народы понять, что нет «высших и низших», есть только «разные». «Не надо отвлекаться в сторону… такими частными решениями, как панславизм и всякие другие "пан-измы". Эти частности только затемняют суть дела. Надо всегда и твердо помнить, что противопоставление славян германцам или туранцев арийцам не дают истинного решения проблемы, и что истинное противопоставление есть только одно: романно-германцы – и все другие народы мира, Европа и Человечество». Фактически Трубецкой конструирует модель мира с центром и периферией, где оптимальным выходом для народов периферии является сплоченное культурное противостояние наступающему центру.
Для самого Трубецкого эти выкладки были связаны с вполне прагматическим вопросом: справится ли российская интеллигенция с задачей культурного переворота, эмансипирующего ее от влияния Европы. «Самое худшее, что может произойти, это – преждевременное восстание низов романо-германского мира, связанное с перемещением мировой оси в Берлин, вообще на Запад; после этого переворот в сознании, скорее всего не произойдет, а если и произойдет, то будет уже поздно. Но, возможно, конечно, что романо-германские низы ничего не предпримут, и тогда Россия, предоставленная на долгое время самой себе и азиатской ориентации, либо принудит своих вождей произвести переворот, либо стихийно заменит их другими, к этому перевороту более способными. Что будет – сказать трудно: боюсь, что самое худшее» (письмо P.O. Якобсону от 7 марта 1921 г.) Итак, именно в начале 20-х, возможно, сложившиеся уже давно воззрения Трубецкого обретают геостратегическую подоплеку: цивилизационный выбор России определяется как развилка между двумя геополитическими сценариями. Либо свершится самое худшее – большевики вносят свой проект в Европу и поднимают на борьбу за него «низы» романо-германского мира (т. е. фаза С доходит до логического конца). После победы революции на Западе центр «социалистического содружества народов переходит в Европу», а Россия добровольно выступает экономическим резервуаром «другой Европы» – т. е. идет на самоколонизацию. Либо этот сценарий срывается, и отброшенная на восток Россия оказывается передоверена самой себе и азиатской ориентации. Как и некогда у Тютчева, проблема самопознания решается в борьбе с Европой, но в борьбе не за переустройство Европы (таковая борьба самосознание лишь затемняет и осложняет), а за дистанцирование от Запада.
С поразительной силой эти интенции в своей рецензии подхватил и выпятил Савицкий, резко очищающий аргументацию Трубецкого от «общечеловеческой» шелухи. Савицкий требует ясно различать два типа культурных ценностей: одни определяют цели и «самоцели» народной жизни – такие ценности действительно равноправны и несоизмеримы; другие относятся к средствам для достижения целей – и эти ценности вполне соизмеримы, когда, например, речь заходит о научном познании или о военной технике. Пренебрежение идеологией романо-германского мира недопустимо распространять на его технику; нельзя недооценивать «значения силы как движущего фактора культурно-национального бытия» [Савицкий 1997, 146]. Сила – в том числе сила техническая и военная – один из важнейших параметров, определяющих сравнительное достоинство сталкивающихся цивилизаций. Чтобы отстоять себя, народ должен обладать большей силой либо в степени культурной влиятельности, либо – в военном плане. Народ, не способный ни защитить себя милитарно, ни противостоять чужому культурному влиянию, – не может претендовать на особые достоинства своей идеологии. Именно по признаку силы в двух ее пониманиях народы неравны и должны быть представлены в виде лестницы. Чтобы бороться с кошмаром европеизации, народ должен быть не просто частью Человечества, но обладать культурой, которая позволила бы противостоять Западу как «идейно и ценностно», так и физически-милитарно [там же, 149]. В этом смысле масса народов, «не говоря уже об австралийцах и папуасах, но даже негры, малайцы – имеют весьма небольшие шансы успешно сопротивляться романо-германской агрессии». «Для этих народов существует только одна возможность: смена романо-германского ига каким-либо иным». Все рассуждения Трубецкого имеют смысл постольку, поскольку относятся к народам, способным представить реальный противовес Европе – культурный, политический, силовой. И в первую очередь это относится к России. Вместо соотношения Европы и Человечества говорить следует прямо о соотношении потенциала Европы и России (так вслед за Данилевским формулируется идея России не как носительницы некоего европейского проекта, но как цивилизации-противовеса). Встает вопрос: «поскольку Россия в своем противопоставлении "Европе" вовлекает в свой лагерь целый ряд иных нероссийских народов, не означает ли для этих народов такое вовлечение простую смену ига "романо-германской" культуры игом культуры российской?» [там же, 157.] Ответ: народы не равны по своим культурным потенциям: жизнь жестока, и на слабейших народах может тяготеть российское иго, однохарактерное игу романо-германскому. Но в случае с народами, «не лишенными культурных потенций», примыкающих к российскому центру, речь должна идти о «братании» и создании единого культурного содружества.
Особенно жестко Савицкий критикует утопические построения Трубецкого насчет противостояния «романо-германской алчности» через плюралистическое миропонимание и отказ не романо-германской интеллигенции от «эгоцентризма». «Люди именно потому и приемлют ту или иную идеологию для удовлетворения своих духовных потребностей, что видят в ней "нечто… высшее и совершенное"» [там же, 158–159]. Признать чужую идеологию как равноценную своей – значит обесценить свою. Как немыслимо освободить от ига Запада всё человечество (освобождены могут быть лишь те, кто способен к военной и культурной борьбе за самоутверждение), так же нельзя освобождаться от «романо-германского гнета», отрекаясь от «эгоцентризма»: отрекшийся от «эгоцентризма» народ открыт для всех и всяческих влияний. Культура самоутверждения начинается через возвращение народа к эгоцентризму, к готовности бороться за свою идеологию против всех чужестранцев. Не через плюрализм, а лишь через жесткий эгоцентризм Россия утвердится в качестве противостоящей Западу цивилизации-противовеса. Более того, чтобы утвердиться в таком противостоянии, следует освободиться от терминологических иллюзий, связанных с существованием Европейской России. Следует реструктурировать терминологию так, чтобы она создавала картину целостного мира, способного противостоять Европе. Так возникает формула «России-Евразии» (Большевизм не как проект переустройства Европы, а как конструирование противостоящего Европе центра.) В решении своей задачи Россия обязана быть последовательно эгоцентрична. Нет ничего невозможного в том, что противостояние Европы и России «вовлечет в свое лоно также и некоторые народы "Азии"» [там же, 157]. Но «следует оговориться, что расширение этих рамок на такие народы, как индусы или китайцы, отнюдь не означает расширения их до пределов всего "Человечества". Ибо индусы или китайцы в смысле потенций культурно-исторического противопоставления отнюдь не однохарактерны, например, неграм, австралийцам или папуасам…» [там же.] Речь идет не об освобождении культур, а о самоутверждении цивилизаций древних традиций, имеющих большой опыт государственно-имперского строительства и способных стать основой милитарной мощи[54]*.
IV
В ходе дискуссии начала 1921 г. Савицкого с Трубецким первым было введено понятие «Евразии». Цель заявления была проста: утверждая противостояние Европы и России, элиминировать сам термин «Европейская Россия», как бы входящий в оба противопоставляемых термина. Фактически та же задача, что и у Семенова-Тян-Шанского, но первый, стремясь снять противопоставление Европейской и Азиатской России, вводит «Русскую Евразию» как соединительный член, используя выражение «евразийские степи» для порождения существительного. Савицкий же пытается отменить понятия «Европейской» и «Азиатской» России, объединив обе термином «Евразия»; впрочем, отсылка к «евразийским степям» в смысловой структуре этого термина сохраняет важное значение, как мы увидим ниже в связи с двусмысленностью роли «Дальнего Востока» в евразийской модели России.
Разрабатывая свою доктрину, евразийцы ввели понятие «геополитики»: с конца 1920-х появляются в их трудах такие заглавия, как «Геополитические заметки по русской истории» [Савицкий 1927], «Географические и геополитические основы евразийства» [Савицкий 1933], «Из области русской геополитики» («младший» евразиец К.А. Чхеидзе [Чхеидзе 1931]). Попутчик, а затем оппонент евразийства П. Бицилли противопоставляет «вероисповедные» и «геополитические» мотивы евразийства [Бицилли 1993, 285, 286] и ставит в особую заслугу Г. В. Вернадскому подход к истории России с «геополитической» точки зрения («изучение истории России как геополитической величины»). Один из участников этого движения Н. Алексеев прямо указывает, что евразийцы являются основателями в русской науке геополитического подхода к русской истории, – что, впрочем, не мешало евразийцам указывать на таких предшественников, как Данилевский, Менделеев, Мечников, Ламанский.
Разрабатывая свою геополитику, евразийцы, может быть, невольно оказались на стыке двух геополитических подходов, разрабатывавшихся в Европе первой четверти XX в. С одной стороны, проблема России как автономного (или «автаркического» мира), мыслимого в виде гигантского континентального пространства, свела их не только с немецкой антропогеографией Ратцеля, но и с геополитикой школы Хаусхофера, активно разрабатывающей доктрину т. н. «Пан-идей». Не случайно в 1927 г. Чхеидзе печатает одобрительно принятую Савицким статью о «государствах-материках», усматривая в Лиге Наций прообраз оформления будущего государства-материка Европы. Разрабатывая контуры возможных государств-материков «Пан-Азии», «Пан-Ислама», «Евразии» и «Европы», а также области их грядущих столкновений и битв, Чхеидзе не только идет вместе со школой Хаусхофера и уже предвосхищает его книгу 1931 г. о «Пан-Идеях», но и в некоторой степени оказывается предшественником доктрины «столкновения цивилизаций» С. Хантингтона (схемы столкновения Европы и Пан-Ислама в Средней Азии и на Кавказе, Евразии и Пан-Азии в Манчжурии, Западном Китае, Тибете, Евразии и Европы в Прибалтике, Евразии, Европы и Пан-Ислама на Балканах). Савицкий не только принял эту доктрину, но в 1932 г. предложил свою схему становления государственных типов: государства-города, государства-территории, нации и государства-материки, – вводя точные количественные параметры для каждого из этих типов.
Однако ключевое место в геополитике евразийцев обрело понятие «месторазвития», понимаемое как «географический индивидуум» – комплексная целостность, предстающая в разных планах как «одновременно географический, этнический, хозяйственный, исторический и т. д. и т. п. "ландшафт"» [Савицкий 1927], как естественные, природные условия месторождения государства [Чхеидзе 1931]. Чхеидзе прямо утверждал, что «геополитик говорит не о территории, но о месторазвитии» [там же, 112]. Разрабатывая теорию соединения меньших месторазвитий – «географических индивидов» – во всё большие, вплоть до планеты как высшего «месторазвития» человечества, устанавливая возможность вхождения разных областей как условий становления цивилизаций в различные эпохи в разные месторазвития, евразийцы вышли на уровень философии геополитики. Сами они склонны были осмыслять свои построения в свете православных представлений об иерархии всё укрупняющихся соборных «личностей»[55] *. С другой стороны, доктрина иерархии и переселения «месторазвитий» пересекалась с учением К. Риттера о географических «Ganzheiten». Но при этом толкование «месторазвитий» как индивидуумов, складывающихся в более крупные индивидуумы, предвосхищает концепцию, развитую после второй мировой войны Готтманом (хорошо знакомым с трудами Савицкого) об иерархиях «иконографий» локальных систем смыслов и социальных условностей, складывающихся в образования всё более высокого ранга. Таким образом, в 1920–30-х гг. евразийцы органически включаются в становление геополитической парадигматики XX в., входя в контакт со множеством современных им научных и духовных движений. В частности, настойчиво проводимое ими противопоставление генетических связей языков и культур – и тех схождений, которые формулируются через принадлежность к тому или иному месторазвитию (отличение русских от славян Европы, кочевников-скифов от оседлых азиатских иранцев), перекликается с «новым учением о языке» Н.Я. Марра, цитируемого евразийцами, настойчиво выпячивающего принцип автохтонного развития в ущерб генетическим связям и заимствованиям.
Несомненно, достаточно общим местом для всей геополитики XX в. было разрабатываемое евразийцами противопоставление «Евразии» как континентального мира океану, и в этой связи выдвинутое Савицким различение «морского хозяйства», осуществляющего торговлю в масштабах земного шара с учетом торговой конъюнктуры, и хозяйства континентального, вынужденного мобилизовать принцип «связывания соседств», чтобы тем самым несколько нейтрализовать потери от доставки своих товаров на мировой океанический рынок и привоза их с этого рынка. В конечном счете, доктрина «континента-океана» служит совокупности месторазвитий, обеспечивающих полный цикл взаимного обмена. Когда на последующем этапе (в 1931 г.) Савицкий под впечатлением советских успехов в освоении Арктики решает дополнить принцип «континента-океана» принципом «единства побережий» (строительство каналов между Белым, Балтийским и Черным морями, развитие Северного морского пути ради соединения «западно-ледовито-морского» и дальневосточного участков русского побережья) и утверждает этот принцип как основу океанической активности русских, он выходит на ту же тему выработки океанической мощи континентальным государством, которая от Ратцеля до Хаусхофера проходит навязчивым мотивом через германскую геополитику.
Вообще, можно отметить, что тема «обездоленности» России-Евразии в смысле ее ограниченного выхода к морям и четвертованности ее побережий с проистекающими отсюда задачами (с одной стороны, компенсаторного изощренного «связывания соседств», а с другой – максимальной эксплуатации арктических доступов к океану и увязки этих выходов в связную замкнутую структуру) играет роль такой же движущей «фундаментальной недостачи» в построениях Савицкого, как «нехватка жизненного пространства» в германской геополитике.
На экспансионистских выходах доктрины Савицкого я остановлюсь ниже. Пока что подчеркну одно – проблема внутренних структурных связей оказывается гораздо более выношенной, чем проблема экспансии. Задачи экспансии отодвигаются перед задачами организации пространства, которое рассматривается, как «Россия-Евразия»; экспансия рассматривается либо как дополнение к развитию внутреннего пространства, либо как отдаленная перспектива, немыслимая без такого развития. Отсюда, прежде всего, мотив потенциального самодовления пространства «России-Евразии» – мотив, который утверждается через акцентирование ее уравновешенного самозамкнутого географического паттерна. Основные постулаты этой модели хорошо известны. Это – показатели рельефа (Европа и платформа Азии отличаются богатством рельефа, Россия – пространствами, однообразными в плане рельефа, но компенсирующими эту структурную упрощенность редким разнообразием и сложностью почвенного состава). Это – температурные показатели: разность температурных перепадов и в то же время отделенность от Европы т. н. изотермой января, иначе говоря, замерзанием вод зимою. В этой связи выпячивается роль балтийско-черноморского междуморья, отделяющего Россию от Европы, тогда как на юге подобными буферами служат горы. Это – особенность растительного покрова: при этом Савицкий делает упор на флагоподобную протяженность евразийских зон в широтном направлении с запада на восток.
Интеллектуальный путь Савицкого (в меньшей мере Трубецкого) с наибольшей отчетливостью обнаруживает влияние хронополитической конъюнктуры, определяющейся развертыванием геостратегического цикла России на движение русской геополитической мысли. Мы уже видели, насколько преевразийский текст участника белого движения Савицкого «Очерки международного движения» (1919) объективно выразил ту самую геополитическую конъюнктуру, которая в следующем, 1920 году толкнула красные армии через Галицию и Польшу к Варшаве и немецкой границе. Первые же статьи сборника «Исход к Востоку», в частности «Континент-океан», обнаруживают перелом конъюнктуры: в центр выдвигается пафос собирания внутриматерикового пространства, мотивируемый «обездоленностью» России. Вместе с тем, прочерчивается новое направление экспансии: в первую очередь это Восточный Туркестан (Синьцзян), отчасти и северо-восток Ирана – области, отдаленные от моря более чем на 800 км и тем самым предназначенные к тому, чтобы естественно дополнить «русский мир». Существенно, что в эти первоначальные годы новой «евразийской интермедии» отбрасываются планы выдвижения России на черту Познань – Богемские горы – Триест, но остаются планы, связанные с Черноморскими проливами, хотя в очень урезанном виде («следует добиваться реальной гарантии, что флот противника не будет пропущен через проливы и не придет громить берега Черноморья», – задача, решенная Сталиным в рамках конвенции Монтрё). Зато в положительных терминах формулируется задача «приобретения выхода на Персидский залив». Однако, обе задачи размечаются как задачи « принципиально второстепенные ».
В 1926 г. он присоединяется (а во многом принимает участие в ее выработке) к «формулировке 1926 г.», где открыто объявляется, что «теперь о завоевании Европы никто не думает». Вместе с тем, с пониманием отмечается намерение большевиков «двинуть коммунизм на Европу через азиатские страны», мотивированное тем, что «отношения Азии к Европе отличаются от отношений Азии к Евразии» (ср. размышления Витте в записке Александру III по поводу проекта Бадмаева). В той же «формулировке» отмечается, что, мечтая о «русификации Европы», большевики «ошибаются и выходят за пределы жизненных русских задач, как в свое время за эти пределы выходили Александр I и Николай I»: таким образом, большевистское наступление на Европу ради экспорта революции в конце 20-х прямо сопоставляется с деятельностью царей – устроителей Священного Союза и отвергается с той же аргументацией («выход за пределы жизненных русских задач»), с какой русская гегемония отвергалась идеологами «протоевразийской» фазы (Данилевский, Достоевский). Между тем, Константинополь остается на особом месте: в 1927 г. в примечании к статье Чхеидзе о государствах-материках Савицкий не отказывается от мысли, что Турция некогда будет интегрирована в состав России-Евразии. Вместе с тем, он продолжает на нее смотреть, даже в случае ее притягивания к России-Евразии, как на периферию русского мира.
В 1932 г. он публикует работы о «периодичности русских географических открытий» и о «месторазвитии русской промышленности», где с ортодоксально-евразийских позиций очерчиваются направления русского геополитического строительства. В первой из этих работ обосновывается тезис о постепенном смещении русской экспансии к границам русского мира, задаваемым, прежде всего, симметричностью географических зон относительно лесостепной оси. В таком раскладе перифериями оказываются лежащие за полосой тундры арктические пустыни, и с другой стороны – лежащие за зоной южных так или иначе обжитых растительностью пустынь абсолютные пустыни вроде Гоби и некоторых участков Тибета. Таким образом, утверждается мысль о том, что движение русских к перифериям их мира, выразившееся в освоении Арктики, должно получить закономерное подкрепление в их движении к крайнему пределу пустынь – к границам Индии. Таким образом, «индийская» тема, поднятая в преевразийский период, возвращается к евразийцам. Тезис о центробежном характере русской географической экспансии приводит их к балансированию на самой грани российского мира – т. е., по сути, к прощупыванию окраины соседних платформ. Абсолютно сходным образом обосновываемый в «Месторазвитии русской промышленности» тезис насчет «обездоленности» России и необходимости сдвига ее центра тяжести в сторону монгольского ядра оборачивается пропагандой неизбежности «трагического» столкновения с Японией. Итак, налицо балансирование между отказом от экспансии на основные платформы Азии, которые можно завоевывать, но нельзя удержать, и тезисами «упора на Азию» вместе с географической рационализацией сдвига российских интересов не только за пределы основной платформы России, но также и за грани основной Евразии (зоны трех равнин), на крайние периферии, соседствующие с зонами «приморских империй». Очевидно, что при этой стратегии области, ведущие к Европе, отодвигаются на второй план, однако на первом оказываются земли, открывающие прямой доступ к окраинам иных «платформ теплых морей».
Наконец, исключительный интерес представляет последняя предвоенная работа Савицкого «За творческое понимание природы русского мира», написанная в конце 1938 – начале 1939 г., но явно доработанная в конце 1939 г., поскольку речь в ней идет о «бывшей советско-польской границе». Напечатанная в занятой Праге в трудах НКО в дореволюционной орфографии, она параллельно перепечатывается особым оттиском в новой орфографии, более доступной для советского читателя. Ценность этой работы в том, что в ней намечается модификация евразийской доктрины с явной попыткой приспособить ее к назревающей конъюнктуре нового возвращения России-СССР в дела Европы, однако возвращения, мыслимого как сугубо умеренное. Чтобы осознать процедуру, применяемую здесь Савицким, следует обратить внимание на изменения в очертаниях русского мира с трудом 1927 г. В последней работе, как мы помним, четырехзонный центр России (Западная Сибирь) с поясами тундры, леса, степей и пустынь дополнялся трехчленными флангами – тундра, лес, пустыня – на востоке и тундра, лес, степь – на западе. Западный фланг простирался где-то до полосы Львова, затем констатировалось начало европейской, лесной зоны. Тундры Скандинавии не принимались в расчет как связанные с вертикальным районированием. Исходя из этой точки зрения, Савицкий в 1934 г. расценивал лесной Дальний Восток как лежащий собственно за гранью Евразии. В 1939–1940 гг. схема перерабатывается. Дальний Восток объявляется не лесным, а двухкомпонентным – леса и тундры – естественным продолжением трехкомпонентной Восточной Сибири, с особым указанием на то, что здесь выклинивается зона хвойных лесов, а лиственные леса подступают прямо к северу. Аналогичная структура усматривается и на западе. Теперь скандинавские тундры вводятся в расклад, пояс от Средних Карпат до Северного Ледовитого океана объявляется двухчленным, т. е. естественно входящим в поле зоны «России-Евразии». При этом в «Евразию» записывается вся область Карпатской Украины (а с продолжением меридиана на север – и Финляндии). Таким образом, область русского мира простиралась, по сути, через Карпаты в Центральную Европу и захватывала значительную область Скандинавии (работа явно заканчивалась во время советско-финской войны).
Таким образом, в начале 1940-х Савицкий фактически идет нога в ногу с руководителями советской внешней политики, которые осенью 1940 г. заявят Гитлеру претензии на особое влияние СССР в Юго-Восточной Европе. Можно предвидеть, как могла бы далее развертываться модель Савицкого, когда с введением в расклад румынских и венгерских степей значительная часть центральной Европы оказалась бы естественной частью русского мира, чуть ли не до заветной черты Данциг-Триест (впрочем, предложил же Савицкий евразийскую интерпретацию вступления Александра I в Париж, сопоставив этот акт с движением кочевников эпохи Великого переселения народов). Таким образом, разработка Савицким в начале 1940-х годов своей концепции демонстрирует механизм перестройки геополитической мысли на переходе между фазами. Если на переходах от экспансии к сжатию и далее, к евразийской фазе, как мы видели, стандартным приемом оказывается мотив «отсрочки», отодвижения экспансии, то сдвиг от евразийских фаз к вхождению в европейскую игру требовал иного обоснования. Один из таких приемов мы видели у Семенова-Тян-Шанского, когда в связи с двойным движением геологических массивов на Русской равнине вариант броска на Ближний Восток предлагался как альтернатива движению к Тихому океану, компенсирующая русских в случае неудачи восточного движения (намек на русско-японскую войну). Вариант Савицкого – это попытка, учтя дополнительные признаки в строении русского мира, реорганизовать его образ так, что в его поле попадала некоторая часть Европы. Таким образом, на хронологических флангах деятельности Савицкого-евразийца обнаруживаются тексты, порожденные конъюнктурой других фаз российского геостратегического цикла.
Вместе с тем, для нас евразийство существенно не только как выражение конъюнктуры. Двузначность России-Евразии выразила фазовый сдвиг в русской цивилизационной истории (явившись последней попыткой обоснования геополитической программы с опорой на конфессиональный миф), куда вторгается идея дуализма «религии и политики», а вместе с тем, как правильно отметил Федотов, под угрозой оказывается сама идентичность России. У Трубецкого заявлен выбор между распадом России и перестройкой ее самосознания, причем формально подобная кризисность проявляется смещением центра тяжести российского мира не просто на его окраины, но часто и за их пределы, причем на окраины, не отмеченные сакральной традицией. Фактически евразийцы балансировали между сакральной традицией средоточия мира, утверждающей самодовлеющее достоинство земель доуральского русского ядра, и секулярным дискурсом, утверждающим центростремительный сдвиг за пределы этого ядра, в нерусские географические зоны, с демонстративным выдвижением роли народов – обитателей этих зон, независимо от их язычества (компромисс с «потенциальным православием» не решал проблемы – сдвиг из «средоточия мира, становящегося Церковью, в зоны чистой потенциальности»). Кризис явный.
Интересно приглядеться к тому, как та же самая конъюнктура сказалась в работах «контревразийца» Г.П. Федотова. На протяжении 20-х и 30-х настойчиво противостоя энтропийно-центростремительным тенденциям евразийства, он, тем не менее, оперирует многими его постулатами. Он пишет о Востоке, готовом перейти от освободительных революций к завоевательной экспансии, о насыщенности России восточными влияниями (сперва через Византию, а затем через «вторичную ориентализацию» Московского царства), о праве России «смотреть с сочувствием на освободительное движение великих древних народов», «без вреда для себя черпать в сокровищнице их культуры». Продвижение советской экспансии к Британской Индии отзывается у него словами насчет «древней славянской мечты об Индии – мечты русских былин и сказок», призванной «осуществиться не в виде новой, третьей по счету Индийской империи, а в виде новой индийской Церкви, в которой воскреснет почти угасшее христианство ап. Фомы». Приветствуя предвидимое сплочение Европы в единую федеративно оформленную Империю, он исключает из этой тенденции Россию, указывая на то, что «для России было бы опасно вторичное включение в "политический концерт" Европы в момент его зловещей какофонии и политического пробуждения Азии», на необходимость для нее «выдержать нейтралитет в борьбе Европы с миром цветных рас» (разумеется, чтобы потом «вступить в членство подлинно мирового союза народов»), на неизжитые ею возможности хозяйственной автаркии, на ее великую задачу «опытного построения политического общежития народов», при успешном решении которой опыт России «может быть перенесен на мировое поле».
В 1940 г. перед фактом пакта Молотова-Риббентропа, раздела Польши и наступления СССР в Финляндии Федотов объявляет, что европейская федерация без России немыслима. «Балтийские, польские, даже балканские (так! – В. Ц.) интересы России принадлежат не к искусственным «империалистическим» наростам на ее политике, а к органическим темам ее истории. Загнать в Азию Россию еще никому не удавалось … При всей гибельности разбойных приемов Сталина, самое направление его интересов доказывает, что об изоляции России не может быть и речи. Она остается, как была, неразрывно связанной со всем комплексом восточноевропейских политических сил» [Федотов 1991, т. 2, 229]. Отсюда вывод о том, что европейская федерация должна оформляться как федерация мировая с участием России как партнера Англии – в Восточной Европе и в Азии (с указанием на старую Антанту и фактическим возвращением к идеям эпохи Первой мировой войны).
С 1943 г., когда очевидными становятся военный перелом и наступление России-СССР, Федотов начинает обсуждать идею Pads atlanticae. В 1943 г. «Франция, Германия, Россия превращаются в идолы прошлого, условная краса которых способна соблазнять риторов, не поэтов». В знаменитой статье «Судьба империй» он сам обозначает предпосылки этого поворота. Дело не только в том, что строительство государств в соответствии с национальным сознанием становится лицемерием; по стопам Леонтьева Федотов твердит, что «культура – или бескультурность – современных наций становится всё более космополитической, безнадежно однообразной. Национальные традиции служат больше для декоративной рекламы внутренне пустой технической цивилизации». Не менее важно другое: «Сейчас история предлагает народам мира два варианта Империи… Эти два варианта соответствуют двум возможным победителям, на долю которых выпадает организовать мир». Существенно, что Россия-СССР в отличие от 1931 г. и от 1940 г. выступает носителем одного из двух конкурирующих проектов всемирного обустройства. Для Федотова этот проект неприемлем, и потому он решительно за атлантический вариант. Он пишет: Россия – обреченная империя, независимо от того, проиграет ли она мировую войну или сама избавится от большевизма. В любом случае восстания народов неизбежны, а при попытке Великороссии удержать над ними господство единая мировая власть – единственный шанс спасения существующего мира – обязана будет «прекратить всякое насилие одних народов над другими. Ликвидация последней частной Империи станет вопросом международного права и справедливости». Если этого не произойдет, «то погибнет не одна Россия, а всё культурное человечество». Интересно, что при всем при том Федотов признаёт, что «западная цивилизация тяжко больна». Даже если Империя будет возведена, «остается возможность социальных потрясений, моральных кризисов, духовных бурь. В конце концов, вопрос о спасении нашей культуры (показательно это «наша культура». – В.Ц.) есть вопрос духа». Но создание Империи даст миру, построенному Западом, еще одну отсрочку. Рано или поздно потребует своего возрождающийся Восток. Но это «проблема наших (опять «наших»! – В.Ц.) детей и внуков». Сейчас главное – ликвидировать Россию-СССР с ее мировым проектом.
Так конъюнктура, определяемая сменяющимися фазами российского стратегического цикла (он же цикл системы Европа-Россия), преломлялась в сознании идеологов с разной предрасположенностью.
V
Функциональные смысловые устремления и внутренние напряжения раннего евразийства раскрываются через смысловую структуру введенного ими ключевого термина «Россия-Евразия». В первых же евразийских публикациях нам бросается в глаза разнобой мотивировок вводимого термина. С одной стороны, уже современники, например Г.В. Флоровский, отмечали постоянное колебание между толкованиями «Евразии» в смысле «ни Европы, ни Азии», «отдельного мира» и ее же подачей в смысле «и Европы, и Азии», «помеси или синтеза двух». Уже предисловие к первому сборнику евразийцев «Исход к Востоку» объявило: «Русские люди и люди народов „Российского мира“ не суть ни европейцы, ни азиаты». И одновременно в программной статье Савицкого было объявлено, что «Россия есть не только „Запад“, но и „Восток“, не только „Европа“, но и „Азия“, и даже вовсе не Европа, но „Евразия“». В евразийских изданиях находим то утверждение, что русская культура «соединяет элементы» Европы и Азии, сводит их к некоторому единству, то рассуждения о русских как «плохих азиатах» в глазах «настоящих азиатов» и «плохих европейцев» в глазах Европы. Не случайно в статье некоего антрополога, подписавшегося инициалами В.Т. и пытавшегося обосновать биологическую особость сообщества «Евразии», прямо утверждается, что кровь евроазиатов по своим характеристикам представляет переход от типичного для европейцев состава к составам азиатов. В конечном счете, евразийцы не отказываются от данной Ламанским оценки Среднего мира как «ненастоящей Европы и ненастоящей Азии», где Европа кончилась, но Азия не началась, а впрочем, частичное сходство обнаруживается и с той, и с другой.
И вместе с тем у теоретиков евразийства проступают с не меньшей постоянностью намеки на иную мотивировку опорного словопонятия, возводящего его прямо к названию охватывающего Европу и Азию континента. В 1926 г. в «Опыте систематического изложения» евразийских воззрений было прямо объявлено, что в названии «России-Евразии» «давно уже утвердившийся в науке и обозначавший Европу и Азию как один материк термин получает более узкое и точное значение». Еще в 1925 г. Савицкий подчеркнул, что евразийцы «вновь "увиденному" материку нарекли имя, ранее прилагавшееся иногда ко всему основному массиву земель Старого Света, к старым "Европе" и "Азии" в их совокупности». В 1930-х он же, как и Якобсон, писал о Евразии sensu stricto («в более точном смысле слова»), противопоставляя ее Евразии sensu latiore («в смысле расширительном»), «охватывающей весь Старый материк». Как я уже писал, комментируя эти пассажи[56], у термина «Евразия» оказываются как бы два возможных обоснования, две внутренних формы. Одна соотносит Россию-Евразию каким-то образом с Евразией-материком, другая полагает нашу «Евразию» просто интервалом между типологически и географически определенными мирами и «Азии», и «Европы». Таким образом, в отличие от В.П. Семенова-Тян-Шанского евразийцы ввели в свою концепцию сознательную игру на омонимии двух Евразий, причем в рассмотренных контекстах проступает своего рода мифотворческое переворачивание отношения между эпитетом России и названием материка: будто материк («Евразия в расширительном смысле») – назван по России («Евразия в смысле более точном»).
Пытаясь проникнуть в механизмы этого сдвига, естественно сопоставить словоупотребление евразийцев с терминологией двух европейских геополитических доктрин, с которыми евразийцы должны были соприкасаться в своих разработках. Это доктрина «географической оси истории» X. Маккиндера и взгляды немецкой геополитической школы, лидером которой выступил К. Хаусхофер (по-видимому, именно у немецких авторов евразийцы восприняли сам термин «геополитика»). При сопоставлении этих трех школ геополитики складывается впечатление, что и евразийцы, и Хаусхофер в известной степени отталкиваются от «мирового сюжета» Маккиндера, однако разрабатывают разные его аспекты.
Хаусхофер, исходя из задачи немецкого противостояния Англии, как обозначившемуся с начала XX в. основному противнику, вдохновился страхом Маккиндера перед сплочением «хартленда», ядра континента с некой частью приморья – либо через русско-германский блок, либо через вытеснение России из значительной части хартленда японо-китайским сообществом. Отталкиваясь от страхов противника, Хаусхофер выстроил план сплочения «евразийского континента от Рейна до Амура и Янцзы» посредством японо-советско-германской оси, притягивающей к себе всех противников океанического, англо-французского империализма. В концепции Хаусхофера «Евразия» – это массив континента. В ранних работах он различает Ost-Asien и West-Eurasien как части этого массива: Восточная Азия – это и есть восток Евразии. В то же время в некоторых случаях (например, в статье 1940 г. «Континентальный блок: Центральная Европа – Евразия – Япония» в связи с обсуждением плана оси «Берлин – Москва – Токио») возникает как бы контекстная омонимия: если идея «Центральной Европы» отождествляется с Германией, то термин «Евразия» в этой цепочке как бы естественно соотносится с Россией. Однако неоспоримо, что эта метонимия всецело мотивирована сюжетом «связывания Центральной Европы – через большую Евразию насквозь – с ведущей силой Восточной Азии», на каковой оси Россия представляет некий важный промежуточный член (ein wichtiges Zwieschenglied). Руководствуясь такой же логикой, Гитлер, по воспоминаниям В. Шелленберга, свой приказ о подготовке войны против СССР сформулировал в терминах перехода к строительству «евразиатского пространства» (eurasiatischer Raum). И в текстах Хаусхофера, и в распоряжении Гитлера идеи материка-Евразии и России связываются предполагаемой ролью России в консолидации континента как звена между силовыми центрами Европы и Восточной Азии: будь то роль соучастника или добычи. В рамках такого сюжета состыкуются под одной фонетической оболочкой термина «eurasiatische» идеи материка, объемлющего Азию и Европу, и внутреннего пространства, выходящего на оба этих географических мира.
Но как раз такой связи у евразийцев найти невозможно. Исходя из идеи «России – особого мира» с неевропейской и неазиатской судьбой, они оказались полностью чужды идеи трансконтинентальных блоков, особенно мысли о союзе «сердцевины суши» с Центральной Европой. Трубецкой твердо предостерегает русских, разгневанных на Антанту, против убежища в германофилии, и Савицкий относит всю Европу к враждебному России-Евразии царству Океана. Еще важнее другое обстоятельство. Резко осуждая большевиков начала 1920-х за намерение «русифицировать» Европу под видом ее «коммунизации», евразийцы полностью приняли большевистскую политику в Азии – политику подрыва европейских империй и сфер влияния как «единственно естественную для России». Трубецкой провозгласил новую роль России как «огромной колониальной страны, стоящей во главе своих азиатских сестер в их совместной борьбе против романо-германцев и западной цивилизации». Поскольку в сестринские страны он зачислил территории в Азии, ведущие к теплым морям (Турцию, Персию, Индию, Китай, Афганистан), казалось бы, он тем самым прямо выходил на идею «континентального блока», пусть и противостоящего Европе. Но не тут-то было.
Тот же Трубецкой резко осуждает своего любимца Чингисхана, вышедшего за рамки евразийской империи и пытавшегося захватить азиатские платформы с их цивилизациями, притязавшего «на то, что можно завоевать, но нельзя удержать в руках», как и большевикам – Европу. В «формулировке» 1926 г. евразийцы сформулировали со всей определенностью: «"Цветная опасность" направлена не на Россию и угрожает Европе совсем на других путях. Она уже колеблет колониальные империи европейских держав, оставляя Россию-Евразию как неподвижный центр, вокруг которого закипает борьба и на который как будто склонны опереться своим тылом неевропейские культуры… В случае возможной борьбы Азии с Европой нам благоразумнее предпочесть наше евразийское самодовление превращению равнин Евразии в поле сражений». Здесь очевиден спор с В. Соловьевым, у которого в «Повести об Антихристе» силы Европы и Восточной Азии сталкиваются в битвах на земле России. Но точно так же евразийцы отторгают сюжет Маккиндера, у которого хартленд наступает на азиатское приморье: за такую стратегию они осуждают и большевиков, и Чингисхана. Их сюжет иной: приморью предстоит быть охваченным войной Азии против европейской гегемонии, Россия же, формально не вовлекаясь в войну, должна предоставить надежный тыл азиатам (стояние во главе Азии оборачивается ролью исключенного из непосредственной войны, хотя и дружественного азиатам «неподвижного центра»).
Таким образом, при чуждости евразийцам идеи «континентального блока» тезис о перенесении на Россию названия материка не объясним аналогиями с немецкой геополитикой. Более интригующие результаты дает прямое сравнение евразийской доктрины с исходным текстом Маккиндера. Отвергнув идею прямого наступления на приморье (с оговоркой насчет Анатолии), а также созидания континентальных блоков, они сомкнулись с английским геополитиком в других пунктах, в том числе не представлявших интереса для Хаусхофера и его школы. Это осевое положение России в Старом Свете (а не просто роль Zwieschenglied); воспринятое ею «наследство Чингисхана», вошедшее в греко-славяно-туранский синтез; динамика «лесного» и «степного» начал и их скрещение в генезисе русской государственности. Весь этот комплекс мотивов у Маккиндера, вторящих идеологии раннего евразийства, венчается рассуждением Савицкого о том, что «Россия-Евразия охватывает собою "ядро", "сердцевину" Старого Света», причем слова «ядро», «сердцевина» – переводы маккиндеровского heartland ставятся в кавычки, знаки цитируемого чужого дискурса (имя Маккиндера не названо, но евразийцы ведь вообще избегают ссылок на современных им <англо->романо-германцев в соответствии с формулой, вынесенной Савицким в эпиграф одной из его статей: «European non citantur» – «Европейцы не цитируются»). На этом фоне бросается в глаза точная перекличка русской формулы «Россия-Евразия» и формулы Маккиндера «heartland of Euro-Asia» применительно к России. Я предполагаю, что возникновение ключевого словообраза в сознании таких евразийцев, как Трубецкой и Савицкий, хорошо владевших английским, могло быть инспирировано восприятием оборотов «the closed heartland of Euro-Asia» или «the vast area of Euro-Asia which is inaccessible for ships» по аналогии с английской конструкцией типа «the city of Dublin»: эта конструкция как бы подсказывала тождество России-«хартленда» и «Евро-Азии». Однако ясно, что такая подсказка могла реализоваться лишь в том случае, если она находила некую поддержку в геополитической идеологии евразийцев.
Итак, мы должны выяснить, каким образом в сознании евразийцев могла быть мотивирована мысль о «России-Евразии» как «более узком и точном» применении имени континента и, напротив, о большой Евразии как «расширительном» употреблении эпитета России. Похоже, что этот ход может как-то соотноситься с сюжетом Маккиндера, но в деталях это соотношение нам еще не ясно. И, кроме того, надо расчленить, как эта нетривиальная мотивировка для наименования «России-Евразии» соотносится с той, другой, что полагает в России «ни Азию, ни Европу».
VI
Но этот вопрос разъясняется, если мы посмотрим, как евразийцы трактуют соотношение между Россией и массивом Старого Света. Я выявил три схемы, по-разному изображающие это соотношение.
Схема 1 наиболее проста: Россия – посредница в воссоздании целостности материка, разделенного на Азию и Европу. В начале 20-х эту схему разрабатывает Бицилли, видевший в «новейшей истории России» «грандиозную попытку восстановления центра и тем самым воссоздания "Евразии"». В 30-х Савицкий развивает мысль о миссии евразийских народов поднять европейцев и азиатов на некое неконкретизируемое «общее» дело, которое ассоциируется с трансконтинентальными, преимущественно железнодорожными контактами. То есть Россия-Евразия мыслится воссоединительным мостом для большой Евразии. Всё это выводит нас на типичную для немецкой геополитики тему России-Zwieschenglied, хотя и без идеи «континентального блока».
Схема 2 разработана Савицким в «Степи и оседлости», где выдвинут тезис: «Держава Российская … есть – в обозримой потенции – не просто частица Старого Света, но некоторое уменьшенное воспроизведение его совокупности» с указанием на зоны «европейского» земледелия, на тюрко-монгольское кочевое скотоводство, среднеазиатское искусственное орошение, субтропики и т. д. Эта схема может читаться двояко. В ней можно видеть просто констатацию сосуществования разных европейских и азиатских укладов. Именно так формулу «Евразии» принял Троцкий, рассуждавший в 1923 г. о соседстве в России кочевого хозяйства и концентрированной промышленности и о роли торгового капитала здесь как «евразийской, более азийской или азиатской, чем европейской». Но та же схема может прочитываться по-иному, – и Савицкий ее прорабатывает в историческом ключе, рассуждая о целостном «внутриконтинентальном» мире, который образует хозяйство России-Евразии, и об остающихся вне этого мира «окраинах» – «прижатых, выдвинутых в моря», обреченных жить океанической торговлей. В сравнении с «континентом-океаном» акценты переставлены ближе к ранним статьям Савицкого 1916 г. Речь идет не об «обездоленности» России, но о пласте жизни ее ядра, как бы являющего в себе ту самодовлеющую суть материка, из которой выпадают лишь прижатые к морям окраины.
И, наконец, схема 3 Савицкого обоснована в «Миграции культуры». Опершись на выдвинутый в XIX в. П. Мужолем и Л. Мечниковым «закон» перехода культурных гегемоний во всё более холодные широты, Савицкий заключает: Западная Европа уже отыграла во II тысячелетии свою роль; в наступающем же III тысячелетии гегемония утвердится в России и в Северной Америке. Тогда США и Канада по-новому продолжат за океанами культуру Запада, но Старый материк охватит восходящая культура России-Евразии. С этим тезисом Савицкого на страницах «Исхода к востоку» солидаризируется Флоровский: он отличает от культурно коснеющей Европы – восходящие США, где прочерчивается «путь жизни и утверждения индивидуальной свободы». Несомненно, что оба автора тут идут за Ламанским, различавшим Европу как «мир прошлого» от двух восходящих «миров будущего»: Среднего мира и мира Англо-саксонского, утверждающегося за океанами (во «внешнем полумесяце» Маккиндера). По этой схеме Россия зовется «Евразией» оттого, что изображает собою Старый Свет Третьего Тысячелетия, откуда романо-германская традиция будет вытеснена за океаны.
Я свожу эти три схемы, описывающие соотношение двух Евразий, в следующий идеологический спектр. На одном краю – Россия-Евразия как совокупность народов и территорий, связующих Европу и Азию, на другом – она же как «грядущая культура» материка, прообраз его будущей эры. А посреди Россия как уменьшенный образ Старого Света: эти схемы читаются в любом из двух ключей, в ключе ли «междумирья» или «грядущей культуры».
Отсюда по-новому можно понять пресловутые выпады евразийцев против «романо-германского шовинизма». Как бы они ни эксплуатировали риторику цивилизационного плюрализма, привлекая Шпенглера себе на помощь (единственного почтительно упоминаемого ими романо-германца), – однако это культурплюралистическое поборничество оказывается под большим сомнением, когда мы знакомимся с взглядами Трубецкого на религиозные культуры Азии. Он твердит о «бедности, плоскости и банальности» догматики ислама, об «элементарности» его морали, об Индии как самой прочной цитадели сатаны, под властью которого проходит всё ее развитие, о том, что в религиях Запада и Востока вообще «явно или скрыто веет дух сатаны». Лишь «Восточное Православие … должно остаться тем сокровищем, которое мы должны беречь и за дарование которого вся Русская земля ежечасно должна благодарить Всевышнего». Если сопоставить эти размышления Трубецкого с «законом» миграций культуры в истолковании Савицкого, то увидим, что речь идет не просто о вероисповедном, но в равной мере о геополитическом постулате: для группы ранних евразийцев Россия представала прообразом торжества и гегемонии православия в Большой Евразии.
Отпавший от евразийства Бицилли так и писал, что они «мечтают о превращении – в будущем – всего старого континента от Вислы и Днестра и до Океанов в единую "Культуро-личность", в православный мир». Это положение прямо подтверждается евразийской формулировкой 1926 г. В ней звучат следующие положения: «Православие – высшее, единственное по своей полноте и непорочности исповедание христианства. Вне его всё – или язычество, или ересь, или раскол. … Существуя пока только как русско-греческое и преимущественно как русское, Православие хочет, чтобы весь мир сам из себя стал православным … Историческая задача русского народа… путем исповедничества и самораскрытия создать возможность самораскрытия в Православии и для "неплодящей языческой церкви", и для мира, отпавшего в ересь…. Полнота Церкви предполагает оцерковление всего. Становление мира Церковью объясняет, почему лишь средоточие его явственно предстает как Соборная Православная Церковь и ныне – как Церковь русская в соборном единстве Церквей Православных. … Русская Церковь … является истинным центром тяготения всего потенциально-православного мира…. Евразия понимается нами как особая симфоническо-личная индивидуация Православной Церкви и культуры». И важнейший постулат раннеевразийской геополитики, которого Савицкий держался до 60-х (времени его писем к Л.Н. Гумилеву): «Как религия создает культуру, так и культура – этнологический тип, а этнологический тип выбирает или находит "свою" территорию и существенно по-своему ее преобразует». Полностью в духе этой формулировки присоединившийся к евразийцам Карсавин писал в том же году: «Православная Евразия и православная Россия будет гегемоном культурного мира, если она всецело раскроет себя».
Итак, культурплюралистическую риторику ранних евразийцев надо воспринимать с поправкой на их главную сверхзадачу. Они вполне искренне верили во множественность «соборных личностей» – культур и народов, считая, что все эти личности должны включиться в православную «симфонию». Картина мира, обусловившая перенос названия материка на Россию, – в своей основе конфессионально-мифологическая. Запад отпал от соборности, которую в свернутом виде являет мировое средоточие – православная Россия; более того, он пытается эту соборность подменить, выдать свое за то всеобщее, центр и оплот которого – русская Церковь. Это вечный спор русского православия с Римом насчет того, какая из разошедшихся конфессий мистически несет в себе полноту христианства. Но раннее евразийство инсценирует этот спор в геополитических терминах, образах и сюжетах.
В формулировке 1926 г. евразийцы различают «кафоличность», или «соборность» церкви как внутреннюю ее черту (церковь «пребыла бы соборной даже в том случае, если бы в ней осталось всего два-три человека»), и «вселенскость» (экуменичность) как обозначение «географически-этнографическое и внешнее», означающее «факт и – еще более – идеал распространенности Церкви по всему миру, по всей населенной людьми земле…. Вселенскость, конечно, вытекает из соборности, будучи полнотой ее осуществления вовне; но эмпирически Церковь может и не охватывать вселенную иначе как в идеале, хотя всегда была, есть и будет актуально соборной». Это богословское раздумье обретает вполне ясный геополитический смысл, если учесть, что в следующем 1927 г. Вернадский предложил название Ойкумены – т. е. «вселенной», или «круга земель» – для массива, объемлющего Европу, Азию и Россию-Евразию, т. е. для Большой Евразии, с указанием, что это – вселенная «русской истории». Благодаря этим фактам мы можем восстановить картину мира ранних евразийцев следующим образом.
Мировая ойкумена, она же – актуально или потенциально – вселенская общность христианства, изображается массивом Старого Материка (Евразии-Ойкумены), на платформе которого друг другу противостоят Россия-Евразия и Европа. Сами эти названия иконически указывают, с одной стороны, на представляемую Россией (ядром материка) соборную целостность, а с другой стороны – на полуостров Европы как часть, от этой целостности отколовшуюся. Если Большая Евразия-Ойкумена в этом геополитическом коде – синоним к православной «вселенскости» и «кафоличности», то Россия – «средоточие мира, становящегося Церковью», закономерно берет на себя – символически – имя всего материка, объемля «в идеале» вселенную. Между тем, «прижатая к морям», «выдвинутая вовне» Европа выпадает из континента, персонализированного «соборной личностью» России.
На тех же основаниях моделируется отношение евразийцев к нехристианской Азии. Ее общества с их окраинным, приморским положением в «воцерковляемом» мире подвержены, в той или иной мере, «веянию духа сатаны». Но, как миры «потенциального православия», они достойны симпатий в их восстании против Европы, ведавшей истину и от нее отпавшей. Ранние евразийцы могли отметить, что их предшественники, Данилевский и Ламанский, как и некоторые западные авторы (например, А. фон Гумбольдт), называли Европу «полуостровом» Азии, иначе говоря, титуловали «Азией» тот массив, который в глазах евразийцев был Большой Евразией – Ойкуменой. Авторы формулировки 1926 г. с их доктриной «язычества – потенциального православия» верят в будущее становление Азии той «православной Евразией», что предызображена Россией. Для последней, однако, как сакрального фокуса становящейся Ойкумены III тысячелетия важно не расточиться в периферийных царствах «потенциальности» и «становления». Потому Россия обязана пребыть «неподвижным центром» относительно той материковой окраины, где должны разразиться битвы между отпавшей от Евразии Европой и еще не влившейся в Евразию «языческой» Азией. Мир должен быть «освобожден» от «ереси» и «раскола», в том числе через великую войну азиатов против Европы, чтобы иметь возможность развиваться к православию.
Исключительно важно, что в сознании ранних евразийцев пафос России-Евразии был связан с неприятием стиля Петербургской империи (этого не воспринял попутчик движения Бицилли, видевший в «Евразии» только европейско-азиатское междумирье и потому писавший, что «Россия, то есть Российская Империя, есть Евразия и всегда была Евразией»). Но увлечение Московской Русью имеет прямое отношение к генезису «географической мифологии» раннего евразийства. Формулировка 1926 г. объявила Москву XVI-XVII вв. «религиозным оправданием» евразийского мира. Трубецкой, как славянофилы или позднее И. Солоневич, полагает в «императорском самодержавии» – «вырождение допетровской … подлинно национальной монархии». Когда он призывал на Россию такую революцию, которая бы «стремилась быть "возрождением" глубокой древности», – то для него и его товарищей, в то время отказывавшихся видеть истоки «России-Евразии» в Киеве, эти слова звучали надеждой на возрождение духа Московского царства. В идеологии и словесности этой эпохи мы находим параллели к мифу о «России-Евразии» как сердцевине и прообразе мира-материка.
Вспомним, как Филофей обосновывал перенос имени «Рим» на Москву. Изображая мир, потопленный в неверии, с Москвою, вставшей над потопом как последнее царство, Филофей афоризмом «Рим – весь мир» (калькируя древнюю латинскую игру на созвучие «Града» и «мира», Urbs et orbis) утверждал тождество «Третьего Рима» всему уцелевшему миру. «Москва – Третий Рим», ибо Россия – это остаток ойкумены. В XVII в. из тех же посылок развивается идея царства, символически «держащего» весь земной круг, представляемый сообразно с традициями античной и средневековой географии. Комментарий на Библии 1663 года к изображению трех венцов в гербе московских царей гласит: «Яко есть Троицы теплая служебница. Яко воздержавствует Европою, Асиею, землею тричастные Ливии. Яко трех благодатей родительница». Держава, служащая на земле промыслу Троицы, несет герб, изображающий тремя венцами полноту мирового охвата, согласно с верой в троечастное членение мировой суши. Россия XVII в., символически «воздержавствующая» Европой, Азией и Ливией, – идеологическая предшественница раннеевразийской «России-Евразии» как религиозного и географического средоточия того Старого материка, который некогда отождествлялся с «кругом земель» (думается, трактовка Америки в «Миграциях культуры» Савицкого как земли, уступаемой для жизни Западу, могла поддерживаться средневековым географическим каноном, для которого Америка оказывалась землею, лежащей вне Ойкумены).
В основе омонимии «Евразии-материка» и «России-Евразии», похоже, обнаруживается своего рода наложение фабулы Маккиндера на «геософию» московского средневекового православия. Мифотворчество, представлявшее Россию то последней сценой в «потопленной» вселенной, то образом «европейско-асийско-ливийского» мирового царства, сталкивается с империалистической фабулой начала XX в., где «сердцевина Евро-Азии» пытается объять собою Мировой Остров. От такого совмещения фабула Маккиндера резко перестраивается: вместо битвы хартленда с приморьем видим приморье, полыхающее войной вокруг неподвижной «географической оси истории». Тезис об Америках с Австралией как недоступном для хартленда «внешнем полумесяце» оборачивается геокультурной сагой о том, как Россия-Евразия в Третьем Тысячелетии вытеснит Запад за океаны из «воправославленной» Большой Евразии. В конечном счете, миф евразийцев обнаруживает существенное сходство с мифом Тютчева, с той оговоркой, что теперь России отводится роль загадочной страны, выпавшей из исторических битв и взращивающей культуру, которой предстоит в отдаленном времени воцариться в Ойкумене. Если (со всеми поправками) этот сюжет сопоставим с тютчевской картиной становления мира Россией, то также и мировая битва европейцев с азиатами, предвидимая авторами «формулировки» 1926 г., представляет аналог к тютчевской Великой Резне народов, предваряющей становление «другой Европы – России будущего».
Вопреки тому, что евразийцы, и среди них – Савицкий, настойчиво педалировали свою чуждость всякой эсхатологии и, в частности, каким бы то ни было надеждам на «тысячелетнее царство» и разрешение мировых проблем еще в земной истории, в основе их геополитической имагинации явственно прослеживаются мифотворческие и, в том числе, эсхатологические тенденции – например, в том, как тот же Савицкий, опираясь на хронополитические выкладки, приурочивает воцарение культуры России-Евразии в Старом Свете к Третьему Тысячелетию. Аналоги с мифом Тютчева, в свою очередь имеющим прямые аналоги в пророчестве Серафима Саровского, подтверждают этот вывод. Похоже, эти установки Савицкий сохранял еще в 50-х, когда в мордовском лагере писал в стихотворении «Грамматистам русским»:
«Труд ваш благородный Ковал для мира мировой язык. Заговорят по-русски в мире все народы, Все племена и каждый материк».VII
С учетом этих выводов можно обратиться теперь к двойной мотивации термина «Евразия» в дискурсе ранних евразийцев. К этой двойной мотивации впервые прикоснулся Бицилли, когда написал о «двух ликах» евразийства, по его мысли, «способных существовать и отдельно», ибо один обращен к идеалу Православной Руси, другой – к «федерации Земель и Народов». Но Бицилли ошибался, полагая, что лишь второй из аспектов евразийства заключен в названии «Евразия». На самом деле, двум идеологическим измерениям раннего евразийства отвечают два истолкования эпитета «России-Евразии» – через имя материка-Ойкумены или через названия двух разных частей света. Если вдоль первой смысловой оси генерируется представление о Евразии – индивидуации православия, взращивающей будущую культуру Ойкумены, то на второй оси откладываются истолкования той же Евразии как скопления религиозно, лингвистически и культурно гетерогенных народов, принужденных общностью пространства (бывшей «Монголосферы») и исторической судьбой к взаимоприятию и кооперации. Можно бы понять эти два осмысления формулы «Россия-Евразия» как рационализацию этой формулы «сверху» – от ценностей и заданностей или «снизу» – от этнологических ценностей или, пользуясь известным каламбуром П.А. Флоренского, – от «эмпиреи» и от «эмпирии». Однако, думается, Бицилли заблуждался, связывая евразийскую геополитику всецело с идеей «федерации Народов и Земель», а обращение к Святой Руси исключительно с вероисповеданием, идеократическим компонентом евразийской доктрины. Мы уже видели только что, как «евразийство заданностей» располагало собственной геополитической проекцией, входя в контрапункт с мировым сюжетом Маккиндера (ядро материка берет верх над окраинами, что значит по-евразийски: Азия трансформируется в Евразию, становясь «из себя» православной). Напротив, «евразийство данностей», не имея к этому мировому сюжету касательства, скорее – сколько бы оно ни трактовало об «особом, самодовлеющем мире народов Евразии» – вступает, хотя и при оговорках (неприятие идеи «континентальных блоков») в соприкосновение с идеями школы Хаусхофера о России как «промежуточном члене», Zwieschenglied, между Азией и Европой. Как уже говорилось, Бицилли в начале 20-х трактовал Россию исключительно с этой точки зрения, не чуждой также и Савицкому.
Развивая эту вторую трактовку, евразийцы выдвинули тезис о веке идеократий под знаком мощных идей-правительниц. Причем Трубецкой объявил, что эта идея сведется к «благу совокупности народов, населяющих данный автаркический особый мир», при устранении между народами всякого «чувства национального неравенства». Очевидно, что такое понимание идеократии входило в напряжение с тезисами о «Евразии – индивидуации православия» и о веянии «духа сатаны» в религиях многих евразийских народов, в том числе в исламе и буддизме. Евразийцы попытались интегрировать эти тезисы, приложив теорию «потенциального православия» уже не к внешней Азии, но к миллионам обитателей самой России («средоточия мира, становящегося Церковью»). Ламаизм и мусульманство России были произвольно занесены в «язычество» и объявлены «тяготеющими к русскому Православию как к своему центру религиозно-культурным миром», чье «свободное … саморазвитие будет его развитием к Православию, приведет к созданию новых специфических его форм». Тем не менее, принцип реальности не удовольствовался подобным компромиссом.
Уже в первом евразийском сборнике Трубецкой вынужден был признать, что все «опыты "христианизации" инородцев до сих пор были мало удачны». Из этого делается тот вывод, что «верхи» русской культуры должны сближаться с низами, а для этого «не ограничиваться восточным православием, а выявлять и те черты своей основной народной стихии, которые способны сплотить в одно культурное целое разнородные племена». Так евразийцы оказываются в некоем вибрирующем шатании между требованиями к культуре «оцерковляться сверху донизу» и велением ей же не «ограничиваться православием», но с самого верха ориентироваться на те низы, где русские успешно конвергируют с «языческим соседством». В конечном счете, евразийцы идут к безоговорочному принятию эмпирической Евразии как пестрого полиморфоного скопища суверенных стихий и элементов. Евразийский манифест 1927 г. уже ничего не говорит о развитии всех евразийских религий в «специфические формы Православия», но просто обязывает власти – во исполнение «основных религиозно-культурных задач» – «содействовать каждой вере, исповедуемой народами России-Евразии».
В конце концов, Трубецкой приходит к выводу, что сама «жизнь» заменила Россию на «Евразию», отняв у русского народа статус «единственного хозяина государственной территории». Из этого следует вывод, что только идея «многонародного единства евразийской нации» может дать Евразии «тот этнический субстрат государственности, без которого она рано или поздно начнет распадаться на части к величайшему несчастью и страданию всех ее частей». Ради утверждения этой идеи требуется «перевоспитать самосознание народов Евразии», убедив их особенно гордиться именно тем, что они – «евразийцы». «В частности, с этой точки зрения совершенно по-новому приходится строить историю народов Евразии, в том числе и русского народа». Итак, Трубецкой приходит по существу к идеологической инженерии, предназначенной внушить народам идею их «общего блага», нацеленную на предотвращение иных, неизбежных «рано или поздно» страданий от распада Евразии. Трубецкой осознаёт трудность этой задачи, поскольку религия и язык многих евразийских народов роднят их с народами, обретающимися за пределами Евразии, однако утверждает, что «евразиаты» связаны той «общностью судьбы», которую во избежание страданий надлежит поставить выше иных связей и общностей.
Если «евразийство ценностей» уверяло, что народ создается верой, а земля выбирается народом, то «евразийство данностей» противопоставляет религиозные почвенные культуры многих евразийских народов «судьбе», отделяемой от веры, но возводимой в высшую из ценностей (притом, что в таком виде судьба легко редуцируется к исторической конъюнктуре и просто к фактической данности). Сам Трубецкой в «Наследии Чингисхана» писал о бесполезности и даже вредоносности ислама для империи Чингисхана, не вписавшейся в мусульманский проект мирового Халифата. Неизбежно должен был возникнуть вопрос: не может ли православие оказаться такой же помехой для взаимопонимания народов Евразии? Интересно, что сам Трубецкой в статье-памфлете о «Вавилонской башне и смешении языков» объявил, что общим знаменателем разнородных культурных традиций может быть только низший принцип материального благополучия и техники и осудил возведение такого принципа в идол, написав: «Никакое братство неосуществимо вовсе, когда во главу угла ставятся эгоистические материальные интересы». Однако в статье об общеевразийском национализме он, в конечном счете, пытается в основу созидания государственного единства России-Евразии положить именно материальный интерес «блага совокупности народов».
Если «евразийство ценностей» сталкивалось с ситуацией, когда одно и то же географическое пространство оказывалось «выбрано» народами, «созданными» различными религиями, то «евразийство данностей» либо вынуждено было братать всевозможные культуры единого почвенного месторазвития, ставя «почву» выше «духа», либо стремилось создавать народную общность из прагматической потребности, возводя факт сосуществования племен в судьбу, а судьбу – в высшую ценность. В конечном счете, «евразийство данностей» концептуально и прагматически сильно напомнило разрабатывавшуюся в Турции в прошлом столетии и потерпевшую в нашем веке крах идеологию османизма, утверждавшую единение народов Оттоманской Порты по тем же основаниям судьбы и почвы.
Так открывается болезненная расколотость раннеевразийского дискурса, закрепленная двойственностью мотивировок эпитета «Евразия» и, в частности, открывающая его для атаки идеологов, принимающих один лик евразийства и осуждающих другой. Именно так в 1927 г. евразийство с противоположных позиций атаковали былые участники этого движения Бицилли и Флоровский, из которых каждый принял одну «Россию-Евразию», а другую – отверг.
Флоровский обличал евразийство за «покорное и даже угодливое приятие творимой новизны», за «дурное кровяное почвенничество», расточающее историю Церкви в судьбах евразийского конгломерата. Доктрину «потенциального православия» он обличил как оправдание сделок с Востоком вне и внутри России, готовом растворить Святую Русь. Программа секулярного государства с православной правящей партией, пекущегося о всех евразийских верованиях, для Флоровского выражала готовность евразийцев к антиправославной конъюнктурной политике ради ублаготворения «своего» Востока. По Флоровскому, этот «свой» Восток следовало знать, чтобы чувствовать грань между ним и православной Россией.
Напротив, для Бицилли и в 1922, и в 1927 гг. «Россия-Евразия» – всего лишь совокупность «срединных земель и народов, способных послужить внутренней связи материка в их национально-федеративном обустройстве, – чистая идея евразийства». Не приняв «евразийства заданностей», Бицилли пытается его отсечь как болезненный автономный нарост на здоровом «евразийстве данностей». Воправославление Старого материка – миф в худшем смысле, Россия как «средоточие православия» – нелепость: «православие» и «Евразия» – сферы не совпадающие, православных масса вне России, а внутри нее полно иноверцев. «Потенциальное православие» – плохая пропаганда, ни для мусульман, ни для буддистов неприемлемая. «Православная правящая партия» в секулярном государстве – не беспринципный компромисс с Востоком, как для Флоровского, но прямо наоборот – путь к «безраздельному и неограниченному господству одной категории граждан над всеми другими или, что на практике в евразийских условиях одно и то же, такому же господству одного народа над всеми прочими».
Таким образом, сопряжение двух смыслов под одной словесной оболочкой формулы «Россия-Евразия» было изначальной чертой мысли ранних евразийцев, – и эта омонимия явно мешала им рассмотреть различие двух путей, по которым они пытались идти одновременно. Один путь, открытый для «консервативных революционеров», принявших конец Петербургской монархии, состоял в апелляции к духу Московского царства, к его мировидению, парадоксально совмещенному с новейшей геополитической сюжетикой: противостояние хартленда и приморья интерпретируется как сказание о стране-сердцевине материка как «средоточии» мира, предназначенного стать православным царством. На другой путь толкало зрелище большевистской сборки в отодвинутой от Европы России, где с отпадом запада Империи резко возрос процент тюрок и монголов, «заговоривших на своих признанных официальными языках» и получивших федеративно-государственное обустройство. Для «правых» евразийцев, как Савицкий и Трубецкой, не склонных к «большевизанству», второй путь состоял в том, чтобы принять новую сборку помимо ее идеологии, но как бы возводя в идеологию технику сборки и ее результаты сами по себе. А то были два разных пути, но евразийцы старались не замечать их расхождения: возможно, интуитивно страшились, как бы любое из решений не подорвало либо ценностного обеспечения программы, либо ее прагматической жизненности.
Более того, характерно, что в полемике с «левым евразийством», провозгласившим дуализм религии и политики, отцы раннего евразийства провозглашали себя православными монистами, как бы не замечая того дуализма, который пронизывал их доктрину, начиная с двоякого осмысления ключевого понятия-лозунга. Эта спорная двусмысленность могла бы быть преодолена в случае сознательного конструирования идеологии с двойным дном, которое бы экзотерически проповедовало федерацию Земель и Народов, а эзотерически пестовала бы веру в Православную Ойкумену – Евразию Третьего Тысячелетия. Однако это потребовало бы пропаганды на разных уровнях и по разным каналам с учетом различия «евразийства профанов» и «евразийства пастырей». Вместо этого евразийцы исподволь нащупывали разные мостики между двумя смыслами «Россия-Евразия»: то поднеся миф о жаждущем «воправославиться» Чингисхановом наследии, «Монголосфере», то обсуждая Византию – первую православную «Евразию» – с точки зрения варварской пестроты ее культурной стилистики, то обыгрывая тему России как европейско-азиатского «промежуточного члена» при помощи квазибиблейской фразеологии воссоздания «рассыпанной храмины» континента.
Евразийский дискурс – выражение фундаментального кризиса, этот кризис может быть оценен как столкновение двух идейных установок при попытке закрыть глаза на их сущностное различие, при нежелании делать между ними выбор. Но с другой стороны, коль скоро мы видим здесь столкновение двух геополитических сюжетов, можно показать, что сам кризис в известной мере имел геополитический смысл.
VIII
В геополитическом смысле эта двусмыслица евразийства проявляется в следующем. Объявляя эталоном евразийской национальной политики стратегию Московской Руси, евразийцы невольно апеллируют к эпохе, проникнутой не просто жестким противостоянием народов леса и степи: речь идет об эпохе, когда лес (культура православия) геополитически жестко наступал на степь, подчиняя ее области своей гегемонии, низводя степь до статуса своей периферии. Московские цари принимали татар, да и вообще тюрок, на свою службу, – но именно на службу православным Белым царям – в той же мере, в какой степь не была замирена, Московская Русь жестко отделялась от нее цепью засек. Евразийцы с самого начала делают упор на синтез леса и степи, с выдвижением степи на первый план как доминирующего стержня, организующего Россию-Евразию. Фактически за их апелляциями к наследию Чингисхана и к «Монголосфере» раскрывается пафос пересмотра структуры России с утверждением нового доминирования пояса степей и пустынь над лесом – опорным «месторазвитием» русских.
Например, Трубецкой в своем «Наследии Чингисхана» обосновывает нежизнеспособность Киевской Руси следующим образом. Геополитический смысл Киевской Руси заключался в обеспечении товарообмена между Балтийским и Черным морями. Однако, Киевская Русь не могла выполнить этого задания, поскольку южная часть этого пути оказывалась под постоянной угрозой кочевников. Киевской Руси ничего не оставалось, кроме как деградировать в конгломерат борющихся между собой отдельных владений, не имеющих чувства объединяющего их целого, ибо само это целое не имело смысла. Евразия Трубецкого предстает в противоборстве рассекающих лесной пояс речных меридиональных осей и гигантской степной оси от Дуная до Восточной Сибири. Держава, контролирующая любую из речных систем, контролировала лишь часть Евразии, и все усилия такой державы могли быть сводимы на нет со стороны степи. Держава, контролирующая полосу степей, держит под своей властью всю Евразию: такой силой была империя Чингисхана. Ее преемницей стало Московское царство, Российская империя. Получилось, что ядром Империи, основой ее геополитической идентичности выступали обезлесенные пространства, степи и травянистые пустыни [Трубецкой 1991 (1925)].
В том же ключе Савицкий утверждал, что «в течение первых тысячелетий известной нам истории Евразии русское (восточнославянское) племя стояло в стороне от большого русла евразийской истории, хотя основные события ее и отзывались на нем непосредственно. Так называемая Киевская Русь возникла на западной окраине Евразии в эпоху временного ослабления общеевразийских объединительных тенденций» и не заслуживает особого внимания со стороны историка Евразии. (Лишь позднее Савицкий скорректировал свою точку зрения, указывая на империю Новгорода, на движение владимиро-суздальцев к Уралу. Однако, эта корректива не была радикальной, поскольку речь шла об операциях в пределах лесной полосы, евразийская же доктрина акцентировала роль степи.) Савицкий приходит к заключению, что русская история «до XV века была историей одного из провинциальных углов евразийского мира» и лишь после XV века вырастает в историю всей Евразии. Однако, он сам признавал, что до конца XVII века Россия по преимуществу собирала лесную зону и отчасти лесостепь, жестко отгораживаясь от степи как таковой, ограничиваясь контролем над отдельными, стратегически значимыми точками в степи и пустыни. Таким образом, реально Россия становится Евразией никак не в эпоху Белого Царства, представляющего «религиозное оправдание» евразийского мира, но только в эпоху европеизированной «антинациональной монархии», начинающей с 1730-х выдвигать пикеты в степь и кончающей к 1880-m ликвидацией всех преград внутри «Евразии». Геополитическое утверждение России – европейской державы совпадало с утверждением России-Евразии: царство XVI-XVII вв. не было ни той, ни другой.
Отсюда внутренняя двусмысленность позиции евразийцев. Особенно любопытны раздумья Савицкого в разное время насчет евразийских столиц. В одной из работ, сопоставляя центры объединения Евразии во II тысячелетии (династия Чингисхана, династия Тимура, Московское царство, Петербургская империя), Савицкий выводит формулу смещения этих центров из монгольского ядра сперва в долготное ядро континента, затем на долготную ось Доуралья и, наконец, на западную сторону России. Там, где движение евразийской политической объединительной традиции скрестилось с движением культурной традиции западной части старого света (в виде влияний византийских и европейских), – в той среде образовался российский политико-культурный «объединительный узел» [Савицкий 1927а, 48]. Итак, Савицкий приходит к возможности «евразийской» апологии имперского Петербурга, впервые подмявшего под себя «степную ось».
В то же время, с точки зрения доминирования Степи, Петербург оказывался предельно неудовлетворителен. С этой точки зрения, евразийцы должны были приветствовать отодвижение столицы назад, на грань лесостепи – в Москву, но опять же, как промежуточный предварительный ход перед будущим сдвигом столицы, скажем, в Среднее или Южное Поволжье, в направлении Старого и Нового Сараев. Апологеты Москвы против западнического Петербурга, евразийцы вынуждены были видеть в Петербурге более явный прототип евразийской столицы, чем в Москве, а оптимальным развитием им виделся сдвиг центра в направлении евразийских столиц, лежащих за пределами того «месторазвития», где оформлялась Московская Русь – «религиозное оправдание Евразии». Если в масштабах континента они могли отстаивать «самодовление» России в противовес Европе и Азии, то в масштабах Евразии они неизбежно приходили к сдвигу центра за пределы лесного и лесостепного ядра исторической России, в зоны с нерусской религиозной, хозяйственной, культурной традицией.
В этом смысле весьма показательны упреки со стороны советских историков середины 40-х годов в адрес «Древней Руси» Вернадского, которая фактически стала историей кочевых народов степной системы. Славяне оказались на окраине интересов автора, который время от времени, как бы спохватываясь, упоминает о возможности предположить также и славянские племена под теми или иными иранскими названиями военно-племенных союзов. Если перевести и эту геополитическую картину в историософские категории, неизбежен вывод: противопоставляя Россию-Евразию как сердцевину становящегося православного материка платформам Азии – как мирам «потенциальности» и «становления», евразийцы, в то же время, внутри самой Евразии пропагандировали сдвиг акцента с русского ядра на земли нерусские, представляющие, с точки зрения истории именно русской сборки Евразии, сугубое царство становления и потенциальности, к тому же, населенное народами, отнюдь не разделяющими подобной точки зрения.
Геополитическим итогом этой тенденции стала книга Савицкого «Месторазвитие русской промышленности» (1932). Центральным тезисом этой книги становится превознесение «монгольского ядра континента» как зоны, отличающейся уникальной «естественно-промышленной одаренностью». Речь идет, в частности, об ареале между Алтаем и Большим Хинганом (и шире, между верховьями Оби и Леной). В пределах монгольского ядра «отдельные участки, взысканные всей полнотой и разнообразием естественно-промышленных богатств, смыкаются в сплошную полосу территорий …в несколько миллионов квадратных километров. На остальном пространстве России отдельные "ресурсоносные площади" перемежаются с территориями, почти совершенно лишенными первосортных естественно-промышленных ресурсов или, во всяком случае, слабо одаренными по этой части» [Савицкий 1932, 7–8]. «Ресурсные территории России как бы рассеяны отдельными островами среди малонасыщенного, по части промышленного одарения, пространства. И только за верхней Обью и Енисеем они собраны в связное целое» [там же, 8]. В тексте Савицкого прослеживается своего рода иерархия значимости территорий. Так, «евразийская лесная зона, на ее протяжении от Балтийского моря до Енисея … представляет один из замечательнейших в мире примеров разительной бедности огромного пространства промышленными месторождениями углей» [там же, 51]. Степная зона Евразии в этом смысле немного исправляет положение (Донецкий бассейн, Карагандинский, в лесостепи – Подмосковный и отчасти Уральский). Даже с поправками на Печорский бассейн степь по углю одареннее леса и тундры, однако, основные его запасы, причем высшие по качеству, – в монгольском ядре. Гидроэнергетически обильны северо-запад, юг и восток союза, но скуден Центр» [там же, 36–38]. Железорудные запасы средней России – второсортны, но все на периферии – в Керчи, Криворожье. Главные запасы – в Восточной Сибири (горы Шории, бассейн Ангары и на Урале) [там же, 29–36]. Цветные металлы – на Урале, в Донецком кряже, на Кавказе, в Туркестане и Казахстане. Однако богатейшие месторождения – в Забайкалье, на верхнем Енисее, в Минусинском крае и т. д., с захватом Манчжурии. Ядро России в четырехугольнике – Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Кременчуг, Перемышль – скудно и второсортно, и если эта второсортность и корректируется, то за счет степи, окраинных гор, в меньшей степени окраинного севера (кроме леса и тундры), отчасти за счет Урала. Всеми мерами Савицкий подчеркивает эту обездоленность коренной России и во вторую очередь коренной Евразии зоны «трех равнин», в первую очередь Русской, отчасти Западно-Сибирской, с некоторыми оговорками насчет Беломорско-Ладожского края (его металла). Он ставит под сомнение большинство сообщений и проектов, связанных с этими старыми областями России-Евразии. Иногда он очевидно прав, когда решительно критикует проекты «Волгостроя», как бы опровергающие его оценку гидроресурсов Евразии, однако, по справедливому его предположению, связанные с затоплением ценнейших площадей. Но настойчивое стремление доказать второсортность Донецкого бассейна, недоверие к рудам Курской аномалии – всё это выявляет определенную предвзятость в отношении к центру Евразии, пафос сдвига интересов именно к крайней периферии. Грубо говоря, центр, особенно лесной – скуден, степь несколько улучшает положение, но больше всего его улучшают либо монгольское ядро, либо горы, либо тюркские области за пределами России. «Если русская промышленность желает обосноваться на ресурсах, которые являются наиболее крупными в пределах ее месторазвития, – она должна продвинуть свои центры в сторону тех мест, где зародилась в свое время (в XIII в.) мировая держава Чингисхана. … Не в коренных русских областях, но в "монгольском ядре континента" может найти и находит Россия полноту естественно-промышленных ресурсов» [там же, 100].
Отсюда выводы о неизбежности назревающей схватки с Японией, которая «пытается утвердиться у предела тех стран, в которые, объективным фактом распределения естественно-промышленных богатств, предназначена двигаться, в своем промышленном развитии, Россия. География естественных производительных сил усугубляет трагичность подготовляющегося конфликта» [там же]. В то же время, «промышленное включение» Востока и, отчасти, Юга «не может сводиться к механическому распространению на них культуры, вне их созданной». Их место «в русском будущем указывает на необходимость для русской культуры приспособиться к условиям этих районов, познать и впитать их традиции, на новых и братских началах сжиться с их народами» [там же, 7]. «He могут считаться и быть "колонией" те страны, на перспективах промышленного развития которых основывается в значительной мере само промышленное будущее России» [там же, 104]. Итак, «обездоленность» России толкает ее интересы к областям, которые в наибольшей мере граничат со старыми платформами Азии, а тем самым предопределяет изменения и образа ее культуры, и лица носителя этой культуры. Центр тяжести «России-Евразии» должен уйти в «Евразию», за пределы России.
Показательно, что евразийцы восторженно принимали поступающие из России обрывочные данные, согласно которым в результате происходящих пертурбаций изменяется сам расовый облик населения и начинает формироваться новый тип «степного русского человека» (сведения, подогревавшие русофобию среди расистов Европы и, в частности, использовавшиеся в пропаганде Третьего Рейха: по воспоминаниям Шелленберга, Гитлер прямо приписывал Сталину намерение вывести некую породу «славяно-монголов» – чисто евразийская идея, – чтобы эти орды в некий момент двинуть на Европу).
Итак, внутреннее напряжение евразийства в его раздвоении между пафосом России как «срединного мира» и упора на те области, края, которые относятся к предельным окраинам этого «срединного мира», и в цивилизационном смысле должны скорее расцениваться как окраины Азии, переходящие в собственно азиатские миры. Кризисность евразийства – в напряжении между попыткой утвердить стержневую Россию (воспринимаемую с апелляцией к «лесной» Московской Руси XV-XVII вв.) в качестве прототипа будущего духовного обустройства континента – и склонностью в хозяйственном, а что главнее, культурном укладе «России-Евразии» выпячивать края, в наибольшей степени чуждые этому прообразу. По-своему, это кризис, сходный с тем, с которым вынуждены были иметь дело авторы, пропагандировавшие «Россию будущего» как империю с центром в Константинополе: смирится ли Россия с участью маргинального придела к Центру, смещенному на отдаленнейшую окраину? Сохранился ли у России духовный потенциал, способный противостоять ее деградации при таком повороте, грозящем превращением в довесок к собственным окраинам от Новороссии до Манчжурии? Каковы гарантии выживания России как целостного образования при подобном развороте?
IX
Такая оценка евразийства может быть подкреплена анализом взглядов мыслителя, в середине 20-х сошедшегося с евразийцами, но потом круто разошедшегося с ними и пытавшегося выдвинуть в противовес им проект, который можно было бы назвать «контревразийским». Я говорю о Г.П. Федотове.
Первая его эмигрантская публикация «Три столицы» в евразийском альманахе «Версты» насыщена откровенно евразийской стилистикой: мы читаем о том, как, «овладевая степью, Русь начинает ее любить; она находит здесь новую родину. Волга, татарская река, становится ее "матушкой", "кормилицей"». Мы читаем здесь о том, как, «в сущности, Азия предчувствуется уже в Москве» и прямо об «азиатской» душе Москвы, о татарском имени казачества, которое «подарило Руси Дон и Кавказ, Урал и пол-Азии», о «сложившемся в степях» «русском характере». Совершенно евразийским гимном звучит его приветствие переносу столицы в Москву: «Всё, что творится на далеких рубежах, в Персии, в Китае, у подошвы Памира, – всё будет отдаваться в Кремле. С утратой западных областей Восток всецело приковывает к себе ее творческие силы. Москва призвана руководить подъемом целых материков». Но если вслушаться в слова: «ее долг – просветлять христианским славянским сознанием туранскую тяжелую стихию в любовной борьбе, в учительстве, в свободной гегемонии», – здесь явственна неевразийская нота: христианство связывается со «славянством», т. е. с прикосновенностью к Западу. Тут же с испугом вспоминает он о том, как в 1918 г. с бегством русских из Петербурга «заговорила было по-фински, по-эстонски петербургская улица. И стало жутко: не возвращается ли Ингерманландия, с гибелью дела Петрова, на берега Невы?» [Федотов 1991, т. 1, 54] Славянство для Федотова равноценно христианству, и он страшится растворения этого начала в «чудском» напоре, «туранство» – не «потенциальное православие», а мир, с которым идет борьба, пусть «любовная». Наконец, тезис о том, что истинный путь – «в Киеве: не латинство, не басурманство, а эллинство», – сильно отклонялся от евразийцев, начинающих историю «России-Евразии» с Золотой Орды и Москвы и готовых с большей охотой признавать маргинальное соприкосновение двух Евразий: континентальной и малоазийской.
Резкий поворот наметится в эссе «На поле Куликовом», это разительный первый опыт исследования литературного произведения в целях изучения глубинных культурных смыслов русской геополитики, предвосхищающий работу Савицкого о «Местодействии в русской литературе». Начинает Федотов с констатации того, как в цикле Блока образы северной Руси, связанные с православным образным рядом, захлестываются мотивами степи и «татарской древней воли», поэтизацией «диких страстей и мятежных»: степное начало оборачивается этической двусмысленностью цикла. Отталкиваясь от этой констатации, Федотов отслеживает путь Блока. Если в стихах о Прекрасной Даме проступает «среднерусский подмосковный пейзаж, отмеченный религиозно-сказочным восприятием древнерусской культуры», то в образе северной Руси всё отчетливее проступают «финские» – т. е. дославянские и языческие – черты. По Федотову, в лирике Блока «из разложения старой славянофильской схемы святой Руси рождается новая философия ее истории: финская северная Русь отважилась на бой со степной, татарской стихией, и в этой борьбе тьма одолела ее». Приняв в себя «вражескую тьму… Русь сама обратилась в ханское кочевье, – оттого тяжесть и тьма Москвы». «Голос татарской Руси громко звучит в сердце, заглушая славянские звуки». В «Новой Америке» он констатирует переход от «финского севера к татарской Руси»: «провал славянской, черноземной России – самое примечательное в национальной интуиции Блока. В самом центре его географической карты (вот оно, истинное «оскудение центра») зияет черное пятно. Черное пятно вокруг Москвы, расползаясь радиусами на сотни верст, предвещает близкий провал национального единства: СССР».
Итак, становление СССР как проекта, перечеркнувшего национально-религиозные основы русской государственности, подготавливалось сдвигом жизненных центров России на периферию. В результате «половецкая, татарская Русь воскреснет на наших глазах буйством заводов, царством донецкого угля». В видении «татарской орды» как «буйной крепи» Блок «предваряет евразийскую концепцию Золотоордынской государственности».
В конце концов, переживая революцию как «татарскую, оргиастическую стихию», Блок колеблется между ее соблазном и верностью белому знамени. «Становясь на сторону революции, Блок отдается во власть дикой, монгольской стихии… распада, "ущербной луны"… на Куликовом поле». Итак, оскудение исторического центрa России, «Святой Руси», сдвиг экономической жизни на периферию увязываются Федотовым с торжеством дославянской финской и, пуще, татаро-монгольской, туранской стихии, с изменой православию и хаосом. Так, за какой-то год Федотов приходит от игр с евразийством к жесткому вызову этой доктрине. Отталкиваясь от тезиса о надломе России, наступающем с 30-х гг. XIX в., он видит выражение этого надлома в слабой представленности в классической русской литературе «северо-замосковского края» – того края, что создал великорусское государство, что хранит в себе живую память «Святой Руси». Вся литература XIX в. – «литература черноземного края» (Тамбов, Пенза, Орел), но эти края лишь с XVI-XVII вв. отвоеваны у кочевников, они «бедны историческими воспоминаниями», «здесь всего скорее исчезают старые обычаи, песни, костюмы. Здесь нет этнографического сопротивления разлагающим модам городской цивилизации». С начала XX в. и этот край скудеет: «Выдвигается новороссийская окраина, Одесса, Крым, Кавказ, Нижнее Поволжье».
Поднимаются области, историческая память которых всё меньше их связывает с «держащим» идеалом России. Там подготавливается букет этнических элементов, жаждущих суверенности, в них распадается Россия под натиском Японии, Китая, исламского мира. Евразийство – одно из проявлений этого религиозного и цивилизационного схождения, выразившегося в центробежности хозяйственной, культурной, уже и политической, оно – капитуляция перед этой распадной стихией. «Многие не видят опасности, не верят в нее. Я могу указать симптомы. Самый тревожный – мистически значительный – забвение имени Россия. Все знают, что прикрывающие ее четыре буквы "СССР" не содержат и намека на ее имя … не Россия, а "Союз народов Восточной Европы"; не Россия, а "Евразия"». Евразийцы – «вчерашние патриоты, которые отрекаются от самого существенного завета этой <русской национальной – Ред.> традиции – от противостояния исламу, от противления Чингисхану, – чтобы создать совершенно новую, вымышленную страну своих грез». «О чем говорят эти факты? О том, что Россия становится географическим пространством, бессодержательным, как бы пустым, которое может быть заполнено любой государственной формой».
Он сходится с евразийцами во многом: в рассуждениях о России как особом мире между Европой и Азией, о ее симпатии к освободительным движениям азиатов, о ее национально-федеративном обустройстве. Однако расхождение принципиально. Концепция Федотова делает упор на два момента. Это, во-первых, возрождение исторической «святой Руси» с выходом на Белое море, упор на Московский промышленный район, где соседство святой старины «с современными мануфактурами, рабочих поселков – с обителями учеников преподобного Сергия… ставит перед нами насущную задачу нашего будущего: одухотворения православием технической природы современности». Задача вторая: укрепление Руси как ядра России посредством укрепления связи с Украиной, утверждение украинской культуры как особой формы общерусской культуры. Интеграция с Украиной, усиление украинского элемента в составе Руси – существенный способ для России избежать расточения в бессодержательном географическом и этнографическом пространстве.
Итак, упор должен быть сделан на европейский фланг России с некоторым сужением и краеведческим областническим углублением на севере и расширением, выходом за границу привычных нам великорусских форм на юге (невзирая на констатируемую им явную ненависть многих украинцев к великороссам). В этом смысле можно говорить о «контревразийском» характере проекта Федотова: именно потому, что его задача состоит в том, чтобы усилить славянское ядро, создав некоторый перевес элементам украинским, примыкающим к «латинскому» миру; и, вместе с тем, развитием старой «Святой Руси» противостоять дрейфу центра тяжести на восток, за пределы русского ареала, в десакрализованные, языческие земли[57].
Глава 15 Концепции «Острова Россия» и Великого Лимитрофа
I
Как ответ на только что обрисованное состояние отечественной геополитической мысли в постсоветское десятилетие[58], автором диссертации на протяжении 1990-х разрабатывалась концепция, которая в первой версии получила название «остров Россия», а в версии позднейшей, переработанной получила название «Земля за Великим Лимитрофом». Важнейший водораздел между этой концепцией и рассмотренными выше геополитическими исканиями послед него десятилетия связан с трактовкой отношения между нынешней «сократившейся» Россией и Россией великоимперской эпохи. Практически все другие построения рассматривают контур нынешней РФ как некое фрагментарное образование, как сугубо временный феномен, переходный к некоему иному состоянию: предполагается ли подсоединение к «западу» на правах «второй Европы», или возвращение русских к статусу «держателей Евразии», или дальнейшая фрагментация с превращением в кучу «геополитической щебенки» и в поле экспансии разных цивилизаций и чужих народов. В любом случае «редуцированная» Россия сквозь призму этих моделей выглядит неустойчивым, переходным образованием, имеющим право на существование разве что в качестве «ядра» некоего будущего гроссраума.
Концепция «острова Россия» трактует «сжатие» России в конце XX в. как кризисный «момент истины», когда высветляется опорный паттерн российской платформы, сложившийся еще до великоимперской эпохи и прошедший сквозь ее циклы, хотя временами затемняемый и даже подрываемый ее «приливно-отливной» динамикой. В конечном счете, модель «острова Россия» поверяет все эти перипетии Империи тем образом России, который ныне обозначился на рубеже тысячелетий. Эта редукция (в отличие от фрагментации России в 1918–1920 гг.) рассматривается как опыт, который будет иметь фундаментальное значение для последующей российской истории, какие бы стратегические предпочтения в ней ни возобладали. При этом разработка концепции опирается на выводы экспертов, не обязательно приемлющих ее в целом и даже с нею знакомых.
Первый набросок модели «острова России» датируется концом 1991 г., когда оказывались фактически дискредитированы идеи СССР как «единой фабрики», ритм функционирования которой якобы неизбежно должен был работать на далеко идущую стратегическую консолидацию народов и интеграцию руководств. Становилось очевидным, что концепция «единого пространства» – «единой фабрики» создавала предпосылки для того, чтобы группы, устанавливающие «суверенный» политический контроль над теми или иными «цехами», могли диктовать свою волю иным «цехам», руководства которых продолжали бы ориентироваться на «большую Россию-СССР» как геоэкономическую целостность (см. фактическое признание этого факта в 1991–199З гг. со стороны ряда наших «державников»). С другой стороны, сокращение России, снижение ее возможностей по части контроля над пространствами объективно отдаляло ее от Европы и резко снижало ее возможности играть ключевую роль в гроссрауме Демократического Севера. Речь шла об опасности дестабилизации и дробления российского ядра империи. При этом автор исходил из тезиса о том, что расточением России «во второй Европе» от Мурманска до Кипра и от Эльбы до Владивостока ничуть не лучше мотивировалось существование геополитического и геоэкономического субъекта «Россия», чем погружением российской платформы в «континент-океан» Евразии. Это особенно видно по разработкам Д. Драгунского, пытающегося распространить концепцию Демократического Севера на пространство России, отрешенной от статуса «держательницы Евразии»: в итоге, Россия разлагается на ряд русских и нерусских регионов, вступающих в свободные комбинации с самыми разными регионами «второго эшелона» Евро-Атлантики.
Первый же эскиз «острова Россия» заключал в себе полемику с идеями «России-Евразии», аморфной «сердцевины суши». Речь шла о формировании такого стратегического видения, которое противостояло бы расточению потенциалов России в противостоящих ей, суверенизирующихся пространствах. Отмечалось, что, по крайней мере, по отношению к европейской политической системе Россия всегда играла роль двоякую, выступая не только как объективно-географическая «Сердцевина Земли», но и как огромный «российский остров» с окруженными русским населением и частично сплавившимися с ним иноэтническими вкраплениями, прилегающий к «старой Европе» с востока. «Островные черты» – не только четкость океанических границ на севере и востоке и сходный по трудности преодоления барьер из гор и пустынь на юге… Однако, сходную роль играло то, что на западе российский массив был отделен «морем» или, скорее, «проливом» небольших народов и государств, не принадлежащих к романо-германской Европе. Таким российским островом мы всегда были и остались: итак, в основу концепции положена проблема, которая так или иначе волновала русскую геополитическую мысль с Тютчева и Данилевского – статус народов Восточной Европы (междуморье по Савицкому), не охватываемых романо-германским ядром западного сообщества. На первых порах концепция имела преимущественно антиевразийскую направленность: Россия конституировалась как субъект с собственной нишей, самоопределяющейся во взаимодействии с «ядровым» ареалом Запада, но дистанцированной от этого ареала. Причем значительная часть территорий внутриконтинентальной Евразии характеризовалась как пространство «внешнее» для России, но, в то же время, входящее в ее паттерн, определяющее в физико-географическом или культурно-географическом смысле ее «островную» особость. Подчеркивалось, что «органическая» сейчас политика для нее – «островная», консервативная, с поддержанием по возможности спокойствия на окаймляющих ее территориях-«проливах», наведением связки «мостов» поверх и в обход конфликтных очагов, вспыхивающих у ее границ, с четкой, дробной проработкой системы геополитических, экономических, оборонительных интересов и дифференцированным подбором союзников на каждый интерес. Лексика этого эскиза («территории-проливы», геополитический Ла-Манш Восточной Европы и т. п.), призывы «утвердиться в островном мировидении», размышления о тяге России в великоимперскую эпоху к изживанию «островного модуса» были нацелены на конституирование России как субъекта, не растворимого в пространствах «Евразии-хартленда» [Цымбурский 1991]. Но, вместе с тем, тезис о дистанцированности «ниш» коренной Европы и России, настойчивое противоположение восточноевропейской общей периферии Запада и России – «ядрам» обоих этих сообществ объективно оборачивалось против доктрины России – «второй Европы», второго эшелона Демократического Севера. Конец XX в. проявляется как кризис сразу и российского европеизма, и российского паневразийства, способный повести либо к диссоциации России (будь то в «большой Евразии» или во «второй Европе»), или к новому осмыслению ее исторического места, причем осмыслению, которое, не порывая с традицией России, должно было бы обладать неким геополитическим «общим знаменателем» с историей Империи.
В целях определения этого знаменателя делается попытка вложить положительный смысл в учащающиеся иронические сближения России в границах 1992 г. с Московским царством XVII века. При этом более отчетливо рефлектируется происходящее отделение России от Западной Европы, ослабление непосредственного присутствия в ее судьбах. Подчеркивается, что в новых условиях типичный для Империи «пафос непосредственного втягивания России в дела Европы» должен смениться «возрождением прагматических и изоляционистских стереотипов», «своеобразным возвращением к допетербургской фазе в истории русского государства» (когда функционировала балтийско-черноморская система). Подчеркивается, что «этот вариант, так долго остававшийся запасным, не менее, если не более естественен для государства с российскими геополитическими параметрами нежели великоимперский, изживший себя до предела». При этом на первых порах автор полагал, что «сознание геополитической обособленности России» не обязательно должно вести к идеологическим противоречиям между Россией и Западом [Тарасов, Цымбурский 1992, 31]. При этом не вполне отчетливо осознавались те цивилизационно-геополитические следствия, к которым способна привести модель, опирающаяся в столь большой мере на этнокультурные предпосылки.
В общем-то, эти следствия не были до конца прочерчены и в той статье 1993 г. «Остров Россия», где данная концепция получила вполне развернутое первоначальное воплощение. Сочиняемая в ту пору, когда всерьез обозначилась возможность преобразования России в конфедерацию суверенных образований, статья имела своей основной задачей – выделение того набора ключевых признаков, который позволяет говорить о непрерывности геополитической традиции с XVI-XVII по XX в. Иначе говоря, вопрос ставился так: какие перемены должны были произойти в раскладе Северной Евро-Азии, чтобы можно было говорить об «исчезновении России»: чтобы мир более не мог идентифицировать Россию как объект, который был ему известен на протяжении Нового и Новейшего времени. Отмечалось, что перемены 1990–1991 гг. на эту черту явно не выводят; более того, они парадоксальным образом ближе к британской модели распада империй, чем к деструкции Австро-Венгрии или Золотой Орды, ибо отчетливо сохранилось ядро, связанное с прежней державой некой формой наследования, – откуда прямо вытекает, что роль имперской России в мировом раскладе опиралась на не<кий неизменный геополитический каркас, сохраняющий свою тождественность при разных позиционированиях России в отношении платформы романо-германского Запада>.
II
Какую же альтернативу предлагал «Остров Россия»? Отклики в печати на эту работу были неоднозначны. Некоторые оппоненты усматривали в этой модели «сочетание заемного „разумного эгоизма“ с языческим натурализмом, не ведающим, что в основе больших государств лежат не естественные ниши, а цивилизационные идеи мощного интегративного характера» [Панарин 1994, 26]. В этой работе усматривали выражения чаяний строителей либерально-буржуазной России как национального государства [Кургинян 1995], воплощение взглядов тех кругов, которые «островитянски» пируют на «припасах с провиантских складов затонувшего СССР» [Павловский 1994, 135]. Иные критики, напротив, говорили о возможности прочесть эту модель в праворадикальном ключе: «отгородимся от коррумпированного нерусского мира и построим у себя на „острове Россия“ тысячелетнее царство» [Лисюткина 1995, 10]. Впрочем, некоторые рецензенты оценили «Остров Россия» как «наиболее целостную теоретическую концепцию, альтернативную теории России-хартленда» [Стариков 1995, 239].
Парадокс в том, что «Остров Россия» должен был предложить альтернативу не только «броску на запад», но равно и пафосу собирания нового Большого Пространства – и, вместе с тем, превращению России в лимитрофно-буферный придел Евро-Атлантики. Иначе говоря, речь шла о критике не только миновавшей фазы «европохитительского» цикла, но и самой этой циклической динамики как таковой, но, вместе с тем, и о противодействии любым версиям геополитического «демонтажа» России.
Очень интересно интерпретировал в 1994–1995 гг. модель «острова Россия» М.В. Ильин, попытавшийся найти ей место в своей эволюционно-стадиальной (хронополитической) типологии политических систем. По его выкладкам, известные истории случаи перехода в Западной Европе и в Японии от империй к государствам-нациям – т. е. от государств, притязающих на цивилизационное обустройство известной и доступной им ойкумены, к государствам с устойчивыми границами, внутри которых развивается сложная система договорных отношений и формируются структуры гражданского общества, – бывали опосредованы переходными стадиями, которым он присвоил имя «куколок (хризалид)». Под «хризалидами» он понимает территориально-замкнутые образования, ощущающие себя в качестве «духовных империй», в том числе с разделением политических и духовных центров. В модели «острова Россия» ему виделся абрис «духовной империи – хризалиды», которая могла бы опосредовать становление государства-нации в России. В развитие этой гипотезы он предлагает очерк формирования «острова Россия» от Киевской Руси до наших дней, противопоставляя две версии организации русского пространства, якобы проходящие через всё II тысячелетие. Одна традиция (по Ильину – линия Владимира Мономаха) делает упор на то, что можно назвать «местническим державничеством» – «на внутрирусское развитие и дифференциацию земель-отчин ради более прочной интеграции целого»; другая традиция – по Ильину – линия Олега Гориславича, она предполагает завоевание русского пространства из центра, который выносится либо на крайнюю периферию национального ядра, либо вообще за его пределы.
Восприняв метафору «острова Россия» как метафору «морскую», Ильин попытался преодолеть схематичность оппозиции «остров – проливы» таким образом, чтобы, по его словам, четче заметить «переходы от внутренних пространств "острова" к прибрежным "заливам", "мысам" и "шхерам", затем к "шельфу" и, наконец, к "морским глубинам", за которыми "шельф", "шхеры" и прочие проявления другого острова» [Ильин 1995, 62]. При этом он предлагает шире использовать данные «геоморфологии, рельефа и, прежде всего, бассейнового деления, климатических, в первую очередь зональных характеристик, ландшафтных и почвенных данных, миграций вещества и энергии (как естественных так и антропогенных), расселения, транспортных и информационных инфраструктур» и т. д. Однако, на этом пути он отчасти сходится с классиками евразийства: в частности, по чисто физико-географическим критериям он отождествляет «остров Россия» с карпато-алтайским пространством, а Забайкалье и тихоокеанское приморье относит к «лимитрофам» наравне со Средней Азией, Кавказом и Польшей. В результате он приходит к идее выделения Дальнего Востока в отдельный доминион с широкой суверенностью, хотя и под защитой России, полагая, что только широким привлечением западных и тихоокеанских экономик к развитию этой вольной зоны могло бы сдержаться китайское на нее наползание.
Автор модели «острова Россия» подходит к проблеме позиции Дальнего Востока в строении российского пространства несколько иначе. По его мысли, практически всю великоимперскую эпоху геополитические приоритеты правящих верхов России распределялись так: на первом месте стояла Европа и «территории-проливы», представлявшие подступ к основной платформе западной цивилизации. На втором – территории, открывающие подступ к другим ареалам афро-азиатского приморья и тем позволяющие косвенно влиять на политику Запада. На третьем месте – внутренние области российской платформы и особенно ее восточные трудные пространства (в частности, поражение в русско-японской войне и нынешняя слабость перед Китаем обусловлены, в полном согласии с давними выводами В.П. Семенова-Тян-Шанского, исключительно тем, что задачи продвижения в приморье почти всегда оказывались впереди обживания и интеграции в Россию тыловых трудных пространств). Сегодня приоритеты следует инвертировать: на первом месте должна быть платформа России, в том числе скрепление ее внутренних районов с окраинами; на втором месте – территории, не соприкасающиеся непосредственно с Европой; на третьем – Восточная Европа. Причем, когда мы говорим о «внутренней геополитике», под этим следует понимать не только федерализм, но и упоминавшуюся «переоценку составляющих» России.
Предлагается рассматривать нынешнюю Россию как платформу с двумя внешними флангами – евророссийским и дальневосточным, – обращенными, соответственно, к восточноевропейским «территориям-проливам» и к Тихому океану. При этом ареал Сибири и Большого Урала (Урало-Сибирь) выступает сегодня стержнем России, обеспечивая ее коммуникационную целостность. Он – посредник между Западной Россией, без него оказывающейся дальним окраинным тупиком Европы, и Дальним Востоком, способным отколоться от России, втягиваясь также на правах тупиковых окраин в тихоокеанский мир. Урало-Сибирью эти фланговые ареалы соединяются в систему, способную придать им новое стратегическое качество.
Сегодняшняя – становящаяся – Россия в потенции обладает сбалансированным симметричным гештальтом. Обоим ее флангам присуще меридиональное развертывание. В организации Евро-России определяющая роль принадлежит Волге и Дону, а также идущим с севера на юг железнодорожным магистралям. В строении дальневосточного фланга («Леналенд» X. Маккиндера) подобную же функцию способны играть побережье Тихого океана, идущие с юга на север автодороги и течение Лены, связующее Южную Сибирь с Якутией и Северным Ледовитым океаном. Между тем, Урало-Сибирь отличается по преимуществу широтным развертыванием (которое лишь несколько модифицируется меридиональным течением великих сибирских рек). В нем – дополнительно к отмечавшемуся Савицким фланговому развертыванию зон тундры, тайги и степей – осевая функция принадлежит антропогенным факторам: Транссибу, а в потенции – и Северному морскому пути. В этой прорезающейся структуре новой России, где пока непропорционально ослаблены северная и восточная оси, ключевые позиции принадлежат тем регионам (скрепам России), где стыкуются широтное и меридиональное развертывание, Урало-Сибирь с Евро-Россией и Дальним Востоком. На сегодня важнейшей из этих скреп оказывается Юго-западная Сибирь с верховьями Оби и Иртыша, а заодно с обращенными к ней восточными склонами Урала, где пересекаются магистрали с востока на запад и с севера на юг. Общая характеристика этого региона оказывается трояка. Во-первых, как говорилось, он – держащая сердцевина России; в то же время, гранича на юге с Северным Казахстаном – «почти русским» приделом (лимесом) «острова Россия», его «шельфом» (по терминологии М.В. Ильина), он включает в себя ту парадоксальную периферию России, где способны зарождаться новые интегративные инициативы; наконец, он выходит и на пространства Сибири, очаговое освоение которых представляет основной путь приращения актуальных площадей России в первой четверти будущего столетия (независимо от желательного упрочения позиций России на ее «шельфе»). «Переоценка составляющих» России, направленная на развитие и укрепление нового гештальта, должна состоять в усилении структурной роли Урало-Сибири как региона, к которому переходят функции новой Центральной России. В этих условиях безработица в Забайкалье и Сибири, кризис «северного завоза» и начинающийся отход с сибирского севера, признаки дрейфа населения в переживающую и без того кризис «Евророссию» рассматриваются как подрыв начинающего формироваться гештальта, путь к геополитической «аморфизации» и деструкции российской платформы, к ликвидации того паттерна, которым обеспечивалась историческая непрерывность России с XVI в.
Такая трактовка задач и вызовов внутренней геополитики определяет и отношение к внешним вызовам в адрес России. Вызов со стороны расширяющейся НАТО на западных «территориях-проливах» – вполне реален, но сейчас не видно на этот вызов такого ответа, который бы укрепил внутреннее и мировое положение России. Скорее, конфронтация на этом направлении усугубит тупиковость положения евророссийского фланга по отношению к Евро-Атлантике и, в то же время, сосредоточит усилия и интересы России в этом тупике. Напротив, вызов со стороны Китая – из тех, которые «следовало бы выдумать, если бы их не было»: если натовский вызов пока что следует проигнорировать, переадресовав его в пустоту, то китайский вызов из внешнего должен быть перекодирован во внутренний, определяемый инфраструктурным и демографическим состоянием нашего востока. С другой стороны, следует учесть, что свойство флангов России как периферий двух крупнейших геоэкономических ареалов – европейского и тихоокеанского – способно обернуться «распиливанием» России, испытанием ее на разрыв; внутренняя геополитика должна дать комбинированный ответ сразу на два внешних вызова – китайский и миросистемный – таким образом, чтобы укрепление инфраструктуры восточного фланга сочеталось (о чем опять-таки писал еще В.П. Семенов-Тян-Шанский) с выдвижением Центральной России (Урало-Сибири) на роль российского геоэкономического ядра.
Следовательно, внутренняя российская геополитика, согласно модели «остров Россия», предполагает выделение двух видов ключевых зон: во-первых, это располагающиеся на флангах страны «окна» во внешний мир, потенциальные инновационные точки; во-вторых, ареал, которому предназначается функция нового геоэкономического или, что то же самое, национального ядра российской платформы. В этом аспекте модель «острова Россия» непосредственно смыкается с теми выводами, к которым во второй половине 90-х с разных сторон подошли некоторые российские экономисты.
Такова развиваемая Т.Л. Клячко концепция «точек роста» по периферии России с прихватом территории некоторых постсоветских республик (российского «шельфа»): таковы Балтия, Новороссия с Крымом, Черноморское побережье Грузии, может быть (под вопросом), Баку и, наконец, в особенности Приморье. (Показательно, что эти точки роста в основном смыкаются или совпадают с тремя российскими приморскими зонами – Дальний Восток, Северо-Запад, Причерноморье, – которые выделяются Ергином и Густафсоном как потенциальные очаги инициатив, способных повлечь либо дробление российской платформы, либо аннексию Северного Казахстана и изменения режима власти в российском Центре.) По Клячко, вызов со стороны Китая представляет для России основные шансы обновить и поднять свой мировой статус. Для этого требуется развитие Приморья как свободной экономической зоны, создание условий для прекращения оттока населения на запад, переориентация миграционных потоков в Россию на ее восток и, наконец, развитие в поддержку этого курса крупных центров экономической мощи в Западной и Восточной Сибири. Отказ от этого курса может рано или поздно привести к тому, что российский восток послужит отступным Китаю со стороны мирового цивилизованного сообщества за воздержание от наступления в юго-восточной Азии (ср. прогнозы Е.Ф. Морозова). Однако, у такого оптимального курса наблюдаются препятствия политического свойства: озабоченность московской властной элиты закреплением в Европе ради поднятия престижа скудеющей державы, неумение согласовать переориентацию ресурсов на восток с поддержанием стабильности на западном фланге страны, озабоченность сиюминутным латанием дыр при игнорировании среднесрочных тенденций, наконец, подозрительность Москвы к возвышению новых центров, якобы бросающих вызов сильной и стабильной общероссийской власти (с учетом этих факторов дискуссии 1994–1995 гг. на тему «зауральского Петербурга» обретают особое звучание). Все эти моменты ведут к размыванию восточных границ России, превращению России либо в насос, оттягивающий китайскую экспансию, либо в щит, прикрывающий «мировые цивилизованные сообщества» от Китая [Клячко 1997], причем вовсе не обязательно роль такого щита должна возлагаться именно на единую Россию. Клячко, как и М.В. Ильин, связывает сдерживание китайского напора с формированием инновационной «зоны на востоке», дополняемой аналогичными зонами Черноморья и Балтии.
С другой стороны, О.В. Григорьев, исходящий из тезиса о том, что «внутренняя политика России – это внутренняя геополитика плюс внутренняя геоэкономика», прогнозирует на конец 90-х начало неуверенного и медленного подъема в регионах, обладающих дифференцированной, но не рассчитанной на экспорт промышленностью вместе с развитым сельским хозяйством. К таковым регионам он относит большую часть Сибири, Южный Урал, Среднее и Нижнее Поволжье, юг России и Центрально-Черноземный район. Поскольку подъем будет тормозиться ограниченностью региональных рынков, есть шанс их связывания в общероссийский рынок с присоединением к нему районов промышленных, но без развитого сельского хозяйства, переживших в 90-е крутой спад, но сохранивших, по Григорьеву, исключительно квалифицированные кадры. Таковы Центр и Северо-Запад России, Забайкалье, Новосибирская и отчасти Томская области. По мнению аналитика, внутренний рынок имеет наибольшие шансы сложиться на юге Сибири, Южном и Среднем Урале, может быть, с притяжением сюда же и запада дальневосточного ареала. Будущее западного фланга России видится в смыкании его потенциалов с Урало-Сибирью: превращение Евророссии (по моей терминологии) в объект экспансии со стороны урало-сибирского ареала, их консолидация, особенно в видах «активного проникновения на рынки развивающихся стран», рассматриваются Григорьевым как «единственная возможность сохранения перспектив экономического и социального развития и геополитической целостности современной России». Противоположную деструктивную тенденцию несет нынешняя эксплуатация Сибири и Дальнего Востока московским капиталом.
Вне проектируемого ядра или на его краю оказываются регионы экспортно-сырьевые, т. е. экстравертные по хозяйственному профилю (потому сомнительна принадлежность к «ядру» севера Тюменской области), а также окраинные территории, которые Григорьевым трактуются как «зоны освоения» для соседних государств, в число этих зон отчасти попадают и выделяемые Клячко «точки роста», в том числе тихоокеанское Приморье [Григорьев 1997].
Концепцию «острова Россия» объединяют со взглядами названных экономистов принципиальные установки на развитие Урало-Сибири как нового национального ядра, притягивающего к себе и западный фланг, и северо-казахстанский российский лимес, но также и установки на развитие «точек роста – инновационных зон» по российской кайме, с особым упором на восточную окраину. При этом, вопреки таким экспертам, как К.Э. Сорокин, я склонен полагать, что провозглашенный новым японским руководством курс «евразийской политики на взгляд с Тихого океана» может представлять серьезный подход к российско-японскому сближению, способному составить – с привлечением Южной Кореи – противовес китайскому напору. В отличие от позиции Морозова я полагаю, что только значительное изменение демохозяйственной ситуации на российском востоке, возросшая уверенность России в сохранении за собой позиций на этом фланге могли бы в будущем более отдаленном развязать России руки для более тесных отношений с Китаем, выходящих за рамки экономического сотрудничества (впрочем, решение Курильского вопроса невозможно без закрепления за Россией свободы доступа к Тихому океану). Но здесь уже внутренняя геополитика срастается с внешней.
III
Первоначально в модели «острова Россия» платформа России вычленялась из континента по ряду разнородных признаков: физико-географических и этно-культурных. В дальнейшем соотношение между этими признаками уточняется: островной паттерн рассматривается как инвариант, реализующийся в конце XX в. на трех уровнях: геокультурном, внешнеполитическом и геоэкономическом. В то же время гео <политический аспект концепции переходит в значительной степени к тому ее варианту, который разрабатывался автором с 1995 года со статьи «Россия – земля за Великим Лимитрофом».>
Оказывается, старый рисунок цивилизационных платформ Старого Света и разделяющих их промежуточных пространств, восходящий к доимперской эпохе России, обретает повышенную значимость для разработки стратегии безопасности России и в какой-то мере – для российской геоэкономической доктрины конца XX в. Этот вывод стал стимулом к переработке модели «острова Россия» в версию «земля за Великим Лимитрофом». В основу этой версии положена доктрина «цивилизационной геополитики», однако же, по своим аксиомам радикально отличающаяся от концепции С. Хантингтона. Последняя во многом основывается на метафорической трактовке цивилизаций как однородных плит, сталкивающихся по разломам. Под ядровыми же государствами цивилизаций разумеются исключительно военные и хозяйственные гегемоны, способные утвердить свой контроль над процессами в масштабах такой плиты-платформы. В отстаиваемой мною версии [Цымбурский 1995б; 1995в; 1997а; 1997б] цивилизация рассматривается как народ или группа народов, осуществляющих культурную и вместе с тем политическую гегемонию над неким обособленным географическим ареалом. В частности, достигается это таким образом, что разворачиваемое данными народами в этом ареале государственное строительство подводится под сакральную вертикаль — религию или идеологию, которая проецирует такое строительство, а также социальные и культурные предпочтения этих народов в план высших, «последних» причин и целей существования человечества. Предполагается, что наличие собственной сакральной вертикали отличает цивилизации от чисто силовых имперских образований вроде державы гуннов или первоначальной империи монголов XIII в. В то же время, за пределами своего этнографического ядра цивилизация оказывает ориентирующее воздействие на окрестные пространства и народы, которые образуют периферию данной цивилизации, открытую во внешний мир. Периферии соседствующих цивилизаций переходят друг в друга. Так констатируются межцивилизационные интервалы – лимитрофы, строение которых во многом, по мнению автора, отвечает физико-географическому типу членения охватываемых ими участков земной поверхности.
Такое геополитическое видение цивилизаций поясняется примерами территорий, соседствующих с Россией и демонстрирующих разные типы межцивилизационных лимитрофов. Восточная Европа с Балканами (то самое балтийско-балкано-днепровское «междуморье») рассматривается как лимитроф, отделяющий основную платформу романо-германской, католической и протестантской Западной Европы от платформ России и исламского арабо-иранского ближнего Среднего Востока. В культурно-географическом плане это пространство характеризуется матрицей независимых друг от друга признаков («западно-христианский – незападно-христианский», «романо-германский – не принадлежащий к романо-германской общности», «исламский – неисламский», «православный – неправославный», «русский – нерусский» и т. д.), так что по мере движения от одной платформы к другой признаки из набора характеристик западной цивилизации пошагово и по-разному заменяются на другие признаки, отдаляющие данный народ от цивилизационного ядра Запада. Так, при переходе от Австрии к Словении и Хорватии признак «романо-германский» заменяет положительное значение на отрицательное, с переходом от Хорватии к Сербии отпадает признак «западного христианства» и т. п. Для каждого народа можно составить список признаков, сближающих его с некой из разделяемых этим интервалом цивилизаций или удаляющих от нее.
Существенная особенность восточно-европейского лимитрофа состоит в том, что различные признаки могут получить разную значимость в зависимости от того, идет ли речь о переходе между Западной Европой и Россией – или между той же Западной Европой и Ближним Востоком. Так, в первом случае признак «православие» обретает самостоятельную значимость, указывая на приближение к платформе России, во втором же случае «православие», т. е. «христианство, но христианство незападное», осмысляется как признак чисто негативный, свидетельствующий о невхождении народа ни в мир ислама, ни в культурное поле западного христианства – т. е. исключительно как примета «зависания» между цивилизациями. По сути, можно говорить о том, что одно и то же физико-географическое поле предстает неодинаковым для по-разному структурированных культурно-географических полей, предназначение которых зависит от разделенных каждым из них цивилизационных платформ. Ясно, что на подобном лимитрофе можно провести исключительно большое число предположительных «цивилизационных разломов» в зависимости от того, какой признак (религия, этничность, письмо и т. д.) будет принят за диагностический: в самом деле, что важнее, например, для характеристики румын – их романизм или православие? В действительности же, более или менее отчетливы (с оговоркою насчет лимесов, о чем ниже) лишь грани между ядрами цивилизаций и их внешней лимитрофной периферией.
Однако, восточно-европейский тип межцивилизационного интервала – «сетка признаков» – по-видимому, не единственно возможный. Совсем иной тип дает нам Кавказ с его крупной мозаикой этнорелигиозных характеров («православный грузин», «тюрк-шиит», «горец-суннит», «армянин-монофизит»). Здесь господствует не тенденция «перехода» между платформами ислама и России, но своего рода отталкивание горного пояса от окраины соседних цивилизаций: в сторону России обращен суннитский пояс Северного Кавказа, а с Ближним Востоком соседствуют христианские государства Закавказья. Третий тип интервала («континуум») являет тюркская Средняя Азия, где движение от Среднего Востока на север (в сторону России) проявляется постепенным убыванием «исламизированности» быта, а также возрастанием доли русских и вообще «северян» в составе населения. Четвертый тип («расселина» между платформами) рассматривается на материале пролегших между Китаем и русской Сибирью Большого Алтая и Синьцзяна, где тюркские и монгольские племена, ламаисты и исламисты четко отличаются как этнически, так и по верованиям от «ядровых человечеств» России и Китая. Очевидно, что все эти типы лимитрофов пребывают в корреляции с рельефом: дробным, но неглубоким членением Восточной Европы, резкими разломами Кавказа, плавными протяженностями среднеазиатских пустынь и казахстанских степей, широтным вклиниванием Большого Алтая между империями-цивилизациями России и Китая.
Можно сказать, что предлагаемая концепция «цивилизационной геополитики» проистекает из повышенного внимания к статусу и роли «промежуточных» народов, которые всегда присутствовали в поле зрения русской политической мысли. Частью концепции является интерес к проблемам лимитрофных империй, создаваемых народами, не входящими в ядро цивилизации (Речь Посполитая), особенно же к тем случаям, когда лимитрофные империи охватывали цивилизационное ядро, смещая политический центр цивилизации за пределы ее базисной этнографической платформы (владычество Оттоманской Порты на Ближнем Востоке). Концепция включает также понятие о «лимесах» – окраинах цивилизационных платформ, которые, примыкая по совокупности культурных признаков к ядру платформы, в то же время, рискуют отколом и оползанием в лимитрофы – в том случае, если не связуются с платформой политически. Таковы – Восточная Германия в отношении к романо-германской Западной Европе; большая часть Белоруссии и украинского Левобережья, казачьи регионы в Приазовье; Северный Казахстан, Забайкалье и Тихоокеанское приморье в отношении к «ядру» России; Манчжурия – исторический «придел» Китая; Таджикистан – выдвинутый к северу от Памира лимес иранского Среднего Востока. В Новом Свете могут рассматриваться в качестве лимесов южные штаты США, некогда отторгнутые у Мексики, а ныне наводняемые латиноамериканцами, а с другой стороны – Аляска.
Очень похоже, что лимесы временами способны играть роль «парадоксальной периферии», по М.В. Ильину, становясь опорной базой для альтернативных проектов интеграции – в том числе военными средствами – цивилизационного ядра. Тут можно вспомнить роль Пруссии в Европе второй половины XIX и начала XX в., функции Манчжурии в конце 1910-х как плацдарма для распространения диктатуры Чжан Цзолиня на Северный Китай, а также перипетии гражданской войны в России 1918–1921 гг. Небезынтересно, что опорной базой Белой гвардии в ту пору выступили лимесные казачьи районы – степи Прикавказья, Южной Сибири и Забайкалья, тогда как большевики опирались на лесные и лесостепные области европейского фланга страны и на сильное партизанское движение в лесных районах Сибири (За пределами этого сценария оказывается белогвардейская диктатура Р.Ф. Унгерна фон Штернберга в Монголии 1920–1921 гг., которая в целом выглядит, судя по мемуарам Ф. Осендовского, попыткой создания на Большом Алтае «лимитрофной империи», противостоящей Китаю и большевистской России.) В проекте «Новороссия», затронутом в предыдущей главе[59], с охватом Белоруссии, Приднестровья и Крыма, как и в сценарии Д. Ергина и Г. Густафсона, где «красный мятеж» в Прикавказье и Южной Сибири распространяется на Северный Казахстан и, в конце концов, приводит к смене режима в Москве, – просматриваются: в первом случае – надежды на то, что лимес России может дать импульс к ее альтернативной сборке, а во втором – беспокойство, если не страх, перед возможностью такого развития событий.
Концепция, трактующая как предмет «цивилизационной геополитики» не только случаи лобового «столкновения цивилизаций», но также процессы на межцивилизационных пространствах и на лимесных окоемках цивилизационных платформ, выглядит надежным рабочим инструментом, позволяющим по-новому осмыслить многие перипетии и проекты XX в. С опорой на эту концепцию, как уже говорилось, автором диссертации в 1994–1997 гг. была предложена модель, трактующая различные интервалы между Россией и ядровыми платформами соседних цивилизаций – Китая, арабо-иранского Ближнего и Среднего Востока и романо-германской Западной Европы – как фрагменты гигантской системы Великого Лимитрофа от Прибалтики до Кореи, образуемого сцепленными перифериями всех этих цивилизаций Евразии (сам термин «Великий Лимитроф» в этой связи предложен воронежским автором СВ. Хатунцевым). Идея Великого Лимитрофа во многом служит ответом на попытки (в духе В.Л. Каганского) интерпретировать собственно Россию как проекцию всех евроазиатских цивилизаций, что вполне отвечает одному из толкований формулы «Россия-Евразия». Модель «Великого Лимитрофа», охватывающего Восточную Европу с Прибалтикой, Кавказ (и турецкую Анатолию), Центральную Азию – «новую» (от казахстанских степей до Памира) и «старую» (Синьцзян и Большой Алтай, с продолжением в Тибете), наконец, Корейский полуостров, трактует в качестве совокупности таких цивилизационных проекций Евро-Азии не Россию, но именно этот территориальный пояс, зависший между «цивилизациями теплых морей» и российской платформой, как она сложилась к началу эпохи Империи. Утверждается, что до возвышения России в XVI-XVII вв. эти периферии «старых» цивилизаций были открыты во внецивилизационные пространства континентального севера, образуя вместе с ними Евразию – тот самый внецивилизационный хартленд X. Маккиндера, нависавший над этими приморскими платформами, грозя им нашествиями «варваров». С подъемом среди этих пространств России, заявившей претензии на роль Третьего Рима, православной земли среди «потопа» неверия, внецивилизационная «старая Евразия» сводится (с оговорками насчет уцелевших тюркских и финно-угорских анклавов по Волге и Лене) к полосе Лимитрофа, который теперь должен рассматриваться как «Евразия по преимуществу».
«Парадокс Империи», о котором много писали наши евразийцы, в том числе и Л. Гумилев (когда европеизировавшаяся по своему культурному стилю страна, тем не менее, активно работала на интеграцию евразийских территорий), – оказывается парадоксом мнимым. Страна, пребывающая в глубине континента, и не могла бы вступить в большую европейскую игру, не включив в свое «тотальное поле» лимитрофные территории, открывающие ей доступ прямо к землям Западной Европы или к тем областям евроазиатского приморья, которые в тот или иной момент могли бы представлять повышенный интерес для западных держав. «Россия-Евразия» наших евразийцев – это, собственно, Россия, инкорпорирующая Великий Лимитроф и благодаря этому проецирующая свою мощь непосредственно на соседние цивилизации – Европу, Ближний и Средний Восток, Британскую Индию, Китай. Сегодняшняя Россия в Евразии – это Россия, экстериоризировавшая в прошлом подвластные ей или подконтрольные области Великого Лимитрофа. Между тем, века (или в других случаях десятилетия) принадлежности этих территорий и народов к одному геополитическому полю способствовали формированию в пределах этого пояса многообразных отношений, прямых или опосредованных, однако, в совокупности своей побуждающих трактовать Лимитроф как единую трансрегиональную геополитическую систему, именно в корреляции с которой определяется «трансрегиональность» России (по удачному определению К.Э. Сорокина).
Позволю себе процитировать то, что было мною написано по этому поводу: «О чем бы ни шла речь – о замысле Балтийско-Черноморского союза или о концепции "Черное море – турецкое море"; об "оси" Баку-Тбилиси-Киев или о грузинских и прибалтийских играх Грозного; о замаячивших в печати упоминаниях насчет сценария американской политики в постсоветском пространстве "с опорой на два У, связуемые Кавказом" (Украину и Узбекистан); о плане возрождения Великого Шелкового пути в железнодорожном варианте; об отбрасывании талибов на юг "этническими среднеазиатами" с подачи России и Узбекистана или о возможном нефтепроводе из Туркмении в Японию через север Китая, – во всех этих и десятках других случаев мы имеем дело с фрагментами геополитики Великого Лимитрофа» [Цымбурский 19976, 179]. «Трансрегиональность» России поддерживается очевидным обстоятельством: если платформы других цивилизаций имеют непосредственный выход на один или два участка Лимитрофа (Евро-Атлантика – в Восточную Европу, арабо-иранский мир – в «новую» Центральную Азию и на Кавказ, Китай – в «новую» и «старую» Центральную Азию), то Россия получила в приделы Великий Лимитроф целиком.
Сегодня, со сжатием России Великий Лимитроф становится полем большой геополитической игры, в рамках которой прослеживаются следующие главные тенденции [там же, 179 и cл.]. Крупные государства и политические блоки соседних цивилизаций пытаются проецировать свою мощь на Лимитроф (экспансия НАТО, присутствие России в Закавказье и Таджикистане, интеграция энергосистем Ирана и Армении, выход иранских железных дорог в «новую» Центральную Азию). Вдоль проектируемых или уже прокладываемых на самом Лимитрофе трубопроводов и магистралей возникают новые центры силы, формируются потенциальные «малые империи» (Чечня) и «оси», в том числе нацеленные на установление территориальных связей в обход и противовес России. Некоторые эксперты всерьез опасаются смыкания кавказско-украинской широтной «оси» с меридиональной «балтийско-черноморской вертикалью» (т. е. возможности переброски кавказской нефти в Восточную Европу помимо России), а также продолжения «оси» за Каспий, с присоединением к ней Ташкента или Алма-Аты. Восточноевропейские государства Лимитрофа пытаются поднять свой престиж, интегрируясь в НАТО или примыкая к этому блоку. Наконец, «брожение» на землях Лимитрофа, охваченных Китаем (Тибет, Синьцзян), не исключает возможности активизации в обозримом будущем и этого отрезка геополитической системы.
С российской точки зрения, в эту пору сжатия «земли за Великим Лимитрофом» на сопредельных с ней землях реализуются три основных типа сценариев. А. Некоторые участки Великого Лимитрофа, ускользнув из-под власти или влияния России, попадают в поле притяжения соседних цивилизаций с их центрами силы. Этот сценарий может быть охарактеризован по преимуществу как «восточноевропейский». В. Местные центры силы и их «оси» на некоем участке Лимитрофа в той или иной форме бросают вызов «ядровым» народам цивилизаций, граничащих с этим участком. Этот сценарий отчетливо проявляется на Кавказе, где явно прослеживается взаимопонимание, можно даже сказать – сближение между локальными центрами силы (Грузия, Азербайджан, Чечня), а с другой стороны, по ряду моментов спор между этими государствами горного пояса и, с другой стороны, – Россией и Ираном (вопросы режима Каспийского моря, планы транзита каспийской нефти в Европу через Кавказ и Анатолию и т. д.). С. Третий сценарий – тот, когда пространство Лимитрофа дистанцирует Россию от опасных зон нестабильности на стыках межцивилизационного пространства с противолежащей платформой другой цивилизации и предотвращает давление этой платформы на российский лимес. Такова, собственно, роль среднеазиатского «тюркского пояса», отдаляющего Россию от таджикско-афганской конфликтогенной окоемки Среднего Востока. Более того, эта роль находит продолжение в том, как в Афганистане узбеки и таджики (лимесный народ ближне– и средневосточной платформы) на протяжении 1996–1997 гг. сдерживали и отражали попытки пуштунского прорыва на север. В случае «пробуждения» «старой» Центральной Азии дела в ней могли бы пойти по любому из трех перечисленных базисных сценариев. Здесь мыслима и экспансия Китая в поясе Монголия-Бурятия-Тува на землях, ускользающих от России (вариант «восточноевропейский»). Другая версия предполагала бы формирование здесь пояса суверенитетов, выходящего в «новую», тюрко-исламскую Азию и на Тибет, с опасным подмыванием окраин и России, и Китая (развитие по «кавказскому» варианту). Третий путь предполагал бы, что подобный пояс служил бы буфером, смягчающим китайское давление на восточный фланг России («среднеазиатский» вариант).
Автор полагает, что перед лицом подобной ситуации задачи России на Великом Лимитрофе могут быть представлены в следующем виде (при этом он исходит из допущения, что динамика милитаристских циклов Евро-Атлантики в первой четверти XXI в. инерционно сохранит тот же ритм, что и в предыдущие столетия Нового времени, – иначе говоря, надвигается новый милитаристский горб и попытки реализации больших проектов, в том числе и на Великом Лимитрофе, однако, страны Запада будут пытаться реализовать эти планы в рамках «суженного» эталона победы, посредством борьбы за частные уступки, и более того, даже в столкновении с народами других цивилизационных сообществ смогут им навязать тот же стиль игры).
Во-первых, Великий Лимитроф должен использоваться в той же функции, какую он приобрел в 1990-х: он должен служить поясом безопасности России, предотвращающим ее контактное соприкосновение с центрами силы, сложившимися на платформах соседних цивилизаций. Ряд зон Лимитрофа способен внести вклад в обеспечение продовольственной безопасности России, а некоторые его сегменты могут обрести функцию «точек роста», которые должны быть ориентированы на интересы российской экономики. Во-вторых, с точки зрения России, крайне нежелательно укоренение на Великом Лимитрофе трансрегиональных «осей», которыми могли бы обеспечиваться коммуникации на протяжении этой системы в обход России, особенно в тех случаях, когда подобные оси получали бы прямой выход на иноцивилизационные центры мощи (будь то Евро-Атлантика или Китай). Таким образом, автор полагает, что в интересах России – иметь влияние на те пункты Лимитрофа, которыми могло бы блокироваться функционирование подобных осей (некоторые из пунктов могли бы одновременно использоваться на правах «точек роста»). Таковы – рассекающая балтийско-днепровское «междуморье» Белоруссия; Северная и Южная Осетия, разрезающие суннитский пояс Северного Кавказа; Абхазия и Аджария, которыми в основном контролируется доступ Грузии к морю; Армения с Нагорным Карабахом, которые нависают над коммуникациями, связывающими Каспий с Турецкой Анатолией.
Наконец, особняком стоит задача соотношения и стыковки двух геополитических систем, к которым сегодня в большей или меньшей степени принадлежит Россия. Речь идет о Великом Лимитрофе и индо-тихоокеанском ареале (Великом Океане). Сейчас кажется сугубо неточным говорить о России как государстве, лежащем «между Европой и Азией». У Европы и Азии существует множество вариантов стыковки помимо России. Однако, совершенно оправданно характеризовать Россию как государство, одновременно выходящее на Великий Океан и на всю протяженность Великого Лимитрофа. Если пояс Лимитрофа позволяет резко снизить прямое внешнее давление на Россию, то доступ к Тихому океану (и в меньшей мере к Северному Ледовитому) обеспечивает России в некоторой мере прямой выход в мир помимо Лимитрофа. Таким образом, предполагается, что частью стратегии, нацеленной на закрепление позиции России в Великом Океане, должна быть борьба за переключение на Россию по возможности большей доли грузов, идущих в сторону Европы со стороны Великого Океана. При этом, речь должна идти не только о Транссибе и его модернизации, о подавлении сибирской железнодорожной преступности и т. д., но также о переносе на Россию грузов со Среднего и Ближнего Востока, пропускаемых через «новую» Центральную Азию. В последнее время появились серьезные разработки, доказывающие вредоносность для России проекта «Туманган» как части политики возрождения Великого Шелкового пути, т. е. использования коммуникаций Лимитрофа (его анатолийского и среднеазиатского сегментов) в ущерб России. Так вот, задача видится в том, чтобы переключить на Россию также и те грузы, которые пройдут по восточной части Великого Шелкового пути через Китай. В конечном счете, политика России должна стремиться к тому, чтобы три грузовых потока – непосредственно с Тихого океана, со стороны Китая (через Казахстан) и с Индийского океана (через Туркмению и далее) – встречались в «новой» Центральной России, соприкасающейся с «новой» Центральной Азией через лимесы приуральских и казахстанских степей.
Можно сказать, в рамках этой модели Великий Лимитроф – Евразия рассматривается как геополитическая реальность, коррелирующая с реальностью платформы самой России («земли за Великим Лимитрофом») и способная, с российской точки зрения, представать и в благотворном, и в угрожающем качестве. Он может работать на изоляцию России, он способен размывать ее платформу и способствовать «расточению» России в Больших Пространствах. Но он может стать условием безопасности России и фоном для ее нового самоопределения. Речь идет в некотором смысле о такой евразийской политике, которая не растворяла бы Россию в межцивилизационных интервалах Евразии, но, «завязывая» Евразию в некоторых ключевых вопросах и важнейших узловых пунктах на Россию, вместе с тем, исходила бы из признания автономии этой системы как защитного и «питающего предела» (точный смысл лат. limitrophus) России.
IV
Каково смысловое и прагматическое соотношение между двумя версиями, обозначенными, соответственно, как «остров Россия» и как «земля за Великим Лимитрофом»?
Метафора «острова» изначально имела двоякий смысловой потенциал. Как метафора «морская» она была призвана подорвать стереотип «континента России», когда практически утрачивается различие между Россией и не-Россией, и первая практически растворяется в пространствах континента – независимо от того, трактуются ли они как европейское поле диалога культур или как ожидающие модернизации во вторую очередь огромные протяженности «второй Европы». Но метафора «острова» предполагает и второй план ассоциаций, вытекающих из широчайшего диапазона употреблений слова «остров» в диалектах России. Судя по «Словарю русских говоров», здесь могут называться «островом» самые разные объекты, выделенные на некоем, условно нейтральном фоне, маркированные «по отношению к нему». Это может быть «луг, омываемый рекой», «возвышенное место среди болот», «оазис среди бесплодной местности», «гряда, грива среди равнины; курган», «лесное окруженное селение» – или иные вычлененные локусы среди земной или водной поверхности. Независимо даже от «морских» ассоциаций, метафора «острова» была нацелена против расточения России в континентальных протяженностях (ср. такой пример из русской топонимики, как название царской усадьбы XVI-XVII вв. Остров, расположенной на высоком холме возле Москвы-реки).
В специальной работе[60] автор попытался представить направление исследований, которое можно назвать «глубинно-психологическим обоснованием» «новой российской геополитики». В этой статье сополагаются факты, уже перечисленные выше: свидетельства на Востоке о северной Руси, прародине русской государственности, как об отделенном от славянского ареала «острова Русии»; высказывания русских авторов XVI в. о «великом острове Русии», или о «российском острове»; философский образ Москвы – Третьего Рима как последней твердыни православия среди «потопа». В этой же связи обращалось внимание на китежанский и петербургский мифы города, скрывающегося в водах, и на прямую конверсивную связь между образом Китежа, сокрытого в водах до Судного дня, с философской идеей Третьего Рима, предназначенного выситься среди «потопа» до окончания истории и схождения на землю Нового Иерусалима (Петербург – столица, поглощаемая водами, оказывается и как бы негативом Китежа).
Там же привлекается мотив «церкви среди Океана» в русских апокрифах и в знаменитом духовном стихе о Голубиной книге, претворившийся в многочисленных раскольничьих поверьях, в том числе в мифе Беловодья. Особо привлекается обширный материал XX в.: китежанские мотивы в литературе внешней и внутренней эмиграции, в том числе мотив «погрузившегося под воду» Третьего Рима и православия как захлестываемого чудовищным приливом «острова» в дневниках С. Булгакова начала 1920-х; образ революционной России как «социалистического острова» в советской традиции; мотив «России-острова» в русской литературе 1970–1990 гг. – как в поэзии (Ю. Кузнецов: «И снился мне кондовый сон России, / Что мы живем на острове одни…»), так и в прозе («Пирамида» Л. Леонова, «Одиночество вещей» Ю. Козлова; ср. также у последнего автора в антиутопии «Ночная охота» преломление «китежанского» мифа в образе цветущей «краснознаменной Антарктиды», скрытой от проклятого мира за океанами и стометровым поясом смертельной радиации).
М.В. Ильину принадлежит интересная историософская попытка истолковать настойчиво возникающий во времени парадоксальный мотив «острова Россия» в духе идеи О. Шпенглера о символическом «прафеномене» каждой цивилизации, заключающемся в ее склонности к некоему преимущественному модусу трактовки пространства. Этот автор предполагает в «острове» именно такой «русский прафеномен», якобы мотивированный особенностями существования древних восточных славян как изначально «речных людей», «жителей речных и озерных урочищ среди "пустынь" леса и степи», склонных к пониманию жизненного (и исторического) выбора как «броска-перехода от одного урочища к другому через опасное, грозящее бедами пространство» леса или степи [Ильин 1994, 20]. Если многими мыслителями – и Шпенглером, и Н. Бердяевым, и Ф. Степуном – географический русский прафеномен усматривался в образе «бескрайней равнины», то обстоятельствами конца XX в. оказались актуализированы многочисленные историко-филологические данные, выдвигающие на роль такого прафеномена «остров», каким этот смыслообраз предстает по русским диалектам, т. е. выделенный, отмеченный участок, пребывающий в неоднозначном отношении с окружающим фоновым пространством («большой горизонталью»), то сливаясь с нею, то ей противостоя, то над ней доминируя в едином ансамбле.
Автор пытался показать, как подобный экологически мотивированный «прафеномен» закреплялся во времени, обретая поддержку во множестве географических смыслообразов русской истории, соединяемых вокруг него в единую констелляцию такого рода, что ее можно с полным правом назвать «исторической судьбою». Здесь и восточные представления – явно восходящие к туземному русскому прообразу – о северном очаге восточнославянской государственности как «острове Русии»; и образ России XVI-XVII вв. – лесистого «российского острова», противостоящего степному накату Евразии; и характер русской колонизации трудных пространств с выведением поселений-«островов» в узловые, часто приречные пункты осваиваемых ареалов, дающим эффект зависания «сверхтяжелых точек» в полувакууме, и в то же время – «островной изреженности» русских на «сверхкритическом пространстве, затрудняющем общенациональную перекличку» (Л. Леонов. «Пирамида»); и Россия XVIII в. – военно-политический «остров Европы», и она же в XX в. – «социалистический остров»; и даже ассоциации с «архипелагом ГУЛАГ». (Любопытно, что меньше всего «островных» примет обнаруживают русские XIV в. и начала XX в. Эпоха, отмеченная тремя кризисами – «севастопольским», «берлинским» и «манчжурским», – тремя попытками на разных направлениях осуществить континентальную большую стратегию и провалами этих попыток.) При таком подходе ранняя русская геополитика предстает, с историософской точки зрения, как цепь манифестаций того же прафеномена, который проявился и в опорных мифах России – мифах Третьего Рима, Китежа и Петербурга как столицы под готовыми ее поглотить водами.
Метафорика этой концепции оперирует ключевыми мотивами имперского геополитического дискурса, которые как бы полемически оспариваются семантически «смещенным» их применением. К примеру, фигура «территорий-проливов» отсылает к навязчивой теме «проливов» в русском внешнеполитическом дискурсе XIX и начала XX в. (мотив Восточной Европы как «геополитического Ла-Манша» точно так же отсылает к теме Ла-Манша как мыслимого рубежа советского наступления на Западе и в 1921 г. – «Варшава-Берлин-Ла-Манш», и в годы «холодной войны»). В рамках концепции «острова Россия» подобная метафорика звучит ироническим указанием на то, что искомые имперской геополитикой «средина Земли» и «пределы мира» должны мыслиться как совпадающие с каймою нынешней «сжавшейся» России. В этой связи очевидна (впервые подмеченная М.В. Ильиным) типологическая близость модели «острова Россия» к изначальному – филофеевскому – пониманию «Третьего Рима» как сократившейся до последнего оплота православной ойкумены среди «потопа»: именно на образ сузившегося мира работает метафорика «территорий-проливов» и «геополитического Ла-Манша», начинающегося где-то с Поднепровья. И наконец, трактовка России как «острова», окаймленного физико-географическими преградами, метафоры «шельфа», «заливов» и т. д., помимо полемики с панконтинентализмом, имела и еще одну сверхзадачу: внушить применимость к континентальной стране «британской» модели «равноудаленности» и «блестящей изоляции», позволяющей выбирать союзников в видах противодействия нежелательной чужой гегемонии в регионах, значимых для России.
Вместе с тем, использование «островной» метафорики заключало в себе семантический риск, связанный с архетипической двусмысленностью «острова» как символа, очень точно описанной в «Словаре символов» X. Керлота, отмечающем, что «остров может в равной мере представлять одиночество, изоляцию, смерть», но вместе с тем символизировать «синтез единения и воли… средоточия метафизической силы, в котором зарождаются силы океана безбрежного, непостижимого». Модель «острова Россия» стремилась по преимуществу эксплуатировать второй круг смыслов, «сосредоточенность» и «самоорганизацию», однако, при этом трудно было предотвратить толкования в смысле «ухода из истории» и дурного изоляционизма. Надо сказать также (замечания, высказанные Б.В. Межуевым), что метафора «острова» допускала также толкование «изолированный, обособленный фрагмент некоего целого» (напомню слова критика П. Паламарчука, который сравнивал «Остров Сахалин» А. Чехова и «Архипелаг ГУЛАГ» А. Солженицына и развивал мысль, «чтобы отечество из архипелага вновь сделалось огромным материком») – толкование, которое могло бы обернуться либо топикой «воссоединения Евразии», либо формулами «возвращения европейской страны в Европу» (ср. как С. Булгаков в 1921 г. призывал затопляемый «остров» православия спастись, присоединившись к континенту католицизма).
В версии «земли за Великим Лимитрофом» налицо апелляции к советской геополитической фразеологии 1920-х и 30-х, когда междуморье Восточной Европы стандартно трактовалось в качестве околороссийских лимитрофов, которому противополагалось пространство СССР со Средней Азией и Закавказьем, осмысленное евразийцами, как лежащее за междуморьем «Россия-Евразия». Однако, картина Великого Лимитрофа как целостной системы огромного пояса спорит с этим евразийским геополитическим видением: периферии Европы и Азии, пребывавшие в «тотальном поле» России, предстают как единый пояс, окаймляющий Россию, – структурная реальность, дополняющая реальность российской платформы, но, вместе с тем, ей противостоящая, способная обретать различные роли в истории России и иных цивилизаций Евро-Азии.
Надо отметить, что каждая из версий – будь то «остров Россия» или «земля за Великим Лимитрофом» – обладает собственным функциональным диапазоном и по-своему ограниченна. Версия «острова России» утверждает структурный параллелизм Приморья и Евро-России как флангов страны, внешних относительно ее урало-сибирского ядра; поэтому в рамках данной версии удобно обсуждать значимость Приморья с его портами, а также развития Урало-Сибири как геоэкономического ядра страны. Однако, подобная схема не несет в себе никакого аппарата, позволяющего анализировать все потенциальные структурные связи между различными «территориями-проливами», которые могли бы сплотить эти земли в систему, противостоящую России. Напротив, в пределах концепции Великого Лимитрофа разнообразные оптимальные и негативные варианты внутреннего структурирования этих пространств и <влияние каждого из них на безопасность России могут найти адекватное аналитическое описание.>
Приложение 1. Дополнение к главе 2
Из ранних редакций[61]
<С другой сто>роны, заранее планируется ход В (так, биограф Гитлера И. Фест отмечает, что, готовясь к агрессии против России-СССР, Гитлер стремился предварительно дать Сталину оккупировать часть т.н. Промежуточной Европы; и, во всяком случае несомненно, что немецкому броску> под Москву и на Волгу весьма способствовала готовность Сталина ликвидировать буфера между Европой «нового порядка» и Россией). Неоспоримо, что на разных ступенях цикла изменяется характер игры Запада с Россией: так, реакция отторжения и отбрасывания России, типичная для хода D в каждом цикле и для начала евразийских интермедий (Крымская война, ультиматум держав Запада во время польского восстания 1863 г., Берлинский конгресс; ноты Керзона в начале 20-х, соглашение в Локарно; создание НАТО, перипетии «холодной войны», продвижение НАТО на Восток в 1990-х), к концу интермедий и по ходу А в следующем цикле сменяются преимущественным стремлением тех или иных евро-атлантических государств использовать Россию в своих видах (напомню франко-русский договор 1891 г. и создание Антанты; соответственно, германский и англо-французский зондаж СССР в конце 1930-х). Любопытно, что все агрессии против великоимперской России либо имеют характер коалиционного похода, призванного представлять сплотившееся против «врага с востока» западное сообщество («нашествие двунадесяти языков» в 1812 г., Крымская война, «интервенция 14 держав» в 1918–1919 гг.), или, по крайней мере, агрессор стремится создать видимость наличия подобного союза. Кстати говоря, именно колебанием отношений Запада и СССР на протяжении цикла, их «потеплением» во время интермедий может во многом мотивироваться значительная лояльность западных демократий к сталинскому «социализму в одной стране» в 30-х – сравнительно с резкой конфронтацией (обозначающейся во второй половине 40-х) между Западом и СССР – сокрушителем Третьего рейха.
Таким образом, речь должна идти не просто о циклах российской <гео>политики, но о циклической динамике системы, которую можно определить термином «система Европа-Россия», где Европа (во второй половине XX в. – Евро-Атлантика) и Россия выступают как два фокуса двуединой метасистемы[62].
Таким образом, отношение великоимперской России к Европе (Евро-Атлантике) XVIII-XX вв. описывается синхронным развертыванием двух ритмов. Один характеризует динамику европейской системы и подчиняет ему Россию, в ней она играет на правах одного из европейских государств, так что роль ее сводится к поддержке восточного центра Европы или к конкурентной борьбе за право выступать в качестве такого центра. Это ритм Европы и России как европейской державы. В то же время на этот ритм накладывается другой, в рамках которого Россия предстает не частью Европы, но именно одним из фокусов системы, внутри которой она противолежит Европе, будучи связана с ней сложной игрой – сближений, конфронтаций, отталкиваний и расхождений. Если расценивать (а думается, для этого есть все основания) 150-летние милитаристские тренды как одну из характеристик функционирования европейской цивилизации XVIII-XX вв., очевидно, что, разделяя этот ритм, Россия выступает как одна из стран этой цивилизации. В то же время, второй ритм позволяет говорить о ней и о Европе как компонентах системы, которую можно было бы охарактеризовать как «систему цивилизаций». Следовательно, два рода военно-политических отношений между Россией и Европой (Евро-Атлантикой) в XVIII-XX вв. могут рассматриваться как проекция отношений цивилизационных, зримо обнаруживающая неоднозначность цивилизационного статуса России (она – часть европейского мира, и вместе с тем, она воспринимается как постоянный коррелят к этому миру).
IV[63]
Не трудно показать, какое значение может иметь теория циклов системы «Европа-Россия» для исследования русской геополитической мысли – так сказать, для проникновения в ее историческую морфологию. Очевидно, что каждая из выделенных фаз характеризуется специфическим типом отношений между Россией и Евро-Атлантикой, а значит – особым отношением России к внешнему миру, влияющим на характер тех геополитических образов, из которых строят свою картину мира русские политики и идеологи. Переход от фазы к фазе знаменуется сдвигом в геополитическом ракурсе. При этом, вглядываясь в содержание отдельных фаз, можно прийти к заключению, что в рамках конкретного цикла наиболее последовательно и контрастно противостоят фазы С и Е, то есть максимумы российского напора на Европу, когда Империя (в том числе в советской ее версии) непосредственно присутствовала как могущественная сила в жизни Европы, заключающая в себе потенциал силового переустройства западного мира; и с другой стороны, эпохи, когда основная игра российской политики разворачивается по преимуществу вне платформы романо-германского сообщества. Это два контрастных положения, о которых можно предположить априори, что они способны были внушить российской мысли наиболее резко расходящиеся геополитические установки, принципиально различные модусы геополитического самоопределения России. Между тем, содержание прочих фаз едва ли могло быть столь же могущественно. Фазы В всегда бывали краткосрочны и слишком насыщены непосредственной борьбой за выживание, чтобы благоприятствовать развернутой рефлексии, фазы D до конца XX в. имели чисто негативный характер, представляя отрицание и ниспровержение тех больших планов, которые должны были связываться с максимумами российского напора на Европу. И наконец, фазы А, эпохи российского «возвращения» (или «вхождения»), неизбежно отмечены некой компромиссностью игры, столкновением соображений «престижа» (утверждения на европейской сцене) и прагматического интереса, реализуемого в рамках коалиционных сделок. Каждая из этих эпох достойна изучения, с точки зрения того, как ее ситуация преломлялась в геополитическом видении и проектировании, осуществляемом российскими политиками и идеологами. При таком подходе как бы снимается различие между историческим и проблемным подходами. Каждая фаза представляет тип проблемной ситуации, встававшей перед делателями российской политики, и циклы системы «Европа-Россия» при этом складывались в цепочки однотипных, сменяющихся в одинаковой последовательности проблемных ситуаций. Соответственно, возможны два подхода: либо прослеживать те ответы, которые русская мысль последовательно давала на сменяющиеся проблемные ситуации, оспаривая, критикуя и пересматривая свои наработки; и в то же время, можно сопоставлять геополитические концепции, соотносимые в разных циклах с однотипными фазами – т. е. классами проблемных ситуаций. В моей работе я пытаюсь сочетать оба эти взгляда. <Конец зачеркнутого фрагмента. – Ред.>
III
Можно объединить две основные предпосылки для оформления системы «Европа-Россия» – именно в виде циклически функционирующей геополитической системы цивилизаций. Первая из них – объективная: сосуществуя на тесно соседствующих пространствах Северной Евро-Азии, Европа и Россия обладают нишами, исключительно застрахованными от внешних возмущающих воздействий. Благодаря этой предпосылке в случае с Европой до сих пор могли реализоваться ее сверхдлинные милитаристские тренды. Что до России, то после уничтожения Казанского ханства она могла не бояться значительных угроз с востока, а к концу XVII в., после прекращения турками экспансионистской политики на Севере и ослабления Крымского ханства она уже не знает и значительных угроз с юга. С Китаем и Ираном она соприкасалась на дальней периферии своих интересов, и до конца XX в. столкновения со Средним и Дальним Востоком ни разу не угрожали жизненным интересам России, – от этих платформ ее надежно отделяли леса, степи и хребты Сибири, гряды Кавказа и казахские степи и полупустыни. Итак, на севере Евро-Азии сосуществовали два сообщества, имманентная динамика которых не была возмущена никакой третьей силой, причем – и тут вторая, субъективная причина – с XVIII в. одно из этих сообществ, российское, начинает воспринимать платформу другого сообщества, европейского, отделенною восточно-европейским «междуморьем», как «мировую сцену», основной театр своего самоутверждения. Благодаря этим предпосылкам система «Европа-Россия» в своей динамике оказывается «призакрытой» системой второго порядка с циклическим функционированием, ритмы которого накладываются на собственные тренды Европы.
Ибо вполне очевидно, что циклы системы «Европа-Россия» при большой событийной изоморфности протекают с неодинаковой скоростью, то убыстряясь, то замедляясь. Более всего растянут цикл I (1726–1905), охватывая 180 лет. Второй предельно спрессован (1905–1939), причем, в его развертывании отдельные фазы наползают друг на друга и перекрываются. В нем ходы С и D едва обозначаются.
Приложение 2. Дополнение к главе 4[64]. Энгельс и Тютчев
Ни в специальной статье Р. Лейна о западной реакции на политическую публицистику Тютчева [Лейн 1988], ни в иных работах, как-то касающихся этой темы, я не нашел указания на поразительный факт, который, скорее всего, следует расценивать как скрытое цитирование Ф. Энгельсом тютчевской «России и Революции». Это тем более странно, что контекст Энгельса, который я имею в виду, еще в 1935 г. привлек К.В. Пигарев в своей статье о Тютчеве-политике – но до чего же своеобразно привлек! Обсуждая тютчевское письмо 1854 г. о Красном демоне революции, раскалывающем Запад и потому способном прийти России на помощь, Пигарев в доказательство шаткости этих надежд приводит как антитезу им слова Энгельса из статьи «Действительно спорный пункт в Турции», опубликованной 12 апреля 1853 г. как передовица в «New York Daily Tribune» [Пигарев 1935, 197]. Вот эти слова: «… на европейском континенте существуют фактически только две силы: с одной стороны, Россия и абсолютизм, с другой – революция и демократия» [Маркс, Энгельс IX, 15]. Спрашивается, мог ли тютчевед Пигарев не заметить, что цитата, которой он «побивает» Тютчева, почти дословно совпадает со знаменитым пассажем из вводного абзаца «России и Революции» – «давно уже в Европе существует только две действенные силы – Революция и Россия»? Или исследователь просто не представлял, как обратить внимание на эту перекличку способом, сколько-нибудь приемлемым для марксистской цензуры? Остается строить догадки.
Повторю: не встретив в известной мне тютчевоведческой литературе ни констатации этого текстуального схождения, ни попыток его осмыслить, я хотел бы посвятить последней задаче несколько страниц и извиняюсь за мое невежество, если есть авторы, опередившие меня в этом деле.
Как известно, статья Тютчева, после ознакомления с нею Николая I, в конце весны 1848 г. переправляется в Мюнхен шурину автора, журналисту К. фон Пфеффелю. Через несколько месяцев Пфеффель пишет Тютчеву о «сенсации», которую произвела статья в кругу немецких журналистов и политиков. Переправленная одним из последних во Францию, она в мае 1849 г. издается для узкого круга официальных лиц, включая Луи Наполеона Бонапарта, президента Французской республики, крайне ограниченным тиражом – 12 экземпляров – в качестве анонимного труда некоего российского «высокопоставленного чиновника». В следующем же месяце на нее появляются рецензии-рефераты в популярнейших изданиях – парижском «Revue des Deux Mondes» и мюнхенской «Allgemeine Zeitung», и затем вокруг статьи-брошюры, известной в основном по пересказам, вспыхивает прослеживаемая Лейном шумная дискуссия на немецком и французском языках. В новую фазу она входит в 1850–1852 гг. после появления в «Revue des Deux Mondes» статьи «Папства и римского вопроса», с открытием авторства брошюры и переносом спора на религиозно-цивилизационную почву. В частности, в это время оппонентом Тютчева выступает такая знаменитость, как Ж. Мишле [Лейн 1988, 234 и cл.].
Однако в качестве «русского де Местра» Тютчев не привлек, да, видимо, и не мог привлечь внимания Маркса и Энгельса. В то же время его нашумевшая, хотя практически мало кому известная брошюра 1849 г. касалась двух вопросов, бывших предметом постоянного и, я бы сказал, агрессивного интереса со стороны этих идеологов в начале 1850-х: а именно, вероятности большой войны России против Западной Европы и панславистского движения как предлога для такой войны. Напомню хотя бы раздраженное суждение из «Революции и контрреволюции в Германии» (цикла статей, написанного Энгельсом в 1851–1852 гг. вместо подписавшего их Маркса для всё той же «New York Daily Tribune») о панславизме как «нелепом антиисторическом движении, поставившем себе целью ни много, ни мало, как подчинить цивилизованный Запад варварскому Востоку, город – деревне, торговлю, промышленность, духовную культуру – примитивному земледелию славян-крепостных». Важно, что далее указывается: «Но за этой нелепой теорией стояла грозная действительность в лице Российской империи — той империи, в каждом шаге которой обнаруживается претензия рассматривать всю Европу как достояние славянского племени и, в особенности, единственно энергичной его части – русских; той империи, которая, обладая двумя столицами – Петербургом и Москвой, – всё еще не может обрести своего центра тяжести, пока «город царя» (Константинополь, по-русски – Царьград, царский город), который всякий русский крестьянин считает истинным центром своей религии и своей нации, не станет фактической резиденцией русского императора» [Маркс, Энгельс VIII, 56–57]. Тогда же, в 1851 г. Энгельс посвящает специальную статью («Возможности и перспективы войны Священного союза против Франции в 1852 г.») возможности русского вторжения в Западную Европу под предлогом наказания Священным Союзом революционной Франции [Маркс, Энгельс VII, 495–524].
Нельзя не видеть: геополитический проект Тютчева явственно перекликается с представлениями Энгельса о европейских целях России. Эти концепции, сложившиеся по разные стороны от линии противостояния «двух Европ», одинаково определились логикой геостратегических перспектив, вырисовывающихся в этом первом максимуме российского «похищения Европы», впрочем, как и особенностями «сакральной вертикали», исповедовавшейся Россией в это время. Оба великих человека сошлись бы в отношении задушевных «цареградских» убеждений, «всякого русского крестьянина». Тютчев без колебаний повторил бы слова Энгельса об отсутствии у России естественного центра тяжести до отвоевания Константинополя. Инкриминируемая Энгельсом Российской империи претензия – «рассматривать всю Европу как достояние славянского племени и, в особенности, единственно энергичной его части – русских» – и на деле точнее всего могла бы выразить смысл программы «другой Европы», разрабатывавшейся Тютчевым с 1844 г.
Статья Энгельса «Действительно спорный пункт в Турции», включающая фактическую цитату из Тютчева, посвящена прогнозируемым последствиям оккупации черноморских проливов Россией. Эти последствия представляются в стиле будущей «теории домино». Завладев проливами и тем разрезав Турецкую империю, Россия легко запирает турок в Азии и, продвинув свои контингенты в Македонию, Фессалию, Албанию, получает прямой выход к Адриатике. После того, как Черное море становится «русским озером», а Дунай – «русской рекой», – «окружив австрийские владения с севера, востока и юга, Россия вполне сможет обращаться с Габсбургами как со своими вассалами». «Завоевание Турции Россией явилось бы только прелюдией к аннексии Венгрии, Пруссии, Галиции», и в результате «изломанная и извилистая западная граница империи» заменится той «естественной границей России», которая пройдет «от Данцига или Штеттина до Триеста» [Маркс, Энгельс IX, 14–15]. Впрочем, похоже, с присоединением Пруссии граница Империи могла бы сдвинуться, по Энгельсу, еще западнее.
Сценарий Энгельса вторит проекту Тютчева, точно так же изображая разрастание имперской России на ее западе до границ того образования, которое я назвал выше « Россией-2 », – с включением всех земель европейского континента, не принадлежащих к основному романо-германскому ядру. Правда, в отличие от продиктованного обстановкой 1848 г. сценария «России и Революции», где началом формирования «России-2» должно было стать русское вторжение прямо в славянские земли Австрии, сценарий Энгельса в соответствии с ситуацией 1853 г. предполагает первый русский удар по Константинополю. Оба конгениальных антипода – программа Тютчева для России и предупреждение Энгельса Западу – включают в себя те пункты, где, по тютчевскому замыслу, предварительная, панславистская Восточная Европа должна бы начать свое перерастание в «окончательную» «Россию будущего». Такими пунктами оказывалось подчинение окраинных выступов романо-германского ареала: русский протекторат над урезаемой и низводимой до вассального владения Австрией, на что уже есть намек в «России и Революции», и аннексия Пруссии. Последний, мимоходом обозначенный мотив у Энгельса показателен тем более, что Тютчев об этом звене своего проекта предпочитал не высказываться в публицистике, даже в набросках «России и Запада», – но недвусмысленно обозначил его в стихах «Русской географии», где очерчиваются российские пределы «от Эльбы до Китая».
С учетом этого тютчевско-энгельсовского «интертекста» появление в конце статьи Энгельса почти точной цитаты из вступления к «России и Революции» наталкивает на определенное предположение. Весьма правдоподобно, что, рисуя картину грандиозного российского «натиска на запад», Энгельс в частности воспользовался каким-то из пересказов дискутировавшейся в немецкой и французской прессе брошюры петербургского «высокопоставленного чиновника», дававшей, на фоне официальной сдержанности российских политиков, прямое оправдание патетических «русофобских» – в самом буквальном смысле слова «фобия» – установок Маркса и его Пилада. Из этого пересказа Энгельс, по-видимому, почерпнул и фразу о «двух силах в Европе», достаточно нашумевшую, судя по ее полемическому пародированию в выступлении князя Гагарина. При этом, разворачивая свой прогноз, Энгельс, в соответствии с геостратегической логикой, включил в него и те высоковероятные ходы, которые Тютчев, несомненно, имел в виду как часть замысла «другой Европы», но вдумчиво не спешил предавать печати, – вроде предвидимых судеб Австрии и особенно Пруссии.
Чего Энгельс, скорее всего, не мог бы вообразить, – так это предполагаемых «окончательных» контуров «России будущего», не только с Ближним Востоком до Нила и Евфрата, но и с поглощенными вполне Австрией и Италией, с возвращенным в православие папой и «новым православием» во всей Европе. Здесь проект Тютчева начинает всё более подчиняться хронополитическому мифу. Но именно этот миф, выводящий (о чем уже говорилось) мечту Тютчева по ту сторону Real-politik прошлого века, сближает ее в мировидении с геополитикой «больших пространств», которая отличила наше столетие, ставшее, по блестящей характеристике А.И. Фурсова, «веком мечтателей – из Кремля, Рейхсканцелярии, Белого Дома и других мест» [Фурсов 1996, 174].
Приложение 3. Дополнение к главе 5
Из ранних редакций[65]
Первая евразийская эпоха (от Севастополя до Берлинского конгресса)
I
Крымской войной открывается пятидесятилетие нашей истории, заслуживающее названия «первой евразийской эпохи» в имперской истории России. Эта война положила конец присутствию России в Европе в качестве деспотического лидера европейского консерватизма, но она же пресекла радикальные планы европейского переустройства, которые эпоха Священного Союза порождала в сознании русских идеологов – от Тютчева до Герцена. Наша первая евразийская фаза охватывает интервал от Севастополя до Порт-Артура, и однако, внутри этой эпохи проступает своеобразная веха – Берлинский конгресс, разделивший 50-летие на два отрезка, различающихся в существенных аспектах.
Крымская война, несмотря на вооруженный нейтралитет Пруссии и лавирование Австрии, по существу примкнувшей к англо-французскому блоку, но избежавшей прямого вовлечения в боевые действия, имела фактически характер столкновения России с консолидированным Западом. До этого был 1812 год – однако, разница в том, что тогда сама Европа была фактически разделена готовностью германских монархий развернуться против Бонапарта и позицией Англии. В 1850-х консолидированный Запад отбрасывал претендента на европейскую гегемонию, – и русские потрясенно толковали об отчеканенной в Париже медали с надписью «Католицизм, протестантство, ислам – под покровительством Божиим» [Погодин 1874, 214]. Историки давно отметили, что эта война по своим мотивам, формам ведения, наконец, итогам демонстрирует поразительный разрыв между фактами и смыслами, придававшимися им борющимися сторонами. Война против попыток Николая подступиться к разделу Турции была осмыслена как защита Запада от агрессора, претендующего на мировое владычество, как защита «самых ценимых благ западной цивилизации» от наступающего варварства. Война сугубо локальная, введенная в нормы международного права, пересекающаяся с дипломатией, по оценке А. Тэйлора, «война, так и не вскипевшая», – рисовалась «судьбоносной битвой между Востоком и Западом». Читаем ли заявления Пальмерстона, военные статьи Ф. Энгельса или расходившуюся по России в несчетных списках публицистику М.П. Погодина, – везде видно, как сквозь флер реальных военных операций прорисовываются контуры иной войны на фронте от Скандинавии до Кавказа, призванной отбросить Россию на полтораста лет назад, ввести ее в границы царя Михаила Федоровича, войны, стремящейся вывести из-под ее контроля Закавказье с Северным Кавказом, Финляндию, Польшу, Бессарабию, украинские пространства и Черноморское побережье. Об этой войне твердят и Пальмерстон, и Энгельс, и Погодин, и Герцен. Сквозь события этой войны прорисовываются сценарии будущих грандиозных откатов России на восток: в 1917–1918 гг. и в начале 1990-х.
Фаза D – надлом и отбрасывание России Западом – отмечена немногими текстами, зафиксировавшими радикальное преобразование геополитического видения. В числе этих текстов виднейшее место занимают два памятника: «Историко-политические письма» М.П. Погодина, расходившиеся по России в списках, в том числе доставляемых императору, и изданные в Европе «Письма ветерана 1812 г.» П.А. Вяземского. С точки зрения циклов российской геополитики, это в полном смысле – тексты стратегического порубежья, стыка двух разных эпох российского геополитического самоопределения. Анализ с отчетливостью показывает: претензии времени Священного Союза, образ России как инициатора европейского обустройства и переустройства странно сочетаются здесь с приметами закладывающегося нового видения, сочетаясь с ними в курьезных комбинациях.
Война была двойным шоком. Противостояние России и бонапартистской Франции само по себе не было неожиданностью: европейская стратегия Наполеона в течение многих лет пропагандистски обеспечивалась поддерживаемым имиджем Франции как революционного центра, которому противопоставлялся континентальный блок трех монархий во главе с Россией. Потрясение было в другом. Во-первых, окончательно дискредитирована была выбором Австрии сама эта идея континентального блока, спаянная с легитимистскими обязательствами России. Во-вторых, рухнули надежды на «новый Тильзит» с морской владычицей Англией в видах раздела Турции, два пункта стратегии Николая. Восточный вопрос всегда имел два – «австрийское» и «английское» – измерения, связанные с борьбой за гегемонию на субконтиненте и ориентированные на лежащую вне Европы евро-азиатскую приморскую периферию. В нашу первую евразийскую эпоху впервые возникают перспективы разделения и разведения этих аспектов. Чем отчетливее аспект австрийский, тем явственнее попытка увязать с европейской игрой, с европейским присутствием России английский аспект, – признаки зарождения новой конфликтной системы.
Погодин еще погружен в австрийский вопрос. Из письма в письмо он твердит одни и те же положения. В войне основным противником России оказалась не европейская революция, а европейский консервативный порядок. «Справимся сперва с любезными друзьями консерваторами, а прочее впереди» [там же, 279]. «Неужели мы, после всех этих несчастных опытов, будем хлопотать еще об том европейском законном порядке, который на нас самих опрокинулся, грозя нам семьюдесятью миллионами Германии, кроме западных государств» [там же, 113]. Фактически война с Австрией уже идет [там же, 227]. Отсюда мыслимы два вывода.
Первый уже зарождался в рамках эпохи нашего европейского максимума. Его контуры просматривались у Тютчева и по-иному у Герцена. Это переход России к политике последовательной дестабилизации Европы. Погодин не устает повторять, «что мы живем во время великого переворота, что мало готовить армию против армии, снаряжать флот против флота, и писать ноту против ноты, и что в нынешних, новых и необыкновенных условиях (цивилизационной битвы. – В.Ц.) должны быть изыскиваемы средства и принимаемы меры также новые и необыкновенные» [там же, 122].
Программа проста: шаги по замирению с умеренными и левыми элементами Европы на основе далеко идущих реформ в России; поддержка славянских движений – обретение союзников в племенных и региональных движениях, не признаваемых Европой великих держав за законные политические силы; поддержка всех скрывающихся внутри Европы притязаний, дестабилизирующих континент, ирредентистских и сепаратистских – призывов к объединению Италии, притязаний Греции на острова, Эпир, Фессалию и Албанию, Испании – на Гибралтар, Италии – на Мальту и т. д. [там же, 114, 115, 118]. И вместе с этим превращением юга и востока Европы в сплошной пояс нестабильности – сговор с Францией Луи Наполеона как силой, единственно способной парализовать своей агрессией все силы, способные противостоять России в Восточном вопросе, подставить Австрию и Англию под французский вызов, а если надо, подтянуть Пруссию к вырастанию в Северо-Германскую Империю [там же, 301]. «Отводить удары, на нас направленные, в другие места и стараться о перенесении войны на другую сцену. Заварить общую кашу» [там же, 277]. Или дестабилизация России от Финляндии до Грузии – или дестабилизация Европы от Пруссии до Италии или даже Испании: дуга против дуги. Одновременно ставится задача – нейтрализовать Англию на морях союзом с США как историческим противником «владычицы морей» [там же, 115, 234, 303].
Стратегия ясна, но каковы финальные цели? Ясно, что курс взят на формирование в Европе двух центров – Франции с Италией и Пруссией – и умаление Англии, причем переход к этому состоянию должен сопровождаться распадом и дележом Турции и Австрии (по этому пути процесс и пошел, однако, Второй рейх попытался собрать против России Австрию и Турцию впоследствии). Но что же остается самой России? Здесь-то и возникает жесточайшее противоречие из-за конфликта двух налагающихся картин.
С одной стороны, «не можем уже думать ни о каких распространениях. Дай Бог, только от врагов оборониться». С другой стороны, дестабилизация Европы должна в ней породить «новые отношения … в продолжение которых мы можем доделывать на востоке и в Азии всё, что заблагорассудится» [там же, 113]. Конкретно, «оставляя в покое Европу, в ожидании благоприятных обстоятельств, мы должны обратить всё свое внимание на Азию… Пусть живут себе европейские народы как знают и распоряжаются в своих землях, как угодно, а нам предлежит еще половина Азии, Китай, Япония, Тибет, Бухара, Хива, Кокан, Персия, если мы хотим, а может, и должны распространить свои владения для разнесения по Азии Европейского элемента» [там же, 242–243]. Осенью 1854 г., когда русские, отступив с Дуная, одновременно наступают в устье Амура, Погодин твердит не только о демарше в сторону Индии [там же, 234], о дорогах в Азию, об устройстве «сообщений, хоть по следам, указанным Александром Македонским и Наполеоном», о европейско-азиатском транзите через Россию (в Китай и Японию), о железных дорогах в сторону Индии [там же, 242 сл.], откристаллизовывая топику всех последующих евразийских фаз. В апреле 1855 г., в пору назревающего падения Севастополя он всё настойчивее пишет об экспедициях в Азию «с Кавказа, из Оренбурга, из Восточной Сибири» и о дружбе с США [там же, 303].
По существу, Погодин воспроизводит, неведомо для себя, схемы, которые уже наработала, отталкиваясь от тупикового сценария Священного Союза, мысль декабристов; вспомним формулу А. Корниловича для России: «основание ее европейской политики – собственная безопасность, цель же сношений с азиятцами – торговля». Двигаясь в этом направлении, Погодин вслед за Пестелем неизбежно приходит к системе буферов, которые должны прикрыть со стороны Европы Россию, отстранившуюся от европейских дел и развернувшуюся к Азии. Ходы, на первый взгляд, характерно пестелевские: на юге из распавшихся империй должен быть сформирован «Дунайский, Славянский или Юго-Восточный союз», с присоединением Греции, Венгрии, Молдавии, Валахии и Трансильвании, контролирующий Дарданеллы. Всем этим территориям за вычетом стратегических обязательств должно быть гарантировано полное самоуправление без чужого, в том числе русского, вмешательства [там же, 120], однако, все местные престолы – от богемского и венгерского на севере до греческого и далматского на юге – должны быть закреплены за русскими великими князьями [там же, 301]. В Польше должна быть восстановлена суверенная конституция, и это квазигосударство должно примкнуть с севера к Дунайскому союзу [там же, 126, 130], соотносясь с Россией на тех же принципах, что и его члены. Наконец, английская угроза Петербургу с Балтики в 1854–1855 гг. притягивает внимание Погодина к Скандинавии. Еще Поццо ди Борго отмечал, что Зунд с точки зрения российской стратегии – не менее значим, чем собственно земли Империи. В концепции Погодина Балтика симметрична Черному морю, Зунд – Дарданеллам, и контроль над ним должен быть обеспечен теми же способами: Дунайскому союзу на юге должен соответствовать Балтийский союз на севере с включением скандинавских государств и примыканием Пруссии, зажатой между Польшей и русифицируемой Балтикой (в крайнем случае, российский император мог бы попытаться разыграть наследственные, от Петра III, свои права на шведский и датский престолы). «Россия с силами Балтийского союза на севере… и с силами Дунайского союза на юге… вот настоящее равновесие» [там же, 235–239]. С разрушением Турции неизбежно будет воздвигнут Петербург в Константинополе (вспомним – «мы оставим в Петербурге Медного всадника стеречь устье Невы и принимать иностранных шкиперов» [там же, 191]).
Итак, концепция мутирует. Проект буферов, прикрывающих с Европы развернувшуюся к югу Россию, оборачивается картиной создания на юге и севере мощных фланговых плацдармов, зажимающих с Балтики, Адриатики и Эгеиды Германию, притягивающих ее к Балтийскому союзу на правах русского сателлита, и, вместе с тем, картиной дестабилизации романского запада Европы со средиземноморского юга. Фактически – это модель «Завещания Петра Великого» с гигантским фланговым натиском России на Европу – грандиозными клиньями, при выносе русского центра в Средиземноморье, с Черным морем и Балтикой – русскими бухтами, высылающими фланги в океан. Две перспективы сталкиваются: евразийский набросок мутирует в картину, типичную для построений эпохи нашего «европейского максимума», и, естественно, всплывают слова Наполеона о Константинополе – «столице Европы, столице мира» [там же, 190 и сл.]. Гарантии независимости русского пространства становятся гарантиями русского доминирования на европейском полуострове. И как бы ни открещивался Погодин от легитимистской политики Священного Союза как от «ошибки» режима, совершенно непонятно, что могло бы удержать сидящего в Константинополе кесаря, зажавшего Запад в балто-дунайские клещи, от еще больших «ошибок» [там же, 240]. Две перспективы сталкиваются, причем каждая гасит другую. Дунайский буфер то мыслится предпосылкой южного края, то высшей целью империи. В конце концов, Погодин уступает: если Николай I боится идти на Константинополь, «если он отказывается от своей славы, если он не сделает великого дела, то сделают его сын, его внук, наши потомки» [там же, 197]. Контроль над Дарданеллами из предпосылки независимости русского пространства, обеспечивающей свободное азиатское строительство, оказывается сдвинутой в неопределенную перспективу сверхцелью, а отрешение от стратегических дел и путь в Азию остаются на первом плане проекта.
«Письма» Вяземского более фрагментарны. В них трудно обнаружить черты целостного проекта, но в этой апологии России прорезаются мотивы, типичные для фазы надлома и отката, а вместе и «промельки» мотивов, которым суждено отметить евразийскую интермедию. Австрия – деградирующая держава, которая рухнет при перемене европейского расклада, – занимает немного места в выкладках Вяземского. Зато одним из первых он приходит к мысли об Англии как главном историческом противнике; он пишет о «великом пожаре, всё еще именуемом восточным вопросом, тогда как … это вопрос по преимуществу английский … разве источник ему в чем-либо ином, кроме закоренелой ненависти англичан ко всякому народу, желающему положить пределы их морскому всемогуществу?» Публицист предрекает даже день сплочения всей Европы против британских претензий с кличем: «Карфаген надо разрушить!» Это новая постановка Восточного вопроса, которая под конец нашей евразийской фазы прорежется в идеях Витте, но мотив Англии – главного врага (мотив, немыслимый в эпоху европейского максимума) пройдет красной нитью через всю новую фазу.
Зато предвосхитят Леонтьева раздумья о том, что лишь преданность христианских подданных способна продлить существование Турции. Разительны замечания об общности турок и славян в их восточном происхождении и с их патриархальностью. О знакомстве России, имеющей мусульман в числе своих подданных, с мусульманским характером и историей, иначе говоря, о перспективах образования «греко-русской Турции».
И третий мотив – разрыв с Западом может считаться делом совершённым. «Между нами и западом образовалась пропасть, которую отныне уже ничем не заполнить. С нынешних пор Россия и Европа уже не могут быть в единении» (дословно – «они уже более не одно, а две и розно» – «La Russie et l'Europe ne sont plus un, mais sont deux»)[66].
Приложение 4[67] Ходатайство Диссертационного совета при Институте философии РАН (ноябрь 2003 года)
В Министерство образования Российской Федерации В Высшую Аттестационную Комиссию
ХОДАТАЙСТВО
Диссертационный совет Д 002.015.05 при Институте философии РАН просит разрешить Цымбурскому Вадиму Леонидовичу защищать диссертацию на соискание ученой степени доктора политических наук (специальность 23.00.01) по теме «Морфология российской геополитики и динамика международных систем XVIII-XX веков» в форме научного доклада.
Цымбурский В.Л. родился в 1957 г. В 1981 г. окончил филологический факультет Московского Государственного Университета им. М.В. Ломоносова, а в 1987 г. защитил кандидатскую диссертацию по специальности 10.02.14 «классическая филология». В 1986–1990 гг. работал в Институте США и Канады в Лаборатории анализа политических и управленческих решений, в 1990–1995 – в Институте востоковедения РАН в отделе истории и культуры древнего Востока (с 1992 г. – старший научный сотрудник). С конца 1980-х годов публикует, самостоятельно и в соавторстве, ряд работ по анализу геополитических проблем, по идеологии геополитики, а с 1995 г. полностью сосредоточил свои научные интересы в области теории и истории геополитики, как старший научный сотрудник сектора истории политической философии Института философии РАН.
Основные направления исследований В.Л. Цымбурского все последние года – история геополитической мысли в России и эволюция международных систем в Новое и Новейшее время как фактор, повлиявший на отечественную геополитическую идеологию. Среди основных научных результатов Цымбурского следует назвать разработку оригинальной геополитической модели «острова России» как теоретической установки, позволяющей рассматривать пространственную эволюцию России сквозь призму ситуации, сложившейся в Евро-Азии в конце XX – начале XXI вв.; построение концепции переходных межцивилизационных пространств-лимитрофов, «геокультурных территорий-проливов», альтернативной доктрине «столкновения цивилизаций» С. Хантингтона и многостороннее применение этой концепции к анализу политической обстановки в Евро-Азии на рубеже веков; создание теории сверхдлинных – порядка 150 лет, то есть пяти поколений – волн западного милитаризма XIV-XX вв.; обоснование идеи особых стратегических циклов системы цивилизаций «Европа-Россия» в XVIII-XX вв. – циклов, накладывающихся на динамику западного милитаризма и взаимодействующих с нею. Важнейшим следствием этих разработок стал вывод о двойном геостратегическом ритме России, выступающей в одном из ритмов как часть западного мира, его сильного расклада, а в другом – соотносясь с Западом в целом как противолежащий ему элемент бинарной геополитической системы цивилизаций. В работах 2001–2002 гг. Цымбурский показал эвристическую ценность идеи двоеритмия для понимания отношений Российской цивилизации с цивилизацией Евро-Атлантики в социальной и культурной сферах.
Ряд его публикаций посвящен более частным проблемам российской геополитической истории, каковы, например, строение, генезис и судьба балтийско-черноморской международной системы в XVI-XX вв., геополитические воззрения ряда отечественных идеологов и деятелей культуры (здесь особенно значительны статьи «Тютчев как геополитик» и «Две Евразии: омонимия как ключ к идеологии раннего евразийства»), а также анализ ситуации конца XX – начала XXI вв. в ряде регионов Закавказья и российского Северного Кавказа в контексте более широких международных процессов, протекающих в сегодняшней Евро-Азии.
Уже первые работы Цымбурского как политолога вызвали заинтересованные отклики в российской печати. Так, еще в 1995 г. один из рецензентов писал о модели «острова России», четко различающей российское геополитическое ядро от окружающих его лимитрофных «территорий-проливов», как о «наиболее значительной теоретической концепции, альтернативной теории "России-хартленда"» и убеждающей, по мнению рецензента, «не разбрасывать силы истощенной страны на удержание «территорий-проливов», а сосредоточить их на территории самой России» (Е. Стариков в: «Новый мир», 1995, № 8, с. 239). Выход в свет в 2000 г. книги Цымбурского «Россия – Земля за Великим Лимитрофом: Цивилизация и её геополитика» вызвал значительный резонанс среди политологов и культурологов России. Вот два (из многих) отзыва, характеризующих место этого исследователя преимущественно в отечественной политологии.
Первый рецензент отмечает, что хотя книга издана в серии «Избранная социально-философская публицистика», она «выходит за рамки публицистики: это полноценные научные исследования с очень богатым культурно-историческим фоном.
Главное достоинство книги В.Л. Цымбурского – рассмотрение геополитических проблем на базе широких цивилизационных и культурно-исторических подходов. Достаточно узкие и весьма специфические геополитические вопросы и задачи как бы упакованы в оригинальные исследовательские оболочки, которые позволяют увидеть старые проблемы в новом свете… Хотя исследовательские интересы В.Л. Цымбурского вполне естественно сосредоточены прежде всего на геополитических проблемах России, однако в этот же проблемный контекст попадает практически вся Европа и значительная часть Азии. Одни и те же геополитические и геокультурные образы, с которыми работает автор… зачастую сознательно трансформируются в зависимости от конкретной задачи… Периодическая корректировка геополитических образов, их геокультурной и геоцивилизационной ориентировки необходима, в том числе, и для их эффективного использования во внешней и внутренней политике… Яркий и полемически заостренный язык книги позволяет глубже понять главные «водоразделы» современной геополитической мысли» (Д. Замятин в: Известия Академии наук. Серия географическая, 2001, 13, с. 108–109).
Книга Цымбурского, подчеркивает другой рецензент, «выделяется, пожалуй, на фоне большинства других книг, изданных в рамках данной серии, как раз своей непублицистичностью. Известный специалист в области классической филологии … автор трудов, в которых анализируется логическое содержание понятий "угрозы" и "победы" в советских военных доктринах, а также возникновение и эволюция в политической философии концепта "открытое общество", Цымбурский вносит в свои политологические сочинения опыт и подходы культуролога и философа истории… Каждый, кто всерьез интересуется и геополитикой и тем, что безо всякой иронии можно назвать судьбой России, откроет едва ли не самую оригинальную изо всех разработанных в последнее время теорий российской цивилизации… Россия предстает огромной землей… отделенной от иных сопредельных с ней цивилизаций (Европа, Атлантика, Китай, арабо-иранский мусульманский мир) полосой так называемого Великого Лимитрофа – цепью территорий, населенных народами, ни к одной из вышеупомянутых цивилизаций полностью не принадлежащими. Остановлюсь на, пожалуй, самом принципиальном положении концепции Цымбурского, сформулированной им в полемике с популярной в недавнее время цивилизационной моделью Самюэла Хантингтона: «…ойкумена не членится на цивилизации без остатка…» Кроме цивилизованных миров существуют еще и «междумирья». (Б. Межуев в: Pro et contra, 2000, № 2, с. 196–197).
Живые отзывы среди специалистов вызвали и некоторые частные результаты Цымбурского. Так, по поводу его статьи «Две Евразии…» видный философ и политолог A.C. Кузьмин писал как о «знаменующей… переход к качественно иному уровню осмысления евразийства как научного и политического проекта» (в: Pro et contra, 2000, № 3, с. 220). Подобные примеры можно при желании умножить.
Интерес к работам Цымбурского со стороны зарубежных специалистов по современной России продемонстрировала недавняя книга Д. Ранкура-Леферьера «Russian Nationalism from an Interdisciplinary Perspective: Imaging Russia. Lewiston, 2000» (в русском переводе – Ранкур-Леферьер Д. Россия и русские глазами американского психоаналитика: в поисках национальной идентичности» М., 2003). Относясь крайне скептически ко многим болезненным, на его взгляд духовным явлениям в современной России, в главке, посвященной Цымбурскому, Ранкур-Леферьер оценивает его разработки как «менее националистический и более тонкий подход к психогеографии России», с симпатией подчеркивая: «По сути, Цымбурский хочет, чтобы Россия прекратила свою игру в мазохиста по отношению к Западу. Этого можно достичь путем отказа от империализма и формирования точных и определенных границ вокруг своего географического "я"» (в русском переводе с. 96). Об общественном внимании к научной деятельности Цымбурского свидетельствует около 1480 упоминаний его и его работ в Интернете и Рунете на начало ноября 2003 г. (данные поисковой системы Лайкос) – что немало для автора академического, не очень склонного к выступлениям на злобу дня.
Его работа как ученого легла в основу подготовленных им лекционных курсов по истории геополитики и истории российской геополитической мысли, читавшихся в Государственном Университете гуманитарных наук (1998–2000 и 2002 гг.), в Московской Высшей Школе социальных и экономических наук (декабрь 2000 – февраль 2001 г.), на историческом факультете Иркутского государственного университета (апрель 2001 г.).
Непосредственные основания для настоящего ходатайства таковы. В настоящее время Цымбурский заканчивает монографию «Морфология российской геополитики», объемом около 34 печатных листов. Эта работа выполнена в междисциплинарном ключе, с широкими экскурсами в области российской истории, истории международных отношений Нового и Новейшего времени, истории русской философии, даже литературоведения, с обсуждением многочисленных частных вопросов, относящихся к этим дисциплинам. Вместе с тем труд Цымбурского является политологическим по своему методу и призван внести серьезный вклад в политологию своими основными результатами, выливаясь в принципиально новую методологию изучения российской геополитической мысли XVIII-XX вв., по существу, закладывая новое направление в отечественной политологии.
Диссертационный совет считает нецелесообразным перегружать защиту диссертации по специальности «политические науки» рассмотрением огромного предметного материала из смежных областей, что неизбежно произойдет, если со временем Цымбурский выставит на защиту монографию в целом, по ее опубликовании. Более того, подобная опасность сохраняется и при формировании диссертации как выжимки из монографии, с той оговоркой, что переход от формата монографии к стандартному диссертационному формату может обернуться скомканностью и фрагментированностью изложения. Совет полагает, что на защиту следует вынести разделы работы, имеющие непосредственно политологический характер: во-первых, раздел методологический, содержащий описание циклов системы «Европа-Россия» и волн западного милитаризма, с обоснованием геостратегического двоеритмия России XVIII-XX вв.; во-вторых, раздел, демонстрирующий результаты применения этой концепции к материалу российской геополитики, а также формы и аспекты политологического анализа, проистекающие из такого применения и основывающиеся на нем.
В этой связи оптимальной формой докторской диссертации В.Л. Цымбурского диссертационный совет считает научный доклад объемом до 4 печатных листов, на что и просит разрешения ВАК.
Председатель диссертационного Совета Д 002.015.05
доктор философских наук
И.К.ПАНТИН
Ученый секретарь Совета
кандидат философских наук
Е.А.САМАРСКАЯ
Основные работы В. Л. Цымбурского, связанные с темой диссертации
А. Монографии, брошюры, сборники статей.
1. Военная доктрина СССР и России: осмысления понятий «угрозы» и «победы» во второй половине XX века. М.: Российский научный фонд, Московское отделение, 1994. 6, 25 п.л.
2. Открытое общество: от метафоры к ее рационализации: М.: Московский научный фонд, 1997. 9 п.л. (в соавторстве с М.В.Ильиным).
3. Россия – Земля за Великим Лимитрофом: цивилизация и ее геополитика. М.: УРСС. 9 п.л.
4. Борьба за евразийскую Атлантиду: геоэкономика и геостратегия. М.: Институт экономических стратегий, 2000. 3 п.л.
Б. Статьи, рецензии.
1. Идея суверенитета в посттоталитарном контексте // Полис, 1993, №1. 1, 25 п.л.
2. Остров Россия (Перспективы российской геополитики) // Полис, 1993, №5. 2 п.л.
3. Метаморфозы России: новые вызовы и старые искушения // Вестник Московского Университета. Серия 12, №3, 4. 1, 25 п.л.
4. Циклы «похищения Европы» (Большое примечание к «Острову Россия») // Иное: Хрестоматия нового российского самосознания. Т.2. М.: Аргус, 1995. 1, 25 п.л.
5. Человек политический между rаtio и ответами на стимулы (К исчислению когнитивных типов принятия решений) // Полис, 1995, №5. 1, 25 п.л.
6. Сюжет для цивилизации-лидера: самооборона или саморазрушение? // Полис, 1995, №1. 0, 7 п.л.
7. Второе дыхание Левиафанов. // Полис, 1995, №1. 0, 3 п.л.
8. «Новые правые» в России: национальные предпосылки заимствованной идеологии. // Куда идет Россия? Альтернативы общественного развития. П. М., Интерцентр, 1995. 0, 7 п.л.
9. Тютчев как геополитик. // Общественные науки и современность. 1995, №6. 1, 25 п.л.
10. Зауральский Петербург – альтернатива для российской цивилизации? // Бизнес и политика, 1995, №1. 0, 6 п.л.
11. Земля за Великим Лимитрофом: от « России-Евразии» к « России в Евразии». // Бизнес и политика, 1995, №9. 1, 25 п.л.
12. Сверхдлинные военные циклы и Нового и Новейшего времени. //Бизнес и политика, 1996, №5. 1, 25 п.л.
13. Сверхдлинные военные циклы и мировая политика. // Полис, 1996, №3. 3 п.л.
14. «Остров Россия» за пять лет (приключения одной геополитической концепции). // Россия и мир: политические реалии и перспективы. Информационно-аналитический сборник № 10. М.: Автодидакт, 1996. 2, 5 п.л.
15. «Европа-Россия»: «третья осень» системы цивилизаций. // Полис, 1997, №2. 2, 2 п.л.
16. «От великого острова Русии…» (к прасимволу российской цивилизации). //Полис, 1997, № 6. 2 п.л. 17. Народы между цивилизациями. // Pro еt contrа, 1997, т. 2, №3. 2 п.л.
18. Рецензия на кн.: Дугин А.Г. Основы геополитики. М., 1997. // Рго еt сопtrа, 1997, т.2, № 3. 0, 3 п.л.
19. А знамений времен не различаете… (Обзор дискуссии об альтернативной столице России). // Национальный интерес, 1998, №1. 1, 5 п.л.
20. Как живут и умирают международные конфликтные системы (Судьба балтийско-черноморской системы в XVI-XX веках). // Полис, 1998, № 4. 2, 1 п.л.
21. Геополитика как мировидение и род занятий. // Полис, 1999, № 4. 1, 8 п.л.
22. Две Евразии: омонимия как ключ к идеологии раннего евразийства. // Вестник Евразии, 1998, № 1–2 (4–5). 1, 3 п.л.
23. Геополитика для «евразийской Атлантиды». // Рго еt сопtrа, 1999, т.4, №4. 2, 3 п.л.
24. От Дагестана-99 к будущему Великого Лимитрофа Евро-Азии. // Российское аналитическое обозрение, 1999, №2 (12). 0, 75 п.л.
25. К геоэкономике евразийского пространства (Ориентиры для России). //НАВИГУТ (Научный альманах высоких и гуманитарных технологий): Приложение к журналу «Безопасность Евразии», 1999, №1. 0, 5 п.л.
26. Рецензия на кн.: Яковенко И.Г. Российское государство: национальные интересы, границы, перспективы. Новосибирск, 1999. // Рго еt сопtrа, 2000, т. 5, №1. 0, 5 п.л.
27. Общества «открытые» и «закрытые» (Миф и его рационализация). // Космополис-1997. 2, 5 п.л. (в соавторстве с М.В. Ильиным).
28. Сколько цивилизаций? (С Ламанским, Шпенглером и Тойнби над картой XXI века). // Рго еt сопtrа, 2000, т. 5, №3. 1, 6 п.л.
29. Северная Осетия в первой половине 90-х: попытка государственности в геополитическом и социофункциональном ракурсах. // Этнический национализм и государственное строительство. М.: Институт востоковедения РАН, 2001. 4.2 п.л.
30. Рецензия на кн.: Имперский сборник. Вып.1. Республика Казахстан. Геополитические очерки. М., 1997; Затулин К.Ф., Грозин А.В., Хлюпин В.Н. Национальная безопасность Казахстана: проблемы и перспективы. М., 1998; Хлюпин В.Н. Геополитический треугольник: Казахстан – Китай – Россия. М., 1999. // Вестник Евразии, 2000, № 1 (8). 0, 4 п.л.
31. Рецензия на кн.: Зорин А.Л. Кормя двуглавого орла… (Литература и государственная идеология в России последней трети XVIII – первой трети XIX века). М., НЛО, 2000. //Электронно-информационный сайт «Полис». Выпуск библиообзора от 28.07.2001(). 0, 9 п.л.
32. Рецензия на кн.: Миграция и безопасность в России. Под ред. Г. Витковской, С. Панарина. М., 2000. // Рго еt сопtrа, 2002, т.7, № 1. 0, 6 п.л.
33. Дождались? Первая монография по истории российской геополитики. // Русский архипелаг, 2002. (/). 0, 9 п.л.
34. Рецензия на кн.: Петров В.В., Поляков Г.А., Полякова Т.В., Сергеев В.М. Долгосрочные перспективы российской нефти: сценарии, тренды, прогнозы. М., 2003. // Космополис, 2003, № 3 (5). 0, 7 п.л.
35. Русские и геоэкономика // Рго еt сопtrа, 2003, т. 8, № 2. 2, 5 п.л.
Всего 39 наименований, общим объемом 75, 5 п.л.
Приложение 5[68] Наиболее важные теоретические выводы и новации
1. В области теории геополитики мною обосновано определение геополитики как проектного политического мировидения и проектной политической деятельности, и на этом основании проведено различие между геополитикой и исторической географией как академической наукой; выдвинут тезис о фундаментальной категории геополитики географическом явлении, предназначенном к волевой трансформации в явление политическое (статьи «Геополитика как род занятий», «Русские и геоэкономика»).
2. В области практической геополитики:
А) Предложена модель «острова России» как глубинного паттерна, скрывающегося за всеми геополитическими трансформациями российской государственности; исходя из этой модели, предложен список признаков, определяющих геополитическую идентичность России; введено понятие «территорий-проливов» (stream-territories или strait-territories) для восточно-европейских пространств, отделяющих «остров Россия» от ядровых территорий западно-европейских цивилизаций; подвергнута критике российская имперская политика XVIII-XX веков как стратегия «похищения Европы», ведущая к подрыву российской идентичности (статьи «Остров Россия», «Метаморфозы России…», цикл «Похищение Европы»).
Б) Переосмысленным вариантом модели «остров Россия» стала концепция Великого Лимитрофа и России как земли за Великим Лимитрофом. Главная особенность этой версии – переход от идеи «территорий-проливов» к образу единого лимитрофного пояса, протянувшегося между Россией и цивилизационными и силовыми центрами Евро-Азии, выходящими к незамерзающим океанам, – пояса, включающего Восточную Европу с Крымом, Балканами, Анатолию, Кавказ, «новую» и «старую» Центральную Азию с Тибетом и, наконец, Корейский полуостров (статьи «Земля за Великим Лимитрофом», «Народы между цивилизациями», «Геополитика для евразийской Атлантиды», «От Дагестана-99 к будущему Великого Лимитрофа Евро-Азии»).
В) Разработана концепция Южного Урала и Юго-Западной Сибири как коммуникационного средоточия нынешней России, одного из двух ее композиционных центров, наряду с центром «Евророссийским» вокруг Москвы (статьи «Зауральский Петербург…» и некоторые другие работы в сборнике «Россия – земля за Великим Лимитрофом»; также статья «Геополитика для евразийской Атлантиды» и ее перепечатка в виде брошюры «Борьба за евразийскую Атлантиду»).
3. В области популярной в наши дни цивилизационной геополитики:
А) В полемике с доктриной столкновения цивилизаций по так называемым «цивилизационным разломам», развитой С. Хантингтоном, я предложил концепцию межцивилизационных лимитрофов (переходных пространств) с их обитателями, выступающими как «народы между цивилизациями». Согласно этой концепции, внутри каждой цивилизации выделяется ее этногеографическое ядро (скажем, романо-германское, арабо-иранское, русское и т.д.) и подверженная влиянию этого ядра периферия, причем периферии разных цивилизаций, переходя друг в друга, образуют межцивилизационные лимитрофы, выступающие как пространства цивилизационного выбора для населяющих их народов. На материале Великого Лимитрофа Евро-Азии мною обоснована типология таких лимитрофов (градуальных, мозаичных и т.д.), показано, что геокультурное строение одного и того же лимитрофного пространства существенно изменяется в зависимости от того, между какими цивилизациями оно выступает связующим полем ( например, Балканы Юго-Восточной Европы структурируются по-разному, в зависимости от того, рассматриваются ли они только как переход от западной цивилизации к исламскому миру, или в расчет принимается также существование России) (статьи «Народы между цивилизациями», «Земля за Великим Лимитрофом»).
Б) Мною обосновано типологическое различие между цивилизациями контекстно-свободными и контекстно-связанными, обретающимися в политическом поле гегемонии других цивилизаций (в современном мире единственной контекстно-свободной цивилизацией является западная, или евро-атлантическая, все остальные должны быть отнесены к контекстно-связанным) (статья «Сколько цивилизаций…»)
4. В области хронополитики:
А) Мною предложено определение этого понятия как относящегося к той области политологии, которая занимается неоднородностью политического времени и вытекающими из этой неоднородности возможностями политического проектирования (статьи «Сколько цивилизаций…», «Нефть, геотеррор и российские шансы»).
Б) Отталкиваясь от идеологической доктрины «похищения Европы», я разработал концепцию циклов «похищения Европы» (или геостратегических циклов империи) в XVIII-XX веках с выделением внутри них повторяющихся от цикла к циклу однотипных фаз и ходов; опираясь на эту концепцию, я предложил методику изучения русской геополитической мысли, ее концептуального аппарата и языка, в двух аспектах – синтагматическом (с упором на межфазовые переходы внутри каждого геостратегического цикла) и парадигматическом (делающем упор на идейный изоморфизм параллельных фаз, принадлежащих разным циклам) (статьи «Циклы «похищения Европы» и особенно «Европа-Россия: третья осень системы цивилизаций» и «Дважды рожденная Евразия и геостратегические циклы России»).
Станислав Хатунцев Цивилизационная геополитика Вадима Цымбурского
В.Л. Цымбурский любил называть себя «политическим писателем». Это был крупный филолог.«классик», культурфилософ, мыслитель, автор глубоких и серьезных работ в различных областях интеллектуального дискурса, прежде всего – в сфере геополитики. На ниве геополитики Цымбурский снискал негромкую[69], но прочную славу «русского Хантингтона». Труды его известны не только узким специалистам; в последнее десятилетие они собираются и переиздаются солидными сборниками[70]. Помимо них, к читателям приходят ранее не публиковавшиеся произведения этого автора. Думаю, что всякий российский гуманитарий, претендующий на «продвинутость», должен быть знаком с ними или как минимум с теми идеями, которые выдвигал Цымбурский.
К настоящему времени вышла лишь одна специальная работа монографического характера, посвященная исследованию его творчества. Она принадлежит перу Б.В. Межуева[71].
Докторская диссертация В.Л. Цымбурского, о которой пойдет речь далее, посвящена истории российской геополитической мысли. Она не была не только опубликована, но даже закончена. Тем не менее, эта работа – важная и очень интересная часть творческого наследия «русского Хантингтона». Она показывает те его стороны, которые до сих пор не были известны читающей публике.
Этот незавершенный труд является для нас новой демонстрацией грандиозной эрудиции почившего в 2009 г. мыслителя. Помимо массы русскоязычных изданий, Цымбурский перелопатил огромный массив литературы по геополитике на всех языках, на которых читал, ссылался на работы, вышедшие на английском, немецком, французском и итальянском (как и его оппонент, а иногда антипод в этой сфере с начала 90-х годов – А.Г. Дугин).
Прежде всего, Цымбурский дает в диссертации собственное видение геополитики, этой «героини с тысячей лиц».
По его словам, геополитика порождена евроатлантическим империализмом, но порождена как одна из программ преодоления и изживания этого империализма в той его форме, в которой он выступал до Второй мировой войны.
Геополитика имитирует процесс принятия политических решений, а иногда непосредственно включается в этот процесс, причем классическая геополитика с прямой выработкой целей для политики, скорее, была ее компонентом, нежели академическим изучением.
Ее правота виделась Цымбурскому в том, что она предрекала и планировала утверждение географически связанных Больших Пространств, выступающих внутри себя как экономические союзы и сообщества безопасности, т.е. в качестве наиболее крупных величин международной жизни взамен клочковатых сепаратных империй, созданных политическими нациями Запада.
Мыслитель хотел разобраться – каковы отношения геополитики с политической географией, глобалистикой, дисциплинами, изучающими международную политику и т.д., проявил себя в качестве теоретика геополитики как таковой, т.е. предложил и обосновал свое понимание того, что же представляет собою геополитика.
При этом Цымбурский исходил из ее классической традиционной трактовки, отождествляющей «гео-» в слове «геополитика» с «пространством» и «географией». Он считал, что именно такое восприятие стоит за наблюдаемым интересом к геополитике в нашей стране. Сама же данная дисциплина была для него «политическим искусством», трактуемым весьма широко – как «мастерство» и «умение».
Вообще понятие «искусство» (как, например, искусство «наложения… еще не вполне проясненных для общества кратко– и среднесрочных требований на тысячелетние культурно-географические и физико-географические ландшафты») – одно из наиболее часто употреблявшихся Цымбурским понятий в сфере геополитики.
Он выработал характерно «авторский», органичный для него термин «геополитическая имагинация». Геополитическая имагинация – построение картины мира из политически заряженных географических образов, т.е. образов, проникнутых отношениями кооперации, противоборства, гегемонии, подчинения и т.д. В ней геополитика выступает уже искусством как таковым – мышлением при помощи образов и систем образов, внушаемых обществу. Собственно, Цымбурский и выстраивал свою персональную геополитику именно как искусство – «искусство вместо лысенковщины»: искусство мировидения, создания «стратегических» картин, непревзойденным мастером которого и являлся.
Итак, геополитика по Цымбурскому предполагает выработку насыщенных политическим содержанием географических образов и восприятие мира в этого рода образах. Она ищет способы превращения географических структур в политические, в том числе – в государства. Вместе с тем, ее предметом может быть политическая расчистка пространств для новых построений, в частности – переработка государств в открытые переделам населенные территории.
Интересны и нетривиальны другие оценки и наблюдения мыслителя, нередко передаваемые в афористически-«ницшеанских» формах. Так, по словам Цымбурского, «науке присуща "воля к истине", а геополитике, как роду деятельности – "воля к творчеству"».
Ключевой категорией геополитики служило для него географическое явление. Именно на нее она, как мировидение, опирается. Частное проявление данной категории – гроссраум, одновременно, наряду с «жизненным пространством народа», «Сушей» и «Морем», выступающий частным случаем феноменов, названных Цымбурским (по-видимому, в честь К. Хаусхофера и всей немецкой «философии жизни») «Большими Формами Жизни».
Нельзя не согласиться с ним в том, что сущностное свойство геополитики – проектность. Здесь Цымбурский солидарен с именитым критиком данной дисциплины Е.В. Тарле, который высказался по поводу геополитики незадолго до того, как его наблюдение стало подкрепляться действиями на международной арене пронизанного геополитическими токами «Третьего рейха».
Поэтому последовательно и органично заключение Цымбурского о том, что природа геополитики – в конструктивистском подходе к географии человеческих сообществ. Причем геополитика, по его мнению, не только планирует, но и исследует мир – исследует в целях проектирования, зачастую – через его посредство. Один из главных фокусов геополитики виделся ему в изучении перспектив конструирования Больших Пространств, «новых целостностей, в которые входят "кубиками" страны с их народами, почвой, хозяйством».
Тем не менее, важнейшая, по мнению мыслителя, фокусировка геополитики – этатистская. Данная дисциплина обязана служить государству, прояснять его требования, быть «пространственным самосознанием» государства.
Незаконченная работа Цымбурского – серьезный вклад в изучение истории геополитических идей и концепций, геополитической мысли в целом, причем не только отечественной, но и мировой.
Именно на ее страницах «русский Хантингтон» обнаруживает, что гипотеза столкновения цивилизаций Хантингтона американского восходит к «геополитике панидей»[72] К. Хаусхофера образца 1931 г., который, в свою очередь, близок к доктрине «государств-материков», разработанной в 1927 г. евразийцем К.А. Чхеидзе, тогда как концепция евроазиатского и североамериканского приморья-римленда как инкубатора держав – «мировых господ» впервые была выдвинута в 1916 г. великим русским географом В.П. Семеновым-Тян-Шанским и лишь в 1942 г., независимо от него, заморским «талассократом» Н. Спайкменом[73].
В то же время, история геополитической мысли открывает истоки некоторых идей самого Цымбурского. В связи с этим необходимо вспомнить статью X. Маккиндера 1943 г. «The Round World and the Winning of the Peace», которая пропагандировала кооперацию стран Северной Атлантики, лежащих по обе стороны океана, с СССР – держателем хартленда. Цымбурский в 2006 г. опубликовал свой перевод этой работы на русский язык, он на нее нередко ссылается, в том числе – и в своей незаконченной диссертации. Не в этой ли статье – корни его концепции «Великого кольца» демократий Севера, сформулированной им на рубеже 1980-х – 1990-х годов?
Нельзя не оценить предложение Цымбурского выделить в рамках политологии отрасль, изучающую геополитику, которую он предлагал назвать геополитологией. Связь между геополитикой и геополитологией виделась ему подобием связи, соединившей, по К.Г. Юнгу, алхимию с глубинной (аналитической) психологией XX в. От геополитологии он ждал «раскрытия интеллектуальных, духовных структур, проявляющихся в геополитическом проектировании».
Юнг, Хаусхофер, «философия жизни», причем не столько «безумный Фридрих» (Ницше), сколько «божественный[74] Освальд» (Шпенглер), – эти имена и явления очерчивают далеко не полный ряд симпатий и глубоких влюбленностей В.Л. Цымбурского в сфере немецкой мысли. Все они, даже не будучи прямо связанными с геополитикой, так или иначе сказались на его геополитических штудиях.
Новаторским, оригинально-авторским является подход Цымбурского к истории отечественной геополитической мысли. Он стремился обосновать такую методологию анализа геополитических исканий в России XVIII-XX вв., которая, сочетая черты проблемного и хронологического подходов, была бы свободна от эклектики и пороков, вредящих каждому из этих принципов, взятому по отдельности. Согласно Цымбурскому, данная методология родственна методу СВ. Лурье, «просвечивающей» геополитику «культурной темой» – подобно тому, как легкие просвечивают рентгеном.
Мыслитель предложил систематизировать историю нашей геополитики на основе своей концепции стратегических циклов внешней, в том числе – военной политики цивилизационного тандема «Европа-Россия». Выявляемая Цымбурским череда ходов и фаз данных циклов[75] – основа для естественной, а не произвольно привносимой периодизации российских геополитических конструкций и изысканий.
Ограниченность такого подхода – в том, что существованию самого этого тандема мыслитель отводил время с начала XVIII (эпоха Северной войны) до конца XX века (распад СССР). Будущее выше обозначенной цивилизационной пары рисовалось ему в перспективе бракоразводного процесса.
Мыслитель прослеживал приметы «затяжного» четвертого хода выводимого им последнего стратегического цикла в событиях 1980-х – 1990-х годов, однако «третья евразийская интермедия», которая должна была его завершить, виделась Цымбурскому не более чем актуальной возможностью, впрочем, проступающей ясно. Осуществится ли эта возможность и в какой из версий – зависит от российского руководства начала XXI в. К счастью, данное предположение мыслителя всё еще актуально.
Поэтому методология Цымбурского максимально органична для изучения геополитических идей петербургского и, по его собственной изящной терминологии, «большевистско-второмосковского» периодов – будучи, собственно говоря, для того и созданной; но она принципиально неприменима к доимперской истории нашей геополитической мысли. Пригодность же «модели Цымбурского» к исследованию современного этапа ее развития является предметом для обсуждений.
К традиции российской геополитической мысли автор диссертации, в соответствии со своим пониманием геополитики, относил тексты политического, историософского, географического и всяческих иных жанров, которые обладали проектным характером и выстраивали картину мира из политизированных пространственно-географических образов, закладывая в нее программу действий, прежде всего – для государственной власти.
Он нашел интересное и вполне логичное объяснение тому, что в истории отечественной геополитики философы и литераторы явно занимают большее место, нежели на Западе. По мнению Цымбурского, дело в том, что проекты Большого Пространства России, как правило, выступают символами ее цивилизационного самоопределения, причем физическая география, включаемая в такие проекты, обретает нагрузку цивилизационных сверхсмыслов. Поэтому «естественникам» с «прагматиками» – географам, военным, политикам – приходится потесниться, давая место «гуманитариям» и «идеалистам».
Подобный, но лишь на первый взгляд, феномен наблюдается в странах российско-европейского междумирья. Там, однако же, по иным причинам, отличающимся от российских причин рассмотренного выше явления, так же как «второе издание крепостничества» к востоку от Эльбы отличается от крепостного права в нашем отечестве, проектно-геополитическая мысль находится в еще большей зависимости от идеологии и сверхсмыслов, закладываемых в нее религиозными деятелями и гуманитарной интеллигенцией, из среды которых, кстати говоря, выходит масса политиков. Благодаря этому часть постсоциалистической Восточной Европы время от времени рискует превратиться в «Европу сточную», подобно нынешней Украине.
Вскрывает В.Л. Цымбурский и «ползучий», хотя, в данном конкретном случае, остаточный европоцентризм российской картины мира. Он замечает, что «в сегодняшнем русском словаре средиземноморский "Ближний Восток" остается рудиментом … мистифицирующего словоупотребления, отождествлявшего российский взгляд на мировую карту со взглядом из Европы», что в свое время, по мнению исследователя, камуфлировало то положение, в котором «Восточный вопрос» был для Российской империи частью «вопроса Западного». По его словам, уже при Николае I «Восточный вопрос» зазвучал как вопрос «русской гегемонии над восточным центром романо-германской Европы, а через него и над этой цивилизацией в целом».
Недописанная работа Цымбурского таит немало загадок. Так, есть в ней намек на то, что мыслитель изменил свой взгляд на «евразийскую интермедию» – пятый событийный ход в каждом из выводимых им циклов взаимоотношений в системе «Европа-Россия» XVIII-XX вв., однако как именно стал он воспринимать этот ход – осталось совершенно неясным.
Здесь следует отметить, что Цымбурский в той или иной степени был сторонником циклоритмического подхода к истории, что для него, как истинного историософа, учитывая широкую распространенность в историософии циклических схем, было не удивительно, а вполне закономерно. Так, помимо цикличности взаимоотношений в цивилизационной паре «Европа-Россия», он писал о внутреннем милитаристском ритме собственно европейской системы, ныне превратившейся в евроатлантическую. Цымбурский упоминает об этом ритме на страницах рассматриваемой нами работы, в которую он включил в переработанном виде в качестве отдельных параграфов ранее написанные им труды[76].
По всей вероятности, указанием на один из важных источников генезиса идеи СВЦ является ссылка Цымбурского в его небольшом трактате «Народы между цивилизациями» на эссе «О бедствиях и убожестве малых восточноевропейских государств» известного венгерского публициста и политолога И. Бибо (1911-1979)[77], которое он читал в немецком переводе, изданном в 1992 г. В этой работе 1946 г., очень убедительно подтверждающей мысль о лимитрофном, межцивилизационном характере тех этнокультурных пространств, рассмотрению которых она посвящена, и дающей множество аргументов в пользу именно такой точки зрения, имеются страницы, как бы иллюстрирующие труды Цымбурского конца прошлого века о сверхдлинных ритмах милитарной активности[78]. Они вполне могли послужить отправным моментом для формирования его концепции СВЦ.
Показательно, что на этих самых страницах Иштван Бибо активно ссылается на итальянского историка и теоретика международных отношений Гульельмо Ферреро, труды которого, помимо прочего, освещают военную историю Европы и формирование Венской системы[79]. С ним Бибо был знаком лично благодаря учебе в Женеве в первой половине 1930-х годов. Ферреро оказал особенно заметное влияние на идейное и профессиональное становление венгерского интеллектуала[80]. Таким образом, сам он к идеям, которые впоследствии развил «русский Хантингтон», по-видимому, пришел во многом благодаря знакомству с трудами Г. Ферреро. Да и Цымбурский был наверняка знаком с ними уже без посредничества опального в своей стране Бибо: сочинения Ферреро обязан знать каждый уважающий себя историк античности и филолог.«классик».
Связь концепции СВЦ с работами И. Бибо и Г. Ферреро всего лишь предположительна, да и переоценивать ее, даже если она действительно существует, ни в коем случае не резон. В то же время, склонность Цымбурского к использованию в своих метаисторических штудиях циклической парадигмы имеет абсолютно прямые источники и аналоги в творчестве О. Шпенглера.
Согласно Цымбурскому, аппарат его теории стратегических циклов позволяет представить внешнеполитическую историю России в XVIII-XX вв. в виде матрицы, где каждая строчка изображает последовательность сменяющихся ходов в каком-либо из трех выделявшихся мыслителем циклов. В диссертации он писал о таблице, в столбцах которой размещаются их событийно и геоидеологически изоморфные фазы. Так, эпохе 1726–1811 гг. в других двух циклах соответствуют участие России в Антанте и время действия пакта Молотова-Риббентропа. По словам мыслителя, «матрица стратегических циклов создает реальную основу для сравнительного анализа идей, проектов, доктрин, головокружительно контрастирующих по способам их подачи и обоснования сообразно с антуражем эпох и предпочтениями авторов, но обнаруживающих гомологичность с точки зрения их места в протекании циклов – независимо от того, совершалось ли это протекание под знаком Третьего Рима или Третьего Интернационала. Такая матрица несет в себе новую исследовательскую программу для политической и философской науки, давая и той, и другой в руки методологический инструмент, при помощи которого воссоздается историческая морфология российской геополитической мысли». Но это же прямая перекличка – естественно, по формам, идеям и их возможному воплощению, со знаменитыми таблицами морфологии истории из первого тома шпенглеровского «Заката Европы», в которых сравниваются «одновременные» культурные, религиозные, политические и другие явления, принадлежащие различным эпохам и обществам, разделенным тысячами километров географического пространства![81]
Благодаря этому поразительному и красноречивейшему примеру Цымбурского можно называть не только «русским Хантингтоном», но и, в известных отношениях, «русским Шпенглером».
Россию доимперского периода XVI-XVII вв. Цымбурский рассматривает в соответствии с моделями Ф.М. Достоевского и И.С. Аксакова как остров, восставший из окраинных, азиатских, тюрко-монгольских пространств, – остров, который поднялся над этими пространствами и установил над ними цивилизационную сакральную вертикаль. Таким образом, цивилизация как таковая трактуется мыслителем как надстройка над тем или иным этнокультурным базисом, имеющим свою конкретную географию. Цивилизация на каждом из этих базисов может быть не одна, ее можно и поменять. Гораздо труднее сменить этнокультурную основу, вовсе невозможно – географическую. С последним следует согласиться, но с мнением, что цивилизация – надстройка, сходная со сменной кассетой бритвенного прибора, солидаризироваться мне лично сложно.
В представлении о природе цивилизаций у Цымбурского преобладает геополитический в его собственном понимании, т.е. проективно-конструктивистский подход, в каком-то смысле родственный подходу И.В. Мичурина и Т.Д. Лысенко к растениеводству.
На мой взгляд, цивилизационная принадлежность для каждого человеческого сообщества, располагающегося в конкретном географическом пространстве, так же неизменна, как расово-генетическая принадлежность отдельно взятого индивида. Можно, ценой огромных затрат, высветлить свою кожу (привет Майклу Джексону), но это не сделает вас представителем того антропологического типа, под который вы хотите подделаться. Вместо этого вы станете чем-то вроде «белой вороны», разбалансируете свой организм, разрушите его врожденные защитные механизмы и умрете намного раньше своих не столь эксцентричных сверстников[82].
Не являясь сторонником сугубо «религиозной» маркировки цивилизаций, я признаю важность для каждой из них духовно-идеологических стержней, которые Цымбурский называл «сакральными вертикалями», однако горячо отстаиваю именно «географический» характер цивилизационного самоопределения.
Для меня цивилизации суть геокультурные сообщества, возникшие и функционирующие в рамках того или иного из примерно десятка существующих на нашей планете «месторазвитий» – «географических индивидов». Данные сообщества проходят несколько формационных (поколенческих) циклов, каждый из которых длится два – два с половиной тысячелетия. При этом глубоко трансформируется их культура, в том числе религиозная ее составляющая, но цивилизационная идентичность таких сообществ (в отличие от их собственно культурной, этнической и других идентичностей) остается прежней. Так, например, как были Франция – частью европейской цивилизации, провинция Хубей – частью восточноазиатской, Персида – афразийской, Раджастан – южноазиатской, степи между Уралом и Волгой – российско-евразийской цивилизаций в античную эру, – так они и остались частями соответствующих культурно-исторических миров в эпоху современной формации, которая пришла на место античной в V-VII вв. н.э. Цивилизационную идентичность можно назвать макроидентичностью – в отличие от различного рода мезо– и микроидентичностей.
Иными словами, никакой смены цивилизаций на землях Евразии, вошедших в XVI-XVII столетиях в «российский проект», не произошло; Цымбурский и сам пишет об «окраинных, тюрко-монгольских, азиатских пространствах», т.е. о лимбовых и лимитрофных землях, цивилизационная идентичность которых в большей или же меньшей степени спорна и размыта, а также о поясе «внутреннего лимитрофа» нашего культурно-исторического мира. В этот период для них наступил лишь новый этап нынешнего формационного цикла, тогда как цивилизационная принадлежность этих регионов осталась прежней.
Постулируя существование в XVIII-XX веках европейско-российского тандема, Цымбурский рассматривал Россию как элемент этой ритмически пульсирующей системы – цивилизацию-спутник западного сообщества. Второй ее элемент – собственно европейский мир с его, по выражению этого интеллектуала, «имманентной глубинной биполярностью».
По мнению мыслителя, в отношениях России и Запада этого периода обнаруживается тип цикличности, не имеющий прямых аналогов не только в истории прочих мировых регионов, но и в собственно российской истории вплоть до первой четверти XVIII в., когда, согласно Цымбурскому, данная цикличность сложилась. С его точки зрения, переход при Иване IV от завоевания приволжских татарских царств к Ливонской войне, история Смутного времени и преодоления оного никак не вписываются в обрисованную им пятиходовую фабулу.
На мой взгляд, эпоху с начала Ливонской войны до конца правления Петра I (1558–1725 гг.), после которой как раз и стартуют «циклы Цымбурского», следует рассматривать как своего рода предшественницу циклических движений в системе взаимоотношений «Россия-Запад», которые описывались мыслителем. Она несет в себе – в «мягких», незаконченных формах – многие элементы военно-политических ходов, увиденных Вадимом Цымбурским.
Согласно его концепции, вмешательство России в континентальный баланс ведет к ответной силовой реакции европейских акторов, объединенных в некую коалицию. И именно ее мы и видим в интервенции польских и шведских армий сначала на заключительном этапе Ливонской войны, затем – в эпоху Смутного времени. Эти интервенции разделены частичным реваншем русских над шведами и зафиксировавшим его Тявзинским миром 1595 г., «смазавшими» фазу европейского вторжения в Россию и разделившими ее на два хронологических этапа.
Встречный контрход России, который в «цикле Цымбурского» следует за интервенцией Европы, мы также наблюдаем в эту эпоху. И он, как и сама интервенция, двухэтапен. Составляют его малоудачная Смоленская война 1632–1634 гг. и гораздо более успешная война русско-польская 1654–1667 гг. Отметим, что в последнюю оказались вовлечены и шведские короли, благодаря чему она превратилась в тройное противоборство друг с другом России, Речи Посполитой и Швеции. В конечном итоге Московское государство продвинулось на запад до берегов Днепра и получило Киев, но отнюдь не установило своей гегемонии над Литвой и Польшей, тем более – над территориями бывшей Ливонии.
Эти задачи Россия попыталась решить в эпоху Петра Великого, вступив в затяжную Северную войну, из которой вышла победительницей и приобрела статус мощнейшей державы северо-восточной периферии Европы.
Учитывая «рыхлость», частичность, разорванность и незавершенность ходов, постулируемых В.Л. Цымбурским для циклов отношений России и Запада в XVIII-XX вв., предлагаю обозначить период 1558–1725 гг. в русско-европейской политике как «протоцикл Цымбурского ».
Кстати говоря, новым шагом в развитии концепции циклов, сделанным мыслителем в диссертации, стало разделение четырехтактников европейских игр России (ходы A-D) на две симметричные двухходовки – А-В и C-D, а также их детальное описание.
Кроме того, на ее страницах было отмечено, что конец евразийских интермедий, которые завершают циклы, не всегда обусловлен их имманентным исчерпанием и тупиком. «Провал в Азии» может как наблюдаться (например, в случае русско-японской войны 1904–1905 гг.), так и отсутствовать: ничего подобного мы не видим в конце 1930-х. Евразийская интермедия способна не только терпеть кризис, но и прерываться простым волевым решением руководства России при возникновении благоприятных конъюнктур на западном направлении. В то же время, «западнические» геостратегические ходы разыгрывались Россией неукоснительно – до своего изживания через катастрофу.
Там же Цымбурский высказал весьма оригинальное мнение по поводу послевоенной тяжбы СССР с Западом за преимущественное влияние в арабском мире. Согласно мыслителю, она стала своеобразным продолжением старого «Восточного вопроса». А поскольку политику России в «Восточном вопросе» он считал одним из направлений практики «похищения Европы», можно утверждать, что политика СССР на Ближнем Востоке с 1950-х годов также была в его глазах частью политики «похищения Европы» – уже советской Россией.
Ялтинскую систему Цымбурский совершенно справедливо расценил как второй реальный «европейский максимум» российской геостратегии со времен Николая I. Здесь с мыслителем можно лишь солидаризироваться.
Благодаря подходу, примененному Цымбурским, в диссертации показана закономерность возникновения русского, прежде всего сибирского, областничества именно во время так называемой первой «евразийской эпохи» России. Оно сформировалось в самом ее начале, между Парижским миром и Берлинским конгрессом (1856–1878 гг.). К появлению областничества вела внутренняя логика того этапа цикла-«пятиходовки», той фазы сжатия, несущей в себе потенциал «евразийского поворота», в которую после поражения в Севастопольской войне вступила наша страна.
Мыслитель обратил внимание на то, что Данко и Платон сибирских областников, Г.Н. Потанин, рассматривал проблемы капитализма и проблемы империи с позиции отношения центров и опустошаемых, «высасываемых» ими окрестностей. И совершенно справедливо заключил, что такой подход предвосхитил построения «миросистемников» и неомарксистской географии XX века. Они весьма продуктивны, обладают серьезной эвристической силой и в настоящее время имеют мощный интеллектуальный локомотив в лице И. Валлерстайна.
Крайне актуальны слова Цымбурского о том, что «отступление из Европы, пафос "сосредоточения" … лозунг национальных интересов как "трубный глас почти изоляционизма", и встречное повышение массового интереса к внутренней геополитике … к вопросам самоуправления и федерализации, возрастающее внимание к зауральскому сибирскому массиву, споры о его будущем и его значении в русской истории, переходящие в революционные планы … вся эта констелляция ярко характеризует фазу "сжатия" России после "европейского максимума" (фаза D) при ее переходе в собственно евразийскую интермедию, а в какой-то мере и последнюю в ее развертывании, переплетаясь с попытками созидания российского пространства вне Европы».
Кажется, что сказано это не о временах правления Александра II, а о России после 1991 г. В самом деле, наступившая вслед за развалом СССР эпоха может стать эпохой «евразийского поворота», которая, с точки зрения исторической морфологии, выстраиваемой Цымбурским, сходна с периодом отечественной истории, начавшимся после Крымской (1-й Восточной) войны. Но она ни в коем случае не должна смениться новым «европохитительским» циклом, которым завершилась «евразийская интермедия» 1856–1905 гг.
Здесь следует отметить, что «провал в Азии», о котором писал Цымбурский, случился лишь потому, что Россия переусердствовала с активностью на Дальнем Востоке. Мало того, что она галопом осваивала Маньчжурию, которая в культурно-историческом отношении существенно ближе к восточно-азиатской, нежели к российской цивилизации и лежит по ту сторону цивилизационного лимеса (полосы земель, разделяющей российское и восточно-азиатское месторазвитие). Ее экспансия распространилась и на Корею, являющуюся неотъемлемой частью дальневосточного культурного мира. Таким образом, Россия, не обладающая западной природой, но управляемая западоцентристской элитой, переняв империалистическую практику, которой в XIX – начале XX веков следовали все уважающие себя державы Запада – «музыканты» пресловутого «европейского концерта» и Соединенные Штаты, вышла за пределы своей цивилизационно-географической ниши. Тем самым она перешагнула естественный рубеж своей мощи, границу гарантированного геополитического превосходства, после чего русская махина как бы повисла в воздухе. Этим и воспользовалась Ямато, восходящее светило Ост-Азии, действовавшее в своей собственной цивилизационно-географической нише и поддержанное англосаксонскими недоброжелателями Петербурга – его, в те времена, глобальным соперником Лондоном и региональным конкурентом САСШ.
Типологически сходная ошибка была допущена Россией в Афганистане в 1979–1989 гг. СССР слишком глубоко втянулся в местную свару и вышел за флажки российского цивилизационного лимеса – хребты Гиндукуш, Сафед-Кох, нагорье Хазараджат.
Если когда-нибудь в своей евроазиатской политике Россия опять нырнет под канат цивилизационных границ, то снова станет мишенью для болезненного удара. Нокдауны на Востоке могут, как это произошло в начале прошлого века, направить ее по Старой Смоленской дороге «западопохитительства». И тогда Россия позавидует судьбе «Великой армии» Бонапарта.
Труды Цымбурского, его интеллектуальные прозрения и призваны помочь отвратить нашу страну и, прежде всего, правящий ее слой от возобновления вредных, бессмысленных, противоречащих национально-государственным интересам попыток продолжить политику «похищения Европы», а с середины 1980-х годов – «похищения Запада», в том или ином виде.
Следует сказать об отношении мыслителя к проблеме продажи Русской Америки в 1867 г., выраженном в рассматриваемой нами работе. Обычно этот шаг объясняют «нерентабельностью» Аляски, невозможностью ее отстоять перед «англо-американским» напором. Солидаризируясь со знатоком истории русско-американских отношений первого столетия существования США H.H. Болховитиновым[83], Цымбурский приходит к выводу, что логика продажи Аляски диктовалась потребностями складывающейся евразийской конфликтной системы, ходом так называемой «Большой игры» – широкомасштабного противостояния России с Британией от Балкан до Тихого океана. Это противоборство побуждало не просто «сбросить» Русскую Америку как наиболее уязвимый участок выше обозначенной огромной дуги, но и одновременно создать давление на запад Британской Канады со стороны Штатов. Тем самым, укрепив против английских демаршей приморский Дальний Восток, Российская империя развязала себе руки для борьбы в Европе и Азии. Она, по словам канцлера Горчакова, «сосредотачивалась», и одним из направлений этого «сосредоточения» была экспансия в Средней Азии, ставшая наихарактернейшей практикой «евразийской интермедии» Вадима Цымбурского.
В своей работе он признает самостоятельное значение «натиска на юг» – утверждения России в центральной части евразийского континента в 1860-x – 1880-х гг. «…Если бы речь шла только об угрозе "жемчужине британской короны", из трех путей: через Среднюю Азию, по Каспию или через Иран со стороны Кавказа естественно было бы по трудности первого пути предпочесть любой из двух последних. На то были и возможности. Иран в 1858 г. возобновляет претензии на Герат, причем шах выступает с проектом русско-иранского договора против Англии». Если бы целью нашей политики было овладеть путем в Индию, то «остается необъясненным – почему был избран не "европейский путь" с опорой на Иран – а многолетнее движение через степи и пустыни», писал русский мыслитель.
При этом он отмечал, что если версия, связывающая среднеазиатскую экспансию России с «порывом к Индии», не объясняет, почему оказался выбран именно этот, столь трудный и проблематичный путь вместо иранского, который, учитывая столкновение интересов шахиншаха с аппетитами «Туманного Альбиона» в Афганистане и на окраинах Индии, а также возможность заключения антибританского союза между Петербургом и Тегераном, был гораздо более легким и перспективным, – то версия, связывающая эти завоевания только с особенностями центрально-азиатской границы империи, не объясняет темпов и интенсивности наступления.
За одновременной деятельностью Славянских комитетов и бурной активностью в Средней Азии, когда за считанное десятилетие три местных государства были завоеваны русской армией, Цымбурский усмотрел единый геоидеологический импульс к конструированию «своего», особого российского пространства из земель, которые обретаются за пределами «коренной Европы» и либо не входят в ее расклад, либо могут быть легко из него изъяты.
Мыслитель ставит очень важный вопрос о причинах контраста между бросковым завоеванием русскими Сибири и медленным до поры до времени выдвижением их в Среднюю Азию, давая на него весьма резонный ответ.
При этом он определяет два «естественных рубежа» России на юге. Согласно Цымбурскому, таковы экологическая граница, опирающаяся на переход лесостепи собственно в ковыльную степь так, чтобы Россия в основном контролировала долины рек бассейна Ледовитого океана, и граница по южному горному поясу. Эти варианты соответствуют либо России, противостоящей тюркской Евразии, либо «России-Евразии» в собственном смысле. «Выход России в центрально-азиатскую степь – феномен имперский, тогда как Московское царство прочно противостояло степной Евразии, и границы его были едва ли не более мотивированы, чем любые промежуточные решения в диапазоне между двумя очерченными "естественными" рубежами. Паллиативная и нестойкая разделительная линия в этом интервале – северный край полосы полынных степей – черта, условно отделяющая русифицированный Северный Казахстан от Южного», – писал покойный мыслитель.
Очень оригинальны очерки Цымбурского, посвященные геополитическим воззрениям Ф.М. Достоевского и Н.Я. Данилевского. Последнему мыслитель уделил гораздо больше внимания, нежели творцу «Дневника писателя».
Своеобразие Данилевского виделось ему в том, что он, в отличие от Тютчева, Чаадаева и многих других интеллектуалов XIX столетия, воспринимал российскую и европейскую цивилизации не как противостоящие друг другу принципы жизни на едином пространстве и организации оного, а как отдельные, конфликтующие на рубежах геокультурные ниши.
Новую постановку вопроса Цымбурский усмотрел в самом заглавии важнейшего труда Данилевского («Россия и Европа»), контрастирующем с названием тютчевского трактата («Россия и Запад»). Если Тютчев рассуждал о «двух Европах», России и Западе, как двух мыслимых проектах единой Европы, то Данилевский видел Россию вне Европы и возлагал на нее миссию создания особого неевропейского политического и цивилизационного пространства, способного потеснить пространство европейское, но отнюдь не стремящегося поглощать последнее как чужеродный России мир.
Данный подход был близок и самому Цымбурскому.
Мыслитель заметил, что «государственная фаза» является основным звеном цивилизационного процесса, которое интересует Данилевского. Поэтому последнего можно было бы назвать «государственником» – тем более что суверенность цивилизации мыслима для него как суверенность исключительно политическая, контроль группы народов, говорящих на близкородственных языках, над пространством, гарантированным от вмешательства представителей прочих цивилизаций. Согласно Цымбурскому, Данилевский имеет в виду то, что позже в Германии назовут суверенным «Большим Пространством». Таким образом, в авторе статьи «Горе победителям!» он распознает одного из предшественников геополитики К. Хаусхофера.
Также Цымбурский указывает на своего рода «цивилизационно»-умственный парадокс. По своему интеллектуальному аппарату антиевропеист Данилевский – типичный европеец третьей четверти XIX века, т. е. не мистик, не идеалист-метафизик, а строгий позитивист; как ученый-«естественник», он, в сущности, выступает в качестве материалиста. Данилевский свободен от «средневековых» моделей, стоящих на вооружении у оппонентов-европеистов – старшего, Ф.И. Тютчева, и младшего, B.C. Соловьева, яростного критика идей, изложенных автором «России и Европы».
В некоторых представлениях Данилевского он увидел прообраз тех или иных идей Л.Н. Гумилева. Так, первый, говоря словами Цымбурского, несколько предвосхитил постулат «комплиментарности» автора «Этногенеза и биосферы Земли» – когда написал о «неизведанных глубинах тех племенных симпатий и антипатий, которые составляют как бы исторический инстинкт народов».
С точки зрения Цымбурского, Н.Я. Данилевский определил Россию как «Анти-Европу», одного из членов бинарной системы, другим элементом которой выступает западное сообщество в целом. Она для позднего Данилевского – не просто самобытная цивилизация, но функциональное «иное» западного сообщества. Тем самым он, по мнению мыслителя, вплотную подошел не просто к выводу о миссии России быть противовесом европейскому сообществу как единовзятому целому, но и к идее существования метасистемы «Европа-Россия». Именно такая модель, полагал Цымбурский, нашла культурологический эквивалент в предложенной Б. Гройсом трактовке ряда явлений русской мысли как представления Запада о «своем ином, своем "анти-"».
Но здесь главное не то, что сказал мыслитель, а то, о чем он умолчал. А умолчал Цымбурский о том, что увидел в Данилевском своего прямого предшественника, предтечу разработанной им модели цивилизационного тандема «Европа-Россия» с его циклическим ритмом. Возможно, именно поэтому анализу взглядов Н.Я. Данилевского и отведен такой большой кусок его диссертации.
Очень многое в ней осталось неосвещенным и недосказанным, но и того, что есть, достаточно, чтобы считать ее вещью выдающейся, яркой – подобно множеству других произведений, созданных В.Л. Цымбурским. Даже будучи незаконченной, данная работа стала таким достижением русской геополитической мысли, которое можно поставить в один ряд с книгами ее «классиков», типичных и нетипичных – того же Данилевского, И.С. Аксакова, В.И. Ламанского, P.A. Фадеева, КН. Леонтьева[84], В.П. Семенова-Тян-Шанского, А.Е. Снесарева и т.д.
Остается лишь сожалеть, что труд этого мыслителя не был и уже никогда не будет доведен до конца.
Литература
Аксаков 1886 – Аксаков И.С. Биография Федора Ивановича Тютчева. М., 1886
Алексеева и др. 2001 – Алексеева И.В., Зеленев В.И., Якунин В.И. Геополитика в России: Между Востоком и Западом ( конец XVIII – начало XX в.). СПб., 2001
Андогский 1907 – Андогский А.И. Военногеографическое исследование Афганистана, как района наступательных операций русской армии // «Общество ревнителей военных знаний». 1907. Кн. 4.
Бабурин 1995 – Бабурин С.Н. Российский путь: Становление российской геополитики начала XXI века. М., 1995
Безыменский 1991 – Безыменский Л.А. Что же сказал Сталин 5 мая 1941 г.? // «Новое время». 1991, № 19
Безыменский 1995 – Безыменский Л.А. Визит В. М. Молотова в Берлин в ноябре 1940 г.: В свете новых документов // «Новая и новейшая история». 1995, № 6
Бердяев 1990 – Бердяев Н.А. Судьба России. М., 1990
Бережков 1993 – Бережков В.М. Как я стал переводчиком Сталина. М., 1993
Бжезинский 1998 – Бжезинский З. Великая шахматная доска. М., 1998
Бисмарк II – Бисмарк О. Мысли и воспоминания. Т. 2. М., 1940
Бицилли 1993 – Бицилли П.М. Два лика евразийства // Россия между Европой и Азией: Евразийский соблазн. Антология. М., 1993
Богатуров, Кожокин, Плешаков 1992 – Богатуров А.Д., Кожокин М.М., Плешаков К.В. После империи: демократизм и державность во внешней политике России. М., 1992
Богданов 1995 – Богданов А.П. От летописания к исследованию: Русские историки последней четверти XVII в. М., 1995
Болингброк 1978 – Болингброк Г.С.Д. Письма об изучении и пользе истории. М., 1978
Болховитинов 1990 – Болховитинов Н.Н. Русско-американские отношения и продажа Аляски: 1834–1867. М., 1990
Бродель 1992 – Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм: XV-XVIII вв. Т. 3: Время мира. М., 1992
Валлерстайн 1997 – Валлерстайн И. Холодная война и третий мир: старые добрые времена // «Рубежи». 1997 № 1
Вебер 1990 – Вебер М. Наука как призвание и профессия // Он же. Избранные произведения. М., 1990
Венюков 1873 – Венюков М.И. Опыт военного обозрения русских границ в Азии. СПб., 1873
Венюков 1875 – Венюков М.И. Краткий очерк английских владений в Азии. СПб., 1875
Венюков 1877 – Венюков М.И. Поступательное движение России в Средней Азии. СПб., 1877
Венюков 1878 – Венюков М.И. Очерк политической этнографии стран, лежащих между Россиею и Индиею. СПб., 1878
Венюков 1878а – Венюков М.И. Исторические очерки России со времени Крымской войны до заключения Берлинского договора: 1855–1878. Т. 1. Лейпциг, 1878
Вернадский Г. 1914 – Вернадский Г.В. Против солнца: Распространение русского государства к востоку // «Русская мысль». 1914, кн. 1
Вернадский И. 1855 – Вернадский И.В. Политическое равновесие и Англия. М., 1855
Вишлев 1998 – Вишлев О.В. Речь И. В. Сталина 5 мая 1941 г.: Российские документы // «Новая и новейшая история». 1998, № 4
Вишлев 1999 – Вишлев О.В. Западные версии высказываний И.В. Сталина 5 мая 1941 г.: По материалам германских архивов // «Новая и новейшая история». 1999, № 1
Волков 1969 – Волков В.К. К вопросу о происхождении терминов «пангерманизм» и «панславизм» // Славяно-германские культурные связи и отношения. М., 1969
Гаджиев 1997 – Гаджиев К.С. Геополитика. М., 1997
Гаспринский 1993 – Гаспринский И. Россия и Восток. Казань, 1993
Гейден 1960 – Гейден Г. Критика немецкой геополитики. М., 1960
Герцен XIII – Герцен А.И. Собрание сочинений в 30 т. Т. 13. М., 1958
Герцен XIV – Герцен А.И. Собрание сочинений в 30 т. Т. 14. М., 1958
Гильфердинг 1868 – Гильфердинг А.Ф. Собрание сочинений. Т. II. СПб., 1868
Голосовкер 1987 – Голосовкер Я.Э. Логика мифа. М., 1987
Григорьев 1867 – Григорьев В.В. Кабулистан и Кафиристан // Риттер К. Землеведение Азии: География стран Азии, находящихся в непосредственных сношениях с Россией. Кабулистан и Кафиристан. СПб., 1867
Григорьев 1997 – Григорьев О.В. «Внутренняя геоэкономика» современной России // «Бизнес и общество». 1997, № 1
Гройс 1992 – Гройс Б. Поиск русской национальной идентичности // «Вопросы философии». 1992, № 9
Гроф 1994 – Гроф С. Путешествие в поисках себя. М., 1994
Данилова 1946 – Данилова Е.Н. «Завещание» Петра Великого // Труды Историкоархивного института. Т. 2. М., 1946
Данилевский 1890 – Данилевский Н.Я. Сборник политических и экономических статей. СПб., 1890
Данилевский 1991 – Данилевский Н.Я. Россия и Европа: Взгляд на культурные и политические отношения славянского мира к германороманскому. М., 1991
Дельбрюк 1938 – Дельбрюк Г. История военного искусства в рамках политической истории в 4 томах. Т. 4. М., 1938
Долинский 1865 – Долинский В.Л. Об отношениях России к СреднеАзиятским владениям и об устройстве киргизской степи. СПб., 1865
Достоевский XI – Достоевский Ф М. Полное собрание сочинений и писем в 30 томах. Т. 11. Л., 1974
Достоевский XXII – Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений и писем в 30 томах. Т. 22. Л., 1981
Достоевский XXIII – Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений и писем в 30 томах. Т. 23. Л., 1981
Достоевский XXIV – Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений и писем в 30 томах. Т. 24. Л., 1982
Достоевский XXV – Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений и писем в 30 томах. Т. 25. Л., 1983
Достоевский XXVI – Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений и писем в 30 томах. Т. 26. Л., 1984
Достоевский XXVII – Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений и писем в 30 томах. Т. 27. Л., 1984
Достян 1980 – Достян И.С. Русская общественная мысль и балканские народы: От Радищева до декабристов. М., 1980
Дугин 1997 – Дугин А.Г. Основы геополитики. М. 1997
Евангелиста 2002 – Евангелиста М. Геополитика и будущее Российской Федерации // «Полис. Политические исследования». 2002, № 2
Елисеева 2000 – Елисеева О.И. Геополитические проекты Потемкина. М., 2000
Жан, Савона 1997 – Жан К., Савона П. Геоэкономика: Господство экономического пространства. М., 1997
Жигарев 1896 – Жигарев C.А. Русская политика в восточном вопросе. Ее история в XVI-XIX веках, критическая оценка и будущие задачи: Историко-юридические очерки. Т. 1. М., 1896
Жириновский 1993 – Жириновский В.В. О судьбах России. Ч. II: Последний бросок на юг. М., 1993
Жириновский 1997 – Жириновский В.В. Очерки по геополитике. М., 1997
Замятин 1998 – Замятин Д.Н. Моделирование геополитических ситуаций. (На примере Центральной Азии во второй половине XIX века) // «Полис. Политические исследования». 1998, №№ 2 и 3
Замятин 1999 – Замятин Д.Н. Моделирование географических образов: Пространство гуманитарной географии. Смоленск, 1999
Зорин 1997 – Зорин А.Л. Русская ода конца 1760-х – начала 1770-х годов, Вольтер и «греческий проект» Екатерины II // «НЛО. Новое литературное обозрение». 1997, № 24
Зорин 2001 – Зорин А.Л. Кормя двуглавого орла… Литература и государственная идеология в России последней трети XVIII – первой трети XIX века. М., 2001
Зубачевский 1998 – Зубачевский В.А. Планы Германии, Польши, Советской России в период польско-советской войны 1920 г. в свете традиционной и революционной геополитики // Гуманитарное знание. Сер. «Преемственность». Вып. 2: Сб. науч. тр. Кн. I. Ист. исслед. Омск, 1998
Зюганов 1994 – Зюганов Г.А. Держава. М., 1994
Зюганов 1995 – Зюганов Г.А. За горизонтом (о новейшей российской геополитике). М., 1995
Зюганов 1997 – Зюганов Г.А. География победы. М., 1997
ИВПР 1997 – История внешней политики России: Конец XIX – начало XX века. (От русско-французского союза до Октябрьской революции). М., 1997
ИВПР 1997а – История внешней политики России: Вторая половина XIX века. (От Парижского мира 1856 г. до русско-французского союза). М., 1997
ИВПР 1999 – История внешней политики России: Конец XIX – начало XX века. (От русско-французского союза до Октябрьской революции). Изд. 2-е. М., 1999
ИД II – История дипломатии. Изд. 2-е. Т. 2. М., 1963
Извольский 1924 – Извольский А.П. Воспоминания. Пг., 1924
Ильин 1994 – Ильин М.В. Выбор России: миф, судьба, культура // «Via regia». 1994, № 1–2
Ильин 1995 – Ильин М.В. Проблемы формирования «острова России» и контуры его внутренней геополитики // «Вестник Московского университета». Сер. 12, 1995, № 1 Ильин 1996 – Ильин М.В. Хронополитическое измерение: за пределами Повседневности и Истории // «Полис. Политические исследования». 1996, № 3
Ильин 1998 – Ильин М.В. Этапы становления внутренней геополитики России и Украины // «Полис. Политические исследования». 1998, № 3
Ильин, Цымбурский 1997 – Ильин М.В., Цымбурский В.Л. Открытое общество: от метафоры к ее рационализации. М., 1997
Казанович 1928 – Казанович Е.П. Из мюнхенских встреч Ф. И. Тютчева (1840-е годы) // Урания: Тютчевский альманах. Л., 1928
Каренин 1971 – Каренин А.А. Философия политического насилия. М., 1971
Квашнин-Самарин 1997 – КвашнинСамарин Е.Н. Морская идея в Русской земле // альм. Арабески истории. Серия II. Вып. 8: Россия морей. М., 1997
Киселев, Киселева 1994 – Киселев С.Н., Киселева Н.В. Размышления о Крыме и геополитике. Симферополь, 1994
Клаузевиц 1937 – Клаузевиц К. О войне. Т. 1–2. М., 1937
Ключевский 1989 – Ключевский В.О. Сочинения в 9 томах. Т. 5: Курс русской истории. Ч. V. М., 1989
Клячко 1997 – Клячко Т.Л. В поисках альтернативной стратегии // «Pro et contra». 1997. Т. 2, № 3
Кобринская 1992 – Кобринская И.Я. Внутриполитическая ситуация и приоритеты внешней политики России. М., 1992
Кожинов 1994 – Кожинов В.В. Тютчев. М., 1994
Колосов 1998 – Колосов В.А. «Примордиализм» и современное национально-государственное строительство // «Полис. Политические исследования». 1998, № 3
Константинов 1997 – Константинов С.В. Замолчанный Сталин // «Русский геополитический сборник». 1997, № 2
Константинов 1997а – Константинов С.В. Сталин в борьбе за единство России (декабрь 1917 – март 1921 г.) // «Русский геополитический сборник». 1997, № 2
Константинов 1998 – Константинов С.В. В долгу у Ивана Аксакова // «Русский геополитический сборник». 1998, № 3
Косолапов 1995 – Косолапов Н.А. Геополитика как теория и диагноз (метаморфозы геополитики в России) // «Бизнес и политика». 1995, № 5
Кочубей 1910 – Кочубей В.С. Вооруженная Россия: Ее боевые основы. Париж, 1910
Кургинян 1995 – Кургинян С.Е. Русская идея, национализм и фашизм // Куда идет Россия? Альтернативы общественного развития. Вып. II. М., 1995
Ламсдорф 1991 – Ламсдорф В.Н. Дневник, 1894–1896. М., 1991
Ларсен 1995 – Ларсен С. Моделирование Европы в логике Роккана // «Полис. Политические исследования». 1995, № 1
Лейн 1988 – Лейн Р. Публицистика Тютчева в оценках западноевропейской печати конца 1840-х – начала 1850-х годов // Литературное наследство 1988
Ленин 1992 – Ленин В.И. Выступление на IX конференции РКП(б) 20 сентября 1920 г. // «Исторический архив». 1992, № 1
Леонтьев 1996 – Леонтьев К.Н. Восток, Россия и славянство: Философская и политическая публицистика. Духовная проза (1872–1891). М., 1996
Лимонов 1991 – Лимонов Э. Ждут и живые и павшие // «Советская Россия». 15.01.1991
Лисюткина 1995 – Лисюткина Л.Л. «Панславизм» и другие дикие имена // «Новое время». 1995, № 24
Литературное наследство 1988 – Литературное наследство. Т. 97: В 2 книгах. Ф. И. Тютчев. Кн. 1. М., 1988
Литературное наследство 1989 – Литературное наследство. Т. 97: В 2 книгах. Ф. И. Тютчев. Кн. 2. М., 1989
Ллойд 1924 – Ллойд Г. Военные и политические мемуары … // Стратегия в трудах военных классиков. T. 1. М., 1924
Лунев 1999 – Лунев С.И. Вызовы безопасности южных границ России. М., 1999
Лурье 1993 – Лурье С.В. Российская империя как этнокультурный феномен и ее геополитические доминанты // сб. Россия и Восток: проблемы взаимодействия. М., 1993
Лурье 1995 – Лурье С.В. Российская империя как этнокультурный феномен и ее геополитические доминанты (Восточный вопрос, XIX век) // Цивилизации и культуры. Вып. II. М., 1995
Лурье 1995а – Лурье С.В. Русские в Средней Азии и англичане в Индии: доминанты имперского сознания и способы их реализации. // Цивилизации и культуры. Вып. II. М., 1995
Лурье 1997 – Лурье С.В. Историческая этнология. М., 1997
Лурье, Казарян 1994 – Лурье С.В., Казарян Л.Г. Принципы организации геополитического пространства (введение в проблему на примере Восточного вопроса) // «Общественные науки и современность». 1994, № 4
Людендорф 1923 – Людендорф Э. Мои воспоминания о войне 1914–1918 гг. T. I. M., 1923
Макиавелли 1987 – Макиавелли Н. История Флоренции. Изд. 2-е. M., 1987
Маккиндер 1995 – Маккиндер Х. Географическая ось истории // «Полис. Политические исследования». 1995, № 4
Маркс, Энгельс VII – Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения в 50 томах. 2-е изд. Т. 7. М., 1956
Маркс, Энгельс VIII – Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения в 50 томах. 2-е изд. Т. 8. М., 1957
Маркс, Энгельс IX – Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения в 50 томах. 2-е изд. Т. 9. М., 1957
Маркс, Энгельс XXXII – Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения в 50 томах. 2-е изд. Т. 32. М., 1964
Мартенс 1880 – Мартенс Ф.Ф. Россия и Англия в Средней Азии. СПб., 1880
Межуев 1999 – Межуев Б.В. Моделирование понятия «национальный интерес» (на примере дальневосточной политики России конца XIX – начала XX века) // «Полис. Политические исследования». 1999, № 1
Мельгунов 1974 – Мельгунов Н.А. Мысли вслух об истекшем тридцатилетии России // Голоса из России: Сборники А. И. Герцена и Н. П. Огарева. Выпуск первый (книжки I-III). Факсимильное издание. Кн. I. М., 1974
Мельгунов 1976 – Мельгунов Н. А. Россия в войне и в мире // Голоса из России: Сборники А. И. Герцена и Н. П. Огарева. Выпуск второй (книжки IV-VI). Факсимильное издание. Кн. IV. М., 1976
Мещеряков 1999 – Мещеряков А.Н. Ямато и Япония: процессы формирования государственной идентичности в период Нара (международный аспект) // «Восток». 1999, № 3
Милютин 1950 – Милютин Д.А. Дневник: 1878–1880. Т. 3. М., 1950
Мировая война 1934 – Мировая война в цифрах. М.; Л., 1934
Митрофанов 1997 – Митрофанов А.В. Шаги новой геополитики. М., 1997
Михайлов 1999 – Михайлов Т.А. Эволюция геополитических идей. М., 1999
Михутина 1994 – Михутина И.В. Польско-советская война 1919–1920 гг. М., 1994
Монтескье 1955 – Монтескье Ш. Избранные произведения. М., 1955
Морозов 1996 – Морозов Е.Ф. А. Е. Снесарев – величайший русский геополитик // «Русский геополитический сборник». 1996, № 1
Морозов 1997 – Морозов Е.Ф. Последний фельдмаршал // «Русский геополитический сборник». 1997, № 2
Надеждин 1989 – Надеждин Н.И. Два ответа Чаадаеву // Чаадаев 1989
Нессельроде 1872 – Нессельроде К.В. Записка … о политических соотношениях России // «Русский архив». 1872, № 2
Осгуд 1960 – Осгуд Р. Ограниченная война. М., 1960
Павловский 1994 – Павловский Г.О. Вместо России: сведения о беловежских людях // «Век XX и мир». 1994, № 9–10
Панарин 1994 – Панарин А.С. Россия в Евразии: вызовы и ответы // «Вестник Московского университета». 1994. Сер. 12, № 5
Петров 1926 – Петров М.А. Подготовка России к мировой войне на море. М.; Л., 1926
Пигарев 1935 – Пигарев К.В. Ф. И. Тютчев и проблемы внешней политики царской России // Литературное наследство. Т. 19–21. М., 1935
Пигарев 1936 – Пигарев К.В. Ф. И. Тютчев о французских политических событиях 1870–1873 гг. // Литературное наследство. Т. 31–32. М., 1936
Пигарев 1962 – Пигарев К.В. Жизнь и творчество Тютчева. М., 1962
Плешаков 1994 – Плешаков К.В. Геоидеологическая парадигма (взаимодействие геополитики и идеологии на примере отношений между СССР, США и КНР в континентальной Восточной Азии, 1949–1991 гг.). М., 1994
Погодин 1874 – Погодин М.П. Историко-политические письма и записки в продолжении Крымской войны: 1853–1856. М., 1874
Погодин 1876 – Погодин М.П. Статьи политические и польский вопрос (1856–1867). М., 1876
Поездка 1993 – Поездка В. М.Молотова в Берлин в ноябре 1940 г. / Предисловие Г. Н. Севостьянова // «Новая и новейшая история». 1993, № 5
Поздняков 1995 – Поздняков Э.А. Геополитика. М., 1995
Послание 1996 – Послание по национальной безопасности Президента Российской Федерации Федеральному Собранию. М., 1996
Потанин 1907 – Потанин Г.Н. Областническая тенденция в Сибири. Томск, 1907
Потанин 1987 – Потанин Г.Н. Письма. Т. 1. Иркутск, 1987
Разин 1957 – Разин Е.А. История военного искусства в 3 томах. Т. 2. М., 1957
Разуваев 1993 – Разуваев В.В. Геополитика постсоветского пространства. М., 1993
Роговин 1998 – Роговин В.З. Была ли альтернатива? Т. 6: Мировая революция и мировая война. М., 1998
Россия 1994 – Россия перед Вторым Пришествием. (Материалы к очерку Русской эсхатологии). Изд. 2е, испр. и доп. / Сост. С.В. Фомин. М., 1994
Савельева, Полетаев 1997 – Савельева И.М., Полетаев А.В. История и время: в поисках утраченного. М., 1997
Савицкий 1916 – Савицкий П.Н. К вопросу о развитии производительных сил // «Русская мысль». 1916, № 3 (Раздел: В России и за границей)
Савицкий 1916а – Савицкий П.Н. Проблемы промышленности в хозяйстве имперской России // «Русская мысль». 1916, № 11 (Раздел II)
Савицкий 1927 – Савицкий П.Н. Географический обзор РоссииЕвразии // Савицкий 1927б
Савицкий 1927а – Савицкий П.Н. Геополитические заметки по русской истории (приложение к книге: Вернадский Г. В. Начертание русской истории. Прага, 1927) // Савицкий 1997
Савицкий 1927б – Савицкий П.Н. Россия: Особый географический мир. Прага, 1927
Савицкий 1932 – Савицкий П.Н. Месторазвитие русской промышленности. Б., 1932
Савицкий 1940 – Савицкий П.Н. За творческое понимание природы русского мира. Прага, 1940
Савицкий 1997 – Савицкий П.Н. Континент Евразия. М., 1997
Сазонов 1991 – Сазонов С.Д. Воспоминания. М., 1991
Сборник 1881 – Сборник, изданный в память двадцатипятилетия управления министерством иностранных дел государственного канцлера светлейшего князя А. М. Горчакова: 1856–1881. СПб., 1881
Свечин 1922 – Свечин А.А. История военного искусства. Ч. 2. М., 1922
Свечин 1923 – Свечин А.А. История военного искусства. Ч. 3. М., 1923
Семенов 1952 – Семенов Ю.Н. Фашистская геополитика на службе американского империализма. М., 1952
Семенов-Тян-Шанский 1910 – СеменовТянШанский В.П. Город и деревня в европейской России: Очерк по экономической географии с 16 картами и картограммами. СПб., 1910
Семенов-Тян-Шанский 1996 – СеменовТянШанский В.П. О могущественном территориальном владении применительно к России // альм. Арабески истории. Серия II. Вып.7: Рождение нации. М., 1996
Сергеев, Цымбурский 1990 – Сергеев В.М., Цымбурский В.Л. К методологии анализа понятий: логика их исторической изменчивости // Язык и социальное познание. М., 1990
Сибирь 1893 – Сибирь и Великая Сибирская железная дорога. СПб., 1893
Сказкин 1964 – Сказкин С.Д. Дипломатия А. М. Горчакова в последние годы его канцлерства // Международные отношения. Политика. Дипломатия. XVI-XX века: Сборник статей к 80-летию академика И. М. Майского. М., 1964
Скобелев 1882 – Посмертные бумаги М.Д. Скобелева: I. Письма с кашгарской границы (1876) [Письмо к К. П. фон-Кауфману от 9 августа 1876 г.] // «Исторический вестник». 1882, № 10
Скобелев 1883 – Проект М.Д. Скобелева о походе в Индию [Письмо кн. Черкасскому от 27 января 1877 г. из Коканда] // «Исторический вестник». 1883, № 12
Снесарев 1906 – Снесарев А.Е. Индия как главный фактор в среднеазиатском вопросе: Взгляд туземцев Индии на англичан и их управление. СПб., 1906
Снесарев 1908 – Снесарев А.Е. Англо-русское соглашение 1907 года. СПб., 1908
Соколов 1993 – Соколов Д.В. Эволюция немецкой геополитики // сб. Геополитика: Теория и практика. М., 1993
Соловьев XI – Соловьев С.М. История России с древнейших времен в 15 книгах. Кн. 11 (тома 21–22). М., 1963
Соловьев XII – Соловьев С.М. История России с древнейших времен в 15 книгах. Кн. 12 (тома 23–24). М., 1964
Соловьев XIII – Соловьев С.М. История России с древнейших времен в 15 книгах. Кн. 13 (25–26).М., 1965
Соловьев XIV – Соловьев С.М. История России с древнейших времен в 15 книгах. Кн. 14 (27–28).М., 1965
Соловьев 1995 – Соловьев С.М. Император Александр I: Политика. Дипломатия. М., 1995
Сорокин 1995 – Сорокин К.Э. Геополитика современного мира и Россия // «Полис. Политические исследования». 1995, № 1
Сорокин 1996 – Сорокин К.Э. Геополитика современности и геостратегия России. М., 1996
Сороко-Цюпа 1993 – Сороко-Цюпа А.О. Проблемы геополитики в исследованиях французских авторов // сб. Геополитика: Теория и практика. М., 1993
Стариков 1995 – Стариков Е.Н. Держатели хартленда или обитатели острова? // «Новый мир». 1995, № 8
Стрежнева 1993 – Стрежнева М.В. Регионализация и соотношение сил в Европе // сб. Баланс сил в международной политике: Теория и практика. М., 1993
Струве 1911 – Струве П. Б. Patriotica. Политика, культура, религия, социализм: Сборник статей за пять лет (1905–1910 гг.). СПб., 1911
Струве 1997 – Струве П.Б. Patriotica. Политика, культура, религия, социализм. М., 1997
Тарасов, Цымбурский 1992 – Тарасов А.А., Цымбурский В.Л. Россия: по пути к доктрине национальной безопасности // США: экономика, политика, идеология, 1992. № 12
Тарле 1938 – Тарле Е.В. «Восточное пространство» и фашистская геополитика // «Историк-марксист». 1938, № 2
Тарле 1991 – Тарле Е.В. Наполеон. М., 1991
Тейлор 1961 – Тейлор М. Ненадежная стратегия. М., 1961
Тейлор 1995 – Тейлор А. Вторая мировая война // Вторая мировая война: Два взгляда (Якобсен Г. А. 1939–1945. Вторая мировая война: Хроника и документы; Тейлор А. Вторая мировая война). М., 1995
Терентьев 1875 – Терентьев М.А. Россия и Англия в Средней Азии. СПб., 1875
Терентьев 1876 – Терентьев М.А. Россия и Англия в борьбе за рынки. СПб., 1876
Терентьев 1906 – Терентьев М.А. История завоевания Средней Азии. Т. 2. СПб., 1906
Тириар 1992 – Тириар Ж.Ф. Евро-советская империя от Владивостока до Дублина // «Элементы». 1992, № 1.
Тириар 1997 – Тириар Ж.Ф. Сверхчеловеческий коммунизм (письмо к немецкому читателю) // [Дугин 1997, 515 сл.]
Троцкий VI – Троцкий Л.Д. Сочинения. Т. 6: Балканы и балканская война. М.; Л., 1926
Троцкий 1990 – Троцкий Л.Д. Моя жизнь. Т. 2. М., 1990
Трубецкой 1991 (1925) – Трубецкой Н.С. Наследие Чингисхана (взгляд на русскую историю не с Запада, а с Востока) // Вестник Московского университета. Серия 9. 1991, № 4. (Первая публикация: И.Р. [Трубецкой Н.С.] Наследие Чингисхана: Взгляд на русскую историю не с Запада, а с Востока. Б., 1925)
Трубецкой 1995 – Трубецкой Н.С. История. Культура. Язык. М., 1995
Туровский 1995 – Туровский Р.Ф. Ядро Евразии или ее тупик? // сб. Россия на новом рубеже. М., 1995
Туровский 1999 – Туровский Р.Ф. Политическая география. М.; Смоленск, 1999
Тухачевский 1992 – Тухачевский М.Н. Поход за Вислу // Тухачевский М.Н. Поход за Вислу; Пилсудский Ю. Война 1920 года. М., 1992
Тэйлор 1958 – Тэйлор А.Дж.П. Борьба за господство в Европе: 1848–1918. М., 1958
Тютчев 1976 – Тютчев Ф.И. Политические статьи. П., 1976
Тютчев 1993 – Тютчев Ф.И. Русская звезда. М., 1993
Тютчева 2008 – Тютчева А.Ф. Воспоминания: При дворе двух императоров. М., 2008
Улунян 1997 – Улунян А.А. Коминтерн и геополитика: Балканский рубеж, 1919–1938 гг. М., 1997
Урланис 1994 – Урланис Б.Ц. История военных потерь. СПб., 1994
Фадеев 1889–1890 – Фадеев Р.А. Собрание сочинений в 3 т. Т. 2. Ч. 2: Наш военный вопрос. Восточный вопрос. СПб., 1889–1890
Федотов 1991 – Федотов Г.П. Судьба и грехи России. Т. 1–2. СПб., 1991
Фест 1993 – Фест И. Адольф Гитлер. Т. I-III. Пермь, 1993
Фон Вилизен 1924 – Фон Вилизен В. Теория большой войны // Стратегия в трудах военных классиков. T. 1. М., 1924
Фош 1919 – Фош Ф. О принципах войны. Пг., 1919
Фош 1924 – Фош Ф. Ведение войны // Стратегия в трудах военных классиков. T. I. M., 1924
Фурсов 1996 – Фурсов А.И. Колокола истории. Ч. 1. М., 1996
Хантингтон 1994 – Хантингтон С. Столкновение цивилизаций? // «Полис. Политические исследования». 1994, № 1
Хантингтон 1997 – Хантингтон С. Столкновение цивилизаций и изменение мирового порядка // «Pro et contra». 1997, т. 2, № 2
Харботл 1993 – Харботл Т. Битвы мировой истории: Словарь. М., 1993
Хаусхофер 2001 – Хаусхофер К. О геополитике: Работы разных лет. М., 2001
Хлюпин 1999 – Хлюпин В.Н. Геополитический треугольник Казахстан-Китай-Россия: Прошлое и настоящее пограничной проблемы. Вашингтон, 1999
Цымбурский 1991 – Цымбурский В.Л. Сердцевина Земли, или Остров на материке // г. «Россия», 1991. № 51
Цымбурский 1993 – Цымбурский В.Л. «Остров Россия»: Перспективы российской геополитики // «Полис. Политические исследования». 1993, № 5
Цымбурский 1994 – Цымбурский В.Л. Военная доктрина СССР и России: осмысление понятий «угрозы» и «победы» во второй половине XX века. М., 1994
Цымбурский 1995 – Цымбурский В.Л. Циклы похищения Европы (большое примечание к «Острову России») // Иное: Хрестоматия нового российского самосознания. Т. 2. М., 1995
Цымбурский 1995а – Цымбурский В.Л. Тютчев как геополитик // «Общественные науки и современность». 1995, № 6
Цымбурский 1995б – Цымбурский В.Л. Земля за Великим Лимитрофом: цивилизация и ее геополитика // «Бизнес и политика».
1995, № 9
Цымбурский 1995в – Цымбурский В.Л. Сюжет для цивилизации-лидера: самооборона или саморазрушение // «Полис. Политические исследования». 1995, № 1. (В материалах «круглого стола», посвященного статье С. Хантингтона «Столкновение цивилизаций»)
Цымбурский 1996 – Цымбурский В.Л. Сверхдлинные военные циклы и мировая политика // «Полис. Политические исследования».
1996, № 3
Цымбурский 1997 – Цымбурский В.Л. «Остров Россия» зa пять лет: Приключения одной геополитической концепции // Россия и мир: Политические реалии и перспективы. Информационно-аналитический сборник. № 10. М., 1997
Цымбурский 1997а – Цымбурский В.Л. «Европа-Россия»: «третья осень» системы цивилизаций // «Полис. Политические исследования». 1997, № 2
Цымбурский 1997б – Цымбурский В.Л. Народы между цивилизациями // «Pro et contra». 1997, т. 2, № 3
Цымбурский 1997в – Цымбурский В.Л. «От великого острова Русии…»: К прасимволу российской цивилизации // «Полис. Политические исследования». 1997, № 6
Цымбурский 1998 – Цымбурский В.Л. Две Евразии: омонимия как ключ к идеологии раннего евразийства // «Вестник Евразии».
1998, № 1–2
Цымбурский 1998а – Цымбурский В.Л. Как живут и умирают международные конфликтные системы ( судьба балтийско-черноморской системы в XVI-XX веках) // «Полис. Политические исследования». 1998, № 4
Цымбурский 1999 – Цымбурский В.Л. Геополитика как мировидение и род занятий // «Полис. Политические исследования».
1999, № 4
Цымбурский 1999а – Цымбурский В.Л. Геополитика для «евразийской Атлантиды» // «Pro et contra». 1999, т. 4, № 4
Цымбурский 2000 – Цымбурский В.Л. Борьба за евразийскую Атлантиду: геоэкономика и геостратегия. М., 2000
Цымбурский 2001 – Цымбурский В.Л. Геополитика как машина времени // Библиообзор «Полис. Политические исследования». 2001, июль (Первая публикация – в Интернете: http://www. politstudies.ru/universum/biblio/issue07.htm)
Цымбурский 2002 – Цымбурский В.Л. Дождались? Первая монография по истории российской геополитики // Русский архипелаг, 2002 (Первая публикация – в Интернете: . ru/geopolitics/osnovi/review/wait/)
Цымбурский 2003 – Цымбурский В.Л. Дважды рожденная «Евразия» и геостратегические циклы России // «Вестник Евразии». 2003, № 4 (23)
Цымбурский 2003а – Цымбурский В.Л. Русские и геоэкономика // «Pro et contra». 2003, т. 8, № 2
Цымбурский 2003б – Цымбурский В.Л. Нефть и геотеррор: российские шансы в длинной тени 2008 года // «КосмоПолис. Политические исследования». 2003, № 3 (5)
Цымбурский 2007 – Цымбурский В.Л. Остров Россия. Геополитические и хронополитические работы: 1993–2006. М., 2007
Чаадаев 1989 – Чаадаев П.Я. Сочинения. М., 1989
Челышев 1999 – Челышев И.А. СССР – Франция: Трудные годы, 1938–1941. М., 1999
Чичерин 1906 – Чичерин Б.Н. Восточный вопрос с русской точки зрения // Трубецкой С.П. Записки. СПб., 1906. Приложение
Чхеидзе 1927 – Чхеидзе К.А. Лига Наций и государства-материки // «Евразийская хроника». Вып. 8. Париж, 1927
Чхеидзе 1931 – Чхеидзе К.А. Из области русской геополитики // Тридцатые годы: Утверждение евразийцев. Книга VII. Париж, 1931
Шишкин 1999 – Шишкин О.А. Битва за Гималаи: НКВД. Магия и шпионаж. М., 1999
Шлиффен 1938 – Шлиффен А. Современная война // Он же. Канны. М., 1938
Шмитт 1997 – Шмитт К. Планетарная напряженность между Востоком и Западом и противостояние Земли и Моря // Дугин 1997
Экштут 1997 – Экштут С.А. «Доступим мира мы средины» // «Вопросы философии». 1997, № 4
Эрн 1991 – Эрн В.Ф. Сочинения. М., 1991
Этап за глобальным 1993 – Этап за глобальным. Национальные интересы и внешнеполитическое сознание российской элиты. М., 1993
Якобсон 1931 – Якобсон Р.О. К характеристике евразийского языкового союза. П., 1931
Agnew, Carbridge 1995 – Agnew J., Carbridge S. Mastering Space: Hegemony, Territory and International Political Economy. L.; N. Y., 1995
Bausteine zur Geopolitik 1928 – Bausteine zur Geopolitik. B., 1928
Collins 1986 – Collins R. Weberian Sociological Theory. Cambridge, 1986
Collins 1999 – Collins R. The Geopolitical Basis of Revolution: The Prediction of the Soviet Collapse // Idem. Macrohistory: Essays in the Sociology of the Long Run. Stanford, 1999
Dorpalen 1942 – Dorpalen A. The World of General Haushofer. N. Y.; Toronto, 1942
Encyclopaedia Britannica 1960 – Encyclopaedia Britannica. Vol. 10. L., 1960
Fifild, Pearcy 1944 – Fifild R.H., Pearcy G.E. Geopolitics in Principle and Practice. Boston, 1944
Frederic II 1856 – Frederic le Grand. Les pincipes généraux de la guerre // Idem. Oeuvres … . T. XXVIII. B., 1856
Geopolitiques des regions françaises 1986 – Geopolitiques des regions françaises. / Sous la direction d’Yves Lacoste. T. 1. P., 1986
Geyer 1987 – Geyer D. Russian Imperialism: The Interaction of Domestic and Foreign Policy, 1860–1914. New Haven; L., 1987
Goldstein 1988 – Goldstein J. Long Cycles: Prosperity and War in the Modem Age. New Haven, 1988
Gottmann 1947 – Gottmann J. Doctrines geographiques en politique // Les Doctrines politiques modernes. N. Y., 1947
Gottmann 1952 – Gottmann J. La politique des Etats et leur geographie. P., 1952
Grabowsky 1960 – Grabowsky A. Raum, Staat und Geschichte: Grundlegung der Geopolitik. Köln; B., 1960.
Hauner 1990 – Hauner M. What is Russia to us? Russia’s Asian Heartland Yesterday and Today. Boston, 1990
Haushofer А. 1951 – Haushofer A. Allgemeine politische Geographie und Geopolitik. Bd.1. Heidelberg, 1951
Haushofer K. 1931 – Haushofer K. Geopolitik der Pan-Ideen. B., 1931
Haushofer K. 1934 – Haushofer K. Weltpolitik von Heute. B., 1934
Haushofer K. 1937 – Haushofer K. Weltmeere und Weltmächte. B., 1937
Hewitt 1971 – Hewitt M.J. Тhe Organisation of War // The Hundred Years War. / Ed. by K. Fowler. L., 1971
Kaufmann 1956 – Kaufmann W.W. Limited Warfare // Military Policy and National Security. / Ed. by W. W. Kaufmann. Princeton, 1956
Kissinger 1957 – Kissinger H.A. Nuclear Weapon and Foreign Policy. N. Y., 1957
Kjellen 1924 – Kjellen R. Der Staat als Lebensform. B.; Grunewald, 1924
Le Patourel 1971 – Le Patourel J. The War Aims of the Protagonists and the Negotiations for Peace // The Hundred Years War. Ed. by K. Fowler. L.-Basingstoke, 1971
Liddell Hart 1954 – Liddell Hart B.H. Strategy: The Indirect Approach. N. Y., 1954
Mackinder 1919 – Mackinder H.J. Democratic Ideals and Reality: A Study in the Politics of Reconstruction. L., 1919
Mackinder 1943 – Mackinder H.J. The Round World and the Winning of the Peace // «Foreign Affairs». 1943, vol. XXI, № 4
Malozemoff 1958 – Malozemoff A. Russian Far Eastern Policy, 1881–1904 – With Special Emphasis on the Causes of the Russian-Japanese War. Berkley, 1958
Mattern 1942 – Mattern J. Geopolitik. Doctrine of National Self-sufficiency and Empire. Baltimore, 1942
Maull 1939 – Maull O. Das Wesen der Geopolitik. Leipzig; B., 1939
McDonald 1992 – McDonald D.M. United Government and Foreign Policy in Russia, 1990–1914. Cambridge; L., 1992
Montecuccoli 1899 – Montecuccoli R. Abhandlungen uber den Krieg // Idem. Ausgewahlte Schriften. Bd. I. Wien; Leipzig, 1899
Morgentau 1978 – Morgentau H. Politics Among Nations. N. Y., 1978
Palmer 1971 – Palmer J.J.N. The War Aims of the Protagonists and the Negotiations for Peace // The Hundred Years War. / Ed. by K. Fowler. L., 1971
Parker 1985 – Parker G. Western Geopolitical Thought in the Twentieth Century. L.; N. Y., 1985
Prêt 1892 – Prêt C.A. La lutte des civilisations et l’accord des peuples d’aprè s les travaux ethnographiques de F.-H. Duchinski (de Kief) … . P., 1892
Quadrio Curzio 1994 – Quadrio Curzio A. Il Planeta diviso: Geoeconomica politica dello svilupo. Milano, 1994
Sarkisyanz 1954 – Sarkisyanz E. Russian Attitudes Towards Asia // «The Russian Review». 1954, vol. XIII, № 4
Sarkisyanz 1955 – Sarkisyanz E. Russland und der Messianismus der Orients. Tübingen, 1955
Scherer 1995 – Scherer P. Warum Geopolitik? Fragen zu einer umstritten Wissenschaft // «Berliner Debatte INITIAL». 1995, № 3
Schmitt 1942 – Schmitt C. Land und Meer. Leipzig, 1942
Spykman 1942 – Spykman N.J. America’s Strategy in World Politics: The United States and the Balance of Power. N. Y., 1942
Strausz-Hupe 1942 – Strausz-Hupe R. Geopolitics: The Struggle for Space and Power. N. Y., 1942
Taylor 1985 – Taylor P.J. Political Geography: World Economy, Nation State and Locality. L.; N. Y. 1985
Vernadsky 1931 – Vernadsky G. Lenin, Red Dictator. New Haven, 1931
Примечания
1
Как писал автор во введении «Speak, memory!» к составленному им самим незадолго до кончины сборнику: «Внесенное в заглавие слово конъюнктура происходит от латинского глагола conjungo, „вступать в связь, в том числе в брачный союз, образовывать сочетание с чем-либо“, – парадоксальным образом оно отсутствовало в античной латыни. Лишь новоевропейские языки вырабатывают идею конъюнктуры как сцепления факторов и обстоятельств, составляющих специфику того или иного качественно выделимого отрезка времени. <…> Влияние французской исторической науки XX века (школы „Анналов“) утвердило понятие о конъюнктурах разной длительности как посредствующем звене между структурой и событием: конъюнктуры предстают как сцепляющиеся тенденции в истории ментальностей, а также социальных, политических и хозяйственных структур, которые, в частности, делают определенную эпоху „плохим“ или „хорошим“ временем для тех или иных проектов и решений». См.: Цымбурский В.Л. Конъюнктуры Земли и Времени: Геополитические и хронополитические интеллектуальные расследования. М.: Издательство «Европа», 2011. С. 7.
(обратно)2
См.: Цымбурский В.Л. Хэлфорд Маккиндер: Трилогия хартленда и призвание геополитика // Цымбурский В.Л. Остров Россия: Геополитические и хронополитические работы. 1993–2006. М.: РОССПЭН, 2007. С. 388–389.
(обратно)3
С Ходатайством, текст которого приводится в Приложении к книге, и ответом Экспертного совета ВАК мы получили возможность познакомиться в Архиве Института философии РАН.
(обратно)4
См. об этом подробно в кн.: Межуев Б.В. Политическая критика Вадима Цымбурского. М.: Издательство «Европа», 2012. С. 141–185.
(обратно)5
См.: Цымбурский В.Л. Александр Солженицын и русская контрреформация // Цымбурский В.Л. Остров Россия: Геополитические и хронополитические работы. 1993–2006. М.: РОССПЭН, 2007. С. 464–475 (первая бумажная публикация: «Стратегический журнал», 2006, № 2).
(обратно)6
См.: Цымбурский В.Л. Морфология российской геополитики и динамика международных систем XVIII-XX вв. Фрагмент книги. Глава пятая. Первая евразийская эпоха России: от Севастополя до Порт-Артура // «Тетради по консерватизму», 2015, № 1. С. 50–109.
(обратно)7
Геополитика работавших в эмиграции в 1920–1930-х гг. классиков евразийства представляет интереснейшее соединительное звено между русской геополитической традицией Петербургской империи – традицией, в ту пору не осознанной в качестве специфической парадигмы или даже дисциплины, – и классической геополитикой Запада, в контексте которой рассматривал в 1947 г. труды Савицкого Ж. Готтманн [Gottmann 1947].
(обратно)8
Формально Готтманн критиковал геополитику с позиций ортодоксального академического политгеографа, осуждая ее развитие в сторону как идеологии, так и науки подготовки войны. На самом же деле, изображая ее явлением чисто немецким, как Маккиндера, так и Савицкого французский ученый оставляет в стороне, – он атакует геополитику Хаусхоферов как представитель иной национальной школы пространственного проектирования.
(обратно)9
Подробнее о бергсоновском идеале «открытого общества» как возрождении средневекового мифа Града Божия в условиях кризиса Европы наций-государств см. [Ильин, Цымбурский 1997].
(обратно)10
Попытка П. Тэйлора развести империализм и геополитику, утверждая, что первый основан на доминировании, а вторая – на состязании независимых сил, явно выдает тот факт, что автор сложился как ученый в маккиндеровской традиции.
(обратно)11
См. [Schmitt 1942. Шмитт 1997]. Любопытно, что в русском переводе названия последней статьи заключительные пять слов привнесены переводчиком (у Шмитта – «Die planetarische Spannung zwischen Ost und West»), явно стремившимся придать тексту более атональный стиль, чем в оригинале.
(обратно)12
Я предпочитаю говорить «имагинация», а не «воображение», так как последний термин в русском языке обозначает интеллектуальную способность, я же говорю о процессе порождения образов и о продуктах этого процесса.
(обратно)13
В моей работе [Цымбурский 1999, 22], по сути, представляющей первый вариант данной главы, я называл этот блок просто «геостратегией». Сегодня внутри стратегического блока геополитики я склонен различать – 1) собственно геостратегию, совокупность технологий прямого контроля над пространством, в том числе посредством военной силы; 2) геоэкономику, или «геополитику ресурсных потоков» [Жан, Савона 1997. Цымбурский 1999а; 2000; 2003а]; 3) геокультуру – геополитику лингвистических, культурных и идеологических ореолов, создаваемых вокруг государства средствами его масс-медиа, лояльных зарубежных диаспор и групп влияния (о таких «информационных деревнях» см. [Ильин 1996, 67. Цымбурский 1997а, 75]); 4) а также технику «геополитической акупунктуры» – разнообразных точечных акций, достигающих в качестве кумулятивного эффекта – изменения имиджа стран, регионов и мира в целом (примером можно считать геополитические эффекты международного терроризма [Цымбурский 20036]). Во всех этих случаях мы имеем дело с версиями геополитической стратегии, как правило, реализующей некие принципиальные установки, исходящие из имагинативного блока. В принципе, можно представить вырожденную, минималистскую геополитику (так сказать, «нулевую степень геополитики»), не формулирующую собственных программных геополитических образов и сюжетов, но сводящуюся к стратегическому или тактическому реагированию на непосредственно воспринимаемые раздражители.
(обратно)14
Далее – пропуск в тексте: отсутствует 1 стр. машинописи. – Примеч. ред.
(обратно)15
Далее в рукописи – абзац, завершение которого осталось в не найденных ее частях. Мы попытались реконструировать окончание (оно – в ломаных скобках) последней фразы дошедшего до нас текста: «Среди геополитических прогнозов, высказанных в 1990-х на тему „будущее мира и Запада“, два выглядят наиболее любопытными. Прогноз И. Валлерстайна [Валлерстайн 1997] предполагает разделение Северного полушария на два гроссраума: тихоокеанский, с американо-японским ядром, и евро-азиатский, под эгидой объединенной Европы. Валлерстайн допускает даже возможность <военного лидерства России в этой объединенной Европе при сохранении Европой безусловной экономической гегемонии в этом новом альянсе»). – Примеч. ред.
(обратно)16
Примеч. ред. Здесь рукопись данной части работы обрывается.
(обратно)17
Перед нами собственно прагматические ориентировки, реакции на внешние вызовы, но в отличие от XVI-XVII вв. эти реакции рационализируются в категориях конструирования определенных больших пространств и утверждения на них посредством союзнических отношений некоего устойчивого международного порядка.
(обратно)18
Интересно, что в войне за польское наследство, вызванной стремлением Франции посадить своего претендента на польский трон, Австрия воюет в Италии и Германии, Россия в Польше; когда на этой почве в польские дела вмешивается Турция, с ней сперва борется Россия, а Австрия пытается брать на себя роль посредницы. Австрия явно еще не принадлежит Балто-Черноморью; системы рассоединены, расстыкованы.
(обратно)19
В рукописи – судя по контексту (см. ниже) – описка: «противовесе». – Примеч. ред.
(обратно)20
Г. Державин. Ода «Водопад».
(обратно)21
Г. Державин. Стихотворение «Мой истукан». – Примеч. ред.
(обратно)22
Нечто вроде неоклассической мифологии и политического театра (англ.). – Примеч. ред.
(обратно)23
Г. Державин. Ода «На взятие Измаила». – Примеч. ред.
(обратно)24
Далее в рукописи – «Широкий раздел Турции союзниками, причем Пруссия как союзник турок (и впрямь союз с ними в 1791 г.). Особенность ситуации». – Примеч. ред.
(обратно)25
Ныне – Гиркан (Иран). – Примеч. ред.
(обратно)26
Далее – пропуск в тексте: утрачено несколько листов рукописи. – Примеч. ред.
(обратно)27
Сердечное согласие (фр.) – Примеч. ред.
(обратно)28
Внизу черными чернилами приписано фамилия «Корнилович». Очевидно, что автор хотел в последующих редакциях текста упомянуть высказывание декабриста А.О. Корниловича, о котором он впоследствии напишет в статье 2005 г. «Александр Солженицын и русская контрреформация»: «Сподвижник Пестеля декабрист А. Корнилович в записке Бенкендорфу из Петропавловской крепости напишет о двух целях России: на западе цель – безопасность, оборона, на востоке – торговля» [Цымбурский 2007, 477]. – Примеч. ред.
(обратно)29
Национальная Церковь (фр.). – Примеч. ред.
(обратно)30
Речь идет, вероятно, о гипотетической реконструкции В.Л. Цымбурским планов Александра II, т.к., скорее всего, здесь имеется в виду запись в Дневнике А.Ф. Тютчевой от 27 октября 1854 г.: «Сегодня вечером великий князь Александр Николаевич> прочел нам конфиденциальную корреспонденцию из Вены (вероятно, от Горчакова), представляющую очень умный обзор политического положения России в настоящее время и оканчивающуюся словами: „Нельзя понять современный кризис, если не отдавать себе отчета в том, что из него неизбежно должен вырасти новый мир“.
"Это именно то, что я думаю, – добавил великий князь, – и что говорил с самого начала войны". Великий князь и великая княгиня продолжали разговор на ту же тему, выражая по всем вопросам дня такие мысли, каких бы сами они не допустили или во всяком случае не высказали полгода тому назад. Они говорили, что Россия никогда не будет у себя хозяйкой, пока не получит Дарданелл, что естественными союзниками России являются славянские народы, которые во что бы то ни стало нужно вырвать из-под ига Турции и образовать из них самостоятельные государства.
Великая княгиня выразила сожаление, что в прошлом году, из опасения не иметь достаточно сил для их поддержки, был упущен самый благоприятный момент их вооружить, тогда как теперь, когда Россия имеет против себя всю Европу, этот благоприятный случай упущен и т. д. Оба с большой горечью высказывались по поводу политической системы, введенной Александром I на основах Священного союза, системы глубоко антинациональной, как показали последствия. Цесаревна прибавила, что ввиду невозможности для России чем-либо помочь славянам в настоящую минуту слишком поздно просить у них помощи, так как всякое восстание с их стороны будет немедленно подавлено Австрией, еще более страшной для этих народов, чем Турция.
Великий князь добавил: "Мы не проявили достаточного национального эгоизма, но обстоятельства толкнули нас на правильный путь и доказали, до какой степени ложна и опасна была наша политическая программа". Я была очень удивлена, услышав, что великий князь высказывается так определенно и откровенно в том смысле, в каком мыслят все просвещенные люди в стране, между тем как такого рода убеждения были очень чужды правительственным сферам еще год тому назад» [Тютчева 2008, 182–183]. – Примеч. ред.
(обратно)31
См. [Россия 1994, 404–405, 407–408]. – Примеч. ред.
(обратно)32
Речь идет о статье автора «Тютчев как геополитик» [Цымбурский 1995а], переизданной самим автором с небольшими дополнениями [Цымбурский 2007, 369–387]. – Примеч. ред.
(обратно)33
См. также [Цымбурский 2007, 380]. – Примеч. ред.
(обратно)34
Ср.: «Совет опытного политического мужа, упрямого защитника государственных интересов России Ф.И. Тютчева» [Сорокин 1996, 73]. – Примеч. ред.
(обратно)35
После названия главы в тексте рукописи стоит «§ 1. Славянство или Туран? (Между Парижским миром и Берлинским конгрессом)». Однако в дальнейшем автор отказывается от разделения тексты на параграфы, предпочитая нумерацию главок латинскими цифрами. – Примеч. ред.
(обратно)36
«При таком переходном состоянии, всё, что происходит в одном углу этой чересполосной страны, не может не отозваться со временем во всяком другом углу; думая о Литве, о балтийском прибрежье или о Черном море, мы не может не думать одновременно о Богемии и Румынии» [там же, 245].
(обратно)37
Отсюда и решение польского вопроса, по Фадееву, близкое к старому решению Пестеля: подготовка Польши к суверенности в союзе с Россией при выведении из-под польского влияния и русификации «Северо-Западной России» (Литвы, Белоруссии, Западной Украины).
(обратно)38
Это («решение в нашу пользу трудного восточного вопроса, другими словами, завоевать Царьград, своевременною, политически и стратегически верно направленною, демонстрациею») – цитата не из текста Скобелева 1871 г., а из письма Скобелева от 9 августа 1876 г. Т. е. разница во времени между 2 текстами Скобелева составляет не 6 лет, а всего 5, 5 месяцев. Понятно, откуда возникла эта ошибка: автор взял дату (1871 г.) из последнего скобелевского документа в этой публикации «Исторического вестника» («Записка о занятии Хивы»). – Примеч. ред.
(обратно)39
См. глава 4, раздел V. – Примеч. ред.
(обратно)40
Секуляризм геополитики Данилевского – в его учении о государствах и культурно-исторических типах как чисто земных, посюсторонних организмах, не имеющих оснований надеяться на бессмертие и потому вынужденных всецело сосредоточиваться лишь на своем земном процветании и мощи.
(обратно)41
Последующий большой фрагмент этой главы утрачен. Лист рукописи обрывается на начале предложения, реконструировать которое полностью представляется невозможным: «Сталкивание России и мери<дионального германо-австрийского блока>». – Примеч. ред.
(обратно)42
Ошибка автора. Цитируется одна из редакций текста «Дневника писателя» за июнь 1876 г. – Примеч. ред.
(обратно)43
Собственно, лишь один раз Достоевский поколебался в этой установке – опять же, в пору своего наивысшего увлечения идеей германо-русской сделки, когда, увлеченный мыслью о якобы готовящейся перекройке Европы, он желал России «на некоторое время забыть хоть немножко Петербург и побывать на Востоке, ввиду изменения судеб ее и всей Европы, изменения близкого, стоящего „при дверях“» [Достоевский XXVI, 84].
(обратно)44
Текст главы обрывается на этом предложении, конец которого мы попытались реконструировать, принимая во внимание содержащиеся в 10-й главе суждения автора о геополитической концепции евразийства. По всей видимости, в ходе написания данной главы, своим объемом уже явно превзошедшей другие исторические части диссертации, В.Л. Цымбурский решил изменить структуру работы и вынести материал о геополитических исканиях второй половины евразийской интермедии, связанные в первую очередь с активностью Империи на Дальнем Востоке (т. е. период от Берлинского конгресса до падения Порт-Артура), в две последующие главы – ориентировочно 6-ю и 7-ю, которые так и остались не написанными. Можно предположить, что по первому замыслу единая 5-я глава, посвященная первой евразийской интермедии, в окончательной структуре диссертации делилась на три отдельные главы: рассказ о второй половине рассматриваемой эпохи автор первоначально хотел вынести в отдельный параграф. – Примеч. ред.
(обратно)45
Источник атрибутировать не удалось. Ср. [Петров 1926, 158–159 и сл.]. – Примеч. ред.
(обратно)46
Может быть, для одних случаев показателен сам этот прагматизм (потом, в цикле III, договор Молотова-Риббентропа), а для других – мотив принятости в Европу (воспоминания Чаадаева о днях Екатерины), ср. трактовку Екатерининского века у Чаадаева и Данилевского.
(обратно)47
Примеч. ред. Несколько страниц рукописи утрачены, и нам неизвестно, чем заканчивается главка II и что содержалось в главке III данной главы. Мы попытались реконструировать конец абзаца, в котором речь идет о статье П.Б. Струве «Современное международное положение под историческим углом зрения», содержащей прямое указание на ту аналогию между ситуациями в Европе начала XX и XIX веков, которая является базовой для концепции этой части диссертации.
(обратно)48
Для лучшего понимания данной цитаты приведем здесь весь ее контекст: «Отсюда ясно, что и с военно-политической (социологической) и со стратегической (пространственной) и тактической (временной) точки зрения государственно-оперативная база, центральное базирование военной мощи на Балтийское море являлось бы в исследуемый нами период истории самым выгодным для Москвы, так как на Балтийском море русская военная сила являлась не только ближе всего к географической базе мирового центра и, таким образом, более способной и по качественному своему значению и по условиям обстановки отделить эту мировую базу от других военных сил. Но русская военная сила оказалась бы и ближе всего от географических баз, спорящих за эту мировую базу и охраняющих в то же время ее военных сил империальных государств, более близких к мировому центру, и, таким образом, более всего способной явиться третейской стороной в борьбе двух сторон за мировую власть». – Примеч. ред.
(обратно)49
В скобках автором вписано черными чернилами: «Мурманская проблема». – Примеч. ред.
(обратно)50
Следующую главку, как следует из оставленной ниже, под строкой черными чернилами записи, В.Л. Цымбурский собирался посвятить взглядам Д.И. Менделеева, высказанным ученым в книге 1906 г. «К познанию России». Однако этот параграф не был написан автором. – Примеч. ред.
(обратно)51
Николай II, мечтавший быть азиатским правителем, грезивший о титулах «богдыхана китайского» и «микадо японского», теперь благодарил Сазонова за «самый счастливый день в своей жизни» – обозначившееся благоприятное решение вопроса о Константинополе.
(обратно)52
Важная геополитическая подоплека новой установки: отсутствие непрерывного пространства, которое бы объединяло Россию с ее союзниками, отсутствие прямого ее преобладания над ними. Тем самым отсутствие возможности для того, чтобы «борьбу с Западом онтологическим» во имя «Запада феноменологического» осмыслить как реконструкцию Запада по инициативе России. Она именно онтологический союзник одной из сил романо-германского мира, а не носитель последней «тайны Запада», как у Тютчева.
(обратно)53
Лист с окончанием главки IX 8-й главы в архиве В.Л. Цымбурского не обнаружен. Глава 9-я, которая предположительно должна была содержать описание геополитических настроений деятелей большевистской революции в кратковременный период натиска на Европу под лозунгом мировой революции (т. е. примерно 1919–1923 гг.), скорее всего, так и осталась не написанной. Но автор, конечно, не мог бы отказаться от ее написания, поскольку едва ли согласился бы обойти в диссертации стороной тему геополитической изоморфности «искусов Священного Союза» и, условно говоря, «искусов Третьего Интернационала», фиксация которой в ряде предшествующих работ вызвала в свое время возмущенные отклики со стороны ряда коллег. – Примеч. ред.
(обратно)54
Г. Федотов писал, что «в Сталине… ненависть к Европе лишь созрела до дьявольского замысла: разжечь мировую войну, чтобы на пепелище Европы, среди пустынь былой христианской цивилизации, построить могущество русского красного царства» [Федотов 1991, т. 2, 230]. Несомненно, однако, что этот «дьявольский замысел» находит четкую аналогию в построениях Тютчева (у которого Великая Резня народов предшествует возникновению «другой Европы» – России будущего), Достоевского, Леонтьева. В том же ряду оказываются евразийцы, рассматривающие войну цивилизаций Азии против «романо-германского хищничества» как событие, подготавливающее становление «православной Евразии». Приписываемый Федотовым Сталину план разрушения «христианской цивилизации» восходит к проектам русских мыслителей, видящих в Западной Европе прежде всего «цивилизацию еретическую».
(обратно)55
Любопытно соприкосновение с оригинальным учением Н. Лосского об иерархии душ-монад, причем как христианский еретик Лосский развивал идею переселения и восхождений душ, при этом не исключая возможности возвышения человеческой души до статуса души соборного индивида.
(обратно)56
См. [Цымбурский 1998]. – Примеч. ред.
(обратно)57
Глава 10 не имела заглавия в рукописи и была обозначена только соответствующим числом. Следующая глава, которая была найдена в бумагах В.Л. Цымбурского, обозначена числом 15: она излагает собственную геополитическую доктрину автора – концепцию «Острова Россия».
Глава 14 с большой долей вероятности должна была быть посвящена геополитическим идеям, распространенным в России после 1991 г., в частности, теориям А.Г. Дугина и Е.Ф. Морозова. Глава 13, вероятно, должна была повествовать о геостратегических воззрениях творцов советской международной политики: можно предположить, что Цымбурский воспользовался бы здесь своими прежними наработками в области изучения советских военных доктрин [Цымбурский 1994]. В 12 главе, скорее всего, автор намеревался восстановить то, что можно было бы назвать «геополитикой Сталина», т. е. те идеи, которые легли в основу нашей третьей попытки войти в Европу в качестве союзницы одной из противоборствующих в ней сил (весь период с 1936 по 1941 г.). Наконец, можно сделать допущение, что в 11-й главе, вопреки прежнему жестко хронологическому распределению исторических глав, автор собирался рассказать о других геополитических идеологах «второй евразийской интермедии» (прежде всего, о жившем в эмиграции генерале H.H. Головине, взгляды которого на тихоокеанскую политику России В.Л. Цымбурский высоко ценил) и о проектах вождей большевиков по перенесению центра мировой революции в Азию. – Примеч. ред.
(обратно)58
Теме геополитической мысли в России в 1990-е годы, вероятно, была посвящена глава 14 диссертации, которая не оказалась обнаружена в архиве автора. – Примеч. ред.
(обратно)59
В рукописи зачеркнуто указание на то, что автором этого проекта является Е.Ф. Морозов. Речь, очевидным образом, идет о статье Е.Ф. Морозова «Теория Новороссии», опубликованной в «Русском геополитическом сборнике», 1996 № 1. – Примеч. ред.
(обратно)60
См. [Цымбурский 1997в]. – Примеч. ред.
(обратно)61
Данный фрагмент представляет собой отдельный лист рукописи, предположительно относящийся ко второй главе диссертации, содержащей последовательное изложение теоретических оснований всей работы. Судя по особой системе нумерации абзацев – с помощью латинских цифр, – которую мы не обнаруживаем в других частях этой главы, этот отрывок относится к одной из ее ранних редакций. Поэтому мы публикуем этот отрывок в приложении к основной части диссертации, приводя и зачеркнутые в рукописи абзацы, и те, которые были оставлены автором. – Примеч. ред.
(обратно)62
Часть текста – с начала до слов «два фокуса двуединой метасистемы» – зачеркнута в рукописи. – Примеч. ред.
(обратно)63
В рукописи главки, обозначенной римской цифрой IV, первые десять и последние тринадцать строк зачеркнуты рукой автора. Поскольку за удаленным текстом следует фрагмент III, можно предположить, что удалена была вся главка целиком. – Примеч. ред.
(обратно)64
Этот фрагмент сохранился в машинописи, и вероятно, он был отпечатан автором с целью его отдельной публикации, которая, однако, не состоялась. Мы помещаем его в приложении к 4 главе диссертации, где подробно разбираются геополитические воззрения Ф.И. Тютчева, хотя у нас нет полной уверенности в том, что текст «Энгельс и Тютчев» так или иначе должен был быть инкорпорирован в диссертационную работу. – Примеч. ред.
(обратно)65
Данный фрагмент, вероятно, представляет собой раннюю редакцию начала пятой главы диссертации. Автор, очевидным образом, надеялся инкорпорировать материал, содержащийся в этом отрывке (в частности, изложение геополитических взглядов М.П. Погодина и П.А. Вяземского эпохи Крымской войны), в основной текст главы, посвященной первой евразийской интермедии. Однако это сделать не получилось, возможно, по причине и без того значительного объема главы, посвященной первой евразийской интермедии, самой большой в диссертации. – Примеч. ред.
(обратно)66
Лист рукописи обрывается на незаконченном предложении: «Мысль о том влиянии, которое окажет Россия на целый Запад». Продолжение фрагмента не найдено. – Примеч. ред.
(обратно)67
Документ отпечатан на бланке Института философии РАН и датирован ноябрем 2003 года. Отправлен по факсу 9 декабря 2003 года. – Примеч. ред.
(обратно)68
Документ представляет собой описание Вадимом Цымбурским его вклада в практическую и теоретическую геополитику. В хранящихся в личном архиве Н.М. Йова листах машинописи этой краткой характеристике предшествует небольшая библиография, завершающаяся статьями 2006 года, из чего можно сделать вывод, что этот документ относится либо к концу 2006, либо к началу 2007 года (примерно до апреля, когда вышел в свет сборник статей «Остров Россия», не упомянутый в этом списке). – Прим. ред.
(обратно)69
Поскольку не обливал свою страну ненавистью вперемешку с презрением, а стоял на пророссийских позициях.
(обратно)70
Цымбурский В.Л. Остров Россия: Геополитические и хронополитические работы. 1993–2006. М., 2007. – 544 с; Он же. Конъюнктуры Земли и Времени. М., 2011. – 372 с.
(обратно)71
Межуев Б.В. Политическая критика Вадима Цымбурского. М., 2012. – 200 с.
(обратно)72
Мыслитель предупреждал, что «геополитика панидей» может оказаться черным ходом для «геополитического идеализма», проповедующего политику идеалов, а не интересов и убеждающего народы и государства жертвовать собой ради суверенитета Больших Пространств. Этот вид идеализма он обнаруживал в трудах А.Г. Дугина.
(обратно)73
Интересно, что в плюралистической доктрине Хантингтона, с ее стремлением предотвратить битвы цивилизаций созданием такого глобального порядка, где цивилизационные ареалы будут вверены гегемонии их ядровых государств, Цымбурский вполне резонно увидел решение полностью в стиле Хаусхофера.
(обратно)74
И «сумрачный».
(обратно)75
Циклов он выделял три, ходов в этих циклах – пять, включая «евразийскую интермедию».
(обратно)76
Собственно обоснованию концепции сверхдлинных военных циклов (СВЦ) посвящена статья Цымбурского «Сверхдлинные военные циклы и мировая политика» (ж. «Полис». 1996. № 3). Также см.: Цымбурский В.Л. «Европа-Россия»: «третья осень» системы цивилизаций // Полис. 1997. № 2.
(обратно)77
Цымбурский В.Л. Остров Россия. С. 215.
(обратно)78
Бибо И. О смысле европейского развития и другие работы. М., 2004. С. 248–251.
(обратно)79
Но прежде всего, Г. Ферреро является автором работ по истории Древнего Рима, в том числе – превосходного фундаментального пятитомника «Величие и падение Рима», а также соавтором исследования «того самого» Ч. Ломброзо «Женщина, преступница и проститутка» (La donna delinquente, la prostituta e la donna normale. 1893). В 1922 г. Ферреро был министром в правительстве Б. Муссолини, а с 1929 г. стал эмигрантом-антифашистом и профессором Института международных исследований в Женеве.
(обратно)80
Стыкалин А. Иштван Бибо – мыслитель и политик//Бибо И. Указ. соч. С. 438.
(обратно)81
Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. Т. 1. Гештальт и действительность. М., 1993. С. 189–200.
(обратно)82
Если же вы вместе с вашим народом живете за пределами европейской цивилизационной ниши, однако высветляете кожу, размахиваете флагом Евросоюза, клянетесь в верности европейским ценностям и непрерывно твердите мантру о европейском выборе, то это ни вас, ни ваш народ не превратит в европейцев, а вашу страну – в частицу европейской цивилизации. Скорей всего, эти действия приведут к тому, что народ сорвется в штопор, а страна – рассыплется на куски.
(обратно)83
Болховитинов H.H. Становление русско-американских отношений, 1775–1815. М., 1966. Он же. Русско-американские отношения, 1815–1832. М., 1975. Он же. Русско-американские отношения и продажа Аляски. 1834–1867. М., 1990.
(обратно)84
Идеи которого, кстати говоря, Цымбурский в законченных частях диссертации практически не рассматривал.
(обратно)




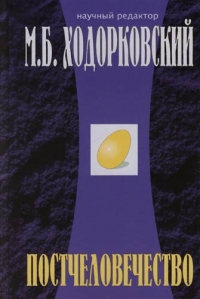
Комментарии к книге «Морфология российской геополитики и динамика международных систем XVIII-XX веков», Вадим Леонидович Цымбурский
Всего 0 комментариев