«Русская расовая теория до 1917 года» выпуск 1 Борьба за существование в обширном смысле И. И. Мечников
I. Общие начала борьбы за существование в человеческом мире. - Учение о естественном неравенстве. - Очерк априорических воззрений на ход борьбы за существование между людьми.
Связав свое учение с теорией Мальтуса, Дарвин естественно не мог не коснуться вопроса о борьбе за существование в человеческом мире. И здесь он видит существеннейший источник борьбы в значительной плодовитости. При удвоении населения в двадцатилетний период, нынешнее население земного шара уже через 463 года размножилось бы в такой степени, что люди должны были бы тесно стоять друг возле друга, не имея возможности ни сесть, ни двинуться с места (Г. Фик). Отсюда следует, что беспрепятственное возрастание населения должно в сравнительно короткий период вести к перенаселению и усиленной борьбе за существование, и к установлению различных препятствий с целью задерживать произрождение и уменьшать число народившихся людей.
Вопрос о «перенаселении», как в высшей степени сложный, следовало бы подвергнуть здесь обстоятельному исследованию, если бы, согласно с Дарвиным, видели в усиленном размножении главнейший, если не единственный, источник борьбы за существование. Следует, однако же указать на то, что понятие о перенаселении в высшей степени условно: состояние, которое для одного народа будет наитягчайшим, для другого, более производительного, окажется совершенно сносным. Многие дикари уничтожают значительную часть своего потомства, чувствуя себя в состоянии перенаселения, между тем как европейцы в тех же местностях находят возможным не только свободно размножаться, но еще и принимать большую массу всельников. Понятие о перенаселении имеет в значительной степени субъективный характер и в этом смысле может быть приложено к некоторым явлениям действительности.
Стимулы, вызывающие борьбу за существование, сложны и разнообразны во всем органическом мире; но нигде они не доходят до той степени усложнения, как в пределах человеческого рода. Всякие человеческие стремления ведут к борьбе из-за удовлетворения их, и уже то, что человек, лишенный таких стремлений, обыкновенно считается нисходящим на степень животного, показывает, до чего присущи эти стимулы борьбы истинно-человеческому существованию. Стремление к щеголянию и роскоши составляет одно из самых ранних и распространенных человеческих стремлений и служит постоянным источником разнообразных явлений борьбы. Чтобы судить о силе его, следует припомнить, до чего распространено татуирование и другие подобные операции, которые всегда причиняют сильную боль, а иногда бывают даже смертельны. Южноамериканский индеец в течении двух недель исполняет тяжелую работу для того, чтобы иметь возможность приобрести необходимое для размалевания количество красной краски (Гумбольдт). Желание нарядиться во множестве случаев удовлетворяется в ущерб питанию и общему здоровью организма. Потребность в ответной любви ежегодно стоит многих жертв, как то показывает статистика самоубийств.
Ясно, что для объяснения различных явлений борьбы вовсе не необходимо прибегать к принятию усиленной густоты населения и вытекающего отсюда недостатка в жилье и пище. Человек есть существо общественное, а это условие само по себе уже в высшей степени усложняет жизнь, как это отчасти было уже показано выше на примере борьбы в мире пчел и муравьев (см. "Наша жизнь - борьба!"). В человечестве мы видим борьбу между обществами и между отдельными лицами. К первой категории относится война, как выражение активной борьбы, соперничества народов на всемирном торговом и промышленном рынке, то есть борьба, по-видимому, более миролюбивого свойства. Другой формой той же борьбы является чисто физиологическая сторона национальной и расовой жизни, то есть способность различных человеческих групп переносить известные болезни, климатические и другие стихийные перемены. Общественная борьба имеет длинную шкалу степеней и подразделений. Она обнимает борьбу между расами, народами, политическими партиями и вообще между всякими группами, соединенными во имя одного какого-нибудь общего принципа.
То же повторяется и при индивидуальной борьбе. Здесь мы также встречаем активную - мускульную борьбу, затем - конкуренцию в самых разнообразных формах и, наконец, соматическую борьбу. Борьба возникает между более или менее однородными лицами, что, конечно, значительно влияет на самый ход ее.
Силы, участвующие в борьбе, большей частью, если не всегда - неравны, и потому ведут не к равновесию, а к перевесу одной стороны над другой. Правило это, приложимое вообще к органическому миру, в сильнейшей степени применимо и к человечеству. Обыкновенно, чем сложнее организм, тем более он представляет индивидуальных особенностей. Уже одного этого вывода достаточно для того, чтобы указать на то, как отличия между людьми должны быть значительнее, чем между другими животными. Многочисленные измерения людей различных рас показали, что индивидуальные отличия вообще сильнее у высших рас, нежели у низших, у мужчин сильнее, нежели у женщин, у взрослых сильнее, чем у детей. Индивидуальные отклонения замечаются притом не только на наружных признаках человека, но также и на внутренних органах его. Профессор Зернов исследовал с этой целью сто мозгов, принадлежавших преимущественно взрослым мужчинам, уроженцам средней России, и пришел к заключению, «что рисунок борозд у взрослого человека подвержен множеству индивидуальных видоизменений». Уклонения эти настолько значительны, что другой ученый, Вейсбах, принял их за выражение племенных отличий. Признаки, более скрытые в глубине организма, подвержены еще большим колебаниям. Гальтон заметил (и я могу подтвердить справедливость этого наблюдения), что близнецы, сходные по виду до неузнаваемости, легко могут быть отличаемы по почерку. Сиамские близнецы, несмотря на все наружное сходство и неразрывную связь, представляли тем не менее весьма резкие отличия характера.
Отличия между большими человеческими группами, народами и расами настолько крупны и очевидны, что я даже считаю лишним распространяться здесь об этом. Влияние культуры на усиление индивидуальных отличий человека так же несомненно, как и в мире домашних животных. Влияние это по крайней мере отчасти зависит от той же причины, которая была приведена выше для объяснения сравнительной однородности диких животных. Цивилизованные народы употребляют все усилия для того, чтобы охранять людей от тех влияний, которые бы непременно погубили их при условиях первобытной жизни. Огромная смертность детей первобытных народов представляет нам, быть может, самый крупный пример борьбы за существование в человеческом роде и является актом отбора слабейших неделимых. «Есть основание думать, - говорит Дарвин, - что оспопрививание сохранило тысячи людей, которые бы преждевременно умерли от оспы вследствие слабости сложения». То же самое и по отношению ко многим другим болезням и болезненным расположениям. Цивилизованные государства не только охраняют жизнь своих слабейших членов, но даже дают им возможность нередко вступать в брак и производить потомство; следовательно, допускают передачу по наследству и фиксирование особенностей своей слабой организации. С целью иллюстрировать это, я приведу хотя и исключительный, но зато весьма характерный случай. В Баварии существует деревня Биллингсгаузен, население которой, состоящее из 356 душ, пользуется значительным материальным довольством; но так как оно исповедует исключительно протестантскую веру среди большого католического населения, то все жители деревни в большей или меньшей степени породнились. Половина из них страдает каталепсией, болезнью, передающейся по наследству; все же население Биллингсгаузена, то есть со включением и некаталептиков, «хило, слабо и малоросло». Известны даже случаи браков между глухонемыми и слабоумными. По вюртембергскому уложению 1687 года, если желающий вступить в брак достаточно развит, чтобы понимать, «что такое супружеское состояние», то ему не может быть отказано в венчании.
В то время, как нестепенная борьба за существование при первобытных условиях дает полный простор естественному подбору уничтожать слабых конкурентов и тем выравнивать остающихся членов, цивилизация, поставившая своим идеалом сохранение возможно большего числа людей, несмотря ни на какие их недостатки, наоборот, влияет в противоположном направлении и тем самым обусловливает накопление все большего числа индивидуальных отклонений, то есть, вообще говоря, усиливает неравенство.
Предыдущие замечания могут, мне кажется, послужить к уяснению очень важного вопроса «об естественном неравенстве», занявшего столь важную роль в экономической науке и потому выдвинутого на самое видное место в известном споре между Трейчке и Шмоллером. В то время как первый пытается свести все явления общественного неравенства к основному естественному различию между людьми, Шмоллер старается всячески умалить значение последнего и взвалить большую часть вины на культурные влияния. «Вы говорите, - обращается он к Трейке, - исключительно о неравенстве, данном природой. Вы полагаете, что всякий, кто не хочет насиловать историю, должен начать с признания, что природа делает все существа неравными». «Это то же самое учение, - продолжает он, - которое отрицает единство человеческого рода». «Но вообще мы можем сказать, что религиозное и философское движение, продолжающееся целые тысячелетия, сделало это учение невозможным, и что новейшее направление научной этнографии, опирающееся на теорию Дарвина о медленном и постепенном преобразовании отдельных племен, возвратилось к учению о единстве человеческого рода и во всяком случае не сомневается в единстве и равенстве человеческого вида относительно мыслительной способности» (Grundfragen, стр 21). Здесь Шмоллером смешаны две совершенно различные вещи, что и ведет к значительным недоразумениям. Первое положение, которое он вкладывает в уста Трейчке, то есть факт, «что природа делает все существа неравными», не только не находится ни в малейшем противоречии с воззрением Дарвина на единство человеческого рода, но, наоборот, составляет один из краеугольных камней всего дарвинизма, сущность которого состоит в «переживании наиболее приспособленных особей в борьбе за существование», где уже само собой подразумевается, что все особи естественно неравны, и что одни из них более, а другие менее приспособлены к данным условиям. Единство же человеческого рода есть теория, по которой все человеческие расы произошли от одного общего корня, хотя сами эти расы и разошлись, то есть сделались различными во многих отношениях.
Итак, естественное неравенство между отдельными особями, племенами и расами есть общий принцип в организованном мире. Это неравенство может, разумеется, подвергаться различным влияниям и потому колебаться в ту или другую сторону. Мы уже видели, как может культура усиливать природные отличия и вообще обуславливать большую разновидность членов данного общества, но все же в основе этого лежит первобытное, хотя и меньшее неравенство. Следует иметь в виду, что увеличение природного неравенства может являться в результате прямо противоположных стремлений. Чем больше цивилизация заботится о предоставлении всем без различия индивидуумам, включая сюда и умственно неспособных, калек, хронически больных и проч., одинаковых прав к пользованию жизнью и ее благами, тем сильнее влияет она на фиксирование природных, передаваемых путем наследственности, различий. С другой стороны, цивилизация влияет также и на усиление чисто культурного неравенства, идущего часто в разрез с природным, влияет путем предоставления различных прав и привилегий, дающих возможность лицам от природы слабейшим одерживать победу над неделимыми, более одаренными.
Эти различные моменты неравенства (во-первых, первобытное естественное неравенство, во-вторых, усиленное культурой природное, и, наконец, обусловленное культурой в разрезе с природным неравенство) спорящими сторонами нередко смешиваются друг с другом и потому ведут к невозможности соглашения. Мне придется еще вернуться к этому предмету, теперь же я затронул его только с целью показать,что естественное неравенство между индивидуумами и группами их вообще присуще человеческому роду, и что поэтому, при соперничестве как первых, так и последних, перевес должен быть на какой-нибудь одной стороне, и что в результате должны (по общему правилу) быть победители и побежденные.
Теперь естественно возникает вопрос: нельзя ли найти каких-нибудь общих признаков, но которым бы можно было отличать победителей от побежденных и, на основании их, предсказывать результат борьбы? Натуралисты, писавшие об этом, высказываются вообще очень ясно и определенно на этот счет, хотя они большей частью решают вопрос в его целости, не расчленяя предварительно на более частные положения. Вот, например, свод выводов, к которым пришел известный немецкий физиолог Прейер: «Дурное, - говорит он, - то есть менее способное к жизни, погибает, тогда как лучшее, более способное, то есть более совершенное, побеждает и переживает». По отношению к человеку это положение применяется и развивается им следующим образом: «чем глубже мы станем проникать в последствия соперничества между людьми, тем благодатнее они нам представятся». «В борьбе за существование в конце концов добро и все более совершенное одерживает победу над худшим и менее совершенным, так что она постоянно переходит в борьбу за более прекрасное и благородное существование и постепенно все более приближает нас к совершенству, хотя при существующем порядке природы мы и не можем его вполне достигнуть. Но уже и то имеет немалое значение, если это соревнование показывает нам, что, поощряя дурное, мы сами вредим себе, что безнравственные поступки доставляют удовольствие. Таким образом, мы приходим к заключению, что оружия, которыми мы ведем борьбу за наше существование, суть не что иное, как поступки хорошей нравственности, человеколюбия и права». Увлекаясь подобного рода картинами, Прейер восклицает: «Разве эта мысль о естественном прогрессе, о никогда не прекращающем улучшении, облагоражении и совершенствовании не представляет нам нечто несравненно более драгоценное, чем слепое удивление перед гармонией природы, которой в действительности вовсе не существует? Разве другая гармония, равновесие враждебных сил природы, непреложность законов природы, победа лучшего над худшим, не бесконечно возвышеннее, чем погоня за целями, там, где никаких целей не существует, где мы принуждены искусственно придумывать их там, где, напротив, все совершается в силу причины и следствия?».
Заменяя таким образом один идеализм посредством другого, Прейер не остается без единомышленников и последователей. Другой немецкий натуралист, известный как анатом и антрополог, Эккер, произнес зимой 1871 года, то есть во время франко-прусской войны, речь, в которой он проводит в сущности те же идеи, как и его предшественник, но только, если возможно, в еще более резкой и определенной форме. «Подобно тому, - говорит он, - как в торговой и промышленной конкуренции победу, так точно и на более возвышенном поприще, каковы бы ни были отдельные исключения, добро побеждает зло, истина пробивается наружу и право остается правым. И если законы природы неизменны, то и в человечестве существует естественный подбор, то есть накопление благих качеств, приобретенных в борьбе за существование». Вывод этот Эккер применяет в частности и к борьбе рас и народов.
К числу подобных же идеалистов-естествоиспытателей должен быть отнесен у нас профессор Бекетов, развивший впервые свой взгляд на публичных лекциях (см. «Вестник Европы», 1873, октябрь, особенно главу III), также как и его предшественники - Прейер и Эккер. Но не между одними натуралистами, то есть учеными, стоящими далеко от человеческих дел и судящими о них большей частью a priori, а и среди представителей науки о человеческой жизни встречаются не менее оптимистические воззрения. На такой точке зрения стоит, например, Шэффле, один из видных современных экономистов. Пытаясь вывести основы нравственности и права из законов борьбы за существование и естественного подбора, он выдвигает следующие афоризмы: «наиболее нравственные общества суть в то же время и сильнейшие». «Игра естественного подбора является не только орудием общественного совершенствования, но также и судом, единственной эмпирически-познаваемой долей нравственного строя природы, которой возвышает более совершенное и уничтожает более низкое» и т. д.
Легко понять, как, идя априорическим путем, можно придти к подобным выводам; но для знакомства с предметом необходима и индуктивная поверка. «Многие писатели, - сказал Макиавелли, - изображали государства и республики такими, какими их никогда не удавалось встречать их в действительности. К чему же служили такие изображения? Между тем как живут люди, и тем, как должны они жить - расстояние необъятное». Попробуем, в самом деле, обратиться прежде всего к действительности и почерпнуть из нее сведения для решения вопросов о ходе борьбы за существование между людьми.
II. Основные положения о конкуренции в человечестве. - Слабая роль нравственного момента в конкуренции, вследствие недостаточной определенности нравственного мерила. - Пояснение этого на примере этической школы экономистов.
Конкуренция между людьми есть неизбежное следствие несоответствия между потребностями и средствами к их удовлетворению. Чем больше это несоответствие, чем многочисленнее потребности и чем большее число людей чувствует их, тем конкуренция должна быть сильнее. Культура, при помощи своих удивительных открытий, доставляет постоянно все новые и новые средства к удовлетворению человеческих потребностей, но в то же время, значительно поднимая степень развития, она в еще сильнейшей степени увеличивает число и силу самых потребностей. Отсюда возникает усиленное столкновение интересов и усиленная борьба за несравненно более требовательное существование. С этой точки зрения легко понять, что явление всеобщей конкуренции между членами обширного культурного общества представляется фактом в высшей степени крупным и существенным и до известной степени сходным с неизбежными естественными явлениями. Мнение, будто конкуренция не заложена так глубоко в человечестве и составляет нечто легко устранимое, чрезвычайно шатко. «Известно, - говорит Адольф Вагнер, - что современная система свободной конкуренции составляет продукт новейшей истории, и вовсе не видно, почему она в настоящей форме должна представлять окончательный результат исторического развития. Как сложившаяся исторически, в зависимости от категорий пространства и времени, она, напротив, имеет значение только для известной фазы развития и составляет нечто необходимо преходящее». Мнению этому никоим образом не следует придавать значение возражения против понятия о неизбежности конкуренции, и оно может быть разделяемо разве только по отношению к частостям «современной системы свободной конкуренции». Но и по мнению самых горячих приверженцев этой системы, последняя не составляет нечто уже сложившееся, а только идеал, к которому следует стремиться. «Во вполне организованной системе мирового хозяйства, - говорит Эммингсгаус, - сила конкуренции была бы непреодолима, постоянна и действия ее могли бы быть точно определяемы, подобно действиям закона природы». Насколько силен принцип конкуренции в человечестве, можно видеть отчасти из сказанного в начале этой главы, отчасти же из дальнейшего изложения.
Конкуренция в человеческом обществе, как и в мире всяких других общественных животных, есть явление чрезвычайно сложное. Всякое общество слагается из разнородных элементов, которые приходят между собой в столкновение; но, кроме того, мы видим и соперничество однородных членов каждой группы. При торговой конкуренции, например, «совершается, во-первых, борьба покупателей с продавцами; первые хотят приобрести требуемое за возможно низшую цену; вторые же стремятся получить елико возможно большую плату. Во-вторых, покупатели борются с покупателями и, наконец, продавцы с продавцами. Во всякой такой борьбе победу одерживает сильнейшая сторона» (Эммингсгаус). Из всех категорий борьбы важнейшей, как и всегда, представляется конкуренция между наиболее однородными членами. Ее-то мы, главным образом, и будем иметь в виду.
Конкуренция заставляет напрягать все силы и потому в значительной степени содействует увеличению человеческой деятельности. Это положение может быть принято как общеизвестное, так как оно подтверждается ежедневным наблюдением. Ослабление конкуренции ведет за собой обыкновенно и ослабление энергии. «Но, - как замечает Рошер, - свободная конкуренция освобождает все силы, как добрые, так и злые». Поэтому она содействует увеличению не только знаний, предприимчивости, трудолюбия, общительности и прочее, но также и изощряет хитрость, обман и другие стороны умственной природы человека, признаваемые обыкновенно безнравственными. В то время как активная борьба влияет на увеличение различных сторон физической силы, то есть силу мускулов, гибкость членов и ловкость движений, так мирная конкуренция содействует, главным образом, развитию всех сторон умственной деятельности.
Двойственное влияние конкуренции особенно заметно в современном европейском мире, в котором, вследствие вышеупомянутых мотивов, чрезвычайно сильна борьба за существование. С одной стороны, значительное повышение ума, знания и трудолюбия, с другой же - пренебрежение кодексом нравственных правил. Сами приверженцы полной свободы конкуренции признают, что «широкая совесть помогает одерживать победу в конкуренции; слишком же большая щепетильность оказывается вредной в торговом деле» (Эммингсгаус). Герберт Спенсер в довольно большой статье «Торговая нравственность» (Опыты, т. II), приводит достаточно данных, чтобы судить о влиянии торговой конкуренции на нравственность и, что еще важнее, показывает нам процесс, которым люди, сами по себе не лишенные признаваемых за нравственные побуждений, бывают приведены в необходимость совершать поступки, считающиеся безусловно безнравственными. Герберт Спенсер сообщает целый ряд ухищрений, пускаемых в ход торговцами для достижения своих целей, ухищрений, доходящих до рафинированного симулирования добросовестности и честности. «Еще более утонченную проделку объяснил нам, - пишет Г. Спенсер, - человек, который сам прибегал к ней, когда служил в оптовой торговле и до того наловчился, что его часто призывали на подмогу, когда покупатели колебались, несмотря на все старания других приказчиков. Проделка состояла в том, чтобы казаться до крайности простоватым и честным; при первых покупках он доказывал свою честность, обращая внимание покупателя на недостатки издаваемого им товара, а затем, заручившись доверием, спускал дурной товар за высокие цены. Разнообразные проделки, более или менее хитрые и но общепринятому кодексу безнравственности, до того распространились в коммерческом мире, что им поневоле должны подчиняться лица, прикосновенные к торговому делу». «Чем большее число лиц поддалось соблазну, - говорит далее Спенсер, - чем шире распространилася проделка, тем труднее бывает устоять остальным. Натиск конкуренции становится все чувствительнее и чувствительнее. Добросовестным людям приходится вести войну неравным оружием: они лишены одной из отраслей барыша, которой обладают их противники, и невольно должны идти по следам остальных». В высшей степени важно следующее место из той же статьи: «Нам известна история одного торговца сукнами, который хотел во что бы то ни стало дать совестливости право голоса в своей лавке и отказался от всех обманов, принятых в его отрасли...» «То, что конкуренты его сбывали помощью лжи, оставалось у него непроданным и дело стало столь невыгодным, что он два раза обанкротился. Человек, передававший нам обстоятельства этого дела, уверял нас, что торговец этот нанес гораздо больше вреда ближним через свое банкротство, нежели бы мог нанести обычными торговыми обманами. Вот до какой степени усложняется вопрос, и как трудно определить преступность купца в подобных случаях. Ему почти всегда приходится бороться с двумя крайностями. Если он ведет свое дело со строгой честностью, продает только цельный товар, отпускает только полные меры, то конкуренты, надувая публику, имеют возможность продавать дешевле: лавка его пустеет, а книги весьма скоро показывают, что он будет не в состоянии выполнить свои обязательства и содержать всю семью. Что же ему делать?» «...Следовать примеру конкурентов и пускать в ход надувательства... что кажется более основательным не только ему, но другим людям. Зачем же он станет разорять и себя и семейство свое в попытках вести дело иначе, нежели ведут его другие? И он решается делать так, как делают другие». Нечего и говорить, что экономисты современной этической школы разделяют вполне эти взгляды о влиянии конкуренции на нравственность «При свободной конкуренции, - говорит один из наиболее выдающихся представителей этой школы, Адольф Вагнер, - побеждают не только более способные, но слишком часто и более бессовестные элементы, неограниченно эксплуатирующие выгодные для них экономические условия». «Но и лучшие элементы частью соблазняются успехом других, частью же непосредственно вынуждаются конкуренцией поступать столь же бессовестно. Таким образом, почти неизбежно ухудшается общее мерило промышленной и торговой нравственности». Шмоллер, другой представитель той же школы, говорит: «Никто из имевших случай ближе ознакомится с более благородными из круга предпринимателей, не станет отрицать того, что они сами вне себя от всего, что им приходится видеть и что они сами должны проделывать в силу конкуренции».
Таково общее мнение знающих дело и в то же время научно развитых людей. Нельзя и ожидать, разумеется, чтобы эта сторона конкуренции могла быть подвергнута точной, статистической разработке, но во всех случаях, когда так или иначе приподнимается завеса коммерческой деятельности, приходится наблюдать поступки, несоответствующие принятому в Европе кодексу нравственности. Несколько уголовных процессов за последние годы значительно послужили к разъяснению этого явления. Особенно интересен в этом отношении процесс крупного железнодорожного деятеля в Австрии, барона Офенгейма, человека, о котором бывший министр-президент высказывал на суде «величайшую похвалу», и за которым другой бывший министр не подметил «и следа какого-либо грязного поступка». На суде обнаружилось, что разные бесчестные проделки в высшей степени распространились в мире предпринимателей, как это видно, между прочим, и из следующего отрывка из письма самого Офенгейма. «Мы желаем честно, обходительно и прямодушно провести наше предприятие. Если же мы с их стороны (то есть со стороны влиятельных и сильных лиц) не встретим подобного же взгляда, то они вынудят нас и с нашей стороны перейти в область мошенничества и обмана, и, быть может, ученики превзойдут тамошних великих учителей».
Шмоллер довольно метко, хотя и несколько утрированно, охарактеризовал победителей в современной промышленной борьбе. «Эти люди, - говорит он, - верят только в Деньги и биржу, их единственная добродетель есть респектабельность, то есть случайные обычаи внешней жизни хорошего общества; успех предприятий есть единственное, что они уважают, а материальные наслаждения - единственное, к чему они стремятся». Этот последний признак выбран не совсем полно и верно, все же остальное близко к действительности.
Особенно важны для нас следующие замечания Герберта Спенсера: «Люди самых разных занятий и положений, люди по природе крайне добросовестные, негодующие на унижение, которому они вынуждены подчиняться, - все в один голос выражали нам грустное убеждение, что на промышленном поприще нет возможности сохранить строгую честность. Общее мнение всех и каждого из них - что высоко честный человек должен тут погибнуть». «Для жизни в коммерческом мире, - говорит он далее, - необходимо принять его нравственный кодекс, стоять не выше и не ниже его, - быть не более и не менее честным, нежели все. Тот, кто падает ниже установившегося градуса, изгоняется; тот, кто поднимается выше, сбивается на надлежащую высоту или приводится к разорению». Другие слова, сказанные более трехсот лет назад, очевидно, приложимы и к нашему времени. «Человек, - говорит Макиавелли, - желающий в наши дни быть во всех отношениях чистым и честным, должен погибнуть в среде громадного бесчестного большинства. Из этого следует, что всякий, желающий удержаться, может и не быть добродетельным, но непременно должен приобрести умение казаться или не казаться таким, смотря по обстоятельствам».
Если бы наша задача исчерпывалась указанием на противоречие, в каком находятся априорические выводы теоретиков учения о борьбе за существование с фактической действительностью, то можно было бы ограничиться вышеприведенными замечаниями. Но так как для решения главных занимающих нас вопросов этого недостаточно, то следует постараться проникнуть по возможности глубже в причины указанного результата борьбы между людьми.
Почему так часто и нередко совершенно неизбежно люди в борьбе с другими людьми прибегают к средствам, которые ими же самими признаются не вполне нравственными? В неоднократно цитированной статье Герберта Спенсера мы встречаем соображение, которое значительно поможет нам разрешить этот вопрос. «Сочувствие, - говорит он, - достаточно сильное, чтобы предупредить поступки, немедленно наносящие вред известному лицу, может быть недостаточно сильно, чтобы предупредить поступки, наносящие отдаленный вред лицу неизвестному. Оказывается, - факты подтверждают в этом случае вывод, что нравственные преграды к таким поступкам изменяются сообразно ясности, какой достигает понятие о последствиях известного зла. Человек, который ни за что не согласился бы украсть что-нибудь из кармана другого лица, не задумываясь, подделывает различные товары; человек, которому и во сне не приходилось промышлять фальшивой монетой, принимает смело участие в проделках акционерных банков».
Чем сложнее данное общество, чем более перепутаны человеческие отношения, тем и последствия данного поступка становятся все более сложными и теряют свою первоначальную ясность. Вред, причиненный в одном месте, может превратиться в пользу в другом, - и наоборот. Убийство одного лица может спасти жизнь десятка других, которые могли бы пострадать или погибнуть от зловредностей первого. Подавление одной нации совершается нередко во имя предполагаемой пользы для всего человечества , наоборот, интересы человечества, как наиболее отдаленные и неясные, приносятся нередко в жертву интересам более мелких человеческих групп. «Сложность условий человеческой жизни, - говорит Дж. С. Милль, - виновата в том, что нельзя постановить таких правил поведения, которые бы не требовали исключений» (Утилитарианизм, стр. 58).
Отсюда, с одной стороны, вытекает вообще шаткость всяких суждений и, следовательно, неясность представления о всех последствиях данного поступка, с другой же стороны - обширное поле для сделок с совестью и оправдания своего поведения. «Нет ничего необыкновеннее, - говорит Лекки, - как то, что люди, представляющие образец честности в частной жизни, извиняют или даже оправдывают самые возмутительные проявления политической нечестности и насилия». «Вследствие удивительного нравственного парадокса, - прибавляет он далее, - нередко политические преступления связаны с национальными доблестями» (I, 135). Чем более распространяется общительность, и чем более разливаются на все большие и большие группы людей, тем труднее определить полезность или вред поступков. Как ни трудно (если только возможно) составить себе более или менее ясное понятие об «общем благе» целого народа или обширного разноплеменного государства, но еще неизмеримо труднее определить общее благо целого человечества, настоящего и будущего, и на основании этого регулировать человеческие поступки. Наоборот, несравненно легче соображаться с интересами небольших групп, каковы: семья или какое-нибудь замкнутое и определенное общество с ясными ограниченными целями, как например, монастырское браство. В случае столкновения между сложными и неопределенными интересами большого общества или целого человечества и интересами небольшой, но определенной группы, победа должна быть на стороне последней. Мы уже видели это на приведенном Г. Спенсером примере человека, который желает торговать согласно с правилами строгой честности, но уступает, не желая разорять «и себя, и семейство свое». Семейство и всякая другая ограниченная группа, давая обширный простор для деятельности, исполненной самопожертвования и других высоких нравственных побуждений, тем более отнимает силы от действий в пользу общего блага больших групп. Этим и объясняется указанная Лекки непоследовательность многих людей и различие их масштаба нравственности при суждении о поступках «честной жизни», вращающейся, главным образом, в сфере семьи, и поступках более широкой общественной деятельности. Для того, чтобы составить себе правильное суждение о силе семейного чувства, по крайней мере, в европейских обществах, следует припомнить борьбу, которую против него должен был выдержать католицизм, религия с самыми определенными целями и организацией, и вообще учреждение, отличающееся чрезвычайной силой и живучестью. «Едва ли какая либо мера, - говорит Гольцендорф, - вызвала в среде самой церкви и со стороны духовенства столь упорное противодействие, как запрещение вступления в брак священникам. Во все времена, - прибавляет он, - насильственное вторжение закона в семейную жизнь представлялось одной из труднейших задач». Экономисты прежней школы, очевидно, имели в виду это неравенство условий борьбы между стремлением к благу семьи и к общему благу обширной социальной группы. Отсюда их основное воззрение на личный интерес (к которому относится не только эгоистический интерес данной личности, но и интересы целой семьи) как на главную пружину экономической деятельности. Вот, например, как это выражено у Мальтуса: «Настоящее наше положение требует, чтобы каждый имел в виду, главным образом, свои собственные потребности». По отношению к детям, которые имеют несомненное право на заботы и попечения родителей, очевидно, что привязанность, побуждающая последних к исполнению этой священной обязанности, почти равносильна любви их к самим себе. И мы имеем полное право утверждать, что, за исключением немногих, редких случаев, последний кусок будет разделен между ними поровну. Вследствие этого благодетельного инстинкта, самые невежественные люди трудятся для общей пользы, чего не было бы, если бы главным побуждением их было благотворение. Чтобы благотворение было великим и непрерывным побуждением для наших поступков, и чтобы принцип этот был неизменной основой нашего поведения, для этого необходимо, чтобы мы были вполне знакомы с причинами и их следствиями. «Такое ограниченное существо, как человек, заблудилось бы, если бы руководствовалось исключительно им одним, и вскоре возмутило бы господствующий вокруг него порядок: изобилие уступило бы место нужде. А возделанные плодородные нивы пришли бы в запустение» (Опыт о законе народонас., II, 359). Это положение оправдывается многочисленными примерами вредных последствий, поступков, в основании которых лежало самое искреннее желание добра. Известно, как часто благотворительность, вместо облегчения человеческих страданий, ведет к укоренению пороков и зла. В виду такого обстоятельства Бокль и пришел к столь парадоксальному, с первого взгляда, выводу, что «ослабляя добродетель, вы сдерживаете зло», и построил свое известное учение о незначительности влияния нравственности в деле исторического прогресса.
Другие представители манчестерской школы держатся того же принципа. «Для споспешествования экономическому благу народа вообще, - говорит проф. Смит, - фритрэдер видит только один возможный путь, именно свободу каждого отдельного лица по мере сил способствовать своему благу. Каждый понимает споспешествование своему благу лучше, чем другие, лучше, чем все другое». В этом-то и заключается этическая основа прежней школы. Она зиждется именно на положении, что «общее благо» само по себе есть вещь слишком туманная и неопределенная, тогда как «частное благо», наоборот, понятно и определенно. Новая немецкая школа экономистов, называющая себя «этической» и утверждающая, что «экономическая деятельность подчиняется нравственной», восстала против этого учения. Но для того, чтобы вести борьбу по возможности равным оружием, ей было бы необходимо войти в прямое и обстоятельное исследование положений как теоретической, так и практической этики, и установить какой-нибудь общий руководящий принцип. Еще Ланге, которого можно считать одним из провозвестников этической школы экономистов, выставил следующее требование: «Так как мы уже достаточно знаем действия эгоизма, а последствия морали, напротив, не знаем, то мы не получим улучшенного народного хозяйства, прежде чем не будем иметь начал научной теории нравственности, но и этих начал мы иметь не будем без большого прогресса в экономической науке». Успех последней во всяком случае немыслим при такой неопределенности и шаткости этических основ, какая встречается у лучших представителей этических экономистов. Шмоллер, которого неоднократно цитированное сочинение признается «лучшим общефилософским основанием молодой этической школы национальной экономии» (А.Вагнер, 1, с. 3), и которого воззрения почти целиком разделяются приверженцами этой школы, нигде не ставит прямо вопроса о свойстве нравственного принципа, который бы мог быть положен в основание новой политической экономии. Только мимоходом, полемизируя против пяти основных прав, признаваемых Трейчке, он высказывает, что «краеугольным камнем современной этики вообще может быть признано следующее положение Шлейермахера: ни один человек не должен быть только средством для другого; каждый человек, напротив, хотя он, между прочим, и исполняет роль для других целей, должен быть в то же время признан имеющим свою собственную цель, признан монадой» (1, с. 121). Принцип этот настолько неопределен, что не годится даже для той цели, ради которой его приводит Шмоллер. Ни Трейчке, ни кто другой и не утверждает, чтобы личность всецело поглощалась для каких бы то ни было вне ее лежащих целей; степень же поглощения ее вовсе не определяется вышеозначенным изречением. Поэтому понятно, что Шмоллер и не пользовался им для установления своих теоретических воззрений. При этом он и вообще не затрагивает глубоких слоев вопроса. Высший нравственный принцип, на который он ссылается во время своей аргументации, резюмирован им следующим образом: «Суть заключается и всегда будет заключаться в том, чтобы мы вообще шли вперед в деле экономического развития, чтобы мы больше производили, правильнее распределяли бы производимое, чтобы наше потребление увеличивалось как в деле удовлетворения благороднейших и высших, так равно и низших потребностей, чтобы мы становились более образованными, прилежными, умными и справедливыми людьми» (стр.51). Здесь, что ни слово, то ссылка на ходячие в обыденной жизни понятия, подлежащие, однако же, самым разнообразным, нередко противоречивым определениям. Как философский принцип, это во всяком случае не годится, именно вследствие этой неопределенности и доступности разнородному толкованию. Верховный этический принцип, выставленный Ланге, отличается, во всяком случае, несравненно большей цельностью и определенностью. «Жизнь, раз произведенная, - говорит он, - должна быть сохраняема». Это положение Ланге считает принципом всякого цивилизованного человека, и потому на нем он думает основать прекращение или, по крайней мере, ослабление борьбы за существование в человеческом роде.
Одно из основных положений этической школы состоит в ограничении свободного соперничества, - и с этой точки зрения она представляет для нас еще и специальный интерес. Но по отношению к этому вопросу, равно как и по отношению к основным нравственным принципам, эта школа не дает нам цельного и ясно определенного взгляда. Главный представитель ее, Шмоллер, очевидно признает благотворное действие конкуренции, по крайней мере, в некоторых случаях и притом в известных пределах. Так, он говорит о хороших последствиях ее при соперничестве развитых представителей крупной торговли. То же вытекает и из следующих его слов: «Увеличивающееся неравенство имущества справедливо, поскольку оно обусловлено различием талантов; но это различие объясняет скорее, почему банкир X заработал в последние годы только один, а банкир Y - двадцать миллионов, или почему рабочий А сделался подмастерьем с шестьюстами ежегодного содержания, а рабочий В остался носильщиком с двумя-тремя ста талеров». Тут, следовательно, признается справедливость победы одного соперника над другим; то же заключается и в следующих его словах: «Я всегда готов стоять за преимущества образования, но не за привилегию кошелька или рождения». Да и сама теория «справедливого распределения» (Vertheilende Gerechtigkeit), то есть вознаграждения но заслугам, обязывает давать сильнейшему конкуренту более, чем слабейшему. «Чем более уверен человек, - говорит Шмоллер, - что добродетель вознаграждается на этом свете, что прилежание, большая деятельность и большое напряжение пропадут недаром, тем более напрягаются все струны энергии».
Сводя все это, следует придти в заключению, что Шмоллер признает пользу конкуренции, поскольку она состоит в соперничестве личных и притом признаваемых нравственными качеств, но восстает против нее, когда пускаются в ход безнравственные силы, то есть хитрость, обман и проч., - или же преимущества, даваемые рождением и состоянием. Правда, он нигде не высказывает категорически этого воззрения, и нередко впадает с ним в противоречие. Так, например он восстает против свободы конкуренции «во всех областях, где богатый конкурирует с бедным, лицо, могущее ждать, с другим, которому необходимо торопиться, умный с глупым, сильный со слабым». Первые два случая еще могут находиться в согласии с резюмированной выше теорией, но как согласить признание преимуществ таланта и вознаграждение по личным заслугам с этим восстановлением против победы умного над глупым и сильного над слабым? Как согласить, далее, теорию справедливого распределения и конкуренции, основанной на признании преимущества таланта и образования, с признаваемым Шмоллером правом наследственной собственности? «Я защищаю наследственное право, - говорит он, - поскольку оно полезно, как в экономическом, так и в нравственном отношении». Отсутствие ясно формулированного взгляда и противоречивость основных положений Шмоллера делают невозможным признать его замечания о конкуренции вкладом в положительное знание. Постоянные же ссылки на нравственные начала («добродетель должна решать» вопросы о распределении, участии вознагражденной добродетели в напряжении экономической деятельности, признание наследственного права, поскольку оно полезно в нравственном отношении, и т.д.) и подведение к ним основных положений экономической науки оставляют читателя тем менее удовлетворенным, что он тщетно стал бы искать у Шмоллера точной постановки и развития этических принципов.
Взгляд, отчасти сходный с тем, который был извлечен нами из различных цитат Шмоллера, но только отличающийся несравненно большей цельностью, определеностью и последовательностью, был высказан еще за десять лет до появления его «Grundfrugen» известным популяризатором и общественным деятелем Бюхнером. Он считает немыслимым уничтожение борьбы за существование и потому задается только вопросом об уравнении средств этой борьбы. «Пусть отыщут формулу, - говорит он, - которая бы уничтожила или, по крайней мере, уменьшила до известной степени неравенство социальной борьбы за существование, - и общественный, а вместе с тем и рабочий вопросы будут вполне или, по крайней мере, приблизительно решены». «Такая формула найдена, - продолжает он. - Мы не имеем никакого основания ее скрывать, так как она заключает средство удобоприменимое, не противоречащее прямо ныне существующим условиям, - к тому же, средство, которое при постепенном усилении становится все более действительным, которое значительно облегчает неимущих, не вредя непосредственно имущим, поэтому, - средство, но возможности, сглаживающее общественные неравенства и притом не только не притупляющее, но, напротив, усиливающее стимул и конкуренции, ведущей ко всему великому. Средство это состоит в реформе или медленном, постепенно увеличивающемся преобразовании наследственного права в пользу общую». Сущность этого воззрения, поскольку оно касается нашего вопроса, совершенно ясна: Бюхнер стоит за соперничество, основанное на природном неравенстве, и, наоборот, восстает против участия в борьбе за существование момента чисто-культурного неравенства.
Несравненно менее радикально мнение Мауруса. Подобно Бюхнеру, он тоже не считает возможным уничтожение борьбы за существование. «В разрезе с социалистическим мнением о необходимости уничтожения всякой конкуренции и устранения капиталистического производства вообще, - говорит он, - мы вместе с буржуазной экономией считаем конкуренцию экономической необходимостью и думаем, что было бы ошибочно лишить общество выгод этой экономической силы, прямого продукта разделения труда и человеческого эгоизма, и заменить ее другой, еще менее экономической организацией производства». Неравенство условий борьбы Маурус, подобно многим другим экономистам, сводит, в конце концов, к естественному неравенству. «Стремление к установлению материального равенства между людьми, - говорит он, - всегда останется тщетным, потому что оно потерпит крушение вследствие различия индивидуальной человеческой природы. Об эту скалу разбивались и будут разбиваться все попытки даже самых гениальных систем, основанных на материальном равенстве и общей собственности» (стр. 11). В виду неизбежности конкуренции, Маурус предлагает только меры для устранения некоторых ее вредных последствий и, с этой целью, проповедует вмешательство закона, который должен определить заработную плату, «подвергнуть устройство фабрик государственным ограничениям, руководствуясь при этом правом и благом рабочих, и таким образом оградить их от эгоизма капитала» и т.д.
Совершенно иначе смотрит на дело Адольф Вагнер. «Правда, - говорит он, - что люди уже от природы неравны, что личное или индивидуальное неравенство, подобно тому как у всех представителей одного рода или вида, так равно и у человека составляет закон природы. Отсюда можно бы было вывести относительно всех других случаев, но именно не относительно человека, необходимость и желание победы неделимых, более одаренных от природы. Я это утверждаю на том основании, что у людей, по крайней мере, отчасти, возможно уравнение этого природного неравенства, путем воспитания и культуры и посредством охранения, которое общество может и должно оказать своим слабейшим членам. Естественное неравенство неделимых ведет к требованию, чтобы не все элементы без разбора были предоставлены конкуренции, и чтобы слабые не были отданы ей в жертву. Именно отсюда и должно быть выведено дальнейшее ограничение свободной конкренции, что в новейшее время и проводится все более и более на практике (учреждения для охраны детей, стариков и т. п.)» (1.с. 200).
Приведенные воззрения могут быть сгруппированы в две категории. К первой относятся мнения ученых, признающих борьбу за существование явлением чрезвычайно глубоко заложенным в природе человека, и потому неустранимым, и, в виду этого, стремящихся уничтожить чисто-культурное неравенство и заставить конкуренцию войти в ее естественное русло. Эта точка зрения порицает борьбу, успех которой зависит от какой-нибудь культурной привилегии, например, победу богатого дурака над бедным, но умным соперником, и, напротив, она признает правильным соперничество между людьми, одинаковыми в смысле общественного положения и материальной обстановки, но различными по степени природных способностей. В таком виде воззрение ото может быть соглашено с взглядами некоторых представителей манчестерской школы. Один из горячих приверженцев ее и, в то же время, ожесточенный противник этической школы, которой он предсказывает ближайшее крушение, Дамет, заявляет, что «естественные законы общественной экономии не оправдывают иного неравенства, как неравенство экономии не оправдывают иного неравенства», как неравенство личного участия. «Разве неравенство как принцип, - говорит он, - не проявляется всюду в человечестве, равно как и вообще во всем мире? Разве естественные законы общественной экономии могут уничтожить это неравенство? - Скажете ли вы, что существует антагонизм между Рафаэлем и обыкновенным живописцем, потому что первый создает великие творения, а второй только посредственные картины, и потому что покупатели предпочитают первые последним? Если хотите, это тоже антагонизм, борьба производства, а следовательно, и распределения, - борьба между искусными и неискусными, но, но совести, разве вы можете вменять ее естественным законам общественной экономии? - Да и как вы, наконец, излечите ее?». Дарвин также может быть причислен к этой категории. Разбирая вопрос о влиянии культуры на борьбу за существование, он указывает на усиленное накопление богатства и майорат как на обстоятельства, отклоняющие в вредную сторону естественный ход этого процесса; но он не придает особенного значения первому препятствию, так как число очень богатых людей никогда не бывает особенно большим и, к тому же, нередко они, по неумению, растрачивают все свое состояние.
Соглашение между партиями возможно, следовательно, на признании не теперешней формы «свободы конкуренции», совершающейся на почве привилегий и других моментов чисто-культурного неравенства, но такой формы борьбы за существование, которая бы наиболее приближалась к условиям беспрепятственного естественного подбора. При этом, как справедливо замечает Бюхнер, стимул в борьбе не уменьшится, а скорее увеличится, и в сильнейшей степени освободятся все личные силы, «как добрые, так и злые». При этом также возможно достижение той же степени природного равенства, которое вообще получается при беспрепятственном ходе подбора в живой природе, так как в борьбе, основанной на природном неравенстве, победителями останутся лица «наиболее приспособленные к борьбе», а соперники, не представляющие этого свойства, будут побеждены. В результате такого процесса борьбы все воспринимающие участие в ней силы, а между ними и «злые», должны постепенно все более и более развиваться.
На совершенно иной почве стоит воззрение А. Вагнера. Он не хочет беспрепятственной борьбы между людьми, различно одаренными от природы; он восстает против закрепления естественного неравенства и, следовательно, стоит за культурное неравенство как средство для сглаживания природных различий. Он требует, чтобы культура давала слабому от природы средство для выдерживания борьбы с более сильным соперником, и потому хочет расширения и теперь уже существующих учреждений с целью охранения слабых. Воззрение это непосредственно вытекает из формулированного Ланге нравственного принципа, по которому всякий цивилизованный человек желает, чтобы «жизнь, раз произведенная, была сохраняема», - принципа, который Дарвин принимает «благороднейшей частью нашей природы». Став на такую точку зрения, Вагнер приводится ею, естественно, к системе благотворительности (caritatives system), которая должна ослаблять зло, происходящее вследствие природного неравенства. Но, говоря о применении этой системы, он не может не видеть многочисленных источников злоупотребления. Пробежав некоторые из них, он приходит к следующему заключению. «Правда, - говорит он, - что все эти беды могут быть устранены при правильном применении «каритативной» системы, особенно если строго держаться принципа осторожного индивидуализирования при допущении к удовлетворению потребностей, допускаемых системой. Но с первого взгляда понятно, и весь опыт подтверждает это, что ошибки в этом отношении не всегда могут быть устранены, и с течением времени скорее увеличиваются, чем уменьшаются» и т.д. (1. с. 222). Как собственно установить «правильное» применение каритативной системы, мы у Вагнера не находим, равно как не находим у него и устранения возражений, сделанных впервые английскими учеными. Эти возражения Дарвин резюмирует следующим образом: «У дикарей слабые телом и духом скоро устраняются, и переживающие обыкновенно бывают одарены крепким здоровьем. Мы, цивилизованные народы, делаем все возможное, чтобы задержать этот процесс уничтожения: мы строим приюты для слабоумных, калек и больных; мы издаем законы в пользу бедных, и наши врачи употребляют всевозможные усилия, чтобы продлить жизнь каждого до последней возможности. Есть основание думать, что оспопрививание сохранило тысячи людей, которые при своем слабом сложении, прежде погибли бы от оспы. Таким образом, и слабые члены цивилизованного общества распространяют свой род. Ни один человек, знакомый с законами разведения домашних животных, не будет иметь ни малейшего сомнения в том, что это обстоятельство крайне неблагоприятно для человеческой расы. Нас поражает, до какой степени быстро недостаток ухода или неправильный уход ведет к вырождению домашней породы; и за исключением случая, касающегося самого человека, едва ли найдется столь невежественный заводчик, чтобы допустить к размножению худших животных». «Мы бы не могли, - замечает он дальше, - сдерживать нашего сочувствия, следуя голосу рассудка, без уничтожения благороднейших свойств нашей природы... и мы должны безропотно переносить несомненно вредные последствия переживания и размножения слабых».
Геккель называет это самое охранение физически слабейших «медицинским подбором» и, ударяя на его вредные последствия, намекает даже на средства к его устранению. Самым умеренным из возможных средств следует считать запрещение лицам, страдающим хроническими болезнями, вступать в брак. Такая мера во всяком случае наименее расходится с современным нравственным строем, то есть и желанием во что бы то ни стало сохранить жизнь, хотя бы и сопряженную с величайшими страданиями. «Но не будет ли самым ужасным ядом, который только можно влить в больного, вменение ему безнадежной любви», - спрашивает доктор Гартзен, горячий защитник status quo медицинского подбора.
Во всяком случае очевидно, что, давая полный простор нашему сочувствию, то есть действуя наперекор естественному подбору, мы тем самым ослабляем нашу силу в борьбе за существование, подобно тому, как мы ослабляем ее у животных, охраняемых в нашем домашнем хозяйстве. Если бы даже и удалось включить проявление нашего сочувствия в известные пределы и поставить его в равновесие с условиями борьбы в данную минут, то при усилении борьбы, вследствие ли перенаселения, или каких-либо других причин, это равновесие легко могло бы быть нарушено. На выбор представляется два пути. Следуя по одному из них, указываемому «благороднейшими свойствами нашей природы», мы можем не «сдерживать нашего сочувствия» и всеми силами перечить естественному подбору, но в таком случае «мы должны безропотно переносить несомненно вредные последствия» такой системы и без боязни идти к поражению в борьбе за существование. «Следуя голосу рассудка», то есть избирая другой путь и заставляя подавлять и ограничивать наше сочувствие, можно быть гораздо более уверенным в победе. Но зато следует мириться с настоящим злом, вытекающим из принижения благороднейшей стороны нашей природы. При этом в больших размерах перед нами возникает тот же вопрос, который, как мы видели, неизбежно рождается и у каждого, выступающего на поле промышленной и торговой борьбы: или ограничить требования высокой нравственности и победить, или же действовать сообразно с этими требованиями и остаться побежденным. Выход из этой альтернативы зависит уже от чисто субъективного момента, от той сложной смеси, которая составляет сущность характера.
Все, сказанное нами до сих пор служит доказательством разлада, существующего между победностью в борьбе за существование и удовлетворением широких нравственных стремлений. Осязательность и отчетливость интересов отдельного лица или небольшой тесно связанной с ним группы составляет главную причину того, что в практической жизни эти интересы одолевают все другие, то есть интересы больших групп, благосостояние которых (то есть цель высших нравственных стремлений) представляется задачей в высшей степени сложной и неподдающейся ни точному научному исследованию, ни решению непосредственного чувства. Вот почему всякая теория, основывающаяся на узких интересах лица и семьи (Selbstinteresse), имеет больше шансов получить практическое применение, чем теории, созидающиеся на этических началах, так как они сами по себе еще чрезвычайно непрочно установлены.
III. Сложность борьбы за существование между человеческими группами. - Влияние соматических причин. - Роль интеллектуального и нравственною момента. - Отступление с целью показать на примере невозможность объективного решения некоторых крупных вопросов общественной этики. - Проверка полученных выводов на отдельных примерах борьбы за существование малайских народов и в Америке. - Китайцы как сильнейший народ в борьбе за существование. - Заключение.
У человека, подобно другим общественным животным, соединение в общества оказывает значительное влияние на процесс борьбы за существование. При известных условиях общественности, конкуренция между отдельными неделимыми может значительно ослабевать или вовсе прекращаться, но тогда она вся направляется на соревнование между общественными группами. Факт, что человек есть во всяком случае общественное существо, что он, во что бы то ни стало, должен соединяться в большие или меньшие общества, выработал в нем некоторую уступчивость, способность до известной степени жертвовать своими личными интересами ради общей пользы. В этом плане нет ничего исключительно свойственного человеку, как думает Шэффле. У многих животных общественность развита несравненно в большей степени. Не говоря уже о насекомых, у которых образовались особые органы ради общественных целей, и у которых особь нередко приносится в жертву обществу, существует много низших животных, где особь целиком поглощается обществом и низводится на степень простого органа. В человечестве же нынешнего времени и в идеалах его на будущее, особь всегда сохраняет свою индивидуальность и только до известной степени подчиняется обществу. Но, в то время как у всех животных «общественные инстинкты никогда не распространяются на всех особей данного вида» (Дарвин), у людей существует по крайней мере стремление соединить все человечество в одно большое общество.
При изучении борьбы за существование между человеческими обществами нам, естественно, приходится сосредоточить наше внимание на антропологических и этнических группах как таких, о которых наука обладает всего большими данными. Таким образом, мы переходим к вопросу о соперничестве между народами и вытеснении одних из них другими.
В своей речи о борьбе за существование в человеческом роде Эккер распространяет свое воззрение и на борьбу между народами. «Как бы ни было велико наше сожаление (относительно слабейших рас), - говорит он, - мы должны тем не менее констатировать закон природы, применяемый с роковой необходимостью, закон, по которому раса, высшая с интеллектуальной точки зрения, в борьбе за существование побеждает и вытесняет низшую расу». Еще резче высказывается он в заключительных словах: «Последняя (франко-прусская) война указывает нам, что история народов также опирается на естественные законы и состоит из ряда безусловных необходимостей, из ряда, в котором всегда перевешивает нравственный и умственный прогресс. Таким образом, нельзя не признать существования нравственной системы в судьбе народов». Я привел здесь эти две цитаты, так как они отчетливо и сжато выражают взгляд, разделяемый многими, высказывавшимися о занимающем нас вопросе. То же самое заключено и в следующих словах Шэффле, новейшего автора по этому вопросу. «Прогрессирующая цивилизация, - говорит он, - дает высшую степень силы как для самосохранения, так и для победы в борьбе с природой и врагами из среды самого человеческого рода».
Дарвин, обстоятельно занимавшийся вопросом о борьбе за существование рас и народов, пришел к заключению, что «степень цивилизации есть, по-видимому, в высшей степени важный элемент в деле успеха конкурирующих народов». Относительно же самого содержания этого элемента, он высказывает следующее: «Как ни темна задача прогресса цивилизации, тем не менее мы можем заметить, что нация, произведшая в течение долгого времени наибольшее число высоко развитых в умственном отношении, энергичных, храбрых, патриотических и добродетельных людей, вообще должна получить преобладание над менее одаренными нациями». Еще общее он формулирует эту мысль следующим образом: «Увеличение числа хорошо одаренных людей и прогресс в общем мериле нравственности дают несомненно бесконечное преимущество одному племени перед другим». Отсюда у него вытекает, что «так как во все времена и на всей земле одни племена вытеснили другие, и так как в деле успеха нравственность играла существенную роль, то мерило нравственности всюду имеет стремление к повышению и число хорошо одаренных людей должно постепенно увеличиваться».
Рядом с такими психическими мотивами Дарвин признает и усиленное влияние чисто соматического момента и потому объясняет вымирание многих первобытных народов, главным образом, уменьшением плодовитости и усилением детских болезней, вследствие изменения окружающих жизненных условий, - даже в тех случаях, когда последние сами по себе не вредны.
Гельвальд, соглашающийся с Дарвиным относительно роли соматического момента, не разделяет вполне ни его воззрений, ни взгляда Эккера (против которого он особенно выступает) на участие умственного и нравственного элементов в деле борьбы. «Вообще, - говорит он, - высшая раса есть действительно та, которая выше и в духовном отношении, но это не составляет неизбежного правила, как думает профессор Эккер». В подтверждение этого ограничения, он ссылается на факт, что индейцы Центральной и Южной Америки побеждают испанских креолов, - на то, что в Венгрии немцы легко поглощаются «несомненно низшими мадьярами» и т. д. «Таким образом, - выводит он, - в борьбе за существование побеждает не всегда высшая в духовном отношении раса, но такая, которая всего лучше приспособлена к этой борьбе, причем дело решается иногда чисто физиологическими свойствами».
Для того, чтобы, по возможности, решить главные вопросы о борьбе за существование человеческих рас, необходимо строго разделять различные моменты этой борьбы, в большинстве случаев представляющейся чрезвычайно сложной.
Можно положительно утверждать, что в победе европейцев над многими первобытными народами весьма важную роль играли и играют чисто соматические явления. Во многих местах замечено, что европейцы чрезвычайно легко заражают дикарей эпидемическими болезнями, - даже в тех случаях, когда сами они не заболевают. Тут, следовательно, европейцы являются невольными переносителями заразы, подобно тому, как это в меньших размерах замечено относительно докторов. В самых различных странах сложилось твердое убеждение, что посещение иностранных кораблей служит источником распространения болезней. Из числа эпидемий особенно важную роль играет оспа, отнимающая у многих нецивилизованных народов огромное число людей. В Америке от нее погибла, по крайней мере, половина всего туземного населения. Столь же гибельна она и для народов полинезийской и австралийской рас. На Сандвичевых островах в течении одного 1853 года от нее умерло от пяти до шести тысяч человек. На полинезийский остров Понапе оспа была завезена одним английским матросом, и в короткое время унесла три пятых всего населения. Известно, как ужасно она свирепствовала на островах Фиджи несколько лет тому назад. Вымирание камчадалов в значительной степени объясняется также их смертностью от той же болезни. Появление оспенной эпидемии нередко возбуждает панический страх среди нецивилизованного населения. Так, например, патагонцы разбегаются, бросая больных, перед которыми они ставят воду и пищу; но, несмотря на это, болезнь следует но пятам. То же много раз было замечено и у калмыков, оставляющих в большинстве случаев больных без всякого присмотра. Некоторые приписывают именно этой мере сильную смертность калмыков от оспы. Но помимо этой причины есть и другие, быть может, еще сильнее влияющие в том же направлении. Во время моего пребывания среди калмыков, я много раз слышал уверение, что они несравненно сильнее подвержены заболеванию и смертности от оспы, чем русские при тех же условиях. Ни оспопрививание, к которому они нередко прибегают, ни уход за больными, который обыкновенно выполняется лицами, уже перенесшими болезнь, не предоставляют серьезной гарантии. Чтобы составить себе понятие об интенсивности эпидемии, укажу факт, что в одном месте, в приволжской окраине степи (в Хошоутовском улусе), в течении одной зимы 1874 года из пятидесяти семейств в живых осталось только одно. Некоторые лица уверяли меня, что в один этот (1874) год вымерло около трети всего калмыцкого населения. Цифру эту следует считать преувеличенной относительно целого населения калмыцкой степи, но она может быть справедлива относительно окраин, где болезнь, вследствие соседства с русскими, свирепствует обыкновенно в сильнейшей степени, чем в глубине степи. Есть основание думать, что сам организм калмыков (и других народов, в такой же степени подверженных оспенной заразе), более чувствителен к восприятию оспенного яда, так как у соседей их, киргизов, ведущих вообще довольно сходный с ними образ жизни, но несравненно более приближающихся к кавказской расе, оспа никогда не производит таких значительных опустошений.
При перемене образа жизни первобытные народы в высшей степени подвержены бугорчатке. От нее преждевременно умирает большинство людей, переходящих от первобытного образа жизни и легко перенимающих европейские нравы, - например, у калмыцких князей (нойонов), учащихся и проч. Смертность последних, при этих условиях, так велика, что из 164 учеников австралийцев содержавшихся в заведении Трелькельда, «одного из первых благодетелей австралийской расы», через четыре года, в живых осталось только три. Негры, отличающиеся удивительной нечувствительностью к лихорадочным заразам, чрезвычайно легко заболевают чахоткой. Один негритянский полк из 1800 человек, переведенный с Антильских островов на Гибралтар, почти вымер от этой болезни в течении всего пятнадцати месяцев.
Кроме влияния на смертность, соприкосновение первобытных людей с цивилизованными отражается также - и нередко в значительной степени - и на плодовитости первых. С давних пор и у самых различных первобытных народов была замечена сравнительно незначительная плодовитость. Некоторые авторы объясняют вымирание сандвичан, маорисов, индийцев и многих других «дикарей» именно бесплодием их женщин. В существовании самого факта не может быть сомнения; достаточного же объяснения для него и до сих пор не найдено. Они видят в нем просто доказательство предположения, что «низшие» человеческие расы вообще наименее плодовиты; другие же объясняют его слишком подавленным положением женщин, легкостью их поведения и т. п. Грасиоле провел параллель между бесплодием первобытных женщин и многих животных, содержимых в неволе. Он это объясняет следующим образом: «Дикарь, страна которого занята европейцами, уже более не чувствует себя дома, - и хотя и остается на родной ему земле, но ощущает тоску по родине; он заглушает ее вином, но затем снова впадает в нее; он грустен и обескуражен и тоскует, как заключенное в неволю животное. Тоски же от неволи достаточно для того, чтобы произвести бесплодие у большего числа животных; собаки, постоянные выдерживаемые в клетке, теряют всякое половое влечение. Такая же причина легко может объяснить и бесплодие дикарей Полинезии и Австралии». В новейшее время сходную мысль стал развивать Дарвин, который, как мы видели выше, считает бесплодие одной из главных причин вымирания первобытных народов. Он, правда, не объясняет его теми психическими мотивами, к которым прибегает Грасиоле, но ограничивается только подробными указаниями на сходное бесплодие многих животных, которых пытались обратить в домашнее состояние. Причины, влияющие на слабую степень плодовитости при измененных условиях существования, Дарвин считает достаточными и для объяснения слабой комплекции детей, рожденных при таких условиях, а следовательно, их усиленной смертности.
Чтобы достаточно оценить значение указываемых здесь соматических явлений на ход борьбы за существование, необходимо обратить внимание на их участие в деле распространения европейских народов, отличающихся вообще особенной выносливостью, и к тому же имеющих под руками обширные, доставляемые культурой, средства для охранения от вредных внешних условий. На Мадагаскаре и в Сенегамбии, например, ни один европейский народ не обнаружил способности к акклиматизированию. На Яве, и вообще на островах Малайского архипелага, несмотря на все старания голландцев, им не удалось приспособиться к местным условиям. Даже в Алжирии, несмотря на ее значительное сходство с южной Европой, большинство европейцев вымирает, и только некоторым, как, например, мальтийцам и испанцам, удается полное акклиматизирование.
При рассуждении о вытеснении и вымирании народов необходимо, следовательно, иметь в виду на первом плане физиологический момент во всех его разнообразных проявлениях. При его помощи объясняются: во-первых, явления вымирания таких народов, которые с других точек зрения обнаруживают признаки значительной живучести, как, например, маорисов, народа, отличающегося замечательной способностью к восприятию культуры и сообразованию с обстоятельствами. С другой стороны, тот же момент может помочь объяснить нам и нередко парадоксальные явления переживания народов. Беджот обратил внимание на то, что в древние времена дикари не вымирали, несмотря на свои многочисленные сношения с классическими народами. И он, и Дарвин видят в этом доказательство усиленного влияния нынешней степени цивилизации, между тем, как этот факт объясняется проще тем, что дикари, приходившие в столкновение с древними цивилизованными народами, принадлежали большей частью к одной с ними антропологической группе, и потому в меньшей степени подвергались болезненным заражениям. Тем же (по крайней мере, отчасти), может быть объяснено и отсутствие явлений вымирания среди народов Кавказа, несмотря на зависимое их положение и местами значительную бедность и вообще дурные, нередко примитивные жизненные условия; между тем, как некоторые народы чистокровного монгольского племени, как, например, калмыки, от соприкосновения с теми же русскими несомненно вымирают.
Теперь все пришли к убеждению, что такое сложное и крупное явление, как вымирание народов, зависит не от одной какой-нибудь причины и даже не от одной сложной категории причин (как, например, вышеупомянутый физиологический момент), но от суммы нескольких, нередко весьма, разнородных обстоятельств. Как ни велико болезненное расположение многих народов и их способность к бесплодию при изменении внешних условий, но эти явления сами по себе не неизменны. Поэтому народ, не находящийся под влиянием других поводов к вымиранию, может еще оправится и впоследствии окрепнуть. Таким образом, некоторые первобытные народы, как, например, тонганцы, не вымирают, другие же, хотя и продолжают вымирать, но в слабейшей против прежнего степени, что подает повод Герланду высказывать самые розовые надежды относительно будущности полинезийцев. Европейские народы быстро оправлялись после сильнейших и многочисленных эпидемий. Возможно, что и выносливость негров, малайцев и других народов, с давних пор находившихся в общении с многочисленными другими народами, была приобретена ими не сразу, а постепенно и притом ценою больших жертв.
Итак, помимо физиологической борьбы за существование между народами ведется и другая, совершающаяся на более сознательной почве. При этом один народ стремится или совершенно вытеснить другой, или же поставить его в большую или меньшую зависимость от себя. Чем более сходны два конкурирующие народа, тем чаще бывает первое; чем менее между ними общего, тем скорее может быть второе.
Результат, долженствующий произойти от соперничества между первобытными и культурным народами, удачно выражен в общей форме Мишле в его диссертации «О Гвиане и ее пенитенциарных учреждениях». «Жизнь цивилизованная и жизнь дикая, - говорит он, - настолько несовместимы друг с другом, что одновременно они не могут существовать на одной почве, и в их борьбе победа не подлежит сомнению. Это - борьба между зрелым человеком и ребенком». Недальновидность и непрактичность первобытных людей, в самом деле, носят на себе такой детский характер и составляют явление настолько распространенное, что на него не могли не обратить внимания в самых различных местностях. Понятно, что это свойство их сделалось обильным поводом для эксплуатации более практическими и ловкими народами. Вот каким образом это делается, судя по словам одного китайского купца, обращенным к миссионеру и путешественнику Гюку: «Разве вы не заметили, что все монголы точно дети? Когда им случится попасть в город, то у них тотчас является желание получить все, что им попадется на глаза. Но обыкновенно у них не бывает денег и мы являемся им на помощь; мы им отпускаем товар в долг и поэтому, по справедливости, берем с них дороже. Давая товар без денег, нельзя не наложить небольшой процент - от тридцати до сорока на сто. Это, впрочем, делается только с монголами, так как в Китае это запрещено императорским законом. Но мы, принужденные беспрестанно рыскать по «стране трав», конечно, можем требовать процентов на проценты. Не правда ли? Ведь это совершенно справедливо? Монгольский долг никогда не погашается; он переходит из поколения в поколение. Ежегодно мы отправляемся за процентами, которые выплачиваются баранами, быками, верблюдами, лошадьми и пр. Это несравненно выгоднее, чем деньги. Монгольский скот нам обходится дешево, а на рынке мы его сбываем очень дорого. О, монгольский долг, это отличная вещь! Это истиный золотой источник». Я выбрал этот случай как один характерный из множества примеров совершенно подобной же практичности некультурных народов. Тем же способом, каким монголы обираются китайцами, совершается и эксплуатация калмыков, башкир и многих других народов русскими, малороссов и поляков - евреями, и тому подобное. Даже такой способный народ, как маорисы, в первое время сношений с англичанами дал себя в обман подписывая контракты и векселя, смысл которых был совершенно непонятен этим «дикарям».
Таким образом незнание и непрактичность находятся в числе главнейших причин слабости в борьбе за существование. Вообще, можно сказать, что интеллектуальные свойства народа играют в этом деле первостепенную роль. То, что Поль Брока высказал (во время известных прений в парижском антропологическом обществе по вопросу о вымирании и совершенствованию рас) по поводу австралийцев, может быть с некоторыми ограничениями признано общим правилом. «Нет никакого отношения, - говорит он, - между добротой, мягкостью, благодарностью, любовью к семейству и другими нравственными качествами с одной стороны, - и предусмотрительностью, порядком, духом изобретательности, настойчивостью, расчетливостью, зависящими от интеллектуальных способностей в тесном смысле, то есть способностей, делающих одну расу способной к цивилизованию, к пониманию выгоды в пожертвовании частью личной свободы для того, чтобы жить в правильно устроенном обществе - в работе с целью пожать плоды ее не тотчас, а через полгода и, наконец, - в подчинении законам для того, чтобы самому пользоваться их покровительством. Расы, понимающие эти общественные основы, могут цивилизоваться в большей или меньшей степени; одни могут это делать самостоятельно, другие же путем подражания, убеждения или насилия, смотря по свойствам и степени их ума; расы же, не понимающие этих выгод, остаются в диком состоянии. Это однако же вовсе не означает, чтобы они были лишены нравственных качеств и даже умственных способностей; это значит только, что у них вовсе нет или недостаточно некоторых интеллектуальных качеств». Вывод этот, однако же, не должен вести к отрицанию всякого значения в борьбе за существования и притом вообще всяких нравственных качеств. Некоторые из них, как например, независимая от расчета известная степень солидарности между членами борющейся стороны, играет нередко важную роль в деле победы. Что же касается храбрости, на которую ссылается Дарвин как на один из существенных моментов победности, то ее значение должно быть отодвинуто вообще на очень задний план. Бесспорно, что в некоторых случаях она оказала немалую услугу. Но в целом, развивая в народе особенно воинственный дух, она чаще вела к гибели. Мирная форма борьбы за существование дает вообще более прочные результаты, чем военный успех. Всем известная храбрость, неразрывно соединенная, как это обыкновенно бывает, с духом независимости, очень сильно повлияла на исчезновение антильских индейцев и на процесс вымирания многих народов. Маорисы, самый воинственный и свободолюбивый из полинезийских народов, восстали против английского господства, выставив девизом, что «лучше умереть всем за отечество, чем жить под чужим владычеством». Конечно, такое решение, несколько раз побуждавшее маорисов к открытию военных действий, повлияло на уменьшение их численности, а, следовательно, оказало влияние и на их вымирание. «Народ воинственный и энергичный, не желающий подчиниться национальному рабству на своей родине, - говорит Уоллес по поводу папуасов Новой Гвинеи, - должен исчезнуть перед белым человеком так же неизбежно, как волк и тигр». Нужно думать, что знаменитая храбрость и дух независимости многих народов Кавказа принесли им больше вреда, чем пользы; можно предсказать (если только в подобного рода вопросах можно решаться предсказывать), что эти качества приведут их к окончательной гибели, между тем как более миролюбивые, хотя, вообще говоря, вовсе не более нравственные народы Закавказья (главным образом, армяне) окажутся несравненно долговечнее. Даже народы, достигшие высокой степени цивилизации, как например, римляне и французы, жестоко поплатились за свою воинственность, - качество, теснейшим образом связанное с значительной храбростью. Из нынешних европейских народов одни французы обнаруживают некоторые признаки приближающегося упадка и, пожалуй, даже вымирания расы, признаки, бесспорно связанные причинно с их чрезмерной воинственностью.
Дарвин ссылается еще на «энергию» и «добродетель», как на качества, развитие которых должно споспешествовать в борьбе за существование народов. Что касается первого из этих свойств, то оно получает нравственный характер только тоща, если энергия направляется не на личное благо, а на общественное. Во всех случаях она оказывается важным элементом победности и живучести, но лишь под условием подчинения ее знанию и расчету. Что же касается добродетели, то роль её, как условие победы в борьбе за существование народов, крайне сомнительна. Как мы видели в предыдущей главе, сам Дарвин указывает на «несомненный вред», происходящий для физического состояния расы от упражнения добродетельных чувств. Если же мы мысленно представим себе еще сильнейшую степень охранения слабых, то легко увидим, какие результаты могут последовать от этого. К тому же следует прибавить, что упражнение симпатии, развивая чувствительность, делает людей мало пригодными к участию в борьбе за существование, которая даже в самой высшей своей форме соединена с причинением страдания. Известно, что сочувствие вообще более свойственно женщинам, то есть лицам, стоящим в стороне и не принимающим непосредственного участия в народной борьбе за существование. На этот психологический момент обратил внимание Герберт Спенсер, который приходит к следующему заключению: «Близкое знакомство с внешними выражениями бедности и несчастия, - говорит он, - необходимо производит (или, скорее, поддерживает) пропорциональное ему равнодушие; и это равнодушие есть неизбежный спутник бескровной борьбы между членами каждого отдельного общества, точно также как оно есть неизбежный спутник кровавой борьбы между различными обществами».
Что в деле столь неравной борьбы между европейцами и первобытными народами, со стороны первых были в большинстве случаев проявляемы не только ненравственные, но нередко бесчеловечные чувства, это слишком известно, чтобы нужно было долго останавливаться на этом. Герланд делает по этому поводу следующее замечание: «Пусть не говорят, что обнаруженные европейцами низости исходили только от отдельных лиц, и что поэтому только они и должны нести за то ответственность: такие поступки совершались, приблизительно в одинаковой степени всеми колонистами и во всяком случае получали от них высшую степень одобрения». «Из этих соображений вытекает, - говорит далее тот же автор, - как необычайно медленно совершается нравственное совершенствование человечества и как мало обусловливается оно умственным развитием». «Всюду, куда только ни проникает Оранг-Путти (то есть белый человек или христианин), - говорил один яванец в беседе с голландским офицером, - пропадает верность и доверие, а пьянство, наглость, безнравственность, жадность, лицемерие и насилие идут за ним по пятам, чтобы утвердиться всюду, где он ни остановится» (Бастиан). Как ни резко такое суждение, но в нем заключена значительная доля правды. «Честность, верность, порядочность, гостеприимство, человечность, чистая религиозность, лучшие нравственные качества встречаются большей частью не на стороне европейцев (т. е. европейских колонистов), но на стороне столь презираемых первобытных народов», говорит Герланд, один из ученейших современных этнографов. Даже в тех случаях, когда правительство и некоторые миссии делали всё возможное для улучшения участи подчиненных народов, это им большей частью не удавалось, вследствие диаметрально противоположных стремлений колонистов и чиновников, т. е. лиц, находящихся в непосредственных сношениях с «дикарями». В самых различных частях земного шара, например, существует запрещение ввоза спиртных напитков в места, заселенные различными первобытными народами, очень падкими до них; но нигде это постановление не соблюдается местными купцами-европейцами. Заняв Новую Зеландию, английское правительство в своих попытках поддержать и развить туземное население, встретило главное препятствие со стороны «новозеландской компании», т.е. общества, составившегося под руководством богатых и влиятельных англичан и самым бесцеремонным образом эксплуатировавшего еще совершенно неопытных маорисов. Можно бы было привести большое количество аналогичных фактов. Наше правительство, в видах блага калмыцкого народа, задумало целый ряд мер с целью приучить их к земледелию и к более правильному экономическому устройству. Для этого было предположено пересечь всю приволжскую калмыцкую степь проезжими дорогами и устроить по ним поселки. В результате многих дорог не оказать, все проселки попали целиком в русские руки, и таким образом на окраинах появилось довольно многочисленное русское население, враждебное во всех отношениях калмыкам, которые, в конце концов, потеряли только значительную часть своей лучшей земли и вообще приблизились к полному разорению.
Коснувшись здесь этой стороны вопроса об отношениях между народами слабыми и сильными в борьбе за существование, я не могу не сделать некоторого отступления, не имеющего прямого отношения к обсуждаемому теперь вопросу о роли различных моментов в этой борьбе, но зато могущего иллюстрировать более общее положение, развитое в предыдущей главе. Мнения о деятельности правительств по отношению к опекаемым первобытным народам весьма различны. Их можно вообще разделить на две категории. Одни считают необходимым во что бы то ни стало поддерживать эти народы, делать невозможные затраты для того, чтобы хотя сколько-нибудь поднять и цивилизовать их. Этнографы, наиболее близко знакомые с первобытными народами, вполне придерживаются подобного мнения. Вот, например, как высказывается по этому поводу Герланд в заключительных строках своего сочинения «О вымирании первобытных народов». «Пусть сохранится от этих народов то, что еще может быть сохранено. До сих же пор развитие человечества и в этом отношении вполне зависит от натуралистического закона. Борьба за существование, в которой сильнейший тот, кто побеждает, обнаруживается в полнейшей степени. Окрепнувшие расы распространяются с силою и (в отличие от неразумной природы) с удовольствием, без всякой надобности, разрушая побеждаемые ими слабейшие расы. Но человек способен рассуждать и любить; а именно в том и должен сильнейший член разумной породы высказывать свою силу, чтобы стараться с любовью возвысить до себя побежденных им членов. В таком случае наступило бы владычество духа и нравственного выбора, и целое человечество сделало бы большой шаг вперед по тому пути, по которому оно должно следовать, т. е. по пути освобождения духа от грубых оков внешней природы». Герланд и вообще та категория мнений, которой он служит выразителем, ссылается, в конце концов, на благо целого, ради которого необходимо охранить и поддерживать весь человеческий род. Уничтожение же такой большой его части, как первобытные народы, гибельно еще и потому, что оно легко ведет к огрублению сильнейших, вопреки человеколюбивой цели цивилизации.
Мнения другой категории, совершенно противоположного характера также имеют в виду общее благо. Но с их точки зрения споспешествование ему невозможно при помощи, стоющих огромной затраты искусственных мер для охранения первобытных народов. Могут ли многие представители последних возвыситься до уровня современной культуры, это еще не доказано и в некоторых случаях весьма сомнительно. Между тем, оставляя большею частью очень богато одаренные земли в руках первобытных туземцев и сдерживая наплыв туда европейских колонистов, мы содействуем благу первых в ущерб последним. Простой же расчет показывает, что эти земли в состоянии прокормить несравненно большее число цивилизованных европейцев, чем, нередко даже не дошедших до земледельческой ступени, первобытных народов. Отсюда вытекает, что искусственное охранение нынешних дикарей может совершиться не иначе как за счет живущих или будущих европейцев, и притом что это будет охранение меньшинства за счет большинства; а поэтому следует предоставить борьбу за существование ее естественному течению и не тормозить вытеснения первобытных туземцев цивилизованными европейцами. Из числа современных научных писателей такого рода воззрения придерживается, например, Гельвальд, как это видно из следующего его замечания по поводу вымирания негров в Соединенных Штатах: «Констатирование этого фиаско якобы человеколюбивой идеи, - говорит он, - ничуть не заключает в себе порицания совершившегося факта и не заставляет желать его отмены, но, напротив, показывает только, что вымирание свободных негров составляет отныне только вопрос времени и дает самый основательный и наиболее благоприятный из всех возможных исходов. Между тем как союз раз навсегда освободится, таким образом, от заботы о «черных братьях», культура будет праздновать победу, всегда соединенную с исчезновением иноплеменного элемента».
Научного решения рассматриваемого вопроса не может быть дано в виду слишком большой сложности и неопределенности входящих в него факторов и неясности определения «общего блага». Иметь ли в виду общее благо ныне живущих поколений, или следует принимать в расчет и благо будущих? Как взвесить сумму благ материальных и нравственных, сопровождающих вытеснение дикарей европейцами при противовесе нравственного огрубения, неизбежного при этом? Иметь ли опять в виду только огрубение и жестокость поколения, непосредственно участвующего в процессе вытеснения, или же принимать в расчет и возможное смягчение нравов у последующих поколений, которые уже не будут личными свидетелями процесса расовой борьбы? Можно ли принимать в соображение охранение первобытных народов ради интересов науки, которая только теперь начала изучать их серьезно, или же эти интересы следует счесть роскошью и потому пренебречь ими ради непосредственных экономических интересов цивилизованного населения? Подобных вопросов, тормозящих объективный ответ, можно поставить целый длинный ряд. Поэтому, при постановлении решения, требуемого искусством государственной политики, остается обширное поле для чисто субъективного выбора, направление которого может быть, по крайней мере отчасти, предсказано. Оно будет во всех случаях окрашено характером большего знакомства с той или другой стороной дела. Этнограф, ближе всего знающий природу и нравы первобытных народов, будет настаивать на их охранении и вообще будет склонен к пристрастию в их пользу. Экономист же, наиболее освоенный с интересами и нуждами колонистов, придавленных в своем густо населенном отечестве тяжкими условиями конкуренции, будет скорее стоять за предоставление свободы поселения и ратовать за вытеснение коснеющих в невежестве дикарей. Миссионер присоединится скорее к мнению этнографа, а практический человек станет на сторону экономиста. Натуралист же, я думаю, вовсе устранится от решения затруднительного вопроса, подобно тому, как патологоанатом или физиолог большею частью отказывается лечить больных. Преобладание того или другого элемента в правительстве может сильно влиять на принимаемые им мероприятия; действительность же подчинится им или обойдет их, смотря но надобности, и борьба за существование прямым или окольным путем доведет дело до преобладания сильнейших над слабыми, и народы, неспособные выдержать натиск конкуренции, погибнут.
Возвращаясь снова к вопросу о роли различных моментов в борьбе за существование, я считаю нужным напомнить общее для всей живой природы правило, по которому победность измеряется приспособляемостью к данным условиям борьбы. «Если мы сумеем, - сказал Макиавелли, - изменять наш образ действий сообразно с временем и обстоятельствами, то счастье нам не изменит». При этом на первом плане является знание этих обстоятельств и умение применяться к ним и пользоваться ими. Это верно как для случаев борьбы между отдельными особями, так и в деле соперничества между народами и расами. Поэтому можно предположить, что группы, наиболее закаленные внутренней борьбой, окажутся наиболее сильными и при столкновении с другими группами. Если это справедливо, то положения, высказанные в предыдущей главе относительно индивидуального соперничества, должны быть распространены и на явления борьбы между народами и расами.
Возьмем, с целью проверки высказанных положений, несколько отдельных случаев такой борьбы.
Фридрих Мюллер, в своей этнографии, предсказывает, что из борьбы за существование рас победительницами выйдут белая, монгольская и негритянская. Он упустил из виду, что существует еще одна раса, отличающаяся вообще большими способностями к переживанию; я имею в виду так называемую Малайскую расу (т.е. Малайскую в более ограниченном смысле, следовательно, без полинезийских и микронезийских народов). Уже один предел ее распространения - от Малакки и Зондских островов до Формозы и Мадагаскара - указывает на эту способность ее. Встретившись с другими племенами, эта раса частью вытеснила их, частью слилась с ними, частью же сама подчинилась, но во всяком случае, сохранилась более или менее цельно, что само по себе уже очень важно, если принять в соображение что ей приходилось иметь дело с самыми сильными народами Старого Света. На обширном Малайском архипелаге разлилась эта раса, двигаясь с севера на юг и восток все более и более оттесняя чернокожую расу, которую Уоллес означает собирательным названием папуанской. Общую характеристику малайской расы, дающую возможность судить о ее силе в борьбе за существование, даёт нам Пешель. «Азиатский малаец (под этим названием Пешель разумеет именно то, что у нас обозначено названием малайской расы), - говорит он, - своей замкнутостью и скрытностью, своим рабским чувством по отношению к высшим и строгостью к низшим, своей жесткостью, мстительностью и обидчивостью не производит приятного впечатления, но зато выигрывает своей мягкостью к детям и умением держать себя с достоинством и вежливостью». Характеристика эта тотчас же вызывает в нас представление о выносливости и удобоприменяемости малайской расы, что подтверждается как свидетельством путешественников, так и историческими данными. Малайцы легко подчинялись индийской культуре и браманизму но потом обменяли его на мусульманство. На Яве голландское правительство запретило миссионерам проповедывать христианство, боясь, вероятно, что и оно легко может быть ими принято. Применяющийся и легко подчиняющийся характер особенно резок именно у яванцев, самого многочисленного из малайских народов; это-то свойство и составляет золотой источник, из которого черпают голландцы. Один французский путешественник был очень поражен при виде рабских отношений в которых находятся яванцы к европейцам. «Чуть только покажется белый, - говорит граф Бовар, - как все туземцы присаживаются на корточки в знак уважения и благоволения. На многолюдной дороге, по которой мы ехали с величайшей скоростью, ни один туземец не остался стоять. По мере того, как наши лошади поднимали пыль, яванцы по обеим сторонам дороги падали ниц, как карточные солдатики». Знаменитая колониальная система голландцев зиждется именно на способности яванцев к рабскому подчинению. Правительство до мелочей опекает их, налагает на них обязательный труд, само определяя за него вознаграждение и монополизируя торговлю добытыми продуктами. Туземное население при этих условиях обнаруживает замечательное возрастание. С трех с половиною миллионов в начале столетия, оно в 1865 году дошло до 14 168 416, а в 1874 - до 17 882 396 (Бэм и Вагнер); в продолжении двадцати шести лет население почти удвоилось (Уоллес).
Малайские народы, столь легко дающие себя эксплуатировать, и сами делают то же, где это им доступно. В сношениях с первобытными даяками острова Борнео, малайские купцы выказали себя обманщиками, а малайские начальники - грабителями. Во многих местах они подавили и вытеснили слабейшую в борьбе за существование папуанскую расу. Интересна сравнительная характеристика обеих рас Малайского архипелага, представленная Уоллесом. Я выписываю из нее следующее: «Нравственные черты папуанца настолько же отличают его от малайца как и физические. Он жив и выразителен в разговоре и в действиях. Ощущения и страсти свои он высказывает восклицаниями, смехом, криком и неистовыми прыжками. Женщины и дети принимают участие во всяком разговоре и, по-видимому, мало смущаются при виде иностранца или европейца. Об умственных способностях этого племени судить очень трудно, но я склонен думать, что оно в этом отношении стоит выше малайского, несмотря на то, что до настоящего времени папуанцы не сделали еще ни одного шага к цивилизации. Но тут не должно забывать, что малайцы в течении веков подвергались влиянию иммигрирующих индусов, китайцев и арабов, между тем, как попуанцы подвергались лишь весьма незначительному и частному влиянию малайских торговцев. У папуанца гораздо более жизненной энергии, которая, несомненно, значительно помогла бы ему на пути к умственному развитию». «Папуанцы более любят искусство, нежели малайцы. Они украшают свои лодки, дома и почти каждую домашнюю утварь тщательно сделанными изваяниями - обычай, весьма редко встречающийся между племенами малайской расы. Страсти и нравственные чувства, напротив того, кажется, мало развиты у папуанцев. В обращении с детьми они часто бывают жестоки, между тем, как малайцы почти всегда мягки и ласковы. Едва ли когда вмешиваются в их занятия и забавы, дают им полную свободу, до каких бы лет это ни продолжалось. Но эти крайне мирные отношения между детьми и родителями в значительной степени происходят от нерадивости и апатичности характера расы, отчего младшие члены никогда не противятся серьезно старшим; между тем, как более суровая дисциплина папуанцев главным образом есть следствие более значительной силы и энергии ума, рано или поздно ведущей к тому, что слабый восстает наконец против сильного, народ против своих управителей, раб против своего господина, дитя против своих родителей». Изо всего этого видно, что папуанцы гораздо более нравятся Уоллесу, чем малайцы, что они более склонны к высшим духовным проявлениям (искусство, любовь к независимости); но, несмотря на то, они менее сильны в борьбе за существование и должны уступать малайцам. То же, только в сильнейшей степени, вытекает и из сравнения малайцев с даяками, т. е. одного из самых сильных в борьбе за существование с чуть ли не слабейшим в этом отношении народов малайской расы. «Я склонен, - говорит Уоллес, - поставить даяков выше малайцев в умственном отношении, тогда как в нравственном они, без всякого сомнения, далеко превосходят их». На основании двадцатилетнего знакомства Штольц утверждал, что даяки в сношениях между собой отличаются верностью и честностью, и говорит, что в этом отношении они могут быть поставлены в пример всем нациям (Бастиан). Из того, что малайцы кажутся Уоллесу не особенно отличающимися в умственном отношении, еще никоим образом не следует, чтобы умственные способности не играли первостепенной роли в их борьбе за существование с даяками и папуанцами, так как, переняв готовые культурные формы от более зрелых народов, малайцы тем самым уже получили в свои руки могущественное орудие борьбы. Притом же очевидно, что, говоря об умственных способностях, Уоллес имеет главным образом в виду те высшие их проявления, которые не имеют непосредственного значения в борьбе. Что же касается практичности, т. е. свойства особенного важного в этом отношении, то, несомненно, что малайцы со своими коммерческими наклонностями стоят выше как даяков, так и папуанцев. Что же касается собственно нравственной стороны, то она в представленном примере не играет выдающейся роли как орудие победы. Я говорю это в уверенности, что приспособляемость и способность к рабскому подчинению яванцев никем не будут причислены к разряду настоящих нравственных качеств.
Сильные в сравнении с первобытными народами малайцы, однако же, и сами должны во многих местностях (как, например, на Филиппинских островах) уступить свою роль во всех отношениях сильнейшим китайцам, которые в последнее время стали твердой ногой почти на всей территории, занятой малайской расой.
Как пример интенсивной и сложной борьбы за существование может быть приведена, обратившая на себя всеобщее внимание, борьба рас в Америке. Населенная первоначально сравнительно однородным племенем, Америка сделалась в короткое время театром великого народного переселения, результаты которого еще далеко не вполне определились. Туземная раса оказалась при этом вообще недостаточно сильной, и, хотя в некоторых местностях она и удержалась, но зато в других исчезла с удивительной быстротой. Почти с самого начала европейского переселения в Америку, между пришельцами и туземцами возгорелась борьба - местами вследствие топ), что последним сделалось тесно от наплыва нового населения; большею же частью вследствие стремления европейцев к преобладанию. Известно, что в общий ход этой борьбы замешались и чисто соматические влияния, как, например, сильные эпидемии, заведенные и распространенные европейцами; но не подлежит сомнению, что роль их была второстепенная (Вайц). На первый план выступило превосходство европейцев в деле подготовки и ведения войны, превосходство, зависевшее, быть может, не столько от силы ума, сколько от характера внешних условий (домашние животные и проч.). Нравственный момент, как известно, ни в одном случае не обусловил победы. Говоря вообще, уровень нравственности как победителей-испанцев, так и побежденных туземцев не отличался особенной высотою, по скорее пальму первенства в этом отношении следует отдать последним. Если суждение Инмана, который говорит, что «при взаимных сношениях между испанцами и перуанцами американцы превосходили первых как в отношении братской любви, так и религиозного чувства, последовательной заботливости о ближнем, воспитании и хорошего управления», и может быть заподозрено в некотором преувеличении, то не подлежит сомнению, что со стороны индийцев были не раз обнаружаемы такие качества, которые бы сделали честь их просветителям, опутывавшим друг друга самыми коварными интригами. Весь характер туземцев, с его храбростью и военной честью, со всеми его доблестями и пороками (характер, диаметрально противоположный тому, который мы видели у яванцев), делал их неспособными к легкому и скорому приспособлению и мешал им переносить чуждое владычество. Многие индийцы предпочитали смерть рабству. Туземцы Антильских островов, с целью недопущения своего потомства до рабского и приниженного состояния, в усиленной степени прибегали к искусственному плодоизгнанию, а затем и сами лишали себя жизни. На Кубе распространилась эпидемия самоубийства и нередко целые семейства и даже населения целых деревень собирались вместе с целью лишить себя жизни (Пешель).
Нечего и говорить, что, не отличавшиеся высокой нравственностью в сношениях между собой, победители вели себя относительно враждебных им туземцев по правилам, которые не могли быть одобрены и с точки зрения нравственных понятий того времени. Это видно по мероприятиям испанского правительства и католических миссионеров, которые стремились, хотя и безуспешно, ввести человеческое обращение с побежденными туземцами. До чего доходила изобретательность европейцев в их стремлении к искорененению индийцев, можно судить, например, потому, что еще в очень недавнее время португальцы раздавали им одежду, снятую с умерших от оспы, для того, чтобы усилить распространение столь гибельной для индийцев эпидемии (Вайц).
Неудивительно, что при всех этих условиях вымирание туземцев Америки совершалось с быстротою, не имеющей ничего подобного себе. На Гаити окончательно вымерло уже второе поколение по приходе европейцев; вскоре та же судьба постигла и других антильеносов. Наиболее цивилизованные и, следовательно, наиболее испытанные во внутренней борьбе индийцы средней и отчасти Южной Америки оказались и в этом случае более живучими. Они не только не вымерли, но местами даже вытеснили белокожее население, причем им, главным образом, помогла недостаточная способность последнего к акклиматизированию в тоническом поясе. Что нравственный момент не оказал им сколь-нибудь значительной помощи, видно уже из общераспространенного убеждения, что со времени европейского нашествия нравственность туземцев вообще ухудшилась. «Повсюду, - говорит Вайц об индийцах вообще, - мы наталкиваемся на признаки быстроувеличившейся деморализации со времени появления белых, под их влиянием; и мы встречаем даже показания, что позднейший характер индийцев не имеет более никакого сходства с прежним». Не только в нравственном, но и в культурном отношении уровень «цивилизованных» индийцев в настоящее время очень невысок, так что, несмотря не то, что они удачно перенесли столь тяжелый кризис борьбы за существование, ничто не предвещает их дальнейшей живучести. Хотя местами (как, например, в Лос-Альтос) они обнаруживают значительную энергию в примышленной деятельности, но вообще они склонны к лени, невежественны, легко опускаются и даются в руки более предприимчивым людям. Даже сравнительно столь высоко стоящие индийцы как туземцы Гватемалы, склонные к занятиям ремеслами и промышленностью, находятся в полной зависимости от ладинов (смешанного племени), в руках которых сосредоточены все предприятия и торговля. «Хотя ладины, - говорит Морле, - и выше индийцев в умственном отношении, но их трудолюбие и даже нравственность ниже, чем у индийцев, с которыми ладины не имеют никаких сношений и к которым они относятся с величайшим пренебрежением».
Сдерживаясь в тропической Америке только вследствие своей большей приспособленности к перенесению местных климатических условий, индийцы, естественно, должны будут уступить натиску другой расы, которая окажется в состоянии соединить физическую выносливость с достаточным уровнем умственного культурного развития. Негры выполнить этой роли, очевидно, не в состоянии. Перевезенные в Америку с начала шестнадцатого столетия, они достаточно обнаружили свою способность уживаться с тяжелыми физическими и нравственными условиями; но в то же время они показали себя неспособными к сколько-нибудь самостоятельной политической жизни и к поддержанию необходимого в борьбе за существование уровня культуры. Замечательно, что добавление их в Америку, сделавшееся вскоре источником больших бедствий, было результатом одной из немногих мер, вызванных чистыми нравственными мотивами. Лас-Казас, соболезнуя о жалкой судьбе индийцев, предложил для облегчения их участи перевезти взамен их негров, народ, особенно способный к самой тяжелой работе. Но вскоре, когда уже было поздно, он увидел, что от этого положение индийцев нимало не облегчилось, тогда как негры подпали под иго гнетущего рабства. И под конец своей жизни он горько разочаровался, извиняя свое заблуждение невозможностью предугадать насилия и презрение к человеческой жизни, обнаруженных торговцами невольников. Как ни тяжело рабское положение негров, но оно в конце концов оказалось для них менее пагубным, чем значительная степень самостоятельности и свободы. Это всего лучше доказывается примерами независимых негритянских государств, как например, республики Гаити. Ограничив, елико возможно, европейцев, отняв у них право гражданства и владения землею, гаитянские негры приобрели возможно - полную степень независимости, но в то же время опустились настолько, что все дела пришли в самое печальное положение. По словам одного члена комиссии, назначенной правительством Североамериканских Соединенных Штатов для исследования вопроса о присоединении Сан-Доминго, в республике Гаити «не существует мануфактур, и правительство обанкротилось; дороги и мосты разрушены, города переполнены развалинами, мужчины живут трудом своих жен, как в их первоначальном отечестве, Африке». Известно также, в какое печальное положение пришли освобожденные негры южных штатов. Известия об их вымирании подтверждаются многими авторами и самый факт не может быть подвергнут сомнению.
Все сказанное свидетельствует, что будущность чернокожего племени в Новом Свете далеко не обеспечена, тем более, что оно и не может достаточно приспособиться к климатическим условиям многих частей тропической Америки. Так, например, известны данные о вымирании негров на Антильских островах (Буден). Вероятнее всего предположение, высказанное не раз уже людьми, хорошо знакомыми с делом, что в будущей истории тропической Америки самое выдающееся место будет занято китайцами. Способность этого народа к приспособлению в этой части Нового Света доказывается многочисленными рабочими, ежегодно переселяющимися туда в значительном числе. Число их на Кубе доходило в 1861 году до 35000. «Китаец как бы создан для того, чтобы тут процветать», говорит Рацель, автор самого лучшего сочинения о китайском переселении.
Общее положение расовой борьбы в северной Америке слишком известно, чтобы о нем следовало подробно говорить в этом беглом очерке. Европейцы, поселившиеся там, безусловно сильнее испанцев, тогда как туземное население, наоборот, несравненно слабее индейцев испанской Америки. Целая треть его до сих пор не обнаружила никакой способности к оседлой жизни, а так как она занимает хорошие плодородные земли, привлекающие белокожих поселенцев, то судьба его уже теперь может считаться решенною; дикие племена индийцев (их считается более 80000 человек) должны вскоре совершенно исчезнуть. Какие бы меры ни были принимаемы свыше, но, как уже это бывало сотни раз, слабое в борьбе за существование население не может быть поддержано искусственно против самых неразборчивых, часто жестких средств, приводимых в действие поселенцами. Миссионерство, заведенное в начале с самыми гуманными намерениями, дало нескольким квакерам полномочие вступить в сношение с индийскими племенами и предпринять все, что только могло принести им пользу. Но эти миролюбивые люди тотчас же встретили непреодолимое препятствие со стороны поселенцев, которым было выгодно, чтобы поддерживались распри с туземцами, так как это давало им возможность делать поставки для войск и обманывать правительство. Теми или иными способами, во всяком случае не сообразующимися с правилами даже самой снисходительной нравственности, белое население Соединенных Штатов быстро подвигается на Запад, оттесняя и уничтожая неподдающиеся культуре краснокожие племена, и все более упрочивает свое положение на материке Нового Света.
Изумительно быстрое развитие Соединенных Штатов может служить лучшим и нагляднейшим примером несовпадения успехов практической, материальной культуры с преуспеянием высших проявлений человеческого духа. Рядом с не имеющим ничего равного прогрессом прикладного знания, промышленности и торговли, Соединенные Штаты представляют сравнительно ничтожное движение в области искусства и теоретической науки. По мнению многих лиц, хорошо знакомых с страною, нравственность американцев стоит также на очень высоком уровне. Я не стану приводить здесь, конечно, всем известные сенсационные рассказы о частью действительных, частью преувеличенных злоупотреблениях чиновников, печати и проч., но нахожу не лишним указать на следующие, точно констатированные факты, могущие пролить некоторый свет на занимающий нас вопрос. По последнему цензу оказалось, что в течении десяти лет (1860-1870) общее население Соединенных Штатов увеличилось на 22,5%; рассматривая увеличение по роду занятия, мы видим крайне неравномерное распределение. Успех земледелия выражается при этом 18%, промышленности - 2,8%, торговли и доставки товаров - 44%, так называемых свободных профессий, прислуги и поденщиков - 5,5%. Здесь особенно кидается в глаза чересчур большое увеличение людей занимающихся торговлей и перевозкой товаров, т. е. именно делом, нравственная сторона которого (как было показано в предыдущей главе) не отличается особенной высотою. Констатируя усиленный переход молодых американцев в города, официальный отчет статистического бюро в Массачусете (за 1871) приписывает его между прочим стремлению разбогатеть во что бы то ни стало (to put money in their pockets by fair means if the can, at all events to put it there). При этом следует иметь в виду, что на торговые предприятия бросаются главнейшим образом природные янки, считающие себя привилегированными сравнительно с пришельцами из Европы. «Без являющихся извне рабочих американская почва не могла бы давать те богатые жатвы, которые необходимы для нас», говорит один из компетентных судей по части американской жизни. Что касается увеличения свободных профессий, то в этом отношении на первый план выступают (составляющие 23%) юристы и главным образом адвокаты, число которых в Соединенных Штатах доходит до 33 000, т. е. слишком в шесть раз больше, чем в Германии (в последней один адвокат приходится на 8000 душ. а в Соединенных Штатах - на 1180.
Как ни высока и прочна культура Соединенных Штатов и как ни сильны поэтому ее представители - янки, тем не менее и им приходится сталкиваться на Западе с элементом в высшей степени приспособленным к борьбе за существование, и иногда даже уступать ему. Я имею здесь в виду тот же народ, который обнаружил, как было сказано выше, свою силу в борьбе с малайской расой и которому предсказывают блестящую будущность в тропической Америке. Китайский вопрос занимает в настоящее время не только непосредственно заинтересованные штаты Америки, но о нем серьезно говорят и в Вашингтоне и даже в Европе. Начавшееся с первых пятидесятых годов переселение китайских рабочих постепенно увеличивается (за исключением нескольких частных колебаний) до настоящего времени, так что теперь их прибывает ежегодно около двадцати тысяч. Обратное течение значительно слабее и потому в результате получается остаток более чем в сто тысяч, поселившийся главным образом в Калифорнии и преимущественно в Сан-Франциско. Сначала китайцы были приняты очень дружелюбно, как рабочие, незаменимые при постройке тихо-океанской железной дороги и при других больших предприятиях. Но мало-помалу они стали обнаруживать способность и не к одной черной работе и обратились к занятию ремеслами и торговлей, и вообще выказали такую силу в борьбе за существование, что переполошили все население западной Америки. Вскоре в Калифорнии образовалась антикитайская партия, настаивавшая и продолжающая настаивать на вмешательстве правительства с целью ограничения китайской эмиграции и принятия самых строгих мер против китайцев. Послушаем, как формулирует свое оппозиционное мнение эта партия словами одной калифорнийской газеты («San-Francisko Chronicle», от 17 и 21 марта 1876). «Мы столько раз уже приводили доказательства того, что американская работа не может существовать рядом с китайской, так как китаец живет как свинья, а американец хочет жить по-человечески. Китайский рабочий удовлетворяется ежедневно чашей риса и двумя чашками чаю, тогда как американцу время от времени нужна говядина и баранина и ему тяжело оставаться без хлеба и масла. Китаец может спать во всякой дыре, американцу же необходима постель. Китайцу не мешает, если вместе с ним спит еще двенадцать человек, американец же должен иметь такое же помещение для одного только товарища. Китайский рабочий не думает о женитьбе и основании семейства, тогда как американцу чересчур тяжело лишиться этого. По этому поводу и возникает вопрос: следует ли желать дешевой работы, если она может быть получена не иначе, как ценою принижения нашего рабочего до уровня этих животных язычников?» По поводу известия о прибытии парохода с новой тысячью китайских переселенцев та же газета говорит: «Что означает прибытие этих 1017 монголов? Это означает оттеснение 1017 белых мужчин и женщин от занятия, которым они теперь живут, так как доказано, что белая работа не может конкурировать с китайской» и т. д. Притеснения, вызванные подобного рода мнениями, должны были естественно вступить в коллизию с свободолюбивыми принципами законодательства Соединенных Штатов и потому принятые калифорнийским правительством меры большей частью были отвергнуты в Вашингтоне. К тому же, выгоды, доставляемые китайцами в качестве дешевых и хороших рабочих, ремесленников и прислуги, должны были заставить стать на их сторону большинство капиталистов и вообще многих влиятельных людей. В некоторых случаях предприниматели, заменившие китайских рабочих американскими, должны были снова обратиться к ним, так как они лучше выполняли принятые на себя обязательства. В результате, несмотря на все стеснения и антикитайские агитации, китайцам удалось утвердиться на американской почве и забрать в свои руки некоторые ремесла, как, например, башмачное, прачечное и др. Из западных штатов они частью потянулись и в восточные, где, при усиленной фабричной деятельности, им, быть может, предстоит сыграть немаловажную роль.
До сих пор переселенцами из Китая являются почти исключительно мужчины. В Америке насчитываются всего от пяти до шести тысяч китаянок, из которых значительное большинство проституток; в новейшее время однако же у них замечается стремление к правильной семейной жизни; так, один только миссионер Гибсон в течении трех последних лет перевенчал около сорока пар по христианскому обычаю. Это явление бесспорно указывает на процесс усиленного приспособления и укоренения китайцев в Северной Америке, процесс, окончательный результат которого едва ли может быть с точностью предсказан в настоящую минуту. Опасения массивного переселения китайцев в Америку высказывались большей частью с практической целью - побудить правительство к принятию стеснительных мер, и вообще без достаточного числа доводов, невозможно допустить, чтобы, в случае действительной опасности такого наплыва, американцами не были вовремя приняты надлежащие охранительные меры; к тому же, не следует упускать из виду, что американцы и теперь обнаруживают значительную силу в борьбе за существование: при усилении же ее, хотя бы под влиянием китайской конкуренции, они могут еще более приспособиться. На это указывает, например, их изобретательность в деле придумывания средств, которые, не нарушая основ американской конституции, могли бы сколь возможно стеснять китайцев и делать им горькою жизнь в Соединенных Штатах. Так, например, городское управление Сан-Франциско, в виду привычки китайцев к скученной жизни, издало постановление, обязывающее, чтобы на каждого жителя приходилось в квартире не менее пятисот кубических футов пространства. Для надзора за этим оно нарядило ночные обходы, и китайцев, не исполнивших предписания, велело препроводить в тюрьму, где помещение оказалось вдвое теснее. С тою же целью и то же управление издало постановление, известное под названием «предписания о свиных хвостах» (Pigtail ordinance), по которому все арестанты мужского пола должны быть острижены почти под гребенку. Сделано это было в виду важного религиозного значения, которое китайцы придают своим косам.
Если, с одной стороны, в настоящее время не может быть речи о нашествии китайских масс в Америку, то, с другой стороны, неправы и те, которые не придают китайскому переселению в Соединенные Штаты никакого общего значения. Во-первых, следует иметь в виду, что всякое приращение китайских рабочих препятствует соответствующему наплыву европейцев и, следовательно, удерживает их на прежних местах, увеличивая тем предложение труда на европейских рынках. Во-вторых, усиленная конкуренция с китайцами должна влиять на изменение склада белых рабочих. Даже умеренные партии стоят в этом вопросе на точке зрения свободы конкуренции. Вот как, например, высказывается по этому поводу «New-York Times», стоящая вообще в стороне от непосредственных столкновений с китайским вопросом. «Хорошо известно, - говорит эта газета, - что главнейшие возражения против китайского переселения исходят от ирландского населения. Непонятно однако же, почему бы следовало запретить Китаю, ближайшему соседу наших западных штатов, облегчать тамошнее отсутствие рабочих рук. Чуть только это переселение перестанет приносить пользу государству, то оно само собою прекратится вследствие недостаточной поддержки». Еще резче высказывается в том же смысле Рацель: «Оппозиция белого чернорабочего люда против желтого переселения, - говорит он, - до сих пор есть не что иное, как зависть. Она только тогда могла бы иметь некоторое оправдание, если бы оппоненты обязались работать так же дешево и прилежно, как те конкуренты, вытеснение которых они проповедуют столь громкими фразами. Но в таком случае китайское переселение должно бы было прекратиться само собою. Их привлекает именно требование более дешевой работы, чем та, к которой привыкли американцы и европейцы». Выход из этого положения может состоять или в искусственном задержании китайской эмиграции, что - в виду напора ее с одной стороны и настоящего экономического положения страны с другой - крайне затруднительно, или же в оказании большего противодействия со стороны самих рабочих, которым так или иначе пришлось бы развить в себе те свойства, благодаря которым китайцы оказались столь сильными в промышленной борьбе. Во всяком случае сближение западных народов с китайцами, обусловленное отчасти усилением мировой торговли и сношений, отчасти же - прекращением китайской замкнутости, должно усилить конкуренцию и, в виду очевидной силы китайцев, влиять на большее или меньшее окитаизирование белых соперников, т. е. на развитие в них тех именно сторон, которые и у китайцев образовались под влиянием тяжелых условий борьбы за существование в их собственном отечестве.
Встретившись с народом, обнаружившим особенную силу в борьбе за существование, мы, в интересах изучения этого явления, должны несколько долее остановиться и попытаться ответить на вопрос: чем именно обязаны китайцы тому, что они так успешно ведут конкуренцию с самыми различными народами и при самых разнообразных внешних условиях? - Прежде чем приступить к этому, нужно еще несколько обстоятельнее изобразить картину китайской борьбы, так как только тогда мы составим себе надлежащее понятие о степени силы этого замечательного народа.
Более четырех тысяч лет тому назад, в северо-западной части нынешней китайской империи, возник небольшой - быть может всего их ста семейств состоявший - черноволосый народ - «пезинг», начавший с того времени постепенно разрастаться и расширять свои владения, которые через тысячу лет дошли до Ян-це-Кианга, а еще через тысячу лет - проникли до берегов Южно-Китайского моря. В конце двенадцатого века до Р. X. Срединное царство занимало еще только четвертую долю своего нынешнего пространства. Внутри империи рядом с китайцами, жило еще множество варварских народов, номинально признававших китайскую власть и только мало-помалу терявших свою самобытность. Китайцы действовали п|ютив них не вооруженною силою: они никогда не были воинственным народом, не отвоевывали земель и не порабощали своих противников, а постепенно, так сказать, всасывали их в себя, побуждали их мирными средствами безвозвратно сливаться с собою. Увеличение китайских владений продолжалось и в более новые времена: так, они в половине тринадцатого века после Р. X. приобрели самую южную провинцию - Юн-нан, а Формозой завладели только в конце семнадцатого столетия. Способ, посредством которого китайцы упрочиваются на этом острове, может дать некоторое понятие и о ходе их мирного завоевательного процесса вообще. Они начали с того, что построились на обращенной к материку части западного берега, и отсюда стали понемногу распространяться в другие стороны. Во внутреннюю часть острова они рискуют проникать с чрезвычайной осторожностью; вполне же владеют они и теперь только западной половиной острова, где они упрочиваются, главнейшим образом, при помощи терпения и хитрости, и только в случаях, когда условия представляются особенно благоприятными, они по временам оттягивают новый кусок земли у диких туземцев. Так как равнины уже заняты прежними переселенцами, то новые китайские пионеры стараются прежде всего купить себе клочок земли, причем «действие убеждением есть их любимый прием». Только в самых исключительных случаях китайцы сами прибегают к насилию: они предпочитают нанимать дружественные им племена для защиты от враждебных, и нередко женятся на туземных женщинах для того, чтобы они могли выполнять роль мирных посредниц. Таким образом китайцы достигли того, что население их на Формозе дошло до трех миллионов и что туземцы стали отодвигаться все глубже и глубже.
Китайцы подпадали под власть монголов и теперь ими управляет манджурская династия, но и Монголия, и Манджурия постепенно все более и более китаизируются. Завоевание Китая манджурами тотчас же послужило поводом к переселению китайцев в Манджурию, - и в результате получилось быстрое вымирание манджуров и переполнение страны китайцами. В Монголии китайцы значительно подвигаются вперед, постепенно завладевая плодородными землями, и уже теперь легко предвидеть, что «не в очень отдаленном будущем вся способная к возделыванию земля Монголии перейдет в китайские руки» (Рацель).
Далеко перейдя за пределы пресловутой китайской стены и сплачивая все более и более всю Небесную империю в одно целое, китайцы, как мы отчасти уже видели выше, легко уходят из своего отечества и вступают в борьбу за существование нередко с совершенно для них новыми народами. Значительная часть Азии с давних пор сделалась таким поприщем китайской деятельности. Западная часть индо-китайского полуострова в короткое время наводнилась китайцами, так что древние буддийские колонии, Сиам и Камбоджа, вскоре превратились в полу-китайские государства. Япония и Малайский архипелаг привлекли к себе также значительное число китайских торгашей, прочно утвердившихся даже в таких местах, как, например, на Яве. Они успели проникнуть и в столь густо населенные места, как, например, Ост-Индия, где они завладели уже некоторыми ремеслами: так, например, в Калькутте около девяноста процентов сапожников - китайцы. На Филиппинских островах они утвердились, несмотря на всевозможные притеснения и преследования со стороны испанцев, и все предсказывает им там блестящую будущность. Известный путешественник, Ягор, думает, «что они со временем, как на Филиппинских островах, так и в других странах Великого океана, вытеснят все посторонние элементы - или же образуют плодовитые расы метисов, которым они все-таки передадут свои особенности». Особенно важная роль выпала на долю китайцев в Сингапуре, где девять десятых всех торговых операций находятся в их руках и где они завладели не только мелкой, но и крупной торговлей - и, кроме того, самыми разнообразными ремеслами.
Как банкиры и менялы они не имеют себе равных. Китайская колония в Сингапуре замечательна еще потому, что в ней китайцы обнаруживают всего меньшую охоту к возвращению на родину.
Многие из них женятся пли на приезжающих китаянках, или же на малайских женщинах. В 1859 году, из пятидесяти тысяч китайских колонистов, было уже 3248 китаянок (Рацель). Хотя главное китайское движение в Азии за пределами своей империи, и направлено по преимуществу на юг, тем не менее, некоторая часть китайцев переселяется и на север - в наши азиатские владения. Так. например, они частью поселились в Амурском крае, где занимаются хлебопашеством, огородничеством (между прочим, разведением женьшеня) и, разумеется, торговлей. В некоторых местах они утвердились столько прочно, что, по словам церковника Венюкова, «присутствие манджуров и китайцев на левом берегу Амура, близ Благовещенска, вероятно, на долгое время будет задерживать руссификацию в этой местности». С некоторых пор в Амурском крае появились и китайские рабочие, нанятые в самом Китае; в забайкальскую же область стали приходить китайские торгаши, расплодившиеся между прочим и в Иркутске.
Из внеазиатских стран китайское переселение кроме Америки, совершается в значительной степени еще в Австралию и в меньших размерах - в Полинезию. В Австралии они расходятся из трех пунктов - южного (Виктория), восточного (Квинслэнд) и северного (Порт-Дарвин). За последние годы особенно усилился наплыв и в золотые россыпи Квинслэнда, где из 15000 рабочих - 14000 китайцев. Европейские колонисты пришли в ужас от такого быстрого увеличения китайской иммиграции и настояли на принятии стеснительных мер. Местный парламент с этой целью значительно увеличил пошлину на рис, главную пищу китайцев, и кроме того, увеличил плату за право высаживаться на берег для китайских приисковых рабочих и купцов. Последняя мера, впрочем, была отвергнута английским правительством, что вызвало в колониях большое неудовольствие и формальный протест.
Из полинезийских островов, Таити и Сандвичевы острова главным образом привлекают к себе китайцев. На Таити они появились впервые в 1856 году. Это были приисковые рабочие и различные ремесленники, бежавшие из Австралии вследствие дурного обращения с ними. Получив право высадиться на острове, они скоро уже образовали маленькую китайскую колонию, занявшись главным образом и мелочной торговлей. Кроме того, были выписаны китайские кули для работ на плантациях, что у них, по обыкновению, пошло вполне удовлетворительно.
О привлечении китайских рабочих в Англию и Германию, как о средстве к прекращению стачек, уже не раз поговаривали предприниматели в Лондоне и Берлине, но, разумеется, вряд ли когда им удалось бы исполнить это предположение. Теперь и наука (по крайней мере, в Германии катедер-социалисты) начала восставать против расовой равноправности и против неограниченной свободы иммиграции чуждых европейцам племен. Несравненно вероятнее наплыв, в ближайшем будущем, китайцев в Африку. В 1875 году была сделана первая попытка добыть китайских рабочих на Мыс Доброй Надежды, и Франсис Кальтон высказывает убеждение в необходимости заселения Африки китайцами в самых обширных размерах, так как, по его мнению, только этим путем можно сделать эту большую страну вполне доступной разумной культуре. Один из известнейших новейших путешественников по Китаю, аббат Давид, смотрит чрезвычайно серьезно на силу китайцев в конкуренции. Он считает невыгодным для европейцев усиленное распространение знаний между китайцами, так как. вооруженные ими, китайцы сделаются еще более опасными; он думает, что «этому неисчерпаемому муравейнику» следует предоставить Азию, Малайский архипелаг и Африку, но что, но крайней мере, теперь с тем большей энергией необходимо воспрепятствовать ето наплыву в Европу и Америку.
Необходимо иметь в виду удивительную способность китайских переселенцев, несмотря на изумительную приспособляемость к новым условиям, сохранять тем не менее свои характерные особенности. Все путешественники в один голос утверждают это и говорят, что китайские кварталы в Сан-Франциско, Мельбурне, Батавии и др. городах представляют совершенно тип городов Небесной империи. Некоторые китайцы начинают в Калифорнии перенимать европейские обычаи, т. е. меняют одежду и некоторые формы, но в сущности остаются теми же китайцами. Хотя они вообще весьма несклонны допускать крупные перемены под влиянием иностранцев и не имеют никакого поползновения к приобретению чисто научных познаний, тем не менее они с большой охотой и легкостью перенимают многие практические сведения и приемы, и только благодаря этой способности становятся в короткое время опасными конкурентами для европейских ремесленников. (Несколько характерных примеров этого было описано Диксоном в его книге о борьбе рас в Америке). Император Юн-Чанг, допуская европейских миссионеров в Китай, объявил, что он это делает не потому, чтобы считал их религию хорошей, а только потому, что они знают астрономию и математику и полезны правительству для исправления календаря. За последние годы китайцы сделали большие успехи в военном отношении, пригласив европейских офицеров для устройства армии и укреплений, которые у них буквально переполнены крупповскими пушками.
Переходя теперь к причинам, вследствие которых китайцы так сильны в борьбе за существование, необходимо сказать несколько слов об участии в этом соматического момента. Хотя в науке еще не существует удовлетворительного материала для суждения о физической приспособляемости китайцев, но, судя по всему, что известно в этом отношении, способность эта у них чрезвычайно высока. Как мы видели выше, они распространились на огромном пространстве, включающем и суровое в климатическом отношении Забайкалье, и тропические, и экваториальные страны. Относительно физической, то есть мускульной силы, они оказались не особенно одаренными, но зато они выигрывают вследствие способности к очень продолжительной работе. В многих местностях, куда переселяются китайцы, была замечена их чрезвычайная «силы крови», т. е. усиленная наследственная передача их физических и душевных особенностей при скрещивании с другими расами. Дети от китайских отцов с малайскими, манджурскими, испанскими и др. женщинами, гораздо более похожи на китайцев, чем на своих матерей.
Рядом с такой физической одаренностью, китайцы представляют целый ряд душевных свойств, влияющих на их силу в борьбе?. Во-первых, они отличаются, как уже было упомянуто несколько раз, чрезвычайной умеренностью в пище и других потребностях и замечательным трудолюбием. Они работают долго и усидчиво и не брезгают никакой работой, лишь бы она была оплачиваема. В Калифорнии они монополизировали некоторые женские специальности, как, например, мытье белья и уход в доме и за детьми. Во-вторых, китайцы в высшей степени уживчивы и потому легче многих других народов переносят притеснения и нарушения прав. Эти качества следует бесспорно отнести к числу нравственных, хотя в их ряду трудолюбие, умеренность и выносливость занимают одно из низших мест, так как они (особенно в данном случае) направляются для целей личной жизни. К числу более высоких нравственных качеств должна быть отнесена солидарность китайских переселенцев, вследствие которой они, в случае нужды или несчастия, оказывают друг другу помощь.
Но, с другой стороны, не следует упускать из виду того, что в борьбе за существование они очень неразборчивы на средства и постоянно прибегают к таким, которые, как в глазах европейской, так и китайской морали, признаются безнравственными. Выше я имел уже случай сослаться на пример опутывания монголов долгами со стороны китайских купцов; подобных примеров можно бы привести целый ряд. Говоря о противозаконной иммиграции китайцев в Монголию, Рацель, ссылаясь на Вильямсона, говорит: «Эти простодушные люди (монголы) не доросли до китайской хитрости». И далее: «Эта борьба хитрости с наивной, не сознающей самую себя первобытной силой дикаря, может показаться не особенно утешительным зрелищем, но на результаты ее нельзя не смотреть как на прогресс». С помощью таких же приемов борются китайцы и в Манджурии с ее «простодушными и добродушными» туземцами. «Как всюду, где господствует мир, - говорит Рацель, - так и в Манджурии китайцы находятся в сильной степени процветания, вытесняя прежних обладателей с помощью хитрости и трудолюбия». Вот как описывает испанский историк Суньига китайских переселенцев на Филиппинских островах: «На одного, посвящающего себя земледелию, появлялась тысяча всевозможных купцов, торговавших чрезвычайно ловко. Они употребляли фальшивые меры и весы и до неузнаваемости фальсифицировали всевозможные товары, как, например - воск, сахар и др. Они вели себя настоящими ростовщиками, следя внимательно за потребностями народа и спросом на различные товары, которые они удерживали до тех пор, пока им не давали требуемую ими высокую цену». Один из новейших путешественников по островам Тихого Океана, граф Пемброк, указывает на эксплуатацию таитян китайцами и замечает по этому поводу следующее: «Обе расы представляют резкий контраст: азиатец всегда перехитрит простодушного полинезийца». Само собой разумеется, что качества, оказывающиеся столь пригодными для борьбы китайцев с другими народами, были выработаны и развиты первыми во время их многовековой борьбы у себя дома. «Невероятная бережливость времени, места и материала, - говорит Ягор, - которая могла развиться только у такого перенаселенного народа как китайцы, постоянно с новой силой кидается в глаза путешественнику». И в самом деле, характер китайца, всю жизнь остающегося в Небесной империи, совершенно такой же, как и у эмигранта. Вот как описывает первого Пешель: «Китаец соединяет в себе все, что нужно, чтобы, при условиях беспрепятственного развития, привести к быстрому перенаселению: он нежный отец, считающий благословение детьми за величайшую радость, умерен до излишества, образцово бережлив, неутомим как работник, не знает праздника, но в торговом деле хитрее грека. Уже дети занимаются коммерческими делами; торгашество и отдача денег под залог - их любимые игры». По словам знаменитого путешественника Гюка, отзыв которого был много раз подтверждаем различными наблюдателями, китаец совершенно поглощен временными интересами и материалистичен в обычном смысле слова. «Нажива составляет единственную цель, к которой постоянно устремлен его взор. Жгучая жажда к получению прибыли, какой бы то ни было, поглощает все его способности и всю энергию». Коммерческий дух развит у него в сильнейшей степени. Капитала в несколько копеек уже бывает достаточно для него, чтобы начать какое-нибудь маленькое дело, причем обыкновенно пускается в ход ловкое плутовство, столь свойственное китайцу. Все это указывает на то, что китайский характер есть прототип практического характера, а это уже достаточно объясняет, почему китайцы оказались столь сильными в борьбе за существование. Перевес как в индивидуальности, так и в общественной борьбе должен выпадать именно в пользу более практической стороны, так как практичность и есть не что иное, как способность, во что бы то ни стало, достигнуть желаемого результата. Отсюда понятно, что у китайца умственная сторона должна представляться наиболее выдающейся чертой характера. Дрэпер приписывает прочность Китая тому, что «политическая система его стремится достичь соответствия с тем физиологическим условием, которое руководит всем социальным усовершенствованием: она стремится дать господствующий контроль уму». Некоторая степень умственного образования, как известно, составляет достояние каждого китайца, при столь распространенном элементарном обучении. Нравственный уровень стоит у них бесспорно на более низкой степени. По меткому выражению известного государственного человека Америки, Сьюарда, «китайская нравственность обращается не к суду совести, а к правилам приличия». Рацель, не имевший, правда, случая наблюдать китайцев в их отечестве, но добросовестно изучивший литературу о них, жалуется на отсутствие у них идеалов и говорит, что «они лишены того высокого нравственного стремления, которое переходит за пределы соображений минутной пользы и ищет правды ради нее самой». Китайцы самостоятельно выработали очень развитое нравственное учение, которое во многих отношениях не ниже наших самых возвышенных нравственных взглядов, но которое в то же время заключает и корни практичности, столь свойственной китайскому миросозерцанию. Так, например, во второй из четырех основных книг китайской философии и морали (Тчун-Юнг, или «неизменность в средине», книге, приписываемой внуку и ученику Конфуция - Тесуссе) проводится принцип, что человек высшего достоинства «сообразуется с обстоятельствами, чтобы оставаться на средине». И проповедуется, что будут ли всемирные заповеди исполняться по естественному побуждению и без выгоды, или же они будут исполняться с трудом и усилиями, но, если раз человек выполняет похвальные дела, то результаты во всех случаях одинаков. Не следует забывать, разумеется, что между нравственным учением и нравственностью, т. е. нравственным поведением еще существует большая разница, которая именно и замечается так часто среди китайцев. Но словам Пока, если китаец и читает книги нравственного и религиозного содержания, то не иначе как в виде отдыха и развлечения с целью препровождения времени.
Религиозный индифферентизм китайцев есть факт общеизвестный и проявляется в их жизни на каждом шагу. Когда испанцы, в видах противодействия китайским эмигрантам нам Филиппинских островах, издали постановление, что только христиане могут женится на туземных женщинах, то китайцы без малейшего труда принимали христианство. Но, разумеется, номинально.
Китайский император Юнг-Чинг (начала прошлого столетия) издал комментарии на речи своего отца, в которых он предостерегает от ложных сект и осуждает все разбираемые им религии. Он шутит над беспрерывным повторением молитв буддистами и говорит по этому поводу: «Если вы, провинившись, будете тысячи раз кричать перед судьей «ваше превосходительство», то неужели вы думаете, что он вас за это простит? Ваш бог Фо - презренный, если он осуждает за то, что ему не подносят взяток на алтаре и не жгут в честь его бумаги», и пр. Наш знаменитый синолог, проф. Васильев, высказывается следующим образом: «На Востоке (т. е. собственно в Китае) вовсе не имеют того понятия о привязанности к религии, которое мы встречаем на Западе - там люди живут не сердцем, и житейскими нуждами».
Неудивительно, что при таком исключительно практическом направлении искусство в Китае не могло подняться на высокий уровень развития. Послушаем в этом отношении специалиста по истории искусства. «Вкус китайцев, - говорит Шнаазе, - не имея возвышенного направления, производит, главным образом, работы, отличающиеся внешней искусственностью. В некоторых отраслях художественной техники китайцам принадлежит заслуга, как авторам важных технических изобретений (из которых некоторые сделаны ими в незапамятные времена) и как искуснейшим и до настоящего времени исполнителям: уже в третьем веке до Р. X. они занимались отливкой металлов, обработкой шелка и различными видами тонких глиняных изделий. Но рядом с этими и другими возбуждающими удивление техническими искусствами, тем резче выступает недостаток истинно художественного дарования. В их постройках мы видим принцип декоративной обойной пестроты, внешним образом примыкающий к свайным постройкам и шатрам первобытных народов; в скульптуре и живописи окостенение их фантазии допускает только тощие копии с натуры или безобразные отклонения от нее. Исследование этого явления, само по себе очень интересное, относится поэтому скорее к этнографии, чем к истории искусства; да и для истории культуры в обширном смысле оно далеко не необходимо, так как, вращаясь главным образом в сфере технической и материальной цивилизации и нося на себе характер законченный и эгоистический, оно осталось без заметного духовного влияния на другие народы».
Вывод, к которому приводит сообщенное в главных чертах исследование о борьбе за существование в человечестве, имеет, особенно с первого взгляда, много общего с известным положением Бокля, что в деле цивилизации решающим и главным моментом является всегда интеллектуальное развитие. В самом деле, подходя к вопросу с двух сторон, мы должны были убедиться, что роль нравственного момента в борьбе за существование несравненно ограниченнее и подчиненнее, нежели умственного. На это прямо указывают и факты человеческой борьбы, и соображения о непрочности этических оснований. - Этот второй аргумент диаметрально противоположен главному доказательству, приводимому Боклем в пользу его положения. Доказательство это, как, конечно, помнит читатель, состоит в признании за нравственными началами полной неподвижности. Против этого восстали историки нравственности и вообще целая школа писателей, доказавшие вполне, что если некоторые наиболее элементарные нравственные положения и неподвижны, то этого никоим образом нельзя распространять на всю мораль вообще. «Делать добро другим, жертвовать для их пользы своими желаниями и т. д., - говорит Бокль, - в этом и немногом другом состоят существенные начала нравственности, но они были известны много тысяч лет тому назад и ни одной йоты, ни одного параграфа не прибавили к ним все проповеди, поучения и афоризмы, какие только могли произвести теологи и моралисты». Но разве решение вопроса о том, кто эти «другие», которым нужно делать добро, не составляет подвижного элемента в морали и точно все равно, будем ли мы распространять добро только на своих соплеменников, или же и на чужих людей, на представителей другого народа, другой расы и, наконец, на животных? Следовательно, развитие нравственного чувства есть факт, заметный как в истории народов, так и в истории отдельных людей. Неверно также, будто в историческом процессе цивилизации незаметно влияние нравственного момента. Если бы Бокль взял пример из области литературы, искусства и чистой науки, то он увидел бы, каким двигателем являлось в них нравственное чувство. С этой стороны ему также были приведены довольно веские возражения. Различие между основным положением Бокля и главным выводом, вытекающим из представленного читателю материала, заключается в том, что ограниченную роль нравственного момента следует признать только как орудие победоносности в деле борьбы за существование, которая в крупных формах выражается в виде промышленной конкуренции и соперничества народов, а не во всем процессе цивилизации. Литература и искусство, составляющие столь существенную сторону цивилизации и так тесно связанные с нравственным развитием, отступают на задний план в обыкновенных формах борьбы за существование. Отсюда понятно, что народы, крайне неразвитые с этих точек зрения, могут оказаться несравненно сильнее, чем народы, стоящие гораздо выше их в этом отношении. Мы приходим таким образом к необходимости расчленить то сложное целое, которое называется цивилизацией, на две большие группы, следуя в этом отношении Гизо. «В цивилизации, - говорит он, заключены два главные факта, - она существует при двух условиях и обуславливается двумя признаками: развитием общественной деятельности и развитием деятельности личной, прогрессом общества и прогрессом человека. Первый из этих элементов обнимает собою гражданина, и экономическое развитие и вообще то, что называют часто термином «материальная культура»; второй же заключает «развитие жизни индивидуальной, внутренней, развитие самого человека, его способностей, чувств, идей» и выражается в литературе, науке и искусстве. Хотя Гизо и указывает на то, что есть «много государств, где благосостояние растет быстрее и лучше распределяется между гражданами, и где, между тем, цивилизация находится на низшей степени развития, нежели в других государствах, не так богато наделенных собственно в социальном отношении», тем не менее он строго держится принципа, что оба составные элемента цивилизации неразрывно связаны между собою. Предполагаемая неразрывность этой связи опровергается приведенными выше фактами существования народов, крайне сильных в борьбе за существование, как, например, янки, китайцы, малайцы, и в то же время стоящих не высоко ни в деле нравственности, ни в деле искусства, литературы и науки. Первенствующее положение эллинов в этих высших областях цивилизации не сделало их живучими и не дало им силы пережить неизмеримо ниже стоящих китайцев, так же точно, как неразвитость последних с этих точек зрения не помешала им сделаться сильнейшим народом в борьбе за существование, надолго пережить греческую и римскую цивилизации и занять отчасти даже угрожающее положение по отношению к современному Европейскому миру. Рацель и другие писатели, говоря о китайцах много раз ссылаются на отсутствие у этого народа «идеальных стремлений», но именно это отсутствие, заменяемое удивительной практичностью, послужило им не во вред, а в пользу на арене борьбы.




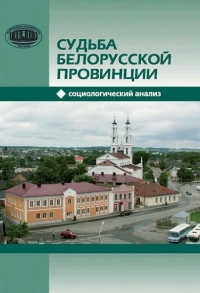







Комментарии к книге «Борьба за существование», Илья Ильич Мечников
Всего 0 комментариев