Славой Жижек. Хрупкий абсолют, или Почему стоит бороться за христианское наследие.
ПРЕДИСЛОВИЕ Виктор Мазин ЖИЖЕК И ЕГО ДРУГИЕ
1. Встреча с другим
Основная цель этого предисловия — прояснить принципиально важные понятия Славоя Жижека, точнее, даже не столько его понятия, столько перевод на русский язык используемых им английских вариантов французских понятий Жака Лакана. Впрочем, странно было бы начинать с такого рода смещения в сторону другого мыслителя, и потому мы начнем с рассмотрения не методологически–концептуального аппарата, но с той проблематики, которая занимает Жижека, в том числе и в этой его книге.
Одним из магистральных вопросов, волнующих Жижека, является вопрос становления субъекта, становления субъектом и тех условий, в которых это становление происходит. Вопрос этот пронизывает практически все его многочисленные книги и статьи. Данная книга продолжает анализ тех условий, в рамках которых человек пребывает сегодня. Условия эти связаны, в частности, с исчезновением стран реального социализма и капиталистической глобализацией. Этот на первый взгляд политэкономический вопрос касается не только возможностей так называемой постистории, постидеологии, но по сути дела является еще и вопросом субъективации человека, рождающегося в этих самых условиях. Потому и оказывается здесь возможным и даже неизбежным психоаналитический, а не только политэкономический подход. Потому неудивительно, что основные метрологические инструменты предоставлены Жижеку Марксом и Лаканом. Потому неизбежно возникают и связанные с анализом идеологии (и) субъекта Фрейд, Альтюссер, Святой Павел…
Конспективно отметим некоторые из тех переплетающихся между собой условий, которые расследует Жижек.
Мы пребываем в условиях, в которых политический диктат сменяется диктатом экономическим. Последний при этом как бы исчезает из поля зрения критики. Левые в политике отказываются от политэкономического анализа, заменяя его анализом культуры, этноса, идентичности, поскольку основные свободы как будто уже завоеваны, мечты как бы сбылись и остается лишь задним числом их анализировать. Лучше даже и не думать о революционных преобразованиях. Однако для Жижека либерально–демократический капитализм отнюдь «не является крайним горизонтом политического воображения», и существует настоятельная необходимость «заново политизировать экономику» [17:X], в которой и происходят настоящие революционные преобразования. При таком подходе понятно, почему именно Маркс становится столь важной фигурой для критического запала Жижека. Кроме того, кризис левого дискурса, которому в сложившихся условиях как будто нет места, ставит перед выбором — «либерализм против тоталитаризма». Оппозиция эта практически не оставляет никакого выбора, поскольку тоталитаризм априори считается злом, и Жижек усматривает здесь своего рода запрет на мысль [Denkverbot]. Невозможность радикального выбора, предписанность выбора оборачивается запретом на мысль. Любая радикальная, революционная идея воспринимается в так называемом либерально–демократическом обществе как опасная, «ибо она грозит воскресить призрак "тоталитаризма"» [10:7]. Призраками и полнится идеологический мир человека. С появления этих самых призраков начинается книга Жижека. В частности, с нового явления призраков расизма, явления, предсказанного Лаканом. Вытесненное возвращается. Возвращается в ином, отрефлексированном виде.
Мы пребываем в условиях, в которых господствует рефлексия, с этой особенности и начинается первая глава книги. Рефлексивная модернизация [21], рефлексивное общество предполагают не только опосредованность любого акта, будь то поступок или высказывание, но и то, что все «формы людского взаимодействия, от сексуального партнерства до этнической идентичности, приходится изобретать и устанавливать заново» [10:7]. В рамках либерального мультикультурализма, в частности, действует не обычный неприкрытый расизм, но расизм отрефлексированный. Вообще рефлексия затрагивает самые различные аспекты жизни, включая и саму рефлексию, включая и психоанализ: рефлексивный пациент уже вписывает в свое психическое пространство ту или иную форму толкования собственной симптоматики [3]. Субъект как будто выбирает себе из стандартного набора ту или иную форму поведения, тот или иной симптом. Он выбирает. Он свободен в своем выборе. Его выбирают. Он свободен для выбора.
Мы пребываем в условиях, где важнейшим аспектом пропаганды является «свобода», в первую очередь свобода выбора как основа либеральной идеологии. Эта история хорошо известна, но далеко не всем. Известна она тем, кто ее пережил. Впрочем, «известна» не значит осмыслена, «известна» не значит осознана. О какой истории речь? — Об известной истории выбора: «Когда около 1990 г. в странах Восточной Европы реальный социализм стал разрушаться, люди были разом и вдруг брошены в ситуацию «свободы политического выбора» — однако разве их спрашивали, в каком новом обществе они хотели бы жить? <…> им просто однажды объявили, что они уже сделали выбор…» [10:8]. Поддержание иллюзии этой свободы фактически оказывается в основе сегодняшнего существования человека. Жижек подчеркивает, что этот выбор можно делать лишь до тех пор, пока он «не нарушает общественного и идеологического равновесия». Парадокс рефлексивного общества заключается в том, что мы все время что–то выбираем, но по сути дела выбор за нас уже сделан.
В контролируемом, регламентируемом мире либеральной демократии «демократические свободы» для Жижека наименее свободны. Свобода — один из идеологических инструментов либеральной демократии, порабощение идеологией либеральной демократии. Инструмент этот предполагает ограничения в том наслаждении, которое могут получать другие. Никогда раньше, постоянно отмечает Жижек, не было такого количества ограничений в повседневной жизни, как сейчас. Теперь регулированию подлежит все: сексуальность, еда, выпивка, курение. Разве «помешательство на борьбе с «сексуальными домогательствами», — задается он вопросом, — не является одной из форм нетерпимости к чрезмерности наслаждения другого?» [11:67].
Еще одна особенность положения субъекта в условиях экономической диктатуры заключается в том, что сама «…сфера частной жизни овеществляется», удовольствие становится предметом вычислений» [11:67]. В таком сообществе увеличивается расстояние в отношениях с другим, и отношения эти оказываются опосредованными товарным фетишизмом, фетишизмом, вытесненным вовне, в товар, но при этом Другой. этот незримый идеологический большой Другой вторгается в самые основания нашей интимной жизни. Интимность распространяется за свои пределы, становится внешней, т. е., в терминах Лакана, превращается в экстимность [l'extimit]. Эта экстимность «объективированного» переживания Другого позволяет понять, как работает (тоталитарная) идеология; причем очевидной она становится в нашем плаче и нашем смехе, раздающихся с экрана телевизора.
Идеология общества потребления пронизывает всю символическую структуру, организующую жизнь субъекта. Однако парадоксальная логика капитализма приводит к тому, что общество потребления — это скорее общество сбережения, в котором расход ведет к доходу. Жижек описывает эту логику как логику траты. Единственным же объектом потребления в обществе расхода–и–накопления оказывается наркоман, растрачивающий себя в удовольствии без остатка, отказывающийся от идеологии бесконечной экономии средств при «потреблении» новинок.
Мы пребываем в условиях, в которых нас постоянно призывают забыть «старый» порядок, поскольку мы попали в совершенно «новый» порядок. Мы — в условиях новых условий. Так, «мудрецы "нью–эйджа"» утверждают, что мы вступили в «постгуманистическую» эпоху; психоаналитики спешат сообщить, что «эдипова» модель социализации ныне неприменима, что мы живем во времена универсализованной перверсии, так что понятие «вытеснение» не работает в наш пермессивный век; постмодернистская политическая мысль говорит, что мы вступаем в постиндустриальное общество…» [10:7]. Между парадигмами разверзается пропасть. Как будто нет никакой связи между тем, как человек существует в сегодняшнем мире, и тем, как он видит свое прошлое. Вокруг мы постоянно слышим: «не актуально», «устарело», «не модно». Нас постоянно убеждают в том, что нет связи между вчера и сегодня, что «новое» отменило «старое». Эта идеологическая ситуация, похоже, воспроизводит экономический режим потребления новинок. Мы списываем свое прошлое вместе со старыми телефонами, холодильниками и зубными щетками. Это идеологическое стирание прошлого не позволяет нам разглядеть сегодня ни регрессию научного представления о человеке к механистичности XIX века, ни неоспиритуализм, пронизывающий всю нашу повседневность, ни парадоксальное сближение науки с мистикой. Идеологическое стирание прошлого дезартикулирует ту символическую парадигму, в которой структурируется субъект. В таком разрыве между прошлым и настоящим Жижек и напоминает о мучительном вопросе Паскаля, — как остаться верным прошлому в новых условиях, — и сам обращается к «новому» и «старому», к новинкам кинорынка и тоталитарному опыту, к Лакану и Ленину, кока–коле и Сталину, христианству и современному визуальному искусству, Святому Павлу и глобализации. Причем именно глобализация вновь возвращает призрак Маркса, именно глобализация вновь делает актуальным марксистский анализ развития капитализма.
Если некоторые научные подходы к новой парадигме утверждают, что мы не можем понять ее, поскольку сами еще находимся в парадигме «старой», «индустриальной», то Жижек говорит о необходимости понимания зарождения нового в терминах материального производства, в складывающейся констелляции производительных сил и производственных отношений. Жижек смещает акцент с анализа символического обмена к анализу материального производства и потребления.
Идеологический излом истории, разрыв парадигм обусловливают травму и обусловлены ею. Мы пребываем в условиях общества тщательно скрываемой травмы. Чтобы понять, что это за условия, Жижек обращается к различным традициям репрезентации травмы. Показательными представителями противоположных традиций оказываются Фрейд и Юнг. Та «пропасть, которая, — как пишет Жижек, — навеки отделяет Фрейда от Юнга», касается отношения к травме: если для Фрейда «травматичной является внешняя встреча с воплощающей наслаждение Вещью, то Юнг переписывает топику бессознательного в общепринятую гностическую проблематику внутреннего духовного путешествия самопознания» [19:12]. В традиции Фрейда—Лакана, которой придерживается Жижек, субъект предписан травмой, как тем, что его создает, тем, что его от него отгораживает, тем, что им не является и яв- ляется только им, тем, что не является им как остаток символизации, тем, что является только им в качестве гаранта символизации. Травма называется в основаниях субъективации. Травма — призрачное событие, конституируемое задним числом, но остающееся при этом вне времени, раскрывая при этом саму возможность какой–либо темпоральности. Целью психоанализа в таком случае является не исповедальная проработка травмы, но принятие того факта, что наша жизнь включает в себя травматическое основание, признание того, что именно травме субъект обязан жизнью.
Впрочем, само метафизическое понятие «субъект» оказывается в психоаналитической традиции под вопросом. Субъект возможен лишь ввиду своей нецелостности, неполноценности, расщепленности, возможен тогда, когда имеется некий материальный остаток, сопротивляющийся субъективации, когда настойчиво утверждает свое действие некий избыток, в котором субъект не может себя распознать. Этот остаток и есть травма. Субъект расщеплен и существует благодаря оказывавшейся вне его интимности, благодаря экстимной границе, установленной объектом. Парадокс субъекта заключается в том, что он существует только благодаря своей собственной радикальной невозможности. Только благодаря Другому.
2. От другого к Другому
В текстах Жижека мы постоянно сталкиваемся с понятием другой. Причем то со строчной, то с прописной буквы. Слово это указывает нам, конечно, на Лакана, который пользуется им с 1930–х гг. Впрочем, о другом говорит и Фрейд. В «Массовой психологии и анализе человеческого я» (1921) он начинает свои рассуждения о принципиальной невозможности индивидуальной психологии как таковой именно со слов о непременном, изначальном присутствии в психической жизни человека другого [Andere], который выступает в совершенно разных качествах: как образец, объект, помощник, противник [als Vorbild, als Objekt, als Helfer und als Gegner] [31:33J. Во втором семинаре (1955) Лакан дифференцирует это понятие: он различает другого и Другого. Сразу же отметим, что различение это принципиально важно для него не просто в некой гипотетической отвлеченной теории, но как раз–таки в психоаналитической практике: психоаналитик должен занимать место не другого, а Другого.
Когда в тексте мы видим другого со строчной буквы, то речь идет о другом человеке, о том, в ком отражается наш образ (другой как прообраз. Vorbild, как сказал бы Фрейд); т. е. другой, в конечном счете, не совсем и другой, он содержится во мне, он — моя проекция, точнее, мой образ, вынесенный вовне. Когда же речь идет о Другом, то подразумевается радикальная инаковость, превосходящая некоего воображаемого другого; то, что я не может полностью присвоить, то, с чем я [jе] не может окончательно идентифицировать себя [moi]. Именно Другой стоит за отношениями я и другого, если же я [jе] отождествляюсь полностью с собой [moi] как с вынесенным вовне другим, то эффект — психотический коллапс [26:336–354]. Я создает себя по образу другого и является подобием Другого.
Другой с прописной буквы принадлежит закону, закону символического порядка; это — место конституирования символического пространства речи. Речи пациента, именно поэтому аналитик должен быть не в фантазматике нарциссического отражения пациента, в другом, но в Другом. Появление Другого с прописной буквы связано с вербализацией, символическим, речью. Он не просто связан с речью, но является ее источником. Речь исходит не из я, а из Другого, и свидетельством тому служит то, что сознание не контролирует ее. Потому Лакан и говорит: «Бессознательное есть дискурс Другого». Другой — место, в котором конституируется я [je] как субъект высказывания. Лакан говорит о том, что бессознательное — дискурс Другого, конечно же, с оглядкой на Фрейда. Лакан говорит о том, что «эта мысль особенно явно выступает в работах Фрейда, посвященных тому, что он называет телепатией» [23:35], и не менее очевидна она, исходя из самой возможности свободных ассоциаций и вербализации симптома. С самого начала психоаналитической работы Фрейд прослушивает в свободных ассоциациях речь кого–то другого, парадоксальным образом не только того, кто находится на кушетке, но и того, кого на ней как бы нет. С кушетки доносится: «я такого не говорил», «нет, нет, я не то хотела сказать», «мне кажется, это говорю не я»,»как будто кто–то находится во мне и рассказывает все это»… Бессознательное проговаривается; более того, оно, как скажет Лакан, «структурировано как язык»: проявляется в фигурах речи — смещении и сгущении.
То, что «бессознательное — дискурс Другого», приводит в обществе тотальной рефлексии к тому, что я могу снять с себя ответственность за свои высказывания, ведь во мне говорит Другой, я — просто инструмент, которым пользуется идеология. Парадоксальным образом либеральное рефлексивное общество здесь, по крайней мере в одном пункте, сходится с тоталитарным режимом, в котором субъект принимает позицию объекта — инструмента удовольствия Другого. Позицию объективированного инструмента исторической необходимости Жижек и подвергает анализу в данной книге.
Кроме того, для Лакана Другой — место памяти, которое Фрейд назвал бессознательным, некой другой сценой, другим пространством представления [eine andere Schauplatz], ведь память и сознание, подчеркивает Фрейд, — взаимоисключающи. Бессознательное — психическая реальность, представление о которой мы получаем всегда уже в виде перевода, оставляя другую сцену где–то еще, не отождествляя с ней осознанное, находясь в исходном расщеплении.
Первой фигурой, которая оказывается в месте Другого, является, конечно же, мать, несмотря на то, что Другой связан с речью, символическим, отцом, законом. Одним из принципиальных моментов субъективации становится приписывание образа другого/себя дискурсивному порядку. Тебе говорят: это — ты, тебя зовут так–то, ты — такой–то… «Говорят» — говорит безличный Другой. Следующим принципиальным моментом субъективации становится история обнаружения недостаточности, нехватки Другого. Именно этот априорно кастрационный эпизод протосубъективации приводит Лакана к необходимости перечеркивания Другого (A[utre]). Несмотря на то, что отец как Другой присутствует уже в речи матери, история его конституирования вводится эдиповой ситуацией. Можно сказать, что противопоставление другого Другому — противопоставление природы культуре, противопоставление воображаемой позиции матери символической функции отца.
Субъект не только говорит в Другом, но только исходя из Другого он желает. Желание субъекта — желание Другого, говорит Лакан. Первый объект его желания — быть признанным Другим. Однако ситуация осложняется тем, что желание не только желание Другого, но и Другой в желании стоит на его пути. В ряде статей, да и в этой книге Жижек настойчиво подчеркивает еще одну роль Другого — функцию преграды, другой — это еще и «одно из имен той Стены, которая позволяет устанавливать необходимую дистанцию, гарантирующую нам, что Другой не подойдет слишком близко» [11:66]. Стена эта устанавливает дистанцию между желанием и объектом и, кроме того, порождает фантазии на тему того, что находится за ней, что из себя представляет желание Другого.
Человек — существо говорящее. Речь, по Лакану, оказывает принципиальное воздействие на биологические потребности [besoin] индивида Речь — это всегда уже запрос [demande], предполагающий Другого, того кому она адресована, того, у кого она берет свои означающие, чтобы сформулироваться. Между потребностью и запросом конституируется желание. Желание — продукт символической формулировки. Лакан поэтому связывает желание не столько с объектом, на который оно направлено, сколько с — никогда не удовлетворяющим — объектом, его порождающим, объектом–причиной, который он называет объектом а.
Поскольку зеркальный образ всегда уже приписан дискурсивному порядку, то другой либо априори Другой, либо принадлежит фантазматическому пространству. Он превращается в ускользающий объект, в объект а, как называет его Лакан. Понятно, что «а» — первая буква французского слова autre, другой. Соответственно, по–русски объект этот, кажется, должен называться не объект а, а объект д. Однако сам Лакан считал, что объект а вообще не следует переводить на другие языки для того, чтобы подчеркнуть его алгебраический статус. Потому на всех европейских языках этот термин остается непереведенным: object a, или object petit а, объектом (маленькой) а. Не менее важен и другой аргумент. Дело не только в аббревиатуре, и не столько в ней, сколько в алгебраическом статусе буквы, буквы, оторванной от означающего, буквы как частичном объекте, соответствующем у Фрейда представлению, репрезентирующему [Vorstellungsrepraesentanz] влечение. Таким образом, объект а «говорит» не столько о другом, сколько о (его) желании.
3. Тайна желания другого
Понятие объект а появляется у Лакана в конце 1950–х годов в связи с принадлежащим воображаемому порядку своему образу как образу другого. Стадия зеркала предполагает конституирование воображаемого субъекта, собственного образа, собственного я [24]. Инстанция эта [moi] конституирована по образу другого и похищена другим. Свой «собственный» образ отчуждает субъект от объекта его желания. Желание обретает свой смысл, пишет Лакан, «не столько потому, что другой владеет ключом к желаемому объекту, сколько потому, что главный его объект — это признание со стороны другого» (23:38]. Итак, одновременно этот объект осмысляется как объект желания. Желание отчуждено в объект.
Понятие объект а непосредственно связано с воображаемым порядком и фантазией, с фантазматическими отношениями желания к символическому порядку Другого. Фантазия — это и «последнее доказательство того факта, что желание субъекта — желание Другого«, и «способ, позволяющий субъекту ответить на вопрос, каким именно объектом он является в глазах Другого, в желании Другого» [15:177]. Благодаря фантазии ребенок отвечает на вопрос о своей роли в отношениях матери с отцом. Жижек подчеркивает: фантазия не столько является некоей идеализацией реальности, сколько в основе своей — травмой. Объектом фантазии и является объект а. Этот объект появляется, чтобы разрешить проблему того, как субъект находит опору в символическом порядке. Первый ответ на этот вопрос: посредством отождествления себя с означающим в этом порядке, означающим, которое потом представляет его другим означающим. Но поскольку Другой сам по себе «структурирован вокруг нехватки… субъект находит нишу в Другом, идентифицируясь с самой пустотой в его сердцевине, с той точкой, в которой Другой терпит крах. И объект а делает позитивным, придает тело этой пустоте в Другом: мы сталкиваемся с объектом там, где слово терпит неудачу» [15:178]. Понятие объект а подчеркивает, что символический порядок не посредничает между субъектом и объектом, но субъект и Другой пересекаются в объекте. Объект а одновременно представляет собой чистую нехватку, пустоту, вокруг которой вращается желание, и воображаемый элемент, скрывающий пустоту, заполняющий ее так, что она становится невидимой.
Ссылаясь на Святого Павла, Лакан утверждает, «что объект становится объектом желания только в случае запрета (нет инцестуозного желания до запрета на инцест) — желание само нуждается в Законе, в его запрещении, в препятствии, которое нужно преодолеть» [15:174]. Как ни странно, но именно здесь коренится этика Лакана. Дело в том, что он не только противопоставляет Закон и желание, но говорит и о Законе самого желания. Завет Лакана — не предавать своего желания. Его Закон — единственный императив. Только этот Закон и поддерживает желание.
Лакан настойчиво формулирует объект а, начиная с семинара VIII (1960/61 г.), посвященного переносу, где объект этот — объект–причина желания; объект этот непредставим как таковой, даже если отождествить его с одним из четырех частичных объектов — грудью, фекалиями. взглядом, голосом. Жижек пишет, что в строгом смысле слова, в связи с той ролью, которую объект а играет в экономике интерсубъективных отношений, это — анальный объект, «экскременты — объект а в смысле несимволизируемого излишка, который остается после того, как тело символизировано, вписано в символическую сеть» [15:178]. Субъект отделен от этого объекта как от части самого себя, и именно эта его отделенность, его невключенность в сеть означающих конституирует его как фантазмический объект желания.
Лакан определяет этот объект не просто как то, на что направлено желание, а как то, что это желание порождает, объект а — объект–причина желания [objet cause du désir]. В том же VIII семинаре Лакан связывает объект а с другим своим понятием, которое он находит в «Пире» Платона, — агальма. У древних греков агальма — прославление богов, подношение им, маленькая статуэтка божества. Агальма — драгоценный объект, но ценность его заключена в связи с Другим. Подобным образом и объект а — объект желания, который мы настойчиво ищем в другом. Жижек называет эту неуловимую тайну бытия «сокровищем, объясняющим уникальный характер моей личности». Признание меня уникального, ни на кого не похожего благодаря этому сокровищу, этой отличительной черте приходит извне, от Другого, который, «признавая меня в моей уникальности, становится Господином» [15:172]. Этот объект — невидимое сокровище и отход символизации, несимволизируемый остаток и нехватка бытия. В семинарах 1966/67 и 1968/69 годов Лакан подчеркивает, что непредставимость этого ускользающего объекта ведет к тому, что он функционирует как нехватка бытия. Нехватка эта восполняется драгоценным материальным объектом, типа зажигалки из «Незнакомцев в поезде» Хичкока [14:20].
В семинаре 1969/70 г. по аналогии с прибавочной стоимостью Маркса Лакан определяет объект а как причину прибавочного наслаждения [plus–de–jouir]. Объект а — избыток наслаждения, которое не имеет потребительской стоимости. И, наконец, в семинаре 1974 года объект а обретает исключительный статус звена, связующего три регистра лакановского психического аппарата. Он помещается в центр Борромеева узла, в той области, в которой перекрываются символическое, воображаемое и реальное.
Пример объекта а, пример «самый знаменитый в популярной культуре» Жижек находит у Хичкока. Это — Макгаффин, то, что ускользает от взгляда, та «тайна«, которая запускает действие, но которая сама по себе совершенно безразлична [13:181–2, №13). И объект а, и Макгаффин — пустая форма, которую каждый наполняет своей фантазией. Сам Хичкок подчеркивает: «Главное, что я вынес для себя, что Макгаффин — это ничто» [29:75]. В «Леди исчезает» это — популярная мелодия, в «39 ступенях» — механическая формула для конструирования самолетного мотора, которую шпионы «записывают» в мозгу мистера Мемори, чтобы вывезти из страны. «Чистейший Макгаффин» представлен в кинофильме «К северу через северо–запад»: «В чикагском аэропорту человек из ЦРУ объясняет ситуацию Кэри Гранту, и тот в недоумении обращается к стоящему рядом, имея в виду Джеймса Мейсона: «Чем он занимается?» А этот контрразведчик: «Можно сказать, вопросами импорта и экспорта». — «Но что же он продает?» — «Государственные тайны». История с появлением этого слова описывает его характер: «Это, по всей вероятности, шотландское имя из одного анекдота. В поезде едут два человека. Один спрашивает: «Что это там, на багажной полке?» Второй отвечает: «О, это Макгаффин». — «А что такое Макгаффин?» — «Ну, как же, это приспособление для ловли львов в Горной Шотландии». — «Но ведь в Горной Шотландии не водятся львы». — «Ну, значит, и Макгаффина никакого нет!» Так что видите, Макгаффин — это, в сущности, ничто» [29:74]. Макгаффин, объект а, будучи ничем, структурирует все отношения между субъектами.
У Хичкока находит Жижек и еще один едва заметный на первый взгляд момент, который полностью меняет восприятие всей ситуации, всех отношений. Когда мы замечаем какой–то штрих, меняется и вся картина. Этот штрих — пункт пристегивания [point du capiton], точка, исходя из которой, все начинает выглядеть по–иному. Буквально — это место прикрепления обивочной ткани к мебели, точка скрепления, в которой соединяются два разнородных материала. Это — стежок, в котором неожиданно происходит скрепление означающего с полем значений. «Совершенное выражение эффекта» пункта пристегивания Жижек подмечает в кинофильме «Иностранный корреспондент» — вращение крыльев мельницы в обратную сторону в кинофильме. Эффект этот заключается в том, что заурядная, знакомая ситуация неожиданно превращается в пугающую, жуткую [12:55]. Этот пункт «говорит»: что–то не так, что–то здесь неладно. Причем пункт этот, например обратное вращение крыльев мельницы, будучи сам по себе бессмысленным, меняет восприятие всей сцены, меняет значение всех остальных ее элементов. В связи с этим ничего не значащим пунктом пристегивания, задающим все значения, Жижек говорит о фундаментальном парадоксе этого самого пункта: «Жесткий десигнатор. стабилизирующий ту или иную идеологическую форму, останавливая скольжение ее означающих, не является точкой максимальной плотности значения» [4:105]. В идеологическом пространстве пункт пристегивания служит неким понятием, придающим конкретное значение остальным понятиям. Так, «свобода», «государство», «справедливость», «мир» обретают одно значение, когда появляется «коммунизм», другое — когда они скрепляются «либеральной демократией» [4:108].
4. Два других — два идеала
Лакановское различение другой/Другой [а/А] можно понимать также, исходя из оппозиции я-идеал/идеал-я, структурирующей нарциссизм субъекта. Нарциссический субъект, т. е. субъект «как таковой» появляется на свет в отношениях с другим и Другим. В середине 1950–х гг. Лакан обращается к работе Фрейда «Массовая психология и анализ человеческого я» [1921), к спорам Фрейда с Юнгом о природе нарциссизма, а также к разработкам начала 1930–х гг. Германа Нунберга и приходит к различению двух инстанций — идеал-я [moi–ideal] и я-идеал [ideal du moi] [25:146–190]. Первая инстанция определяется как нарциссическое образование, появляющееся в регистре воображаемого на стадии зеркала: вторая — как символическая функция, устанавливающая дискурсивные отношения субъекта с другими людьми. Иначе говоря, идеал-я устанавливает связь с воображаемым другим, я-идеал — с Другим символической сети означающих.
Этот Друтой. мой идеал, может переживать за меня то, что сам я не переживаю, своим существованием он может даже существовать за меня. Он действует как связующее звено между другими, как опора солидарности. Всегда находится Некто [Y аd' l'Un], кто всех объединяет, не будучи при этом совершенным, одним (платоновским) Единым. Он как область призрачных проекций играет роль (платоновского) эроса, объединяющего людей [30:63]. Он, приводит пример Жижек, — тот Один, кто сохраняет в концлагере достоинство за других. Важны при этом не его «подлинные» качества, но функция, отведенная ему в символической структуре. Важен идеальный образ этого одного — «единственного».
Идеал-я — поглощаемый образ; я-идеал — символический пункт, который дает место и устанавливает пункт наблюдения, точку из которой смотрят. Идеал-я — воображаемая идентификация с другим; я-идеал — взгляд со стороны, ведь именно «символическое отношение определяет положение субъекта в качестве видящего» [25:187]. Воображаемая идентификация представляет то, кем мы хотим быть; символическая идентификация — «идентификация с самим местом, откуда мы смотрим, откуда при взгляде на самих себя мы кажемся себе привлекательными, достойными любви» [4:111].
Тема идеалов, нарциссизма оказывается предельно важной в последние десятилетия в связи с развитием симптоматики, которую принято определять как патологический нарциссизм. Жижек пишет о трех последовательных формах либидо–структуры субъекта, проявившихся в капиталистическом обществе за последние сто лет: автономная личность протестантской этики, гетерономный человек организации и сегодняшний патологический нарциссизм [13:102–3]. Возникновение патологического нарциссизма связано с изменениями инстанции я-идеала, которая господствовала во времена автономной личности и человека организации. Место единого символического закона, сопряженного с я-идеалом. занимает свод правил, инструктирующих, «как добиться успеха», «как стать успешным», «как общаться с другими, чтобы добиться признания», «как оказать себе психологическую помощь», «как быть эффективным и продуктивным». Нарциссический субъект знает лишь правила социальной игры, позволяющие ему манипулировать другими. Нарциссический субъект, как будто бы следуя мысли Фуко о необходимом изобретении самого себя, с помощью самоучителей меняет свой облик согласно предлагаемому набору идеалов.
5. Два нарциссизма — две любви
Инстанции идеал-я и я-идеал соотносятся с двумя нарциссическими регистрами. Сначала, по Лакану, появляется нарциссизм, относящийся к телесному образу, иначе говоря, воображаемый нарциссизм, связанный с механизмом запечатлевания своего образа как образа другого. Затем «отражение в зеркале обнаруживает изначально ему присущую поэтическую способность и вводит второй нарциссизм. Основополагающим паттерном этого последнего сразу же становится отношение к другому» [25:169]. Эта нарциссическая идентификация позволяет определить свое воображаемое и либидинальное отношение к миру, увидеть себя вне себя, увидеть объект.
Исходя из того, что существуют два нарциссизма. Лакан и выводит два типа любви: «Точно так же, как есть два нарциссизма, должно быть и две любви — Эрос и Агапэ» [25:171]. С одной стороны, любовь является воображаемой функцией, с другой — связующими узами, «фундаментом, основой мира» [25:171]. Агапэ обычно переводят либо как любовь, либо как милосердие. Бадью, на которого ссылается Жижек, пишет, что «универсальное адресование, которое не конституируется верой как чистой субъективацией самой по себе, Павел называет "любовью", агапэ (зачастую неверно переводимое как "милосердие")» [20:75].
Жижек подчеркивает, что любовь не столько, как принято считать, вызвана идеализацией другого, сколько задача ее, точнее работа ее состоит в том, чтобы проникнуть к отделенному от нас неполноценному Другому: «последняя тайна христианской любви состоит, по–видимому, в том, что она лелеет привязанность к несовершенству Другого» [19:14]. Жижек обращается к понятию агапэ, чтобы выбраться из капиталистической ситуации общества расходующего потребления. Экономика расхода, траты, потребления организует и особенности письма Жижека.
6. Опережающая мысль
Жижек пишет длинными фразами. Это даже не письмо, это письменная речь. Повествование разворачивается прямо на глазах читателя, как будто без вторичной обработки. Перед нами не столько тщательно переписываемый, выверяемый, корректируемый текст, но размышления в духе свободных ассоциаций. Например, 16–я глава строится по такой логике: сначала Жижек пересказывает эпизоды из трех кинофильмов, затем на их основе предлагает гипотезу особого типа выбора в экстремальной ситуации — «выстрел в самое дорогое», после чего возникает история с Авраамом и его сыном, далее появляются Фрейд и Моисей, роман Тони Моррисона, применение теорий Лакана к этим примерам, сравнение романов Моррисона и Стайрона, политика Милошевича и демократов в отношении Албании как «самого дорогого». Теория проводится как бы сквозь новые кинофильмы, исторические аналогии, новые романы, политические реалии.
Письмо Жижека показывает: мысль всегда уже выхвачена, мысль всегда уже занимает место, уготовленное для других мыслей. Его тексты это — неистовое письмо, письмо, пытающееся догнать рвущиеся «на волю» мысли. Мысль прокладывает себе путь по одной из множества троп. Мысль разветвляется, но при этом всегда возвращается на волнующие идеологические магистрали. Мысль не ведет к одной–единственной плавной мысли, но разворачивает себя, разворачивается в направлении множественности. Начало каждой главы никогда не воспринимается как начало, а конец как конец. Это письмо — всегда уже продолжение, то письмо и есть мысль. Мысль, конституирующаяся в желании.
Мышление как процесс, главным образом бессознательный, опережает скорость вербализации. Археписьмо, как сказал бы Деррида, опережает письмо, откуда и возникает эффект погони торопливой речи за неудержимой мыслью. Более того, эффект этот может служить сигналом тревоги [28]. Несовпадение скоростей указывает и на травматическое конституирующее субъект неузнавание: «Дело не только в том, что мы должны вскрыть структурные механизмы, производящие субъекта как эффект идеологического неузнавания; но и в том, что мы должны четко осознавать неизбежность такого "неузнавания", т. е. смириться с тем, что доля иллюзорности является условием нашего исторического опыта… субъект конституируется неузнаванием» [4:10].
Общим местом стало то, что Жижек — чуть ли не единственный из признанных мыслителей современности, кто позволяет себе не только пересказывать содержание голливудских кинофильмов и трэш- романов, но и пересказывать анекдоты. Одни критики связывают этот прием с «восточноевропейской идентичностью» Жижека, позволяющей ему пренебрегать академическими традициями Запада. Другие критики говорят, что любовь к анекдотам связана не столько с Югославией, сколько с постмодернизмом. Сам Жижек говорит о том, что этот аспект его творчества — «символическая уловка»: «Я сам всегда относился к себе как к автору книг, чья избыточно и навязчиво "остроумная" текстура служит оболочкой фундаментальной холодности, оболочкой "машинного" развертывания линии мысли, которая идет своим путем с крайним безразличием в отношении патологии так называемой человеческой предупредительности. В этом отношении я всегда испытывал глубокую симпатию к Монте Питону, чей избыточный юмор также свидетельствует о глубинном отвращения к жизни» (17:viii]. Подчеркнем еще раз, теперь уже вслед за Жижском, это «движение мысли своим путем», это ее «“машинное” развертывание», а также отметим и то, что анекдоты, остроумие, шутки со времен Фрейда были и остаются свидетелями психоаналитической мысли. Обращение к анекдотам характерно и для Фрейда, и для Жижека, и для Лакана.
7. Лакан+
Стратегия анализа, избираемая Жижском, может быть названа «Лакан+». Жижек пишет о ней в своем предисловии к «Введению в популярную культуру через Лакана» [13]. Парой, ориентирующей такой подход может, например, служить формула «Кант + Сад». Анализируя эту статью Лакана, Жижек показывает, что «не Кант скрытый садист, а именно Сад — скрытый кантианец». Жижек сводит Лакана с самыми разными философами, кинорежиссерами, писателями: Хичкок и Лакан [12], Лакан и Нагель [4], Лакан» (Тарковский + Маркс) [5]… В целом, т. е. в некоем редуцированном виде Жижек определяет свой методологический подход как Лакан + немецкая классическая идеология: «Моя деятельность основывается на полном принятии понятия современной субъективности, разработанного великими немецкими идеалистами от Канта до Гегеля… Сердцевина всего моего предприятия заключается в стремлении использовать Лакана в качестве привилегированного интеллектуального оружия, чтобы сделать вновь актуальным немецкий идеализм» [17:ix].
Предельно важно то, что речь не идет только о формуле Лакан + Кто–То–Другой. Присутствие в тексте Лакана это уже Лакан+. Иначе говоря, другим Лакану всегда уже является «сам» Лакан. Можно говорить о том, что в текстах Жижека обнаруживаются «Лакан + Лакан» и «Лакан — Лакан». Основанием подхода Жижека к Лакану является одновременное чтение различных его текстов, относящихся к разным периодам, поскольку «единственный способ понять Лакана — обратиться к его работам как к работам в развитии, как к настойчивым попыткам ухватить все то же неуступчивое травматическое ядро» [16:173).
8. Анализ
Итак, стратегема «Лакан +» может быть названа привилегированной в анализе Жижека. Что же он анализирует при помощи этой стратегемы?
— Произведения (массовой) культуры; и цель этого анализа — сделать свои идеи более понятным и доступными как для читателя, так и для себя самого [16].
Мы начали предисловие с того, что «основной» вопрос Жижека — условия субъективации. Для анализа этих условий он и обращается к различными примерам той культуры, которая порождает субъект. Например, непосредственно субъективации посвящена статья об искусстве прерафаэлитов и «Синем бархате» Дэвида Линча. В ней процесс становления субъекта соотносится с женской депрессией и переворачиванием кажущихся само собой разумеющимися причинно–следственных отношений [2:64]. В другой ситуации субъективация рассматривается сквозь призму «Бегущего по лезвию бритвы», где репликант создается в условиях корпоративного капитала и представляет собой «чистого субъекта», а утверждение «я — репликант», аналогичное альтюссеровскому «я в идеологии», оказывается единственной возможностью подтвердить свою принадлежность Другому [1:81–2].
Важно отметить, что Жижек анализирует не сам текст (Фрейда или Лакана, Хичкока или Линча), а именно культурные стереотипы, рецепцию текста. Например, в истории с Моисеем. Жижек пишет о том, что Фрейд целит в самое ценное в еврейской культуре, в фигуру Моисея, доказывая, что тот был египтянином, а не евреем. Тем самым Фрейд якобы подрывает основания антисемитизма. Однако речь идет именно о распространенном в культурном пространстве представлении о книге «Человек Моисей и монотеистическая религия», а не о самом тексте Фрейда. Жижек рассматривает не мысль Фрейда, но мысль ему приписываемую, своего рода культурную фиксацию.
Вопрос «что анализирует Жижек?» указывает и на те стратегемы, которые известны как некие общие цели Словенской Лакановской школы (к который, помимо Славоя Жижека, принадлежат Аленка Жупанчич, Младен Долар, Рената Салецл и другие). А именно: 1) прочтение сквозь призму Лакана классической и современной философии, 2) дальнейшая разработка лакановских теорий идеологии и власти, 3) лакановский анализ культуры и искусства (в первую очередь кино).
9. Словом и делом: реальное
Обращаясь к Лакану в развитии, Жижек неизбежно фокусирует свое внимание на его интересе к реальному, которому в последние годы работы Лакан уделял особое внимание. Реальное — источник символизации и отход этого процесса; это — неудача тотальной символизации и стремления к прозрачности референции. Реальное просматривается только в структурных эффектах, которое оно производит в повседневности, но при этом оно не существует с точки зрения субъекта, исходя из позиции Другого. Еще одна причина неизбежного интереса Жижека к реальному — определение его как неумолимой призрачной логики капитала, структурирующего символические отношения, а также его явление во взаимоотношении с либидо [22]. Призраки, порожденные этой экономикой либидо–капитала, оказываются реальнее реальности; истиной становится то, чего никогда не было, но что предстает перед нами, когда мы оборачиваемся назад. Временная последовательность возникает за счет вневременного реального, и каждая временная реальность конституирует свое вечное исключенное из времени реальное.
Где же располагается в отношении «этого» реального субъект? — Он отчужден в означающее; и реальное в нем исключено из символического, парадоксальным образом оставляя пустоту как позитивное условие его существования. Какую позицию занимает субъект в отношении своего собственного знания о происходящем? Что он делает, исходя из знания или незнания? Жижек говорит о трех позициях, занимаемых субъектом. Во–первых, мы обнаруживаем классического для психоанализа субъекта — Эдипа, который «совершает действие (отцеубийство), поскольку не знает, что делает». Во–вторых. Эдипу Жижек противопоставляет Гамлета, который знает, и именно по этой причине не способен перейти к делу (мести за убийство отца)» [19:5]. Помимо этих двух отношений с реальностью, Жижек обнаруживает и третью формулу: герой «прекрасно знает, что делает, и все же продолжает делать» [19:6]. Первая формула представляет традиционного героя, вторая — героя раннего модернизма, третья характеризует героя рефлексивной постсовременности. Этот третий герой хорошо известен по фильмам в жанре нуар. Все эти герои занимают ту или иную позицию в отношении порочного круга, образованного желанием и законом, желанием, возникающим благодаря действию закона. Здесь–то и появляется фигура Святого Павла. Здесь–то и может снизойти агапэ неожиданно для самого себя совершенного поступка. Что это за поступок? — «Смерть для закона», т. е. символическая смерть, позволяющая начать все сначала. Если традиционная модель возвеличивает поступок, в основе которого лежит принесение себя в жертву ради самого ценного, некой Вещи, то логика Святого Павла говорит о радикаль- ном жесте, конституирующем субъективность как таковую — об убийстве самого в себе дорогого. Исходя из этой логики, Жижек и позиционирует себя как «материалиста в духе Святого Павла» [17:ix].
Библиография
1. Жижек С. Существование с негативом // Художественный журнал, № 9 М., 1996. С 79–83.
2. Жижек С. Дэвид Линч, или Женская депрессия // Художественный журнал, № 12, М., 1996. С 58–64.
3. Жижек С. Власть и цинизм // Кабинет А. 1998. СПб.: Инапресс. С. 163–174.
4. Жижек С. Возвышенный объект идеологии. — М.: Художественный журнал, 1999.
5. Жижек С. Вещь из внутреннего пространства // Художественный журнал. М., № 32, 2000. С. 25–35.
6. Жижек С. Кант и Сад: идеальная пара // Трансфер–экспресс, № 3, СПб., 2000.
7. Жижек С. Киберпространство, или Невыразимая замкнутость бытия // Искусство кино, № 1. М., 2000.
8. Жижек С. «Матрица», или Две стороны извращения // Искусство кино, № 6. М., 2000; Жижек С. Заметки о сталинской модернизации // Художественный журнал, № 36, 2000. М., С. 16–23.
9. Жижек С. Внутренняя трансгрессия // Кабинет Ё. 2001. СПб.: Скифия. С. 183–200.
10. Жижек С. «Что делать?» — 100 лет спустя // Художественный журнал, № 37/38. М., 2001, С 7–8.
11. Жижек С. Возлюби мертвого ближнего своего // Художественный журнал, № 40, 2001. С, 65–69.
12. Zizek S. (ed) Tout ce que Vous avez toujours voulu savoir sur Lacan sans jamais oser le demander a Hitchcock. R: Navarin, 1988.
13. Zizek S. Looking Awry. An Introduction to Jacques Lacan through Popular Culture. Cambridge, Mass., London: MIT Press, 1991.
14. Zizek S. Why does a Letter always arrive at its Destination? // lacanian ink, №2, 1991. P 3–27.
15. Zizek S. The Métastasés of Enjoyment. Six Essays on Woman and Causality. L, N.Y.: Verso, 1994.
16. Zizek S. Taking Sides: A Self—Ιnterview // The Metastases of Enjoyment. Op. cit.P. 167–217.
17. Zizek S. Burning the Bridges // The Zizek Reader. Blackwell Publ., 1999. P. vii-x.
18. Zizek S. The Undergrowth of Enjoyment: How Popular Culture can Serve as an Introduction to Lacan // The Zizek Reader. Blackwell Publ., 1999 P. l1–36.
19. Zizek S. From the Myth to Agape // European Journal of Psychoanalysis, №8–9, 1999.
20. Бадью А. Апостол Павел. Обоснование универсализма. — М.; СПб.: Московский философский фонд, Университетская книга, 1999.
21. Бек У. Общество риска. На пути к другому модерну. — М.: Прогресс- Традиция, 2000.
22. Беннетт Д. Горожане, взломщики и мастурбаторы // Ка6инет Ё, 2002. СПб.: Скифия. С. 284–308.
23. Лакан Ж. Функция и поле речи и языка в психоанализе (1953). М.: Гнозис, 1995.
24. Лакан Ж. Стадия зеркала как образующая функция я. // Кабинет А 1998, СПб: Инапресс. С. 136–142.
25. Лакан Ж. Семинары. Книга 1. Работы по технике психоанализа (1953/1954). — М,: Гнозис/Логос, 1998.
26. Лакан Ж. Семинары. Книга 2. «Я» в теории Фрейда и в технике психоанализа (1954/1955). — М.: Гнозис/Логос, 1999.
27. Мазин В. Желание // Трансфер–экспресс, № 3, СПб., 2001, С. 9.
28. Самохвалов В. Этологическое введение к лекции С. Жижека // Кабинет А, 1998. СПб.: Инапресс. С. 162–163.
29. Трюффо А. Кинематограф по Хичкоку. — М., 1996.
30. Lacan J. Le séminaire, livre XX, Encore (1972–1973). P.: Seuil, 1975.
31. Freud S. Massenpsychologie und Ich—Analyse (1921). Frankfurt am Main: Fischer Verlag, 1997.
32. Wright E., Wright Ed. Introduction // The Zizek Reader. Blackwell Publ., 1999. P. 1–8.
ХРУПКИЙ АБСОЛЮТ, или Почему стоит бороться за христианское наследие
ВВЕДЕНИЕ
Одна из наиболее прискорбных особенностей эпохи постмодернизма и ее так называемой «мысли» заключается в возвращении в неё религиозного измерения во всех его самых разнообразных проявлениях, от христианского и прочего фундаментализма через множество спиритуалистических тенденций «нью эйджа» до возникающей религиозной чувственности в пределах самой деконструкции (так называемая «пост- секулярная» мысль). Как же противостоит этой массированной атаке обскурантизма марксист, который по определению является «воюющим материалистом» (Ленин)? Очевидным представляется такой ответ: он не только яростно атакует эти тенденции, но и безжалостно разбирается с остатками религиозного наследия в самом марксизме.
Разве не стоит, говоря о старом либеральном пустословии, вечно проводящем параллели между христианским и марксистским «мессианским» представлением истории как движения к спасению правоверных (всем известное уподобление коммунистической партии секуляризованной религиозной секте), особо подчеркнуть то, что оно касается исключительно косного «догматичного» марксизма, а не его подлинного раскрепощающего зерна? Следуя новаторской книге Алана Бадью о Св. Павле, мы делаем нашу ставку на нечто совершенно противоположное: вместо того чтобы принимать защитную стойку; позволяя врагу определить территорию борьбы, мы резко изменим стратегию и целиком и полностью согласимся со всеми этими обвинениями. Нужно сказать: да, от христианства к марксизму ведет прямая линия наследования; да, христианство и марксизм должны быть по одну сторону баррикады, вместе сражаться с рвущимся в бой неоспиритуализмом. Подлинное христианское наследие слишком драгоценно, чтобы оставлять его на съедение фундаменталистским выродкам. Однако даже те, кто признает прямую связь христианства с марксизмом, обычно фетишизируют ранних «настоящих» последователей Христа, отрицая церковную «институциализацию» от имени Св. Павла: да — «настоящему, доподлинному посланию Христа», нет — его превращению в корпус учения, узаконивший церковь как социальный институт. То, что делают последователи этой максимы «да — Христу, нет — Святому Павлу» (который, как говорил уже Ницше, по сути дела, придумал христианство), — в точности соответствует позе, которую принимали те «гуманистически настроенные марксисты» середины XX века, чьей максимой было «да — раннему подлинному Марксу, нет — его ленинистскому окостенению». В обоих случаях нужно настаивать на том, что подобного рода «защита подлинного» оказывается наиболее вероломной формой предательства: нет Христа без Святого Павла, точно так же как нет «подлинного Маркса», к которому можно обратиться, минуя Ленина, и, между прочим, как нет «подлинного Фрейда», к которому можно приблизиться, пройдя мимо Лакана.
1. РАССТАВАЯСЬ С БАЛКАНСКИМ ПРИЗРАКОМ
Когда ставишь задачу ухватить суть некой эпохи, целесообразнее, пожалуй, сконцентрироваться не на определяющих её социальных и идеологических конструкциях, а на отринутых этой эпохой и продолжающих ее преследовать призраках, тех, что населяют таинственные области несуществующими сущностями, настойчиво продолжающими действовать. Говорить о таких призраках, видимо, мне, уроженцу Словении, части бывшей Югославии, и предписано. Ведь, согласно одному из расхожих клише, пресловутые "призраки прошлого" неотступно преследуют Балканы, причем они ничего не забывают, ничему не способны научиться, столетиями воюют между собой, в то время как Европа стремительно движется по пути глобализации. Однако здесь мы сталкиваемся с первым балканским парадоксом: похоже, сами Балканы в глазах Европы стали своего рода неотступно преследующим ее призраком. Разве то, во что превратились Балканы после распада Югославии, этот котел кипящих (саморазрушительных этнических страстей, не являет собой полную противоположность, почти фотографический негатив мультикультуралистской мечты — терпимого сосуществования различных этнических общин? Разве мечта эта здесь не обернулась кошмаром? Разве двусмысленность и зыбкость географического определения Балкан не указывает на их призрачность? Ведь, похоже, мы не в состоянии ответить на вопрос: где, собственно, проходит балканская граница? Балканы всегда начинаются где- то в другом месте, где–то дальше, там, на юго–востоке… Для сербов граница эта пролегает в Косово или в Боснии, где они стоят на защите христианской цивилизации от того, кто представляется Европе Другим: для хорватов — в православной, деспотичной, византийской Сербии, от которой Хорватия охраняет западные демократические ценности; для словенцев — в Хорватии, ведь, на наш взгляд мы — это последний оплот мирной Центральной Европы; для многих итальянцев и австрийцев граница эта — в Словении, на западном форпосте славянских орд; для отдельных немцев склонные к коррупции и лени австрийцы все же подпорчены историческими связями со славянским миром: для многих северных немцев от балканской скверны не свободна и Бавария с ее провинциальным католическим привкусом; некоторые заносчивые французы ассоциируют Германию с чуждой французской изысканности восточно–балканской брутальностью: и здесь мы приходим к последнему звену этой цепи — к консервативным британским противникам Европейского Союза, для которых, по крайней мере опосредованно, вся континентальная Европа сегодня ведет себя подобно повой Балкано—Турецкой империи с новым Стамбулом в Брюсселе, этим деспотичным, зажравшимся центром, угрожающим британской свободе и независимости… [1] Разве отождествление континентальной Европы с Балканами, т. е. с её варварским Другим, не является сокровенной сутью этого постоянного смещения границы?
Само же необъяснимое и непрерывное смещение границы неопровержимо доказывает: в случае с Балканами мы имеем дело не с реальной географией, а с воображаемой, отбрасывающей на реальный ландшафт свою тень, свои отринутые идеологические антагонизмы, подобно тому, как, согласно Фрейду, локализация конверсионных симптомов при истерии проецирует на физическое тело карту иной, воображаемой анатомии. Тем нс менее, дело не только в том, что Балканы — преследующий Европу призрак, настойчивый остаток ее собственною отвергнутого прошлого; важнее отметить, что, поскольку "Балканы" функционируют ныне как призрачная сущность, ссылка на них позволяет нам выявить в своеобразном спектральном анализе различные формы сегодняшнего расизма. Во–первых, и поныне существует старомодный откровенный расизм в отношении (деспотичных, варварских, православных, мусульманских, коррумпированных, восточных…) Балкан. нс приемлющих подлинные (западные, цивилизованные, демократические. христианские…) ценности. Во–вторых, есть политически корректный, "отрефлексированный" расизм. С точки зрения мультикультурализма, Балканы — это территория этнического ужаса и нетерпимости, примитивных иррациональных воинствующих страстей, несовместимых с современностью, отказавшейся от идеи национального государства и использующей либерально–демократические способы решения конфликтов посредством рациональных переговоров, компромиссов и взаимного уважения. Расизм здесь как бы переходит на иной уровень: здесь он приписывается другому, а сами мы занимаем удобную позицию нейтральных участливых наблюдателей, в праведном гневе следящих за творящимися где–то ужасами. Наконец, возможен еще и перевернутый расизм. Этот расизм восхищается экзотической органичностью балканского Другого, например сербов, которые, в отличие от заторможенных, анемичных западноевропейцев, полны редкой жажды жизни. Именно такого рода расизм определяет успех на Западе фильмов Эмира Кустурицы.
Пример Кустурицы позволяет нам идентифицировать еще одну особенность западного восприятия Балкан — логику смещенного расизма [2]. Поскольку» географически Балканы — часть Европы и живут там белые люди, то в наши политически корректные времена, когда мало кто осмелится прилагать расистские клише к африканцам или азиатам, вполне возможным оказывается применить их к балканским народам. Политическая борьба на Балканах сравнивается с сюжетом весёленькой оперетты. Чаушеску представляется современным графом Дракулой и т. д. Более того, в пределах самого балканского региона этому смененному расизму более всего подвержена Словения — территория, ближе всего расположенная к Западной Европе. Так, когда в одном из интервью по поводу своего фильма "Подполье" Кустурица назвал словенцев нацией австрийских прихвостней, никто не возмутился этим открытым расистским заявлением. Его приняли за нечто само собой разумеющееся: просто экзотичный художник–самородок из менее развитой части бывшей Югославии напал на более развитую ее часть. Для терпимого мультикультуралиста Балканы — исключение, позволяющее отыгрывать вытесненный расизм. В этом–то и коренится главный идеологический балканский урок: если вслед за социологами Энтони Гидденсом и Ульрихом Беком называть современное общество "обществом риска", а его главной отличительной чертой считать "глобальную рефлексивность", тогда "балканский феномен" позволит нам дополнить этот анализ и признать тот факт, что рефлексивным стал сегодня и расизм.
Все вышесказанное подводит нас к пониманию одного принципиального отличия рефлексивного расизма. Этот тип расизма располагается между культурной неприязнью к другому и откровенным расизмом. Обычно расизмом принято считать грубую, радикальную форму культурной неприязни. С расизмом мы имеем дело тогда, когда простая неприязнь к какой–то культуре доходит до той мысли, что культура эта по каким–то присущим ей (биологическим или культурным) причинам хуже нашей. Однако нынешний рефлексивный расизм парадоксальным образом способен проявляться в форме выражения уважения к другой культуре. Так, разве призывы сохранить в своей уникальности культуру чернокожих и воспрепятствовать их растворению в общем котле западной культуры не были частью официальной идеологии южноафриканского апартеида? Разве нынешние европейские расисты, типа Ле Пена, не уверяют, что не требуют для себя ничего большего, чем соблюдения тех же прав на культурную идентичность, которых требуют для себя африканцы? Разоблачить эти декларации простым заявлением, мол, в данном случае уважение к другому всего лишь "лицемерие", здесь явно недостаточно. В этом случае действует механизм отказа, присущий фетишистскому расщеплению: "Я очень хорошо знаю, что другая культура заслуживает такого же уважения, как и моя, но все же… (я испытываю к ней глубокую неприязнь)".
В этом контексте хотелось бы сделать одно замечание общего характера, восходящее к Гегелю: глобальная рефлексивность порождает свою собственную импульсивно–агрессивную противоположность, которую Этьен Балибар описал как присущую современной жизни избыточную, беспричинную жестокость [3], — от расистского "фундаментализма" или религиозного фанатизма до "немотивированных" вспышек насилия, совершаемых в современных мегаполисах подростками или бездомными, насилия, которое хочется злом инстанции оно, злом–оно, необъяснимым никакими утилитарными или идеологическими соображениями. Так, когда мы слышим об отнимающих у нас работу иностранцах, о том, что они угрожают нашим западным ценностям, нам не стоит заблуждаться, ведь при ближайшем рассмотрении становится очевидным, что рассуждения эти — лишь поверхностная вторичная рационализация. В конечном счете от бритоголового насильника мы добьемся признания, что ему просто–напросто доставляет удовольствие избивать иностранцев, что в их присутствии он себя отвратительно чувствует… Здесь мы действительно сталкиваемся с злом–оно, т. е. со злом, структурированным и мотивированным самой обыденной неустойчивостью в отношениях между инстанцией я и наслаждением, напряжением между удовольствием и инородным телом наслаждения, укоренившимся в самой сердцевине этого удовольствия. Таким образом, зло–оно устраивает самое банальное "короткое замыкание" в отношениях субъекта с изначально отсутствующим объектом–причиной его желания: в другом (еврее, японце, африканце, турке) нас беспокоит его появление ради привилегированных отношений с объектом. Другой либо обладает драгоценным объектом, уводя его у нас из–под самого носа (именно поэтому объекта–то у нас и нет), либо угрожает нашему обладанию этим объектом [4]. Здесь уместно будет вспомнить о гегелевском "бесконечном суждении", утверждающем спекулятивное тождество этих бессмысленных, чрезмерных вспышек неприкрытого насилия, этих случаев откровенной, "неснятой" ненависти к инаковости и глобальной рефлексии общества. Возможно, примером подобного тождества может быть и судьба психоаналитического толкования. Формирование бессознательного сегодня (от сновидений до истерических симптомов) определенно утратило свою невинность и приобрело рефлексивный характер: "свободные ассоциации" рядового образованного пациента настолько сориентированы на обеспечение психоаналитического объяснения его расстройств, что можно говорить о том, что мы имеем дело не только с юнгианскими, кляйнианскими, лакановскими… толкованиями симптомов, но что сами симптомы носят юнгианский, кляйнианский, лакановский… характер, т. е. их реальность содержит скрытое указание на определенные психоаналитические теории. Негативным следствием этой глобальной рефлексивности толкований (все становится толкованием, бессознательное истолковывает себя) оказывается то, что толкование аналитика само утрачивает свою перформативную "символическую действенность", оставляет симптом незатронутым в непосредственности его идиотского наслаждения.
То, что происходит в психоаналитическом лечении, напоминает признания бритоголового неонациста: когда его прижимают к стенке, требуя ответа за совершенное насилие, он, подобно служащему социальной сферы, социологу или психологу, вдруг начинает ссылаться на замедление темпов развития общества, на отсутствие социальных гарантий, на упадок отцовского авторитета, на лишенность в детстве материнской любви. Так единство практики и укоренившегося в ней идеологического узаконивания оборачивается грубым насилием и бессильным, неэффективным его истолкованием. Это бессильное толкование оказывается одним из проявлений провозглашенной теоретиками "общества риска" универсальной рефлексивности. Все происходит так, будто рефлексивная сила может реализовываться, только если она описывает свою мощь и полагается на некую минимальную "до- рефлексивную", ускользающую от её хватки, субстанциональную опору, так что универсализация является следствием собственной неэффективности, т. е. парадоксальным новым появлением грубого реального "иррационального" насилия, непроницаемого, нечувствительного к рефлексивным толкованиям. В результате, чем больше нынешние социальные теории заявляют о конце Природы и/или Традиции и о становлении "общества риска", тем больше в нашу повседневную речь проникает ссылок на "природу". Даже если мы не говорим о "конце истории", разве не подразумеваем мы его, провозглашая наступление "постидеологической" прагматической эпохи, которая суть лишь иной способ заявить о наступлении "постидеологического" порядка, в котором изо всех возможных форм конфликтов право на существование получают лишь конфликты этнические/культурные? Симптоматично и исчезновение из сегодняшнего критического и политического словаря понятия "рабочий". Оно замещается теперь понятием "рабочий–иммигрант": алжирец во Франции, турок в Германии, мексиканец в США. Таким образом, классовый характер эксплуатации рабочих трансформируется в мультикультурную проблематику "нетерпимости к инаковости", а невероятные усилия либералов–мультикультуралистов по защите этнических прав иммигрантов очевидно отводят энергию от "вытесненных" классовых вопросов. Несмотря на то что заявления Фрэнсиса Фукуямы о "конце истории" быстро обрели дурную славу, мы по–прежнему втайне верим, что глобальный либерально–демократический капиталистический мировой режим представляет собой наконец–то обретенный "естественный" социальный порядок, а конфликты в странах третьего мира — вспышки беспричинного насилия или же насилия, в основе которого лежит фанатичная привязанность к этническим корням (а что, собственно, скрывается здесь за "этническим", как не природа?), — относятся к разряду естественных катастроф. Всепроникающее возвращение природы и в этом случае соотносится с глобальной рефлексивностью нашей повседневной жизни. Вот почему, сталкиваясь с этническими ненавистью или насилием, необходимо отвергнуть стандартное мультикультуралистское представление о том, что этнической нетерпимости противостоит уважение к инаковости и другому, что необходимо научиться жить с ними, прививая себе терпимость к отличному от твоего образу жизни и т. д. Эффективно бороться с этнической ненавистью отнюдь не значит непосредственно занимать противоположную позицию этнической терпимости; напротив, требуется еще большая ненависть, собственная политическая ненависть, ненависть, направленная на общего политического врага.
2. ПРИЗРАК КАПИТАЛА
И все же, какие у нас сегодня устанавливаются отношения со всеми этими призраками? Тут в первую очередь поражает, конечно же, парадокс, состоящий в том, что сам процесс развития глобальной рефлексии, столь беспощадно высмеивающий призраков и изгоняющий духов прошлого, порождает не только свою собственную непосредственность, но и своих собственных призраков и свою собственную призрачность. Самый прославленный дух, что бродил вокруг нас последние полтора столетия, был не духом прошлого, но призраком (революционного) будущего, о чем и возвещает первая фраза "Коммунистического Манифеста". Бессознательная же реакция на этот "Манифест" нынешнего либерального читателя, конечно же, такова: разве текст этот просто–напросто не ошибочен во множестве реальных фактов, в своем социальном анализе да и в провозглашенных им и распропагандированных революционных перспективах? Разве можно найти в истории другой политический манифест, который был бы столь же неоспоримо опровергнут последующим ходом истории? Разве "Манифест" в самом лучшем случае не являет собой гипертрофированную экстраполяцию пределенных тенденций XIX века? И все же давайте–ка взглянем на "Манифест" с другой стороны; оттуда, где мы пребываем сегодня, из нашего глобального "пост…" (постмодернистского, постиндустриального) общества? В самом деле, глобализация навязывается нам все настойчивее и настойчивее: она жестко вменяет единый мировой рынок, угрожает местным этническим традициям, вплоть до самой формы национального государства. Так разве то описание социального влияния буржуазии, что мы находим в "Манифесте", не оказывается сегодня актуальнее, чем когда–либо?
Буржуазия не может существовать, не вызывая постоянно переворотов в орудиях производства, не революционизируя, следовательно, производственных отношений, а стало быть, и всей совокупности общественных отношений. Напротив, первым условием существования всех прежних промышленных классов было сохранение старого способа производства в неизменном виде. Беспрестанные перевороты в производстве, непрерывное потрясение всех общественных отношений, вечная неуверенность и движение отличают буржуазную эпоху от всех других. Все застывшие, покрывшиеся ржавчиной отношения, вместе с сопутствующими им, веками освященными представлениями и воззрениями, разрушаются, все, возникающие вновь, оказываются устарелыми, прежде чем успевают окостенеть. Все сословное и застойное исчезает, все священное оскверняется, и люди приходят. наконец, к необходимости взглянуть трезвыми глазами на свое жизненное положение и свои взаимные отношения.
Потребность в постоянно увеличивающемся сбыте продуктов гонит буржуазию по всему земному шару. Всюду должна она внедриться, всюду обосноваться, всюду установить связи.
Буржуазия путем эксплуатации всемирного рынка сделала производство и потребление всех стран космополитическим. К великому огорчению реакционеров. она вырвала из–под ног промышленности национальную почву. Исконные национальные отрасли промышленности уничтожены и продолжают уничтожаться с каждым днем. Их вытесняют новые отрасли промышленности, введение которых становится вопросом жизни для всех цивилизованных наций, — отрасли, перерабатывающие уже не местное сырье, а сырье, привозимое из самых отдаленных областей земного шара, и вырабатывающие фабричные продукты, потребляемые не только внутри данной страны, но и во всех частях света. Вместо старых потребностей, удовлетворявшихся отечественными продуктами, возникают новые, для удовлетворения которых требуются продукты самых отдаленных стран и самых различных климатов. На смену старой местной и национальной замкнутости и существованию за счет продуктов собственного производства приходит всесторонняя связь и всесторонняя зависимость наций друг от друга. Это в равной мере относится как к материальному, так и к духовному производству. Плоды духовной деятельности отдельных наций становятся общим достоянием. Национальная односторонность и ограниченность становятся все более и более невозможными, и из множества национальных и местных литератур образуется одна всемирная литература [5].
Разве это не описание сегодняшних реалий? Телефоны "Эрикссон" больше не принадлежат Швеции, автомобили "Тойота" на 60% изготавливаются в США, голливудская культура проникла в самые отдаленные участки земного шара… Более того, разве то же самое не относится ко всем формам этнической и сексуальной идентичности? Нс стоит ли нам развить Марксово описание, добавив, что "сексуальная односторонность и ограниченность становятся все более и более невозможными" и что это касается также сексуальных практик, где "все сословное и застойное исчезает, все священное оскверняется", так что капитализм склонен к замещению стандартно–нормативной гетеросексуальности на умножение неустойчивых, смещающихся идентичностей или ориентаций? Моментами Маркс сам недооценивает эту способность капиталистической вселенной усваивать, как кажется, противостоящие ей трансгрессивные феномены. Так, например, в своем анализе идущей тогда в Америке гражданской войны он утверждал, что, поскольку британская текстильная промышленность, этот хребет всей промышленной системы, нс выживет без поставок с американского Юга дешевого хлопка, выращенного исключительно рабским трудом. Англия будет вынуждена прямо вмешаться и предотвратить отмену рабовладения.
Да, эта описанная Марксом глобальная динамика, заставляющая вес сословное и застойное исчезать, — наша реальность, разве что не забудем добавить в созданную "Манифестом" картину, с присущими ей диалектическими оппозициями, существенный штрих: "спиритуализации" при капитализме оказывается подверженным и сам процесс материального производства. Сдерживая силы духов традиции, капитализм порождает свои собственные чудовищные фантомы. Иначе говоря, капитализм, с одной стороны, приводит к радикальной секуляризации социальной жизни и безжалостно разрушает ауру подлинного благородства, святости, чести и т. д.:
В ледяной воде эгоистическою расчета потопила она священный трепет религиозного экстаза, рыцарского энтузиазма, мещанской сентиментальности. Она превратила личное достоинство человека в меновую стоимость и поставила на место бесчисленных пожалованных и благоприобретенных свобод одну бессовестную свободу торговли. Словом, эксплуатацию, прикрытую религиозными и политическими иллюзиями, она заменила эксплуатацией открытой, бесстыдной, прямой, черствой [6].
Однако, с другой стороны, фундаментальный урок "критики политической экономики", разработанной зрелым Марксом через несколько лет после написания "Манифеста", заключается в том, что сведение всех небесных химер к жестокой экономической реальности порождает собственных призраков. Когда Маркс описывает безумную саморазрастающуюся циркуляцию капитала, чьи солипсистские пути самооплодотворения достигают своего апогея в сегодняшних метарефлексивных спекуляциях о будущем, то слишком уж просто взять и сказать, что, мол, призрак этого самопорождающего чудовища, прокладывающего свой путь, невзирая на заботу о человеке или окружающей среде, — всего лишь идеологическая абстракция и что никогда не стоит забывать. что за этой абстракцией — реальные люди и природные объекты, чьи производительные способности и ресурсы служат основой циркуляции капитала, пищей, которой он питается подобно гигантскому паразиту. Проблема заключается в том, что эта "абстракция" суть не только наша (финансово–спекулятивная) ошибка в восприятии социальной реальности, но в том, что она "реальна" в совершенно точном смысле определения структуры самих материальных социальных процессов: судьба целого социального слоя, а иногда и всей страны может быть решена "солипсистским" спекулятивным танцем Капитала, преследующего свою цель извлечения прибыли в благословенном безразличии к тому, какое влияние окажет его движение на социальную реальность. Здесь коренится фундаментальное систематическое насилие капитализма, куда более жуткое, чем прямое докапиталистическое социо–идеологическое насилие: это насилие больше не относится к конкретным индивидам и их "злым" намерениям, оно — чисто "объективно”, систематично, анонимно. Здесь мы сталкиваемся с лакановским различием между реальностью и реальным. "Реальность" — социальная реальность действительно существующих людей, вовлеченных во взаимодействие и производственный процесс, в то время как реальное — безжалостная "абстрактная" призрачная логика Капитала, который определяет то, что происходит в социальной реальности. Разница эта ощутима, например, в том, что с точки зрения международных финансовых экспертов экономическая ситуация в стране может считаться хорошей, стабильной даже тогда, когда люди живут хуже, чем раньше, — реальность не имеет значения, важна лишь ситуация с Капиталом… И опять–таки — разве это не является сейчас большей правдой, чем когда бы то ни было? И разве не указывают феномены, обычно относимые к "виртуальному капитализму" (будущая торговля и схожие абстрактные финансовые спекуляции), на царство "реальной абстракции", самой чистой и куда более радикальной, чем во времена Маркса? Короче говоря, высшая форма идеологии укореняется не в захваченности идеологической призрачностью, которая заставляет забыть о реальных людях и их отношениях, а как раз–таки в обозревании реального призрачности и в притворном непосредственном обращении к "реальным людям с их реальными заботами". Посетителям Лондонской фондовой биржи бесплатно выдается листовка, объясняющая, что фондовый рынок связан не с какими–то мистическими флуктуациями, а с реальными людьми и их товарами: вот идеология в чистейшем виде!
Можно ли в таком случае считать, что марксистская "критика политической экономики" адекватно описывает процесс капиталистической глобализации? Или, точнее: как мы относимся к оппозиции между стандартным марксистским анализом капитализма как конкретной социальной формации и теми положениями (от Хайдеггера до Адорно с Хоркхаймером), которые понимают безумный капиталистический танец самовозрастающей продуктивности как выражение более фундаментального трансцендентально–онтологического принципа ("воля к власти", "инструментальный разум"), различимого, кстати, и в коммунистическом стремлении перегнать капитализм (что и давало Хайдеггеру основание утверждать, что, мол, американизм и коммунизм — метафизически одно и то же)? С точки зрения стандартного марксизма, поиски некоего трансцендентально–онтологического принципа мистифицируют конкретную социоэкономическую структуру, поддерживающую капиталистическое производство, в то время как, с другой стороны, тот же стандартный марксистский подход не видит, как капиталистическое излишество можно объяснить на оптическом уровне отдельной социальной организации.
Здесь возникает соблазн сказать, что, мол, обе стороны не правы. Будучи марксистами, во имя верности трудам Маркса, мы должны внимательно присмотреться к допущенной Марксом ошибке. Мы, разумеется, признаем, что он понял, как капитализм запускает захватывающую дух динамику самовозрастающего производства; мы не можем проигнорировать его поразительное описание того, как при капитализме "все сословное и застойное исчезает, а все священное оскверняется", того, как капитализм радикально революционизировал всю историю человечества. Кроме того, он также ясно понял, как эта капиталистическая динамика раскручивается своей собственной внутренней ошибкой или антагонизмом: крайний предел капитализма (капиталистической самораскручивающейся продуктивности) — сам Капитал, т. с непрерывное капиталистическое развитие и революционирование его собственных материальных условий; безумный танец его ничем не сдерживаемой спирали производства есть, в конечном счете, не что иное, как отчаянное бегство вперед от собственных, подрывающих силы, врожденных противоречий… Фундаментальная же ошибка Маркса состояла в том, что из этих прозрений он сделал вывод о возможности нового, более высокого социального порядка (коммунизма), который не только сумеет выжить, но и превзойти капитализм, эффективнее и полнее раскрыть потенциал самовозрастающей спирали продуктивности, которая при капитализме из–за его врожденных дефектов и противоречий вновь и вновь расстраивает планы разрушительными социально–экономическими кризисами. Короче говоря, Маркс просмотрел, если прибегнуть здесь к терминологии Деррида, что эта врожденная ошибка, этот антагонизм как "условие невозможности" полного развертывания производительных сил является одновременно "условием их возможности": если мы устраним ошибку, это врожденное противоречие капитализма, то тогда мы получим не запущенное на полную катушку влечение к производительности, наконец–то избавившееся от своего препятствия, но как раз–таки потеряем эту производительность, которая, кажется, должна порождаться и одновременно тормозиться капитализмом; если мы устраняем препятствие, то сам потенциал, сдерживаемый этим препятствием, исчезает… (здесь содержится возможная лакановская критика Маркса, сфокусированная на двусмысленном наложении друг на друга прибавочной стоимости и прибавочного наслаждения). Так что критики коммунизма были отчасти правы, утверждая, что Марксов коммунизм — невозможная фантазия, однако они не поняли, что Марксов коммунизм, это понятие общества чистой развернутой производительности, вне рамок Капитала — фантазия, присущая самому капитализму, капиталистически врожденная трансгрессия в её самом очищенном виде, строго идеологическая фантазия поддержания порожденного капитализмом толчка производительности по ходу устранения "ошибок" и антагонизмов (как демонстрирует печальный опыт "реально существующего капитализма"), которые были единственно возможной структурой эффективного материального существования общества перманентной самовозрастающей производительности.
Теперь мы также можем увидеть, почему вышеупомянутая процедура вытеснения марксистского анализа со ссылкой на некие трансцендентально–онтологические основания (обычный способ, которым западные марксисты пытаются ответить на вопрос о кризисе марксизма) недостаточна: сегодня требуется не переход от "критики политической экономики" к трансцендентально–онтологической "критике инструментального разума", а возвращение к "критике политической экономики", которая позволила бы увидеть, как классический коммунистический проект превратился в утопию именно потому, что он не был достаточно радикальным, т. е. потому, что основной капиталистический импульс запущенной производительности сохранился, но при этом лишился своих насущных противоречий. Недостаточность критики Хайдеггера, Адорно, Хоркхаймера и прочих коренится в их уклонении от конкретного социального анализа капитализма. Критикуя, преодолевая Маркса, они по–своему повторяют его ошибку. Подобно Марксу они воспринимают запущенную производительность как нечто совершенно независимое от конкретной капиталистической социальной формации. Капитализм и коммунизм — это не два различных исторических осуществления, не две разновидности "инструментального разума". Инструментальный разум как таковой является капиталистическим, уходит корнями в капиталистические отношения; "реальный социализм" не удался, потому что он в конечном счете был разновидностью капитализма, идеологической попыткой вырваться из него, сохранив при этом его главный ингредиент, короче говоря, попыткой убить сразу двух зайцев.
Наш ответ на типичный философский упрек Марксу (что, мол, нужно отказаться от его описания динамики капитализма, поскольку оно становится значащим лишь на фоне понятия "коммунизм", как прозрачного для самого себя общества, в котором производственный процесс прямо подчинен "общему интеллекту" коллективного планирования) заключается таким образом, в том, что, принимая сердцевину этого аргумента, мы просто делаем рефлексивный шаг назад и смотрим, как Марксово понятие коммунистического общества само является присущим капиталистической фантазии, т. е. фантазматическому сценарию решения капиталистического антагонизма, столь точно описанного Марксом. Иначе говоря, наша ставка в том, что, даже если мы убираем телеологическое понятие "коммунизм" (общество производительности, запущенной на полную катушку) как имплицитный стандарт, которым Маркс отмерял отчуждение в существующем обществе, сохраняется размах его "критики политической экономики", прозрения в самораскручивающемся порочном круге капиталистического (вос)производства. Таким образом, сегодня перед нами стоит двойная задача: с одной стороны, как повторить марксистскую "критику политической экономики" без утопически–идеологического понятия коммунизма как присущего ей стандарта; с другой стороны, как [в сканах пропущена стр. 45] <...>
<...>ствующей черты, делающей его желанным[7]. Вот почему в каждой настоящей любви всегда есть по меньшей мере привкус меланхолии: в любви объект не лишен своей причины, но исчезает расстояние между объектом и причиной. Именно это отличает любовь от желания: в желании, как мы только что видели, его причина отличается от его объекта, в то время как в любви они непостижимым образом совпадают: я люблю возлюбленную от лица её самой, обнаруживая в ней ту самую точку, из которой нахожу ее достойной любви.
Возвращаясь же к Марксу, зададимся вопросом: а что, если его ошибка заключалась и в том предположении, что объект желания (неограниченный рост производительности) сохранится, даже если лишить его той причины, которая раскручивает его (прибавочной стоимости)?
3. КОКА-КОЛА КАК ОБЪЕКТ а
С психоаналитической точки зрения принципиально важной является связь капиталистической динамики прибавочной стоимости и либидной динамики прибавочного наслаждения. Разовьем это положение на примере кока–колы как типичнейшего капиталистического товара, воплощающего собой прибавочное наслаждение как таковое. Нет ничего удивительного в том, что вначале кока появилась как лекарство: казалось, ее странный вкус не может доставить никакого удовольствия, по своему вкусу она не особенно приятна и малопривлекательна. Однако кока–кола как таковая, выливаясь за границы конкретной потребительской стоимости (которой обладают вода, пиво или вино, определенно утоляющие жажду и производящие желанный эффект удовлетворенного успокоения), действует как непосредственное воплощение «оно», как превосходящее обычное удовольствие чистое прибавочное наслаждение, как таинственный, ускользающий «икс», за которым все мы оказываемся в навязчивом состоянии потребления товаров.
Неожиданность заключается в том, что, поскольку кока–кола не удовлетворяет никакой конкретной потребности, мы пьем ее как нечто дополнительное, уже после того, как утолили насущную потребность каким–либо еще напитком. По–видимому, избыточный характер кока–колы и делает нашу жажду ненасыщаемой. Как заметил Жак—Алэн Миллер, кола обладает парадоксальным свойством: чем больше ее пьешь, тем сильнее жажда, тем больше хочется ее пить, ощущать этот горьковато- сладкий вкус вопреки тому, что жажда не проходит [8]. Несколько лет назад рекламным лозунгам этого напитка был «Вот это — кока!», и в этой фразе мы должны были услышать всю двусмысленность: «вот это» именно потому, что этого в действительности никогда не бывает, именно потому, что при каждом глотке разверзается пропасть «хочу еще!». Парадокс заключается в том, что кола — не обычный товар, в котором потребительская стоимость превращается в выражение ауратического измерения чистой (меновой) стоимости (или дополняется этим выражением), но товар, чья особая потребительская стоимость сама по себе уже является прямым воплощением сверхчувственной ауры неуничтожимой духовной прибыли. Материальные качества этого товара уже суть его. Свое завершение этот процесс находит в появлении диетической коки без кофеина. Почему? Мы пьем кока–колу или какой–либо еще напиток, когда он утоляет жажду, когда он питательный или вкусный. В случае диетической колы ее питательные свойства практически отсутствуют, удален и основной источник вкуса — кофеин; все, что остается — чистое подобие, ложное обещание некой субстанции, которая так никогда и не материализуется. Разве не получается так, что в истории с диетической колой без кофеина мы почти буквально «пьем ничто под маской нечто»? Мы подразумеваем здесь, конечно же. классическую оппозицию Ницше между «ничего нежеланием» (в смысле «я ничего не хочу») и нигилистической установкой активного желания самого ничто. Следуя Ницше, Лакан подчеркивает, что при анорексии человек не просто «ничего не ест», а скорее жаждет съесть самое ничто (пустоту), т. е. последний объект–причину желания. (То же самое происходило со знаменитым пациентом Эрнста Криса, который испытывал чувство вины за воровство, хотя на самом деле ничего не крал; по сути дела он воровал самое ничто.) Подобное происходит и в случае с диетической кока- колой без кофеина; мы пьем ничто, чистое подобие свойств, эффективно служащих упаковкой пустоты.
Этот пример наглядно проявляет связь трех понятий: прибавочной стоимости Маркса, объекта а Лакана как прибавочного наслаждения (причем Лакан разработал это понятие, прямо ссылаясь на прибавочную стоимость Маркса) и парадокса сверх-я, давным–давно осмысленного Фрейдом: чем больше пьешь кока–колы, тем сильнее жажда; чем выше прибыль, тем больше её хочется», чем строже подчиняешься приказам сверх-я, тем сильнее чувство вины. Во всех трех случаях логика уравновешенного обмена нарушается в пользу избыточной логики типа «чем больше отдаешь (чем полнее оплачиваешь долги), тем больше должен» (или «чем больше у тебя желанного, тем больше его не хватает и тем сильнее жажда»; или — в потребительской версии — «чем больше покупаешь, тем больше должен тратить»), т. е. мы имеем дело с парадоксом, совершенно противоположным парадоксу любви, в котором, повторяя бессмертные слова, сказанные Джульеттой Ромео, «чем больше я тебе даю, тем больше остается» [9]. Ключом к этой нарушенной логике служит, конечно же, прибавочное наслаждение, объект а, существующий (точнее, упорствующий в своем существовании) в своего рода искривленном пространстве, в котором по мере приближения к объекту от него удаляешься (или: чем больше им владеешь, тем больше его не хватает) [10]. Здесь, возможно довольно неожиданно, появляются сексуальные различия: причина, по которой сверх-я сильнее у мужчин, заключается в том, что мужчины, в отличие от женщин, тесно связаны с этим избытком прибавочного наслаждения, превосходящим умиротворяющую функцию символического закона. Оппозиция умиротворяющего символического закона и предписаний строгого сверх-я, с точки зрения отцовской функции, лежит, конечно же, между именем- отца (отцовским символическим авторитетом) и «первобытным отцом», которому дозволено наслаждаться всеми женщинами. Здесь крайне важно вспомнить о том, что этот жестокий «перво6ытный отец» являет собой (навязчивую) мужскую, а не (истерическую) женскую фантазию: мужчины способны вынести процесс интеграции в символический порядок в том случае, если эта интеграция поддерживастся скрытой ссылкой на фантазию необузданного чрезмерного наслаждения, воплощенного в безоговорочное требование сверх-я наслаждаться, идти до конца, преступать границу. Короче говоря, именно у мужчин интеграция в символический порядок поддерживается исключением сверх-я. Этот парадокс сверх-я позволяет нам пролить свет на некоторые процессы, происходящие сегодня в сфере современного искусства. Искусство сегодня отмечено не только вызывающей слезы коммодификацией культуры, тем, что художественные товары производятся специально для рынка, но также и менее заметным, но, возможно, более значимым, противоположным движением: растущим «окультуриванием» самой рыночной экономики. Вместе со сдвигом к третичной экономике (услугам, товарам культуры) сфера культуры оказывается все в большей зависимости от рынка; она все больше и больше превращается не просто в одну из сфер рынка, но в его центральную составляющую (от программного обеспечения индустрии развлечений до других медиа- продуктов). Эта смычка рынка и культуры влечет за собой исчезновение модернистско–авангардистской логики провокации, шокирующей истеблишмент. Сегодня сам культурно–экономический аппарат, дабы воспроизводиться в условиях рыночной конкуренции, должен не просто терпеть шокирующие эффекты и продукты, но все больше и больше их производить. Достаточно вспомнить последние тенденции в визуальном искусстве: канули в прошлое те дни, когда перед нами были просто статуи или картины в рамах. Теперь мы приходим на выставку рам без картин, мертвых коров и их экскрементов, видеотрансляций из тела человека (гастроскопия), запахов и т. д. и т. п. [11] Здесь, так же как и в сексуальной сфере, перверсии больше не носят губительный характер: шокирующие эксцессы теперь являются неотъемлемой частью самой системы. Ради собственного воспроизводства система поглощает эксцессы. В отличие от искусства модернистского, мы можем определить постмодернистское искусство как искусство, в котором трансгрессивный эксцесс теряет свою шокирующую стоимость и целиком интегрируется в существующий художественный рынок [12]. Практически этот же феномен обнаруживается и в том, что в сегодняшнем искусстве пропасть, отделящая сакральное пространство возвышенной красоты от экскрементального пространства помойки, становится все уже, вплоть до парадоксального отождествления противоположностей. Разве произведения современного искусства все чаще и чаще не предстают в виде экскрементов и мусора (зародышей, гниющих трупов и т. д.), занимающих святое место Вещи? И разве такое тождество не является своего рода скрытой «истиной» целого движения? Разве каждая деталь, требующая права на святое место Вещи, по определению не является объектом типа экскрементов, мусором, который никогда не может соответствовать «уровню поставленной задачи»? Это тождество противоположных детерминант (ускользающего возвышенного объекта и/или экскрементального мусора), содержащее в себе угрозу превращения одного в другое, угрозу того, что возвышенный Грааль будет найден, но окажется куском дерьма, вписано в самую суть лакановского объекта а.
Этот тупик в самом его радикальном измерении суть тупик, воздействующий на процесс сублимации, и не в том общепринятом смысле, что художественный рынок сегодня больше не способен производить «возвышенные» объекты, но в смысле куда более радикальном: сама фундаментальная матрица возвышенности, центральной Пустоты, пустого («священного») места Вещи, исключенной из цепи современной экономики и заполняющей это место позитивным объектом, то есть объектом, возносимым до уровня Вещи (таково определение сублимации, данное Лаканом), все больше и больше оказывается под угрозой, угрозой расстоянию между пустым Местом и заполняющим его (позитивным) элементом. Таким образом, если проблема традиционного (домодернистского) искусства заключалась в том, как заполнить возвышенную Пустоту Вещи (чистого Места) адекватным прекрасным объектом, т. е. как суметь поднять обыкновенный объект до высокого уровня Вещи, то проблема современного искусства в известном смысле противоположна (и куда более чудовищна): теперь уже нельзя рассчитывать на то, что Пустота (священного) места предложит себя человеческим артефактам, и задача заключается в сохранении места как такового, сохранении, позволяющем убедиться в том, что место «имеет место»; иначе говоря, проблема теперь не в ужасающей Пустоте, не в заполнении Пустоты, а в первую очередь — в создании Пустоты. Принципиально важной становится взаимозависимость пустого незанятого места и быстро движущегося ускользающего объекта, этого не имеющего собственного места оккупанта [13]. Дело не в том, что имеется добавление какого–то элемента к месту, доступному в структуре, или добавление места, не заполненного никаким элементом, пустого места в структуре, которое будет поддерживать фантазию о чем–то таком, что появится и заполнит собою это место; а избыточный элемент, которому нет места, будет поддерживать фантазию о пока еще неизвестном месте, которое его ждет. Дело скорее в том. что пустое место в структуре само по себе соотносимо с блуждающим элементом, которому не достает своего места. Элемент и место — не две разные сущности, но две стороны одного и того же, т. е. две стороны ленты Мебиуса. Иначе говоря, парадокс состоит в том, что только элемент, который оказался совершенно «вне места» (объект типа экскрементов, мусора или отбросов), может сохранять пу- стоту пустого места, т. е. поддерживать ситуацию Малларме rien n'aura eu beu que le lieu («ничто, кроме места, не будет иметь места»): в тот момент когда этот лишний элемент наконец «находит свое собственное место» никакого чистого места, отличного от занявшего его элемента [14], уже нет. Еще один способ, позволяющий приблизиться к трениям объекта и пустоты, — различные модальности суицида. Во–первых, самоубийство как действие, конечно же, «содержит некое послание» (разочарование в политике, эротике и т. д.) и, значит, как таковое оно обращено к Другому (скажем, самоубийство по политическим мотивам вроде столичного самосожжения призвано шокировать и пробудить безразличную публику). Хотя это самоубийство имеет символическое измерение, все же в самых своих основаниях оно — воображаемо, поскольку совершающий его человек утверждается в нем благодаря тому воображаемому эффекту, который его акт произведет на потомков, очевидцев, публику, на всех, кто о нем узнает. Нарциссическое удовлетворение, которое приносит эта фантазия, совершенно очевидно. Существует и самоубийство в реальном: насильственный переход к акту полного и непосредственного отождествления субъекта с объектом. Для Лакана субъект ($ — «перечеркнутый» знак, пустой субъект) и объект–причина его желания (остаток, придающий тело нехватке, которая и «является» субъектом) строго соотнесены: субъект есть лишь тогда, когда имеется некое материальное пятно, некий материальный остаток, сопротивляющийся субъективации, некий избыток, в котором субъект не может себя узнать. Иными словами, парадокс субъекта заключается в том, что он существует только благодаря своей собственной радикальной невозможности, благодаря «бельму на глазу», всегда спасающему субъекта от достижения полной онтологической идентичности. Итак, перед нами структура ленты Мебиуса: субъект соотносится с объектом, но лишь негативным образом. Субъект и объект никогда не могут «встретиться», хотя находятся в одном и том же месте; они — на противоположных сторонах ленты Мебиуса. На языке философии, в гегелевском смысле спекулятивного совпадения/тождества полярностей субъект и объект оказываются тождественными: когда Гегель превозносит спекулятивную истину вульгарного материалистического тезиса френологии «дух есть кость», то его точка зрения заключается не в том, что дух можно с успехом свести к форме черепа, но что дух (субъект) есть лишь тогда, когда есть кость (некий материальный, неодухотворенный остаток), сопротивляющаяся егo духовному снятию–присвоению–посредничеству. Субъект и объект, таким образом, не просто внешни друг другу: объект — это не просто внешний предел, в отношении которого субъект определяет свою самотождественность, он экс–тимен (ex–timate) в отношении субъекта, он служит его внутренней границей, т. е. самим барьером, предотвращающим полную реализацию субъекта.
Однако при суицидальном подходе к делу происходит как раз–таки прямая идентификация субъекта с объектом: объект теперь не «идентичен» субъекту в смысле субъективного гегелевского тождества диалектического процесса и поддерживающего этот процесс препятствия, но они совпадают непосредственно, оказываются по одну сторону ленты Мебиуса. Это означает, что субъект теперь не являет собой чистую Пустоту негативности ($), бесконечное желание, Пустоту в поисках отсутствующего объекта. Он прямо «проваливается» в объект, становится объектом. Объект (причина желания), напротив, больше не является материализацией Пустоты, призрачным присутствием, которое придает тело нехватке, поддерживающей желание субъекта. Объект приобретает теперь прямое позитивное существование и онтологическое постоянство. Или, с точки зрения минимального расстояния между объектом и его местом, пустотой, расчищенным, расстояния, в чьих пределах он появляется, при суицидальном подходе не объект выпадает из своей рамки и мы остаемся перед чистой Рамой—Пустотой (так что «лишь место имеет место»), а как раз–таки наоборот: объект по–прежнему остается, а вот пустота–место исчезает; рамка проваливается в то, что она когда–то обрамляла, и теперь имеет место затмение символического пространства, абсолютное замыкание реального. Суицидальный переход к действию не только не является наивысшим выражением влечения к смерти, но представляет собой его полную противоположность. Влечение к смерти и творческая сублимация для Лакана строго между собой взаимосвязаны. Влечение к смерти опустошает (святое) место, создает расчищенное, пустоту, раму, которую затем заполняет объект, «возносимый до уровня Вещи». И здесь мы сталкиваемся с третьим видом самоубийства, самоубийства, определяющего влечение к смерти, символического самоубийства, не в том смысле, что человек «умирает символически, а не на самом деле», но в более точном смысле стирания той символической сети, которая определяет идентичность субъекта. В этом случае рвутся все те узы, которые удерживали субъект в его символической субстанции. Субъект оказывается целиком и полностью лишенным своей символической идентичности, заброшенным в «ночь мира», в которой единственный коррелят — минимум отходов–экскрементов, мусор, соринка в глазу, практически–ничто, удерживающее чистое место–раму–пустоту, так что здесь, наконец, «лишь место имеет место». Логика предъявления экскремент–объекта возвышенному Месту сходна, таким образом, с тем, как действует гегелевское бесконечное суждение «дух есть кость». Наша первая реакция на фразу Гегеля — «но ведь это же бессмысленно, поскольку дух, его абсолютная, на себя направленная негативность совершенно противоположны инерции черепа, этого мертвого объекта!» Однако именно осознание совершенного несовпадения «духа» и «кости» является «духом», его радикальной негативностью… Точно также первая реакция на фекалии в возвышенном Месте — возмущенный вопрос: «Это что, искусство?» Однако именно эта негативная реакция, это переживание радиального несовпадения объекта и занимаемого им Места позволяет вам осознать особенность этого Места.
В своей замечательной работе «Объект века» [15] Жерар Вайсман делает следующее предположение: разве модернистское искусство не было сосредоточено на том, как сохранить минимальную структуру возвышенности, минимальный зазор между Местом и заполняющим его элементом? Разве не по этой причине «Черный квадрат» Казимира Малевича передавал диспозитив художника в его предельно элементарном, сведенном к голому различию между Пустотой (белый фон, белая поверхность) и элементом («тяжелым» пятном квадрата) виде? Иначе говоря, мы никогда не должны забывать, что само время (будущее предшествующее) знаменитой фразы Малларме — «ничто не будет иметь места, кроме места» — указывает на то, что мы имеем дело с утопичным состоянием, которое по априорно структурным причинам никак не понять во времени настоящем (никогда не будет настоящего времени, в котором «только само место будет иметь место»). Дело не только в том, что занимаемое Место дарует объекту высокое звание, но и в том, что только присутствие объекта сохраняет Пустоту священного Места, так что само это Место никогда не занимает места, но в ответ нечто иное всегда «будет иметь место» после того, как оно потревожено позитивным элементом. Иными словами, когда мы извлекаем из Пустоты позитивный элемент, «немножко реальности», избыточное пятно, нарушающее ее равновесие, никакой чистой, ничем не запятнанной Пустоты «как таковой» мы не получаем. В этом случае сама Пустота исчезает ее там больше нет. Так что причина, по которой экскременты возносятся до уровня произведения искусства, обычно заполняющего Пустоту Вещи, заключается не просто в демонстрации того, как «что–то происходит», как объект, в конечном счете, сам по себе не имеет значения, поскольку любой объект может быть возвышен, может занять Место Вещи; это обращение к экскрементам скорее свидетельствует об отчаянном стремлении обеспечить наличие святого Места. Проблема заключается в том, что сегодня, в двойном движении прогрессирующей коммодификации эстетики и эстетизации мира товаров, «прекрасный» (доставляющий эстетическое удовольствие) объект все в меньшей и меньшей степени способен сохранять Пустоту Вещи. Парадоксальным образом получается так, что единственный способ, позволяющий сохранить (святое) Место, — заполнить его мусором, экскрементами, отбросами. Иначе говоря, именно художники, которые сегодня выставляют художественные объекты типа экскрементов, не столько подрывают логику возвышенного, сколько отчаянно стремятся спасти её. А вот результаты этого коллапса элемента в Пустоту самого Места потенциально катастрофичны: не существует символическо- го порядка без хотя бы минимального расстояния между элементом и его Местом. Иначе говоря, мы живем в символическом порядке только постольку. поскольку каждое присутствие появляется на фоне его возможного отсутствия (Лакан пытался показать это понятием фаллического означающего как означающего кастрации: означающее — «чистое» означающее, означающее «как таковое», в его наипростейшем виде, поскольку самое его присутствие занимает его собственное возможное отсутствие, его возможную нехватку). Возможно, элементарное значение модернистского перелома в искусстве, таким образом, заключается в том, что благодаря ему принимаются в расчет трения между (художественным) объектом и занимаемым им местом: объект становится произведением искусства не просто благодаря его непосредственным материальным качествам, но благодаря занимаемому им месту, (святому) Месту Пустоты Вещи. Иными словами, вместе с модернистским искусством утрачивается и определенная невинность: больше мы не можем прикидываться, что прямо производим объект, который, благодаря его качествам, т. е. независимо от занимаемого места, «является» произведением искусства. Именно по этой причине у модернистского искусства с самого начала выявились два полюса — Казимир Малевич и Марсель Дюшан. С одной стороны, чисто формальная разметка пространства, отделяющая объект от его Места («Черный квадрат»); с другой — демонстрация в качестве произведения искусства общеупотребимого объекта повседневности (велосипеда), который как бы убеждает, что искусство зависит не от качеств произведения искусства, а исключительно от Места, которое этот объект занимает, так что все, что угодно, даже дерьмо, может «быть» произведением искусства, если находится в правильном Месте. И что бы мы ни делали после этого модернистского излома, даже если мы возвращаемся к ложному неоклассицизму а-ля Арно Бреккер, все уже этим изломом «опосредовано». Возьмем, например, такого «реалиста» XX века, как Эдвард Хоппер. Мы обнаруживаем в его творчестве по крайней мере три черты, свидетельствующие об этой опосредованности. Во–первых, это хорошо известная манера Хоппера изображать одинокого жителя ночного города в залитой светом комнате, причем видим мы его через окно снаружи, даже если само это обрамляющее окно не нарисовано. Картина написана так, что мы вынуждены представлять себе невидимую, нематериальную раму, отделяющую нас от изображенных объектов. Во- вторых, своей гиперреалистической манерой его полотна производят эффект дереализации: перед нами как бы не обычные материальные вещи (типа жухлой травы в сельских пейзажах), а сновидческие, призрачные, эфемерные объекты. В-третьих, тот факт, что серия его работ с изображением смотрящей в открытое окно жены художника, которая находится в пустой, залитой ярким солнечным светом комнате, переживается как неустойчивый фрагмент некой общей сцены, требующей дополнения, отсылающей к невидимому внешнему пространству, подобно кадру из фильма без контркадра (нельзя не согласиться, что эти живописные произведения Хоппера уже «опосредованы» кинематографическим опытом). Есть одна картина, которая, как принято считать, занимает место «недостающего звена» между традиционным и современным искусством. Речь идет о знаменитом «Начале мира» Гюстава Курбе, полотне на котором бесстыдно изображен обнаженный женский торс с фокусом на гениталиях. Эта картина, буквально исчезнувшая из поля зрения почти на сто лет, была в конце концов обнаружена после смерти Лакана среди его вещей [16]. «Начало» представляет собой предел традиционной реалистической живописи, ведь ее крайним объектом — никогда прямо и полностью не показываемым, но провоцирующим постоянные намеки, объектом, изображаемым как своего рода подразумеваемая точка референций, начиная, по крайней мере, с «Изгнания» Альбрехта Дюрера, — было, конечно, обнаженное, откровенно возбужденное женское тело как предельный объект мужского желания и взгляда. Выставленное напоказ женское тело функционирует здесь подобно постоянным намекам на половой акт в классических голливудских фильмах, лучшее описание которых дается в знаменитой инструкции киноворотилы Монро Стара сценаристам в «Последнем магнате» Скотта Фицджеральда:
Во все времена и моменты, что мы видим ее на экране, ею движет желание спать с Кеном Уиллардом….Что бы она ни делала, ею движет одно. Идет ли она по улице, ею движет желание спать с Кеном Уиллардом; ест ли обед — ею движет желание набраться сил для той же цели. Но нельзя ни на минуту создавать впечатление, что она хотя бы в мыслях способна лечь с Кеном Уиллардом в постель, не освященную браком [17].
Выставленное напоказ женское тело, таким образом, предстает в качестве невозможного объекта, который, будучи непредставимым, функционирует как крайний горизонт репрезентации, чье размыкание приостановлено навсегда, подобно лакановской инцестуозной Вещи. Ее отсутствие, Пустота Вещи заполняется «сублимированными» образами прекрасных, но не целиком показанных женских тел. т. е. тел. которые постоянно сохраняют минимальное расстояние до «этого». Однако самая важная позиция (или, скорее, подлежащая иллюзия) традиционной живописи заключается в том, что «настоящее» инцестуозное обнаженное тело ждет своего обнаружения. Короче говоря, иллюзия традиционного реализма заключается не в верной передаче описываемых объектов, а скорее в вере в то, что за непосредственно передаваемыми объектами точно находится абсолютная Вещь, которой можно овладеть, если убрать лежащие на пути препятствия и запреты. Курбе делает в своей работе жест радикальной десублимации: он совершает рискованное движение и просто доходит до конца, прямо описывая то, на что реалистическое искусство до него только намекало, пользуясь отозванной точкой референции. Результат этой операции, конечно, был, говоря языком Кристевой, превращением возвышенного объекта в отбросы, в тошнотворный, мерзопакостный комок дряни. (Точнее говоря, Курбе мастерски продолжал размещаться на самой туманной границе, отделяющей возвышенное от экскрементального: женское тело «Начала мира» сохраняет всю полноту эротической привлекательности, но именно в силу этой избыточной привлекательности оно становится отталкивающим.) Жест Курбе, таким образом, — тупик, предел традиционной реалистической живописи, и именно в качестве такового он — необходимый «посредник» между традиционным и модернистским искусством. Он являет собой тот самый жест, который должен был быть совершен, чтобы «расчистить почву» для возникновения модернистского «абстрактного» искусства. Вместе с Курбе игра намеков на вечно отсутствующий «реалистический» инцестуозный объект заканчивается, структура сублимации коллапсирует, а предприятием модернизма становится необходимость переустановки матрицы возвышенности (минимального расстояния, отделяющего Пустоту Вещи от заполняющего ее объекта) вне «реалистических» пределов, т. с. вне веры в реальное присутствие за обманчивой живописной поверхностью инцестуозной Вещи. Иными словами, вместе с Курбе мы начинаем понимать, что нет Вещи за ее возвышенным явлением, и если даже мы силой проторим путь сквозь возвышенное явление к самой Вещи, то достигнем лишь удушающей тошнотворной гнусности. Так что единственный способ переустановки минимальной структуры возвышенности — прямая постановка самой пустоты, Вещи как Пустоты—Места-Рамы без иллюзии того, что Пустота эта поддерживается неким скрытым инцестуозным объектом [18]. Теперь можно понять, как в точности, насколько бы парадоксально это ни звучало, «Черный квадрат» Малевича как знаковое произведение модернизма являет собой настоящую противоположность «Началу» (или его переворачивание). У Курбе перед нами инцестуозная Вещь, угрожающая взорвать Расчищенное. Пустоту, в которой могут появиться (возвышенные) объекты, в то время как у Малевича все наоборот — матрица возвышенности в своей предельной простоте сведена к голой разметке расстояния между передним планом и фоном, между целиком «абстрактным» объектом (квадратом) и Местом его нахождения. «Абстракцию» модернистской живописи, значит, стоит понимать как реакцию на сверхприсутствие предельно «конкретного» объекта, инцестуозной Вещи, обращающей его в омерзительную гнусность, превращающей возвышенное в экскрементальный избыток [19].
Задача анализа в духе исторического материализма заключается здесь в том. чтобы поместить все эти слишком уж формальные определения в конкретный исторический контекст. Во–первых, действует вышеупомянутая эстетизация мира товаров, конечным результатом которой, выражаясь несколько патетически, сегодня является то, что настоящий мусор — и есть «прекрасный» объект, который нам подносят со всех сторон, и, следовательно, единственный способ, позволяющий избавиться от мусора, — поместить его в священное Место Пустоты. Впрочем, ситуация сложнее. С одной стороны, мы переживаем (в реальности или в воображении) мировые катастрофы (от ядерных и экологических до Холокоста), чье травматическое воздействие настолько сильно, что их нельзя больше воспринимать как заурядные события, имеющие место в пределах горизонта/расчистки, поддерживаемых Пустотой Вещи. Сама Вещь в них теперь не отсутствует, не представлена, как Пустота, как фон актуальных событий, но угрожает прямо стать присутствующей, актуализироваться в реальности и, таким образом, спровоцировать психотический коллапс символического пространства. С другой стороны, если перспективы глобальной катастрофы не были чем–то исключительно присущим XX веку, то почему тогда они оказали столь сильное воздействие именно в этом веке, а не раньше? Ответ опять–таки лежит в поступательном соотнесении эстетики (пространства возвышенной красоты, высвобожденной из социального обмена) и коммодификации (самой территории обмена): именно это соотнесение и его результат, лишая самой способности сублимировать, превращает каждую встречу с Вещью в разрушительную глобальную катастрофу, «конец света». Совсем неудивительно, что в творчестве Энна Уорхола объектом повседневности, реди–мэйдом, который захватывает возвышенное Место произведения искусства, становится не что иное, как ряд бутылок кока–колы.
4. СТАЛИНИСТСКИЙ силлогизм
Как же случилось, что и марксизме появилось слабое место, открывшее дорогу сталинизму? Трудно удержаться от удивления в связи с «плоским» характером общепринятых антикоммунистических обвинений в адрес сталинизма со всеми разговорами о «тоталитарной» направленности радикальной политики освобождения и т. д. Сегодня скорее, чем когда бы то ни было, следует говорить о том, что только исследование в духе марксизма, диалектического материализма способно объяснить появление сталинизма. Хотя такая задача явно выходит за рамки данной книги, все же хочется рискнуть и сделать кое–какие предварительные замечания. Каждый марксист помнит ленинское замечание из «Философских тетрадей: тот, кто не прочитал, детально не изучил всю гегелевскую «Науку логики», не способен понять и «Капитал» Маркса. Следуя этому тезису, хочется сказать: тот, кто не прочитал, кто детально не изучил главы о суждении и силлогизме из гегелевской «Логики», тот не поймет причины возникновения сталинизма. Логику этого возникновения, по–видимому, легче всего понять как последовательность трех форм силлогистического опосредования, которая вполне соответствует триаде Марксизм–Ленинизм–Сталинизм. Три посредствующих термина (Универсальное, Частное и Единичное) суть история (глобальное историческое развитие), пролетариат (частный класс с его привилегированным отношением к универсальному) и коммунистическая партия (единственный агент). В раннем классическом марксизме партия выступает как посредник между историей и пролетариатом: ее деятельность позволяет «эмпирическму» рабочему классу осознать свою предписанную социальным положением историческую роль и действовать в соответствии с ней, т. е. стать революционным субъектом. Акцент здесь стоит на «спонтанной» революционной позиции пролетариата: партия играет исключительно май[?]ическую роль, передавая по возможности чисто формальный разговор пролетариата между Классом–в–Себе и Классом–для–Себя. Тем не менее, как часто бывает у Гегеля, «истина» этого посредничества состоит в том, что по ходу его развития его начальная точка, предполагаемая идентичность, фальсифицируется. В первой форме эта предполагаемая идентичность суть тождество пролетариата и истории, т. е. представление о революционной миссии всемирного освобождения вписано в сами объективные социальные условия пролетариата как «универсального класса», как класса, чьи настоящие частные интересы перекрывают всеобщие интересы человечества, а третий член, партия, — просто оператор актуализации этого универсального потенциала частного. Ощутимым же в этом посредничестве оказывается то, что пролетариат «спонтанно» может прийти к профсоюзно–реформистской позиции, и мы, таким образом, приходим к ленинскому выводу: создание революционного субъекта возможно лишь тогда, когда тот, кто будет принадлежать кругу партийных интеллектуалов, прозреет во внутренней логике исторического процесса и затем передаст свое знание пролетариату. В этой второй форме роль пролетариата сводится к посредничеству между историей (глобальным историческим процессом) и научным её пониманием, воплощенным в партии: проникая в логику исторического процесса, партия «научает» рабочих обращению с инструментами достижения исторической цели. Предполагаемая идентичность в этой второй форме — тождество Универсального и Единичного, истории и партии, т. е. понятие, с помощью которого партия как «коллективный разум» эффективно овладевает знанием исторического процесса. Это предположение лучше всего передается совмещением «субъективного» и «объективного» аспектов: понятие истории как объективного процесса, детерминированного законами необходимости, строго соотносится с понятием разума партии как объекта, чье привилегированное знание — прозрение — этого процесса позволяет ему вмешиваться в этот процесс и направлять его. Как и следовало ожидать, именно это предположение оказывается сфальсифицированным в ходе второго опосредования; и именно оно и приводит нас к третьей, «сталинистской» форме опосредования. к «истине» всего движения, в котором Универсальное (сама история) служит посредником между пролетариатом и партией. В упрощенной форме это выглядит так: партия просто пользуется ссылками на историю — ее доктрина, «диалектический и исторический материализм», обеспечивая привилегированный доступ к «неизбежной необходимости исторического прогресса», позволяет ей узаконить свое действительное господство над рабочим классом, свою собственную его эксплуатацию. Так оппортунистическая прагматическая партия обзаводится своего рода «онтологическим прикрытием» [20]. С точки зрения спекулятивного совпадения противоположностей, или «бесконечного суждения», в котором высшее совпадает с низшим, то, что советские трудящиеся пробуждались по утрам под звуки громкоговорителей, из которых доносились первые аккорды «Интернационала» «Вставай, проклятьем заклейменный…», кажется весьма ироничным. Последняя «правда» их изначального патетического значения («Сопротивляйся, разбей сковывающие тебя цепи ради свободы») обретает свой буквальный смысл, призыв к уставшим рабочим: «Вставайте, рабы, и начинайте работать на нас, партийную номенклатуру!»…
С точки зрения логики партийного руководства, ключевой в этом пассаже оказывается так называемая «ленинская ярость»: тот трагический переплет, в который он попал в последние годы жизни, когда понял, что все идет не так, когда он, искренне пытаясь предотвратить ошибки, создавал новые комитеты, возвращался к террору, к контролю за чрезмерным ростом «бюрократии», к тому, чтобы сделать государстве более «прозрачным», подчинить его своей воле», однако все эти попытки лишь оборачивались против него. Как человек, Ленин, несомненно, стоял на определенных радикальных этических позициях. После первого серьезного удара, 25 мая 1922 года, когда правая часть его тела оказалась парализованной, когда он на время даже лишился дара речи, Ленин понял, что его активная политическая жизнь подошла к концу и попросил у Сталина яд, чтобы покончить с собой. Сталин доложил об этом в Политбюро, которое проголосовало против желания Ленина [21]. Разве этот факт не свидетельствует об уникальной революционной позиции полной самоинструментализации во имя истории? В тот момент, когда понимаешь, что пользы революционной борьбе уже не принести, можно спокойно принять смерть. Вопрос о «беззаботном наслаждении старостью» просто не стоит [22]. (Поскольку Ленин мог оправдать свою жизнь только в свете пользы делу Революции, можно представить себе, насколько чудовищной выглядела для него перспектива существования в виде обездвиженного овоща, наблюдающего, как дела идут все хуже и хуже, но вмешаться — никакой возможности!) То же самое касается и идеи превратить его похороны в большое государственное событие, которая казалась ему отвратительной. Дело заключалось не в особенной скромности Ленина, а в том, что он был совершенно безразличен к судьбе своего тела после смерти; (индивидуальное) тело было для него малозначимым остатком, который можно безжалостно эксплуатировать, а затем за ненадобностью выбросить [23]. С переходом от ленинизма к сталинизму мы отмечаем переворот в статусе тела. Теперь это не инструмент, к которому относятся с безразличием, а «объективно прекрасное» тело, тело как возвышенный объект, требующий вечного сохранения (в мавзолее). В принципиально важной статье «О проблеме прекрасного в советском искусстве» 1950 года советский критик Г. Недошивин утверждает:
Среди всего богатства прекрасного материала жизни первое место занимают образы наших великих вождей Ленина и Сталина. Возвышенная красота образов всенародных вождей <…> есть база совпадения «прекрасного» и «истинного» в искусстве социалистического реализма [24].
Как же нам понимать эту логику, которая (хоть это может и покажется забавным) действует и поныне в Северной Корее в связи с Ким Чен Иром? [25]. Характеристики вождей не имеют никакого отношения к их действительным качествам. Здесь действует та же логика, что и в изысканных романах о Прекрасной Даме, к которой, подчеркивает Лакан, обращаются как к некоему абстрактному Идеалу, так что, «как подметили писатели, все поэты, похоже, обращаются к одному и тому же лицу <…> В этом поэтическом пространстве женский объект лишен какой бы то ни было реальной субстанции» [26]. Эта абстрактная Дама указывает на абстракцию, принадлежащую холодному, отстраненному, бесчеловечному существу. Дама никогда не бывает горячей, страстной, понимающей подругой.
Посредством своего рода присущей искусству сублимации поэтическое творение состоит в представлении объекта, который я могу описать исключительно как ужасное, бесчеловечное существо. Даму никогда не характеризуют какие–либо реальные, конкретные достоинства типа мудрости, чести или знаний. Если её описывают мудрой, то лишь потому, что она воплощает некую нематериальную мудрость, или потому, что она в большей мере представляет эти функции, чем пользуется ими. Она предельно непостоянна в своем обращении с теми, кто ей служит [27].
Разве не относится то же и к сталинистским лидерам? Разве тот, кого воспринимают возвышенным и мудрым, также не столько «пользуется этими функциями, сколько представляет их»? Никто не станет утверждать, что Маленков, Берия или Хрущев были образцами мужской красоты. Они просто «представляли» функцию красоты… (В отличие от сталинистских вождей, психоаналитик «объективно» уродлив, даже если на самом деле он красивый или сексуально привлекательный человек: поскольку психоаналитик занимает невозможное место гнусного, экскрементального остатка символического порядка, он «представляет» функцию уродства.) В этом отношении обозначение сталинистского вождя как «возвышенного» следует понимать буквально, в строго лакановском смысле: его превозносимая мудрость, щедрость, человеческое тепло и т. д. суть чистые репрезентации, воплощаемые вождем, которого мы «можем описать лишь как чудовищное, бесчеловечное существо», не как подчиняющийся Закону символический авторитет, но как капризную Вещь, которая «предельно непостоянна в своем обращении с теми, кто ей служит». Ценой, которую сталинистский лидер платит за свое возвышение до уровня возвышенного объекта красоты, таким образом, становится его радикальное «отчуждение»: как и в случае с Дамой, с «реальным человеком» обращаются как с придатком фетишизированного, восхваляемого общественного Образа. Неудивительно, что в официальной фотографии столь часто прибегали к ретушированию; причем зачастую делали это настолько неумело, настолько откровенно, что трудно было поверить в отсутствие в этом умысла. Ретушь как бы сигнализировала: «реальный человек» со всеми своими идиосинкразиями замещается отчужденным деревянным идолом. (О Ким Чен Ире ходят слухи, что на самом деле пару лет назад он погиб в автомобильной катастрофе и в последние годы во время редких появлений на публике его замещает двойник, так что толпа может поймать взгляд объекта своего поклонения. Разве этот пример не служит наилучшим подтверждением того факта, что «реальная личность» сталинистского вождя не несет никакого значения, поддается замещению, поскольку не важно, «реальный» ли это вождь или не облеченный никакой настоящей властью его двойник?) Не соотносится ли эта практика превознесения обыкновенной, заурядной фигуры в идеальную область Прекрасного, т. к сведения красоты к чисто функциональному понятию, с модернистским возвышением повседневного «уродства» экскрементального объекта до уровня художественного творения? [28]
В основе этого превращения коммунистического тела в тело возвышенное лежит специфическое понятие субъективации, которое можно сравнить с традиционным мученичеством ранних христиан [29]. В раннехристианской мысли общепринятое, идущее от Блаженного Августина представление о теле — источнике искушений, которые нужно преодолеть на пути к чистоте Души, дополнялось несколько иной логикой, а именно логикой аскетов и мучеников (мученик = очевидец, человек, несущий в своих страданиях свидетельство об истине Господа). В этом втором случае тело не преодолевается, не предается забвению, но продолжает в самом своем материальном присутствии служить зеркалом, артикуляцией, посредником внутренней духовной истины: отметки на нем (раны, шрамы и т. д.) суть знаки истинной Веры. Подобное можно сказать и о мучимом коммунистическом теле. Достаточно привести описания ужасных пыток в гестапо коммуниста Брозовского из романа Отто Готше «Флаг из Кривого Рога», романа, ставшего одним из основополагающих литературных произведений Германской Демократической Республики:
Он висел на растянутых вдоль стен, спутанных веревках; он стонал, его неуправляемое тело с вывихнутыми распухшими красными суставами свисало с оконной рамы.
Все, что от него осталось, — коммунист Брозовский. Ребра, кости, мускулатура ему уже не принадлежали. Они могли забрать его тело, делать с ним все что угодно — сжечь, сломать, повесить. Только мозг и мысли по–прежнему принадлежали коммунисту Брозовскому. Он хранил молчание [30].
Разве не сталкиваемся мы в этой очистительной пытке, в страдании с рождением чистой субъективности? После того как тело Брозовского было полностью искалечено, кости переломаны, осталась лишь чистая субъективность, Брозовский как чистое коммунистическое коги[?]. Разве не напоминает это высшую форму коммунистического жертвоприношения? Впрочем, есть и куда более радикальные примеры сталинистского самопожертвования. Например, в Камбодже у Красных кхмеров не было публичных процессов, ритуализированных публичных самообвинений, сравнимых с показательными сталинскими процессами: люди просто исчезали в ночи, их просто куда–то утаскивали, и никто не осмеливался больше о них говорить или задавать по их поводу вопросы [31]. Дело не в том, что Ангка (Организация) хочет сохранить благопристойный вид, но в том, что они откровенно игнорировали символические правила. Объясняется это тем, что Коммунистическая партия сама публично отказалась от своего существования: до конца 1976 года существование партии и структура власти сохранялись как самая большая тайна, т. е. сама партия вела себя подобно вагнеровскому Лоэнгрину; она обладает всей полнотой власти лишь до тех пор, пока сохраняет анонимность Ангка, пока имя ее (Коммунистическая партия) не звучит на людях, не произносится, не признается. Только в 1977 году режим признал существование партии, и Пол Пот предстал как ее лидер («Брат № 1»). Так что до 1977 года перед нами парадокс властной конструкции, в которой есть общественная структура и ее непристойное скрытое двойное наложение: вместо обычной общественно–символической структуры власти, поддерживаемой непристойной невидимой сетью аппаратов, перед нами общественная структура власти, которая прямо относится к себе как к анонимному, тайному, скрытому телу. Как таковой режим Красных кхмеров может служить своего рода политическим эквивалентом знаменитому описанию героини Линды Фьорентино, необычайно злой роковой женщины из триллера в стиле неонуар режиссера Джона Даля «Последнее совращение». Как говорит об этом фильме рекламный плакат, «у большинства есть темная сторона… у нее же другой стороны не было». Подобным образом, в то время как у каждого политического режима есть своя темная сторона грязных тайных ритуалов и аппаратов, у Красных кхмеров ничего другого и не было… Возможно, это и есть «тоталитаризм» в его самой чистой чистоте. Как же такое случилось?
Ключевым действием сталинской Коммунистической партии стало официальное освящение ее Истории (неудивительно, что сталинской книгой была «История ВКП(б)»). Только в этот момент партия символически и начала свое существование. Что касается Коммунистической партии Камбоджи, то она должна была оставаться «нелегальной» до тех пор, пока не была решена ключевая проблема ее истории: когда именно состоялся учредительный конгресс? В 1951 году была основана Коммунистическая партия Камбоджи, но лишь как подразделение господствовавшей во Вьетнаме Индокитайской Коммунистической партии. «Автономная» же Компартия Камбоджи была создана в 1960 году. Какую же дату выбрать? До середины 1970–х Красные кхмеры нуждались в поддержке Вьетнама, хотя к этому моменту они стали ярыми сепаратистами–националистами. Официальный историк кхмеров Кео Меас принял решение вполне в духе Фрейда — решение–компромисс. Он объявил официальным днем рождения Партии 30 сентября 1951 года. 1951–й — год основания камбоджийского крыла КП Камбоджи, а 30 сентября — день конгресса (1960 г.) независимой КП Камбоджи. В этот момент компромисс был необходим для выживания партии. (С историей здесь, конечно, обращаются как с областью чистых значений, невзирая на факты: выбранная дата отражает не историческую точность, но политический баланс на тот момент.) В 1976 году Камбоджа Красных кхмеров обрела достаточно сил, чтобы порвать с Вьетнамом и пойти собственным независимым курсом. Этот момент и был отмечен изменением даты основания партии: история была переписана и подлинной датой основания независимой КП Камбоджи признали 30 сентября 1960 г. Однако здесь и появляется на горизонте настоящий сталинистский тупик: как же тогда объяснить тот непонятный момент, что и поныне КП публично называет другую дату своего основания? Чтобы публично признать тот факт, что предыдущая дата была продиктована прагматическими соображениями, был предпринят невероятный политический, оппортунистический маневр: единственно верным логическим решением стало решение раскрыть заговор. Ничего удивительного, значит, нет в том, что Кео Меаса арестовали и под пытками заставили признаться (по иронии судьбы его признание датировано 30 сентября 1976 года) в том, что он предложил компромиссный вариант даты для того, чтобы скрыть существование подпольной коммунистической партии, задача которой заключалась в свержении настоящей, истинной КП Камбоджи…
Разве эта история не служит лучшим примером собственно паранойяльного удвоения? Партия должна оставаться в подполье, тайной организацией, и может появиться на людях только тогда, когда отрицает, экстернализует это подпольное существование в его жутком удвоении, в еще одной параллельной тайной партии. Не был ли этот жест 1976–1977 гг. подобием шеллинговскому акту принятия решения, которое отделяет существующую символическую реальность (официальное публичное повествование) от еще одной истории, вынесенной в несуществующее «вечное прошлое»? [32] Теперь мы также можем понять логику высшего коммунистического жертвоприношения: то, что Кео Меас сознался в измене, позволило партии стереть следы прошлых оппортунистических компромиссов и выстроить связную историю своего происхождения. Однако в свое время компромиссы эти были совершенно необходимы: настоящий герой тот, кто идет на необходимый компромисс, понимая, что в дальнейшем развитии этот компромисс отвергнут как измену, а его самого ликвидируют. Вот где высшее служение делу партии!
В этой паранойяльной вселенной понятие симптома (в смысле свойственного знака, указывающего на скрытое содержание) становится универсальным: в сталинистском дискурсе «симптом» был не только знаком некой (идеологической) болезни или отклонения от правильного курса партии, но также знаком правильной ориентации: и в этом смысле можно было говорить о «здоровых симптомах», что мы и видим в критике Пятой симфонии Шостаковича главным сталинским композитором Исааком Дунаевским: «Несмотря на совершенную технику Пятой симфонии <…>, не скажешь, чтобы она проявляла все здоровые симптомы для развития советской симфонической музыки» [33]. Почему используется слово «симптом?» Потому что никогда нельзя быть уверенным в том, что позитивная черта на самом деле является тем, чем она представляется: а что, если некто просто прикидывается верным партийной линии лишь для того, чтобы скрыть свои настоящие контрреволюционные намерения? Подобный парадокс можно обнаружить уже в христианской диалектике Закона сверх-я и его нарушения (греха): эта диалектика коренится не только в том факте, что сам Закон побуждает нарушить его, рождает желание его ниспровергнуть: наше послушание Закону само по себе противоестественно, носит спонтанный характер, всегда уже опосредовано (вытесненным) желанием нарушить Закон. Подчиняясь Закону, мы бросаем все силы на отчаянную борьбу с собственным желанием обойти его; и чем строже мы подчиняемся Закону, тем больше мы свидетельствуем о том, что в глубине души чувствуем давление желания согрешить. Так исходящее от сверх-я чувство вины показывает свою правоту: чем в большей мере подчиняемся мы Закону; тем сильнее чувство вины, поскольку подчинение является действенной защитой от нашего грешного желания, и в христианстве желание (намерение) согрешить равнозначно самому деянию: возжелав жену соседа твоего, ты уже совершил прелюбодеяние. Это христианское сверх-я, возможно, лучше всего передано в строке T. С Элиота из его поэмы «Убийство в соборе» «Последнее звучало всех подлее: Творить добро, дурную цель лелея» [34] («the highest form of treason: to do the right thing for the wrong reason»), — даже когда поступаешь правильно, то делаешь это ради противодействия и тем самым скрываешь фундаментальную подлость своей истинной природы…[35]
Возможно, что обращение к Николя Мальбраншу поможет нам лучше понять эту процедуру. Достижение Мальбранша заключалось в «объектификации»/«овеществленни» собственно этического измерения. В общепринятой версии современности этическое переживание ограничивается областью «субъективных ценностей», противопоставленных «объективным фактам». Соглашаясь с различением «субъективного» и «объективного», «значений» и «фактов», Мальбранш переносит его в пределы собственно этики, как раскол между «субъективной» Добродетелью и «объективной» Благодатью: я могу быть «субъективно» добродетельным, но при этом нет никакой гарантии «объективного» спасения в глазах Господа: распределение Благодати, которая принимает решение о моем спасении, зависит целиком и полностью от «объективных» законов, в точности соответствующих законам материальной Природы [36]. Разве не сталкиваемся мы здесь с точно такой же объективизацией в показательных сталинских процессах? Я должен быть субъективно честен, но если меня не коснулась Благодать прозрения в неизбежности коммунизма, то вся моя этическая целостность будет всего лишь мелкобуржуазной честностью, противопоставленной Коммунистическим Основам, и, вопреки всей моей субъективной честности. я навеки буду «объективно виновен». Когда от обвиняемого требовали «искреннего признания» в преступлениях (как единственного способа смягчить приговор суда), то «искренность», о которой шла речь, не имела ничего общего с психологической искренностью, она была целиком и полностью «объективирована» — «искренность» измерялась числом близких друзей и родственников, которых обвиняемый уже сдал. (И, между прочим, разве не то же самое происходило с антикоммунистическими слушаниями по делу Маккарти в Голливуде, на которых «искренность» антикоммунизма свидетеля измерялась ее или его готовностью назвать имена?) Эти парадоксы никак нельзя отбросить в сторону как простые махинации тоталитарной власти — они содержат по–настоящему трагическое измерение, которым пренебрегают обычные либеральные обличители тоталитаризма.
5. СТАЛИН-АБРАХАМ ПРОТИВ БУХАРИНА-АЙЗАКА
Как же тогда субъективируется это чудовищное положение? Как показал Жак Лакан, современные условия, характеризующиеся нехваткой трагедии, передают это положение куда более жутким образом. Дело в том, что, вопреки всем ужасам ГУЛага и Холокоста, с приходом капитализма собственно для трагедий места не остается — жертвы концентрационных лагерей или показательных сталинских процессов оказались не совсем в трагических условиях, поскольку положение их содержало комический или, по крайней мере, нелепый оттенок, а потому условия эти — еще более ужасны, причем ужас этот настолько глубок, что его уже невозможно «вознести» до трагического положения, и по этой причине его можно достичь лишь через жуткое уподобление/удвоение самой пародии. Образцовый случай такой непотребной комичности ужаса по ту сторону трагедии содержится в сталинистском дискурсе. Кафкианский характер жуткого смеха, который раздается среди публики во время последней бухаринской речи перед Центральным Комитетом 23 февраля 1937 г., связан с абсолютным расхождением между предельной серьезностью Бухарина он говорит о возможном самоубийстве, о том, что он его не совершил, дабы не нанести ущерб репутации партии, что уж лучше объявить голодную забастовку до самой смерти) и реакцией членов Центрального Комитета:
Бухарин: Я не могу выстрелить из револьвера, чтобы люди не смогли сказать, что я покончил с собой, дабы навредить партии. Но если я умру как бы от болезни, что вы тогда потеряете? (Смех).
Голоса: Шантажист!
Ворошилов: Ты — подлец! Какой подонок! Как ты смеешь так говорить!
Бухарин: Но вы должны понять — мне очень тяжело жить дальше.
Сталин: А нам легко?!
Ворошилов: Вы слышали такое: «Я не застрелюсь, а умру»?!
Бухарин: Легко вам говорить обо мне. Вы–то, в конце концов, что потеряете? Смотрите, если я саботажник, сукин сын, зачем тогда меня жалеть? Я ничего не прошу. Я лишь говорю, что думаю, что со мной. Если это влечет за собой какой–либо политический ущерб, хотя бы самый маленький, тогда, никаких вопросов, я сделаю, что скажете. (Смех.) Чего вы смеетесь? Ничего смешного нет… [37]
Разве не сталкиваемся мы здесь с воплощенной в жизнь жуткой логикой первого допроса Йозефа К. в «Процессе»?
— Значит, так, — проговорил следователь и скорее утвердительно, чем вопросительно, сказал К,: — Вы маляр?
— Нет, — сказал К, — я старший прокурист крупного банка.
В ответ на его слова вся группа стала хохотать, да так заразительно, что К. и сам расхохотался. Люди хлопали себя по коленкам, их трясло, как в припадке неукротимого кашля [38].
Провоцирующий смех диссонанс здесь радикален: со сталинистской точки зрения, самоубийство лишено какой–либо субъективной аутентичности, оно просто инструментализовано, сведено к одной из «наиболее хитроумных» форм контрреволюционного заговора. Молотов ясно об этом заявил 4 декабря 1936 года: «Самоубийство Томского было заговором, хорошо спланированным актом. Томский обо всем договорился, и не с одним человеком, а с несколькими, покончить самоубийством и, тем самым, нанести удар по Центральному Комитету» [39]. Позже на том же самом пленуме Центрального Комитета Сталин повторит: «Мы видим здесь один из крайних, наиболее остроумных и простейших способов, которым можно плюнуть на партию и обмануть ее в последний раз. перед смертью, прежде чем покинуть этот мир. Такова, товарищ Бухарин, скрытая причина этих последних самоубийств» [40]. Это крайнее отрицание субъективности в открытой форме передается следующим кафкианским ответом Сталина Бухарину:
Сталин: Мы тебе верили, мы наградили тебя орденом Ленина, мы продвигали тебя вверх по службе, но мы ошиблись. Не так ли, товарищ Бухарин?
Бухарин: Правда, правда. Я сам сказал то же самое.
Сталин (перефразируя и передразнивая Бухарина): Можете пойти дальше и пристрелить меня, если хотите. Это по вашей части. Но я не хочу, чтобы моя честь была запятнана. И какие же свидетельства он сегодня приводит? Вот что получается, товарищ Бухарин.
Бухарин: Но я не могу признать, ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра, чего–либо, в чем я не был бы виновен. (Шум в зале.)
Сталин: Я ничего о тебе лично не говорил [41].
В этой вселенной, конечно же, нет места даже для наиболее формального и пустого права субъективности, на котором продолжает настаивать Бухарин:
Бухарин: <…> Я признаю, что с 1930 по 1932 год, совершил множество политических грехов. Я понял это. Но с той же силой, с какой я признаю свою настоящую вину, с той же самой силой я отрицаю вину, которую мне приписывают, и всегда буду ее отрицать. И не потому, что она имеет только личное значение, но и потому, что я верю, что никто ни при каких обстоятельствах не возьмет на себя ничего лишнего, особенно, когда партии это не нужно, когда стране это не нужно, когда мне это не нужно. (Шум в зале, смех).
<…>
Вся трагедия моего положения заключается в том, что этот Пятаков и ему подобные настолько отравляют атмосферу создают атмосферу в которой никто не верит человеческим чувствам, ни эмоциям, ни движениям души, ни слезам. (Смех.) Многие проявления человеческих чувств, которые ранее представляли доказательства — и ничего постыдного в этом не было, — сегодня потеряли свое значение и свою силу.
Каганович: Вы слишком двуличничаете!
Бухарин: Товарищи, позвольте мне сказать вам по поводу случившегося…
Хлоплянкин: Пора посадить вас в тюрьму!
Бухарин: Что?
Хлоплянкин: Вас давно уже надо было посадить в тюрьму!
Бухарин: Ну давайте, бросайте меня в тюрьму. И вы думаете, что ваш вопль: «Бросьте его в тюрьму!» заставит меня говорить иначе? Нет [42].
Центральный Комитет не волновала ни сторона объективной истины, ни субъективная искренность слов Бухарина о его невиновности. Интересен был лишь сигнал, который посылает партии и обществу его нежелание сознаваться; «сигнал» о том, что, в конечном счете, весь «троцкистско–зиновьевский процесс» — это ритуализованн ый фарс. Отказываясь сознаваться, Бухарин и Рыков подавали сигналы своим единомышленникам, а именно: работайте в полной тайне. Если вас поймают, не сознавайтесь. Такова их политика. Своим запирательством они не только отбрасывают тень сомнения на следствие. Запираясь, они также неизбежно бросают тень на троцкистско–зиновьевский процесс [43].
И все же Бухарин героически стоял на своей субъективности до конца. В письме Сталину от 10 декабря 1937 года, поясняя, что готов публично подчиниться («Дабы избежать какого–либо недопонимания, я скажу вам с самого начала, что в том, что касается мира (общества) в целом, <…> я не намеревался отрекаться ни от чего из мною написанного (из признаний)» [44], он по–прежнему отчаянно взывает к нему как к человеку, во всеуслышание заявившему о его невиновности:
О боже, если бы только был такой прибор, который позволил бы вам увидеть мою истерзанную, израненную душу! Если бы вы только могли увидеть, насколько я привязан к вам душой и телом <…>. Ну да хватит «психологии» — простите меня. Ангел не появится, чтобы выбить меч из рук Авраама. Моя судьба предрешена <…>. Моя совесть теперь чиста перед вами, Коба. Последний раз прошу у вас прощения (только у вашего сердца). Именно поэтому я обнимаю вас в своем сознании. Прощайте и не забывайте вашего израненного Н. Бухарина [45].
Травму эту Бухарину наносит не ритуал публичного унижения и наказания, но возможность того, что Сталин может на самом деле верить в его вину:
Есть нечто величественное и храброе в политической идее всеобщего очищения <…>. Мне прекрасно известно, что великие планы, великие идеи и великие интересы превыше всего, и мне известно, что было бы мелочно с моей стороны взваливать вопросы о себе наравне с всемирно–историческим процессом на ваши плечи. Но именно в этом моя глубочайшая тревога, и я нахожусь перед моим боссом, агонизирующий парадокс.
<…> Если бы я был абсолютно уверен в том, что ваши мысли следуют этим путем, тогда я был бы куда более спокоен. Ну и что?! Если так должно быть, то пусть будет! Но поверьте мне, мое сердце разрывается, когда я думаю, что вы можете считать меня виновным в этих преступлениях и что в своем сердце вы думаете, что я на самом деле виновен в этих ужасах. В этом случае, что это значит? [46]
Стоит очень внимательно вчитаться в эти строки. В рамках стандартной логики вины и ответственности простить Сталина можно в том случае, если он по–настоящему верит в вину Бухарина, но ему никак нельзя простить этический грех, если он знает о невиновности Бухарина. Бухарин переворачивает эти отношения: если Сталин обвиняет его в чудовищных преступлениях, зная, что все обвинения сфабрикованы, то ведет он себя как настоящий большевик, поскольку ставит нужды партии выше нужд отдельного человека; и Бухарин целиком и полностью разделяет эту позицию. Совершенно невыносимой для Бухарина оказывается ситуация, при которой Сталин действительно верит в его вину.
Бухарин, таким образом, разделяет логику исповеди, развернутую Фуко, — как будто сталинский призыв исповедаться, по сути дела, направлен на глубинный самоанализ обвиняемого, который должен помочь ему откопать на дне души самые сокровенные тайны. Точнее говоря, фатальной ошибкой Бухарина была мысль, что ему удастся убить двух зайцев сразу: до самого конца, во всеуслышание заявляя о своей преданности партии и лично товарищу Сталину, он не был готов отказаться хотя бы от частички субъективной автономии. Он был готов публично признать свою вину, если это нужно партии, но при этом хотел, чтобы во внутреннем кругу, среди товарищей, всем было ясно, что на самом деле он невиновен, что ему лишь приходится уступить и сыграть эту вынужденную роль в публичном ритуале. Именно этого партия ему дать и не может, ритуал утрачивает свою перформативную силу в тот момент, когда он открыто обозначается как просто ритуал. Неудивительно, что когда Бухарин и другие обвиняемые настаивают на своей невиновности, Центральный Комитет принимает это за недопустимые мучения, доставляемые партии обвиняемым: не партия мучает обвиняемого, но руководство партии мучимо теми, кто отказывается исповедаться в своих преступлениях. Некоторые члены Центрального Комитета даже хвалят Сталина за его «ангельское терпение», позволяющее обвиняемым годами мучить партию вместо того, чтобы целиком сознаться в том, что они — подонки, гадины, которых давно пора было раздавить.
Межлаук: Должен вам сказать, что мы вас не мучаем. Напротив, вы мучаете нас самым низким, самым недопустимым образом.
Голоса: Верно! Верно!
<…>
Межлаук: Вы мучаете партию долгие–долгие годы, и только благодаря ангельскому терпению товарища Сталина мы не растерзали вас за вашу подрывную террористическую деятельность. <…> Жалкие трусы, низкие трусы. Нет вам места ни в Центральном Комитете, ни в партии. Ваше место в руках следственных органов, и там вы будете говорить по–другому, потому что здесь, на пленуме, вам не хватает самой простой смелости, которой оказалось достаточно у одного из ваших учеников, Зайцева (имя которого вы извратили), когда он сказал, говоря о себе: «Я — гадина, и я прошу Советскую власть раздавить меня как гадину» [47].
Вина Бухарина, таким образом, носит чисто формальный характер. Это не вина за совершенные преступления, в которых его обвиняют, но вина человека, который настаивает на своей позиции субъективной автономии, находясь на которой вину можно обсуждать на уровне фактов, т. е. на позиции, которая открыто утверждает разрыв между реальностью и ритуалом исповеди. Крайней формой предательства для Центрального Комитета является привязанность к минимуму личной автономии. Бухарин, по сути дела, говорит Центральному Комитету: «Я готов дать вам все, но не это (пустую форму личной автономии)!» Разумеется, именно это нужно Центральному Комитету больше, чем что–либо другое. Интересно, что субъективная аутентичность и расследование объективных фактов здесь не противопоставляются, но связываются как две стороны одного и того же вероломного поведения, сопротивляющегося партийному ритуалу.
Последнее доказательство того, что такого рода пренебрежение фактами обладает определенными парадоксальными этическими достоинствами, мы обнаруживаем в совершенно противоположном, «позитивном» случае, например в истории с Этель и Юлиусом Розенберг, которые, хотя и были виновны в шпионаже, как это показывают недавно рассекреченные материалы, все же продолжали героически настаивать на своей невиновности до самого конца, до камеры смертников, понимая при этом, что признание могло бы спасти им жизнь. Они как бы «искренне лгали»: будучи на самом деле виновными, в «более глубоком» смысле они были невиновны, а именно в том же смысле, в каком были виновны обвиняемые сталинских процессов, которые фактически были невиновны. Итак, расставим все по местам: в конечном счете, упрек членов Центрального Комитета Бухарину заключался в том, что Бухарин не был достаточно безжалостным, что он сохранял черты человеческой жалости, «мягкосердечия».
Ворошилов: Бухарин искренний и честный человек, но я боюсь за Бухарина не меньше, чем за Томского и Рыкова. Почему я боюсь за Бухарина? Потому что он сердобольный человек. Не знаю, хорошо это или плохо, но в нашей нынешней ситуации это мягкосердечие не нужно. Оно плохой помощник и советчик в делах политики, потому что оно. это мягкосердечие, может разрушить не только самого мягкосердечного человека, но также и партийные основы. Бухарин очень сердобольный человек [48].
В кантовском смысле эта «сердобольность» (в котором можно расслышать отдаленное эхо ленинской реакции на «Аппассионату» Бетховена: не следует слишком часто слушать такую музыку; потому что она размягчает, после нее может появиться желание крепко обнять врага вместо того, чтобы его безжалостно уничтожить…), конечно же, оказывается остатком «патологической» сентиментальности, которая затуманивает чисто этическую позицию субъекта. И здесь, в этот ключевой момент, крайне важно воспротивиться «гуманистическому» искушению противопоставить безжалостную сталинистскую самоинструментализацию бухаринской естественной доброте, чуткому пониманию и состраданию общечеловеческой хрупкости, как будто проблема сталинских коммунистов коренится в их безжалостности, в самоустранении, самопожертвовании делу коммунизма, превратившему их в чудовищные этические автоматы и заставившему их забыть об общечеловеческих чувствах и сострадании. Напротив, проблема сталинских коммунистов заключалась в том, что они не были достаточно «чистыми», что их захватила перверсивная экономика долга: «Я знаю, что это тяжело и, может быть, мучительно, но что мне остается делать, таков мой долг…» Обычный девиз этической программы — «Нет оправдания невыполненному долгу!»; и хотя «Du kannst, denn du sollst!» («Можешь, значит, должен!») Канта на первый взгляд предлагает новый вариант этого девиза, имплицитно он дополняет его куда более жуткой инверсией: «Нет оправдания выполнению долга!» [49] Ссылку на долг как на оправдание наших действий следует отвергнуть как лицемерную: достаточно вспомнить всем известный пример с учителем–садистом, который мучает своих учеников беспощадной дисциплиной и пытками. Оправданием ему (и другим) служат слова: «Мне очень тяжело так поступать с бедными детками, но что мне остается, ведь таков мой долг!» Еще более уместным кажется пример сталинского коммуниста, который любит человечество, но совершает при этом чудовищные чистки и экзекуции», когда он этим занимается, сердце его разрывается, но он ничего не может поделать, поскольку таков его Долг перед Прогрессом… Мы сталкиваемся здесь с собственно перверсивным подходом приспособления позиции чистого инструмента Воли Большого Другого: я не несу за это ответственности, не я это делаю, я лишь инструмент высшей Исторической Необходимости… Непристойное наслаждение этой ситуацией порождается тем фактом, что я считаю себя оправданным за то, что делаю. Замечательная ситуация: я причиняю другому боль в полной уверенности, что не несу за это ответственности, а просто исполняю Волю Другого. Как раз это и запрещает кантовская этика. Эта позиция садиста–извращенца дает ответ на вопрос, как субъект может быть виновным, когда он просто действует в соответствии с налагаемой на него извне необходимостью? Субъективно допуская эту «объективную необходимость», он извлекает наслаждение из того, что ему навязано [50]. Итак, в своей самой радикальной форме кантовская этика не «садистична», она запрещает как раз–таки позицию десадовского исполнителя. О чем нам это говорит в связи с соответствующим статусом холодности у Канта и де Сада? Вывод к которому мы приходим, не в том, что де Сад привязан к жестокой холодности, в то время как Кант так или иначе оставляет место человеческому состраданию, но как раз в обратном: именно кантовский субъект совершенно холоден (апатичен), а садист недостаточно «холоден», его «апатия» фальшива, это — уловка, скрывающая всю страстную вовлеченность в наслаждение Другого. Ну и, конечно же, то же самое происходит при переходе от Ленина к Сталину: революционно–политическим контрапунктом «Канту с де Садом» Лакана будет несомненно «Ленин со Сталиным». Иначе говоря, только с появлением Сталина ленинский революционный субъект превращается в перверсивный объект- инструмент наслаждения Другого.
Давайте проясним это место, исходя из исторического и классового сознания» Лукача, его попытки развернуть философскую позицию ленинской революционной практики. Можно ли отбросить Лукача в сторону как защитника псевдогегелевского суждения, утверждающего, что пролетариат — это абсолютный субъект–объект истории? Давайте сосредоточимся на конкретном политическом фоне истории и классового сознания, о котором Лукач продолжает говорить как о целиком и полностью революционном. Говоря грубо и упрощенно, у революционных сил России в 1917 году, в трудной ситуации, в которой буржуазия оказалась неспособной положить конец демократической революции, оставался следующий выбор.
С одной стороны, позиция меньшевиков заключалась в подчинении логике «объективных стадий развития». Сначала демократическая революция, а уж потом революция пролетарская. В водовороте событий 1917 года вместо того, чтобы извлечь выгоду из постепенного разложения государственного аппарата и воспользоваться повсеместно распространенным недовольством Временным правительством, все радикальные партии должны были сопротивляться искушению продвинуть этот момент еще дальше и объединить усилия с демократически настроенными буржуазными элементами, чтобы прийти к демократической революции, терпеливо ожидая, когда созреет революционная ситуация. С этой точки зрения социалистический переворот в 1917 году, когда ситуация еще не созрела, интенсифицировал регресс к примитивному террору… (Хотя этот страх катастрофических террористических последствий «незрелого» восстания может показаться предвестником грядущего сталинизма, идеология сталинизма по сути дела отмечает возвращение к «объективистской» логике необходимых стадий развития [51].)
С другой же стороны, ленинская позиция заключалась в том, чтобы взять препятствие силой, броситься в парадокс ситуации, ухватиться за возможность, ввязаться в борьбу, даже если ситуация еще не созрела, делая ставку на то, что само это преждевременное вторжение радикальным образом изменит объективную расстановку сил, в рамках которой изначальная ситуация кажется незрелой, т. е. это вторжение подорвет само положение, заявляющее о незрелости ситуации.
Здесь нужно быть внимательным, чтобы не упустить суть вопроса. Дело не в том, что, в отличие от меньшевиков и скептиков среди большевиков, Ленин полагал, что сложная ситуация 1917 года, т. е. рост недовольства среди широких масс и нерешительная политика Временного правительства, предлагает уникальный шанс «перепрыгнуть» через одну фазу (демократической буржуазной революции), «сгустить» две необходимые последующие стадии (демократической буржуазной революции и революции пролетарской) в одну. Такое представление все еще допускает принцип, лежащий в основе «объективистской–овеществленной» логики «необходимых стадий развития». Оно просто обеспечивает различный ритм течения в тех или иных конкретных обстоятельствах (т. е. в отдельных странах вторая стадия непосредственно следует за первой). В отличие от этого позиция Ленина обладала большей строгостью: в конечном счете, нет объективной лотки «необходимых стадий развития», поскольку «сложности», вытекающие из путаницы конкретной ситуации и/или из непредвиденных результатов «субъективного» вмешательства, всегда нарушают прямой курс движения. Как Ленин сумел прозорливо усмотреть, факт колониализма и сверхэксплуатации масс в Азии, Африке и Латинской Америке оказывает радикальное влияние на «смещение» «прямой» классовой борьбы в развитых капиталистических странах. Говорить о «классовой борьбе», не принимая во внимание колониализм, — пустая абстракция, которая, будучи переведенной на практическую политику, может завершиться лишь оправданием «цивилизующей» роли колониализма и, тем самым, подчиняя борьбу с колониализмом в Азии «подлинной» классовой борьбе в развитых государствах Запада, де–факто соглашаясь с тем, что буржуазия определяет условия классовой борьбы… (Опять–таки здесь можно усмотреть неожиданную близость альтюссеровской «сверхдетерминированности»: нет основного правила, ссылаясь на которое можно было бы найти «исключения» — в актуальной истории в известном смысле мы имеем дело только с исключениями.) Здесь возникает искушение прибегнуть к терминологии Лакана: ставка в этой альтернативе сделана на (не)существование Другого: меньшевики полагаются на всеохватывающие основания позитивной логики исторического развития, в то время как большевики (или, по крайней мере, Ленин) осознают, что «Другой не существует» — собственно политическая интервенция не производится в координатах некой основной глобальной матрицы, поскольку она добивается как раз–таки «реорганизации» этой глобальной матрицы.
Именно по этой причине и восторгается Лениным Лукач. Его Ленин — тот, кто писал по поводу раскола русской социал–демократии на большевиков и меньшевиков, когда две эти фракции устроили борьбу — за точную формулировку того, кого считать, согласно партийному Уставу, членом партии: «Иногда судьба всего многолетнего рабочего движения может быть решена одним–двумя словами партийной программы». Тем не менее, Ленин, завидев возможность революционного переворота в конце 1917 года, сказал: «История нам никогда не простит, если мы упустим эту возможность!» В более общем смысле история капитализма — суть длительная история того, как господствующая идеологически–политическая структура могла примирить (и урезонить взрывной край) движения и потребности, которые, казалось бы, угрожают самому ее существованию. Скажем, в течение длительного времени сексуальные вольнодумцы полагали, что моногамное сексуальное вытеснение необходимо для выживания капитализма. Теперь мы знаем, что капиталист может быть не только терпимым, но способен активно провоцировать и эксплуатировать различные формы «перверсивной» сексуальности, не говоря уже о промискуитетном потворстве сексуальным удовольствиям. Однако вывод из этого заключается не в том, что у капитализма бесконечная способность интегрировать и тем самым подстригать взрывные края всех частных потребностей, а в вопросе выбора времени, «схватывания момента». Какая–то конкретная потребность в определенный момент времени обладает глобальной взрывной силой. Она действует подобно метафорическому заместителю всемирной революции: если мы безоговорочно на ней настаиваем, система взрывается; если же мы долго выжидаем, метафорическое короткое замыкание между этой частной потребностью и всемирной катастрофой исчезает, и Система может с ехидно лицемерным удовлетворением спросить: «Ну что, этого добивались? Получайте!«Ничего радикального при этом не происходит. Искусство того, что Лукач называл Augenblick (момент, когда открывается возможность действия, вмешательства в ситуацию), — это искусство распознавания нужного момента и усиления конфликта до того, как Система сумеет приспособиться к нашим потребностям. В этом случае Лукач ближе к Грамши и конъектуралистам/контингентианцам, чем принято считать. Augenblick Лукача неожиданно близок тому что сегодня Алэн Бадью стремится сформулировать как Событие, как вторжение, которое невозможно объяснить в терминах предшествующих ему «объективных условий» [52]. Проблема аргументации Лукача состоит в отрицании сведения действия к «историческим обстоятельствам»: не существует нейтральных «объективных условий», т. е. (по Гегелю) все предпосылки уже минимальным образом установлены.
6. КОГДА ПАРТИЯ КОНЧАЕТ САМОУБИЙСТВОМ
Ключ к пониманию социальной динамики сталинизма хранится в одном исключении: в том уникальном моменте, когда во второй половине 1937 года его ритуалистический дискурс на пару месяцев нарушается. Иначе говоря, до 1937 года чистки и суды следовали образцу с четко установленными правилами, которые укрепляли номенклатуру, цементировали ее единство, объясняли неудачи ритуальным поиском козлов отпущения (голод, хаос в промышленности и тому подобное — результат деятельности троцкистских саботажников и т. д.). Однако когда террор достигает осенью 1937 года пика, Сталин сам нарушает имплицитные дискурсивные правила: в деструктивной оргии всех против всех номенклатура, включая высшие эшелоны, начинает пожирать и разрушать самое себя. Этот процесс получает точное название «Самоуничтожение большевиков» («Буря 1937 года: партия кончает самоубийством» — так звучит один из подзаголовков книги «Путь к террору»). Этот период «"слепого террора" отмечает временное помутнение дискурсивной стратегии. Дело выглядит так, будто сталинисты, узники своих собственных страхов и своей собственной железной дисциплины, решили, что они не будут больше править риторическими средствами» [53]. По этой причине тексты о массовых расстрелах в этот период больше не носят характер обычных нормативных/предписывающих ритуализованных заклинаний, призванных навести дисциплину в широких массах рядовых членов партии, да и населения страны в целом. Даже пустые символы врагов («троцкистов»), которые на предыдущих стадиях террора наполнялись новым содержанием, теперь практически отброшены в сторону: Теперь остались лишь движущиеся мишени в виде все новых и новых произвольных групп: различные «подозрительнее» национальности (немцы, поляки, эстонцы…), филателисты с зарубежными контактами, советские граждане, изучающие эсперанто, даже монгольские ламы. И все это лишь ради того, чтобы помочь палачам получать разнарядку на ликвидацию, которую должен выполнить каждый район (эту разнарядку устанавливало в Москве Политбюро как своего рода суррогатный продукт, напоминающий центральное планирование; еженедельная разнарядка для Дальнего Востока, например, после обсуждения тыла поднята с 1500 до 2000, а для Украины — снижена с 3500 до 3000). Даже паранойяльная ссылка на антисоветский заговор и то была здесь инструментализована в связи с этими разнарядками на ликвидацию. Сначала был формальный априорный акт определения разнарядки, а обнаружение меняющихся врагов (английских шпионов, троцкистов, саботажников…) сводилось, в конечном счете, к процедуре, которая позволяла исполнителям выявить тех, кто должен быть арестован и расстрелян:
Это был не прицел на врагов, а слепая ярость и паника. Она отражала нс контроль за событиями, но признание того, что у режима не хватает отлаженного механизма контроля. Это была не политика, а провал политики. Править исключительно силой — признак неудачи [54].
Итак, в этом месте мы переходим от языка как дискурса, языка как социальной коммуникации к языку как чистому инструменту. Вопреки общепринятому либеральному, взгляду, демонизирующему Сталина как извращенного Господина, систематически следующего своему дьявольскому плану массовых убийств, необходимо вновь и вновь подчеркивать то, что эти запредельные в своей жестокости деяния власти как власти над жизнью и смертью в точности совпадают (или скорее являются выражением способа существования) со своей противоположностью — абсолютной неспособностью управлять страной «нормальными» властными и административными мерами. Во время сталинского террора Политбюро действует в панике, отчаянно пытаясь совладать с событиями, управлять ими, поставить ситуацию под контроль. Такое имплицитное признание бессилия является также скрытой истиной об обожествлении сталинистского вождя, превращении его в высшего Гения, который может дать совет практически по любому вопросу, начиная с того, как отремонтировать трактор, и заканчивая тем, как выращивать цветы: вторжение вождя в повседневную жизнь означает, что дела не идут даже на уровне повседневности. Что ж это за страна такая, где сам верховный правитель должен раздавать советы относительно ремонта тракторов? Здесь нам нужно вспомнить упоминавшееся выше осуждение Сталиным самоубийства (обвиненных) как деяния, наносящего последний удар по партии: возможно, нам стоит по–другому понимать самоубийство самой партии в конце 1937 года — не как «сигнал», но как подлинный акт коллективного субъекта, вне какой–либо инструментальности.
В своем анализе паранойи немецкого судьи Шребера Фрейд напоминает нам: то, что мы обычно воспринимаем как безумие (паранойяльный сценарий заговора против субъекта), является по сути дела попыткой выздоровления: после полного психотического срыва паранойяльная конструкция — это попытка субъекта заново установить своеобразный порядок во вселенной, структуру референций, позволяющую ему добиться «когнитивного картирования» [55].
Подобным образом возникает искушение сказать, что, когда в конце 1937 года сталинистский паранойяльный дискурс достигает своего апогея и приводит в движение свой собственный распад, когда арестовывают и ликвидируют в 1938 году Ежова, — то все это по сути дела попытка излечиться, стабилизировать неконтролируемую ярость самодеструктивности, которая разразилась в 1937 году: чистка Ежова была своего рода метачисткой, чисткой всех чисток (его как раз–таки и обвинили в убийстве тысяч невинных большевиков в угоду иностранным силам — ирония этой ситуации заключалась в том, что так оно и было: он действительно подготовил убийство тысяч невинных большевиков…). Однако главное заключается в том, что, хотя мы достигаем здесь предела социального уровня, на котором социально–символическая связь подходит к самоуничтожительному распаду, сам этот избыток тем не менее был порожден точной динамикой социальной борьбы, рядом перестановок в самых верхах режима (Сталиным и его ближайшим окружением), в верхних эшелонах номенклатуры и рядовых членов партии:
Таким образом, в 1933–1935 гг. Сталин и Политбюро объединились со всеми уровнями номенклатурной элиты, чтобы защитить или обелить беспомощных рядовых членов. Региональные лидеры тем самым использовали эти чистки для консолидации своих аппаратов, для изгнания «неудобных» людей. Это в свою очередь привело к реорганизации в 1936 году, когда Сталин и московская номенклатура заняли сторону рядовых членов, жаловавшихся на репрессии со стороны региональной элиты. В 1937 году Сталин открыто мобилизовал «партийные массы» против номенклатуры вообще; это внесло важный вклад в уничтожение элиты во время Великого Террора. Но в 1938 году Политбюро вновь реорганизовалось и усилило авторитет региональной номенклатуры. стремясь навести порядок в партии во время террора [56].
Ситуация, таким образом, взорвалась, когда Сталин сделал рискованный шаг, обратившись к рядовым членам, подталкивая их к выражению жалоб против произвола в правлении боссов местных отделений партии (шаг этот подобен тому, что сделал Мао со своей Великой культурной революцией), — их недовольство режимом, которое невозможно было выразить прямо, оказалось со всей яростью направленным на воплощенные в конкретных людей замещающие цели. Поскольку высшая номенклатура сама в это время была занята чистками, то все это вместе привело в движение самодеструктивный порочный круг, в котором угроза коснулась каждого (из 82 районных секретарей партии расстреляли 79). Другим аспектом этого сужающегося порочного круга явилась непоследовательность идущих сверху директив, направленных на усовершенствование чисток: верхи требовали жестких мер, но в то же время предостерегали против чрезмерности, так что исполнители оказывались в уязвимой позиции: все, что бы они ни делали, оказывалось неправильным. Если они не арестовывали достаточно предателей и не раскрывали достаточного числа заговоров, их причисляли к снисходительным пособникам контрреволюционеров; так что под этим давлением, как бы ради выполнения разнарядки, они должны были фабриковать улики, изобретать истории и тем самым подставляться под огонь критики, что сами они — саботажники, уничтожающие тысячи искренних коммунистов в угоду иностранным силам… Сталинская стратегия прямого обращения к партийным массам, к их антибюрократизму была, таким образом, очень рискованной.
Она не только угрожала открытой политике элиты в отношении взглядов общества, но также рисковала дискредитировать вообще большевистский режим, частью которой) был сам Сталин. <…> Наконец, в 1937 году Сталин нарушил все правила игры — а по сути дела целиком разрушил игру — и начал террор всех против всех [57].
Меняющаяся в связи с «нарушением всех правил» ситуация была не лишена ужасающе комических эпизодов. Весной 1937 года Дмитрию Шостаковичу было приказано явиться в штаб НКВД где его принял Занчевский, следователь, который после довольно дружелюбной болтовни в начале разговора начал расспрашивать Шостаковича о его связях с (уже арестованным) маршалом Тухачевским: «Не может быть, чтобы вы сидели у него дома и не говорили о политике. Например, может быть, вы обсуждали план убийства товарища Сталина?» Шостакович продолжает отказываться от каких–либо разговоров о политике, и тогда Занчевский ему говорит. «Хорошо, сегодня суббота, можете идти. Но только до понедельника. И в этот день вы уже вспомните все. Вы должны вспомнить каждую деталь плана против Сталина, которому вы были свидетелем». Шостакович провел дома кошмарные выходные и в понедельник утром, готовый к аресту, вернулся в штаб НКВД. Однако когда на входе он назвал себя и сказал, что пришел к Занчевскому, ему сказали: «А Занчевского не будет». В выходные Занчевского арестовали по обвинению в шпионаже [58].
Экскурс: Шостакович и сопротивление сталинизму
Какую же позицию занимал Шостакович в отношении официального партийного дискурса? После выхода в свет вызвавших неоднозначную реакцию мемуаров Волкова, стало модным превозносить Шостаковича как тайного героя–диссидента, как живое доказательство того, что даже в самых ужасных условиях расцвета сталинизма можно было передавать радикально критическое послание. Проблема такого отношения заключается в том, что оно предполагает невозможное расщепление: скажем, когда мы узнаем, что «подлинное значение» финала Пятой симфонии — саркастическое, что оно высмеивает сталинское повеление быть счастливым (так что её триумфальный ритмический бой — это, как говорит Ростропович, бой ногтями по гробам), или что «подлинное значение» первой части «Ленинградской симфонии» — изобразить террористический марш коммунистов–завоевателей (а не немецкой армии), или что «подлинное значение» Одиннадцатой симфонии — представить взрыв не революции 1905 года, а Венгерского восстания 1956 года (поэтому–то его сын Максим, услышав ее на фортепиано, сказал отцу: «За это они тебя убьют!») и т. д. и т. п., идея заключается в том, что это подлинное послание было совершенно понятным всем братьям–диссидентам да и тысячам простых людей, которые с энтузиазмом реагировали на эту музыку («имеющие уши, да слышат», как говорится [59]), и все же мистическим образом оно оставалось совершенно нечитаемым для тех, кто находился у власти, т. е. культурной и политической номенклатуры. Действительно ли номенклатура была настолько тупой, что не могла уловить то, что было понятным сотням тысяч простых людей? А что, если решение намного проще, и мы должны просто сказать, что один и тот же слушатель мог переходить с одного уровня на другой точно так же, как классический Голливуд, контролируемый Хайесом Кодом, мобилизовал оба уровня — очевидную, идеологически невинную текстуру и подлежащее (сексуально) трансгрессивное послание? [60]
К сожалению, понятие «тайный диссидент» — это оксюморон: соль диссидентского акта в его публичности; подобно всем известному ребенку из «Нового платья короля» Андерсена, он открыто говорит Другому то, о чем остальные лишь шепчут друг другу на ухо. Так что именно внутренняя дистанция Шостаковича в отношении официального социалистического понимания его симфоний сделала его прототипическим советским композитором. Эта дистанция является основой идеологии, в то время как авторы, которые целиком (сверх)отождествляемы с официальной идеологией, такие как Александр Медведкин, «последний большевик» — кинематографист, представленный в документальном фильме Криса Маркера, испытывают проблемы.
Каждый партийный функционер, вплоть до самого Сталина, был своего рода «тайным диссидентом», ведущим разговоры в кулуарах о том, что запрещено на публике. Более того, такое восхваление Шостаковича как тайного героя–диссидента не только фактически не соответствует действительности, но даже оскорбляет подлинное величие его поздней музыки. Даже малочувствительному к музыке человеку ясно, что его (заслуженно знаменитые) струнные квартеты — отнюдь не героические высказывания, бросающие вызов тоталитарному режиму, а мрачные комментарии к собственной трусости и оппортунизму. Целостность Шостаковича как художника коренится в том факте, что он целиком и полностью выражал в своей музыке внутреннее беспокойство, смесь отчаяния, меланхолической печали, вспышек бессильной ярости и даже ненависти к себе и уж никак не выставлял себя тайным героем. Важен тот факт, что самый его знаменитый Восьмой квартет был написан в то время, когда Шостакович наконец уступил давлению и стал членом Коммунистической партии (компромисс, который привел его чуть ли не к самоубийственному отчаянию): это музыка сломленного человека, если еще было кому ломаться. Хорошо известное [нрзб.] о русском, который мечется между меланхолической депрессией и вспышками бессильной ярости, таким образом, утрачивает свой внеисторический характер архетипа и обустраивается в конкретной социально- политической констелляции сговора с совестью, к которому художника склоняли в сталинском окружении. Отметим, что движения в Восьмом квартете от унылой депрессии («славянской меланхолической печали») к маниакальным вспышкам ярости и обратно в точности соответствуют этому клише. (На самом деле это как бы обычное внутреннее развитие классической сонатной формы — гармоническое начало, взрыв и развитие конфликта, финальное разрешение напряжения и возвращение к гармонии — воспроизводится у Шостаковича жутковато–насмешливым образом: от меланхолической печали к бессильному взрыву и затем опять к изначальной печали…) Тем не менее, столь превозносимые за их аскетическое богатство квартеты Шостаковича с их сдержанной горечью — парадоксальный итог его реакции на травмирующее вмешательство сталинистской политики, которая укротила его сатирически–экспериментирующую игривость.
Сильным травматическим переживанием в жизни Шостаковича стало резкое неприятие его оперы «Леди Макбет Мценского уезда» в 1936 году. Травлю начал сам Сталин, в гневе покинувший представление после первых двух актов. В результате Шостакович на два года исчез с глаз публики и вернулся, получив политическое прощение за свою прото–социалистически–реалистическую Пятую симфонию. В этот момент мы становимся очевидцами настоящего сдвига парадигм — от раннего Шостаковича, блестящего музыкального сатирика и экспериментатора, к автору эпических музыкальных трагедий, который возвращается к традиционным формам, прогрессирующим от минорной лирической печали к грохочущей какофонии финала победного «Парада на Красной площади». Тем не менее, ранний Шостакович не просто исчез, но заново появился в измененном виде. Даже его великие «сталинистские» сочинения (скажем. Пятая симфония) остаются в глубине двойственными: да, в сравнении с «интимной» музыкой они написаны по заказу, дабы ублажить Хозяина. Однако, именно будучи таковыми, эти сочинения, кажется, удовлетворяют некой «извращенной» потребности композитора, абсолютной аутентичной потребности. Шостакович сам утверждал, что финал Пятой симфонии передает иронически искаженное/преувеличенное принятие приказания (сверх-я) «быть счастливым, наслаждаться жизнью», как бы воспроизводя в музыке повторяющийся удар молота, вдалбливающего тебе в голову непрестанное предписание «Будь счастлив! Будь счастлив!» И все же это принятие, в его самом преувеличенном искажении, производит в себе собственное удовлетворение. Итак, даже если мы и согласимся с утверждением Шостаковича, что финал Пятой симфонии ироничен, то не ирония была у него на уме (критическое изображение официального оптимизма), но куда более смутное признание мерзкой власти предписания быть счастливым, которое воздействует на нас изнутри, преследует нас подобно дьявольскому призраку.
7. ПРЕДЕЛЬНАЯ ДВОЙСТВЕННОСТЬ СТАЛИНИЗМА
Как марксисты, мы не боимся признать, что сталинские чистки были более «иррациональными», чем фашистское насилие. Этот «иррациональный» избыток парадоксальным образом безошибочно указывает на то, что, в отличие от фашизма, сталинизм — случай извращенной аутентичной революции. При фашизме даже в нацистской Германии можно было выжить, сохраняя при этом вид «нормальной» жизни разумеется, если человек не занимался оппозиционной политической деятельностью, ну и, конечно, не был по происхождению евреем…), в то время как при сталинизме конца 1930–х гг., никто не мог явствовать себя в безопасности, любого могли неожиданно обвинить. арестовать и расстрелять как предателя. «Иррационализм» нацизма сконцентрировался на антисемитизме с его верой в еврейский заговор, в то время как «иррационализм» сталинизма пронизывал все социальное тело полностью. Именно по этой причине нацистские полицейские ищейки искали доказательства, следы настоящей антирежимной деятельности, в то время как сталинские следователи занимались откровенной и недвусмысленной фабрикацией дел (придуманными заговорами, саботажами и т. д.).
Однако само это насилие, направленное, в конце концов, коммунистическими властями на своих собственных членов, свидетельствует о радикальном внутреннем противоречии режима, о том, что у истоков режима был «подлинный» революционный проект, а непрестанные чистки были необходимы не только для того, чтобы стереть следы истоков режима, но также в качестве «возвращения вытесненного», в качестве памятки о радикальной негативности, лежавшей в основе режима. Сталинские чистки высших партийных эшелонов полагались на это фундаментальное предательство: обвиняемые были по сути дела виновны в том, что, будучи членами новой номенклатуры, они предали Революцию. Так что сталинский террор — это не столько предательство Революции, не попытка стереть следы подлинного революционного прошлого, сколько свидетельство своеобразного «отпрыска извращенности», который побуждал новый послереволюционный порядок заново вписывать в себя предательство Революции. чтобы «отражать» или «отмечать» его под прикрытием случайных арестов и убийств, грозивших каждому члену номенклатуры. Как и в психоанализе, сталинистское признание вины скрывало настоящую вину. (Как хорошо известно, Сталин мудро вербовал в НКВД людей низкого социального происхождения, которые были способны вымещать свою ненависть на номенклатуре, арестовывая и мучая вышестоящих аппаратчиков.) Внутреннее напряжение между стабильностью правил новой номенклатуры и извращенным «возвращением вытесненного» под маской повторяющихся чисток рядов номенклатуры лежит в самом сердце феномена сталинизма: чистки являются той самой формой, в которой преданное революционное наследие выживает и преследует режим. Мечта коммунистического кандидата на президентских выборах 1996 года Геннадия Зюганова (все было бы хорошо в Советском Союзе, если бы Сталин прожил на пять лет больше и завершил бы свой последний проект — покончил с космополитизмом и примирил Российское государство с Православной церковью. иными словами, если бы только Сталин провел свою антисемитскую чистку) нацелена как раз–таки на успокоение, в котором революционный режим наконец–то избавится от присущего ему напряжения и достигнет своей стабильности. Парадокс заключается, разумеется, в том, что ради достижения стабильности нужно было реализовать последнюю сталинскую чистку; запланированную на лето 1953 года «мать всех чисток», которая так и не состоялась из–за смерти Сталина. Возможно, теперь классический анализ сталинистского «термидора» не совсем адекватен: настоящий термидор случился только после смерти Сталина (или даже после падения Хрущева), в годы брежневского «застоя», когда номенклатура наконец–то стабилизировалась в «новом классе». Собственно сталинизм — это скорее загадочный «исчезнувший посредник» между подлинно революционным ленинским взрывом и его термидором. С другой стороны. Троцкий был прав в своих предсказаниях, когда говорил, что в 1930–е гг. сталинский режим может пасть в результате одной из двух следующих причин: либо рабочие восстанут против него, либо номенклатура перестанет довольствоваться политической властью и превратится в капиталистов, непосредственно владеющих средствами производства. Как говорится в последнем абзаце книги «Путь к террору» [61], с прямой ссылкой на Троцкого, случилось второе: средства производства в бывших социалистических странах, и особенно в Советском Союзе, попали в руки новых владельцев — бывшей номенклатуры; так что можно сказать, главным событием распада «реального социализма» стала трансформация номенклатуры в класс частных собственников. Однако невероятная ирония этой ситуации заключается в том, что оба предсказанных Троцким противоположных исхода, похоже, переплелись весьма причудливым образом. Номенклатура стала непосредственным собственником средств производства благодаря сопротивлению навязанным ей политическим правилам — сопротивлению, ключевым компонентом которого, по крайней мере в некоторых случаях («Солидарность» в Польше), было рабочее восстание против номенклатуры.
Как указал Алан Бадью, вопреки ужасам и неудачам, «реальный социализм» был единственной политической силой, которая, по крайней мере на протяжении нескольких десятилетий, представляла собой угрозу глобальному порядку капитализма, на самом деле устрашая её представителей, доводя их до настоящей паранойи. Поскольку сегодня капитализм определяет и структурирует всю человеческую цивилизацию, то каждая «коммунистическая» территория была и остается — опять–таки вопреки всем присущим ей ужасам и неудачам — своего рода «освобожденной территорией», как называет Кубу Фредерик Джеймисон. Мы сталкиваемся здесь со старым структурным понятием разрыва между Пространством и тем позитивным содержанием, что его наполняет: хотя коммунистические режимы в отношении своего позитивного содержания потерпели чудовищный провал, породивший ужас и нищету; все же они открыли пространство утопических ожиданий, которое, наряду с прочим, и позволяло отмерять неудачи реально существовавшего социализма. Антикоммунистические диссиденты обычно не обращают внимание на то, что само пространство, из которого они критиковали и разоблачали каждодневный террор и нищету, было открыто и поддерживалось коммунистическим прорывом, его попыткой избежать логику капитала. Короче говоря, когда диссиденты типа Гавела разоблачали существовавший коммунистический режим с позиций подлинной человеческой солидарности, они (по большей части не ведая того) говорили из места, открытого самим коммунизмом. Именно поэтому они разочаровываются, когда «реально существующий капитализм» не оправдывает надежд антикоммунистической борьбы. Возможно, Вацлав Клаус, прагматический двойник Гавела, был прав, когда убрал Гавела как социалиста.
Трудная задача, таким образом, заключается в том, чтобы противостоять радикальной двойственности идеологии сталинизма, тоталитарной по своей сути и все же несущей некий освободительный потенциал. Со времен своей юности я помню незабываемую сцену из советского фильма о гражданской войне 1919 года, в которой большевики устраивают публичный суд над матерью больного сына, оказавшегося шпионом, служившим контрреволюционным белым силам. В самом начале этого суда один старый большевик, поглаживая длинные белые усы, говорит: «Приговор должен быть суровым, но справедливым!» Революционный суд (группа большевиков–борцов) устанавливает, что причиной вражеской деятельности были сложные социальные обстоятельства; приговор, стало быть, заключается в том, что мать должна полностью включиться в социалистический коллектив, научиться писать и читать, получить должное образование, а сыну ее следует получить необходимый медицинский уход. Пока пораженная мать рыдает, не понимая милость суда, старый большевик опять разглаживает свои усы и согласно кивает: «Да, это суровый, но справедливый приговор!»
Легко взять и быстро по–псевдомарксистски сказать, что такого рода сцены лишь идеологически узаконивали жесточайший террор. Однако неважно, насколько эта сцена манипулятивна, неважно, насколько противоречит она своевольной жестокости настоящей «революционной справедливости». Тем не менее, эта сцена дает зрителям новые этические стандарты в отношении реальности. Шокирующий результат такого примера революционной справедливости, неожиданное переозначение «суровости» в суровость по отношению к социальным обстоятельствам и милосердие к людям не может не оказывать своего возвышенного воздействия. Короче говоря, перед нами пример того, что Лакан называл «пунктом пристегивания» [point de capiton), вторжения, меняющего координаты самого пространства значения: вместо прошения о благосклонной терпимости, вместо суровой справедливости старый большевик по–новому определяет значение самой этой «суровой справедливости» в терминах прощения и великодушия. Если даже эта сцена лишь пускает пыль в глаза, все равно в ней правды в известном смысле больше, чем в той грубой социальной реальности, которая ее породила.
Все–таки в неудавшемся предприятии «реального социализма» есть еще нечто крайне важное. Я имею в виду идею (чье влияние было наиболее сильным в Германской Демократической Республике) труда (материального, промышленного производства) как привилегированного места сообщества и солидарности: не только вовлеченность в коллективные производственные усилия сама по себе приносит удовлетворение, но даже личные проблемы (от развода до болезни) обретают собственную перспективу после их обсуждения в рабочих коллективах. Этим идеям посвящен, возможно, последний написанный в ГДР роман — «Разделенные небеса» [62]. Этот труд не стоит пугать ни с домодернистским понятием работы как ритуализированной общественной деятельности, ни с ностальгическим воспеванием старых промышленных форм производства (скажем, с псевдоромантизмом аутентичности английских шахтеров в стиле «какой зеленой была моя долина»), ни тем более с протофашистским прославлением ручной работы ремесленников, с производством архаичного сообщества.
Возможно, здесь мы имеем дело с крайним случаем ностальгии, продолжающейся ностальгической привязанности к усопшему «реальному социализму». Это ностальгия содержит идею, что, вопреки всем неудачам и ужасам, было утрачено что–то ценное во время его краха, что–то было вытеснено в уголовное подполье. Разве в сегодняшнем идеологическом восприятии не секс, а работа (ручная работа в ее противопоставлении «символической» активности) становится местом того непристойного поведения, которое должно быть скрыто от общественных глаз? Традиция, восходящая к «Золоту Рейна» Вагнера и «Метрополису» Ланга, традиция, в которой рабочий процесс происходит под землей, в темных пещерах, сегодня обретает свою кульминацию в «невидимости» миллионов анонимных рабочих проливающих свой пот на заводах третьего мира, от китайских ГУЛагов до индонезийских или бразильских сборочных конвейеров. Запад же может себе позволить бормотать об «исчезающем рабочем классе» даже тогда, когда его следы легко заметить повсеместно. Для этого достаточно обратить внимание на надпись «Сделано в… (Китае, Индонезии, Бангладеш, Гватемале)» на массовых продуктах от джинсов до магнитофонов. Однако самым важным в этом отождествлении труда с преступлением является мысль о том, что работа, тяжелый труд изначально является непристойной криминальной деятельностью, которую следует скрывать от общественного взора.
Сегодня две сверхдержавы, США и Китай, все больше и больше соотносятся как Капитал и Труд. США превращаются в страну менеджерского планирования, банковского бизнеса, услуг, а «исчезающий рабочий класс» (за исключением мигрирующих чиканос и прочих занятых в сфере услуг) всплывает в Китае, где большая часть американских продуктов», от игрушек до электронной аппаратуры, производится в идеальных для капиталистической эксплуатации условиях: никаких забастовок, ограниченная свобода передвижения рабочей силы, низкая заработная плата. Отношения между Китаем и Соединенными Штатами оказываются отнюдь не антагонистическими, а глубоко симбиотическими. Ирония истории такова, что Китай целиком и полностью заслуживает титула «государства рабочего класса»: он и является государством рабочего класса для американского капитала.
Если взять все голливудские фильмы, то производственный процесс во всей его интенсивности мы сможем увидеть лишь тогда, когда герой проникает в секретную область преступного бизнеса, туда, где размещена активная рабочая сила (очистка и упаковка наркотиков, производство ракеты, которая должна уничтожить Нью—Йорк…). Когда в фильмах о Джеймсе Бонде его захватывает главный злодей, то обычно он устраивает ему экскурсию на подпольную фабрику. Разве в этом горделивом представлении производства не сближаются Голливуд и социалистический реализм? Функция же появления здесь Бонда заключается, конечно же, в том. чтобы устроить фейерверк, взорвать это место производства, позволяя нам вернуться к каждодневному подобию нашего существования в мире «исчезнувшего рабочего класса».
В такого рода финальной оргии насилия в фильмах о Джеймсе Бонде на самом деле взрывается некий уникальный утопический момент в истории Запада: момент, в котором участие в коллективном процессе материального труда понималось как место, способное породить аутентичный смысл сообщества и солидарности. Мечта заключалась не в том, чтобы уйти от физического труда, но в том, чтобы найти удовлетворение в нем как в коллективном переживании, вращающемся вокруг старого библейского определения труда как проклятия за грехопадение Адама. В своей небольшой книге об Александре Солженицыне, которая стала одной из его последних работ, Дьердь Лукач дает восторженную оценку «Одному дню Ивана Денисовича», рассказу, который впервые в истории советской литературы описывает обычную жизнь в ГУЛаге (и публикацию которого должен был одобрить сам Генеральный секретарь Коммунистической партии, Никита Хрущев) [63]. Лукач обращает внимание на сцену, в которой к концу долгого рабочего дня Иван Денисович бросается заканчивать кладку стены. Когда он слышит голос охранника, приказывающего всем заключенным построиться для возвращения в бараки, то не может устоять перед искушением положить напоследок еще парочку кирпичей, хотя рискует при этом навлечь на себя гнев охранника. Лукач считает это стремление завершить работу знаком того, что специфически социалистическое понятие материального производства как места творческого удовлетворения выживает даже в жестоких условиях ГУЛага. Когда к вечеру Иван Денисович подводит итоги прошедшего дня, он с удовлетворением отмечает, что завершил кладку и делал ее с удовольствием. Лукач прав в своем парадоксальном утверждении, что «Один день Ивана Денисовича», этот основополагающий диссидентский текст, совершенно четко подпадает под самое строгое определение социалистического реализма.
С учетом происходящей дигитализации нашей жизни эта отсылка к (материальному) производству является основной. Мы переживаем сейчас времена напряженной революции в «производительных силах», чьи самые заметные и самые разрекламированные новинки затеняют ее куда более далеко идущие последствия. Настоящий вопрос в отношении киберреальности и виртуальной реальности заключается не в том. что случится с нашим переживанием реальности (все эти скучные модные вариации на тему «не превратится ли реальная реальность в одно из окон киберпространства?»), а в том, как диспозиция Интернета повлияет на статус межличностных отношений. Настоящий «ужас» киберпространства не в том, что мы взаимодействуем с виртуальными сущностями как с людьми, не в том, что мы принимаем виртуальные безличности за реальные личности, а в том, что в нашем взаимодействии с реальными людьми, все больше и больше доступными лишь через дублеров в киберпространстве, мы обращаемся с ними как с виртуальными. которых можно безнаказанно оскорблять и мучить, раз уж мы взаимодействуем с ними только в виртуальной реальности.
В таких условиях появляется искушение воскресить старую, позорную и наполовину забытую марксистскую диалектику производительных сил и производственных отношений: как эта трансформация воздействует не только на производственные отношения в узком смысле слова, но и на все социальное существование, на нашу практику и (идеологический) опыт социального взаимодействия? Марксу нравилось противопоставлять революционные перемены в производственном процессе политической революции. Постоянно звучащий у него мотив — паровая машина и другие технологические инновации XVIII века сделали для обострения революционной ситуации в социальной жизни куда больше, чем самые зрелищные политические события. Разве не звучит этот мотив уместнее сегодня, чем когда–либо раньше, сегодня, когда неслыханные изменения в производстве сопровождаются своего рода летаргией в сфере политики: в то время как мы переживаем радикальную трансформацию общества, последствия чего мы еще даже не в состоянии точно определить, многие радикальные мыслители (от Алана Бадью до Жака Рансьера) утверждают, что эпоха собственно политических действий, по крайней мере на какое–то время, завершилась.
Этот парадокс, возможно, указывает нам на необходимость вновь сделать в противоположном направлении шаг, общий для Хабермаса и его «деконструктивных» оппонентов, шаг от производства к символической активности, и вновь сфокусироваться на (материальном) производстве, противопоставленном участию в символическом обмене [64]. Для двух столь разных мыслителей, как Хайдеггер и Бадью, материальное производство не является местом «аутентичной» истины–события (каковыми являются политика, философия, искусство…). Деконструктивисты обычно начинают с утверждения, что производство также является частью дискурсивного режима, что оно не лежит вне сферы символической культуры, после чего продолжают его игнорировать и в той или иной мере сосредоточиваются на культуре. Разве такое «вытеснение» производства не отражается в пределах сферы самого производства под маской разделения на виртуальное/символическое место «творческого» планирования–программирования и место его осуществления, материальной реализации в странах третьего мира от Индонезии и Бразилии до Китая? Это разделение — с одной стороны, чистое, «без трений» планирование, осуществляемое в исследовательских кампусах или «абстрактных» застекленных небоскребах: с другой стороны, «невидимое» грязное изготовление, которое принимается планировщиками в расчет главным образом под маской «инвайронментальных расходов», — становится сегодня все более и более радикальным. Даже географически две стороны производства разделены тысячами миль.
Мы совершенно очевидно переживаем процесс, в котором обретает форму новая констелляция производительных сил и производственных отношений. Однако понятия, которые мы используем для определения этого появляющегося Нового («постиндустриального общества», «информационного общества» и т. д.) еще не являются настоящими понятиями. Подобно понятию «тоталитаризм», они — теоретическая временная мера: вместо того, чтобы позволить нам осмыслить обозначаемую ими историческую реальность, они освобождают нас от обязанности думать или даже активно противодействуют тому, чтобы мы думали. Вот обычное возражение постмодернистских законодателей мод от Алвина Тоффлера до Жана Бодрийара: мы не можем думать об этом Новом, потому что застряли в старой индустриальной «парадигме». На такое обычное возражение хочется ответить, что верно как раз–таки обратное: а что, если все эти попытки оставить позади материальное производство, вычеркнуть его из картины посредством концептуализации современных мутаций в качестве сдвига от производства к информации объясняются желанием отстраниться от трудностей осмысления того, как эта мутация влияет на структуру общественного производства? Иначе говоря, а что, если подлинная задача как раз–таки и заключается в том, чтобы понять появление Нового в терминах общественного материального производства?
Предельно важно отметить и то. что это игнорирование значимости сферы (материального) производства характерно как для либерально- консервативных идеологов «постиндустриального общества», так и для их явных оппонентов, немногих сохранившихся политических «радикалов». Политический «экстремизм» или «излишний радикализм» всегда следует понимать как феномен идеологически–политического смещения, как указатель на свою собственную противоположность, на ограниченность и отказ, по сути дела, «идти до конца». Разве не было якобинское обращение к радикальному террору своего рода истерическим отыгрыванием, свидетельствующим о неспособности поколебать собственно основания экономического порядка (частной собственности и т. д.)? И разве не то же самое касается и так называемого «избытка» «политической корректности»? Разве не демонстрируют ее сторонники бегство от беспокоящих действующих (экономических и прочих) причин расизма и сексизма? Возможно, пришло время воздать должное разделяемой всеми постмодернистскими леваками проблематике стандартного топоса, согласно которой политический тоталитаризм так или иначе проистекает из господства материального производства и технологии над межличностной коммуникацией и/или символической практикой, будто корень политического террора в том, что «принцип» инструментального разума, технологической эксплуатации природы распространяется также и на общество, так что людей принимают за сырье, которое предстоит превратить в Нового Человека. А что, если дело обстоит как раз–таки наоборот? Что, если политический «террор» сигнализирует о том, что сфера (материального) производства отрицается в ее автономности и подчиняется политической логике? Разве весь политический «террор», от якобинцев до маоистской культурной революции, не предполагает отвержение собственно производства в его самостоятельности и не подчиняет его политической лотке? Разве весь этот политический «террор», от якобинцев до маоистской культурной революции, не предполагает сведение производства к области политических баталий [65]?
Так где же нам сегодня, в эпоху якобы «исчезающего рабочего класса» искать «пролетария»? Чтобы адекватно подойти к этому вопросу, нужно, по–видимому, сконцентрироваться на том, как марксово понятие пролетария переворачивает классическую гегелевскую диалектику Господина и Раба. В борьбе между (будущим) Господином и Рабом, как пишет в «Феноменологии духа» Гегель, Господин готов поставить на карту все, вплоть до своей собственной жизни и, таким образом, он обретает свободу в то время как Раб не столько прямо привязан к Господину, сколько изначально — к объективному окружающему его материальному миру к корням окружения, в конечном счете, к своей жизни как таковой; он не готов рисковать и потому уступает свою суверенность Господину. Хорошо известный советский шпион Александр Кожев рассматривает эту гегелевскую диалектику Господина и Раба как прообраз марксовской классовой борьбы; и он прав в том случае, если учесть, что Маркс перевернул эти понятия. В пролетарской классовой борьбе именно пролетарий занимает место гегелевского Господина: он готов рисковать всем, поскольку он чистый субъект, лишенный всех корней, поскольку как говорили в былые времена, ему «нечего терять, кроме твоих цепей». Капиталисту же, напротив, есть что терять (а именно капитал), и он, таким образом, оказывается настоящим Рабом, привязанным к своим владениям, по определению никогда не способным поставить на карту все, даже если он самый подвижный новатор, прославляемый сегодня средствами массовой информации. (Важно помнить, что в оппозиции пролетария и капиталиста, для Маркса, как раз пролетарий — субъект, символизирующий нематериальную субъективность, не имеющий ничего общего с объектом, подчиненным капиталисту в роли субъекта.) Это и дает нам ключ к пониманию того, где нам искать сегодняшнего пролетария: там, где субъект низведен до лишенного корней существования, где он лишен всех материальных уз.
8. МУСУЛЬМАНИН
В понятии социального антагонизма межсоциальные различия (тема конкретного общественного анализа) частично совпадают с различиями между социальным как таковым и его другим. Это совпадение становится особенно заметным во времена расцвета сталинизма, когда враг обозначается как не–человек, как отброс человечества: борьба партии Сталина с врагом становится борьбой собственно человека с нечеловеческими отбросами. То же самое, но на другом уровне имеет место в случае нацистского антисемитизма, при котором евреям отказывают в праве называться людьми. Этот радикальный уровень противопоставления не должен послужить для нас соблазном оставить конкретный социальный анализ Холокоста. Проблема академической холокост–индустрии как раз–таки и заключается в вознесении Холокоста до уровня метафизического дьявольского Зла, иррационального, аполитичного, непостижимого, доступного лишь сквозь уважительное молчание. Холокост — это та точка предельного травматизма, в которой объективирующееся историческое знание распадается, та точка, в которой приходится признавать бесполезность этого знания перед лицом отдельно взятого очевидца, и это еще и та точка, в которой сам очевидец осознает, что у него не хватает слов, что единственное, чем он может поделиться, — это молчание. С Холокостом обращаются как с тайной, центром тьмы нашей цивилизации. Его загадка заранее отрицает все (проясняющие) ответы, она отказывает знанию и описанию, она вне коммуникации, вне историзации, ее невозможно объяснить, визуализировать, представить, передать, ведь она отмечает Пустоту, черную дыру, конец, взрыв, направленный внутрь (нарративной) вселенной. Соответственно, любая попытка поместить Холокост в его контекст, политизировать его равняется антисемитскому отказу признавать его уникальность. Вот одна из распространенных версий Освобождения от Холокоста:
Великий хасидский учитель Рабби из Коцка обычно говорил: «Есть истины. которые можно выразить в словах, и есть более глубокие истины, которые можно передать лишь молчанием. Но есть еще и такие истины, которые не выразить ни в словах, ни в молчании». И все же их необходимо выразить в словах. Перед нами дилемма, с которой столкнулся каждый, кто оказался в концентрационном лагере: как можно передать всю тяжесть, весь размах события, не поддающегося описанию в языке? [66]
Но разве слова эти не указывают на лакановскую встречу с реальным? Нигде необходимость сопротивления тому, что Лакан назвал «искушением жертвоприношением», не стоит более остро, чем в связи с Холокостом. Жертвоприношение не просто нацелено на некий выгодный обмен с тем Другим, которому приносится жертва: его более фундаментальная цель — удостовериться в том, что где–то там есть некий Другой, который может ответить (или не ответить) на сопутствующие жертвоприношению мольбы. Даже если Другой и не исполняет мои желания, то, по крайней мере, я могу удостовериться в том, что он существует, в том, что, возможно, в следующий раз он мне ответит: окружающий меня мир, со всеми бедами, что могут свалиться на мою голову, представляет собой не просто бессмысленную, слепую машинерию, но своеобразного партнера по возможному диалогу, в котором даже бедствие можно понять как осмысленный ответ, но не как продукт царства слепого случая. Именно на таком фоне следует понимать отчаянную потребность историков Холокоста выявлять его конкретную причину, устанавливать его значение. Когда они ищут «перверсивную» патологию в сексуальности Гитлера, то на самом деле боятся, что найдут ничто, т. е. что в личной, интимной жизни Гитлер был, как и все остальные. В этом случае его чудовищные преступления кажутся еще более отвратительными и жуткими. Когда исследователи отчаянно ищут тайное значение Холокоста, то им лучше найти какое угодно объяснение (даже еретическое утверждение, что, мол, сам Бог от дьявола), чем признать бесцельность этнической катастрофы, признать, что она — результат слепого случая. «3апрет» Клода Ланцмана на вопрошание о причинах Холокоста зачастую истолковывается превратно. На самом деле нет противоречия между запретом на вопрос «почему» и утверждением, что Холокост не представляет собой загадку без отгадки. Смысл запрета Ланцмана лежит не в плоскости теологии. Он не равен, скажем, религиозному запрещению попыток проникнуть в тайну происхождения жизни или зачатия; этот запрет принадлежит парадоксам запрета на невозможное из разряда «ты не должен, потому что не можешь!» Когда, к примеру, католики говорят, что нельзя заниматься биогенетическими разработками, потому что человек — не просто результат взаимодействия генов с окружающей средой, то за этими словами скрывается страх, что если довести эти разработки до конца, то можно достичь невозможного, т. е. свести духовную жизнь к биологическому механизму. Ланцман, напротив, не запрещает изучение Холокоста, потому что Холокост — тайна, которую лучше оставить во тьме. Дело в том, что нет никакой тайны Холокоста, на которую можно пролить свет, нет загадки, которую нужно решать. Следует лишь добавить, что после того, как мы исследуем все исторические и прочие обстоятельства Холокоста, останется лишь пучина самого этого деяния, глубина свободно принятого решения во всей его чудовищности.
Ключевой фигурой концентрационного лагеря является так называемый «мусульманин». Ничего подобного ему не было в сталинском ГУЛаге со всеми его ужасами [67]. В целом население лагерей уничтожения можно разделить на три категории. Большинство — сломлено и регрессирует до близкого к животному эгоистическому уровню. Они сосредоточивают свои усилия исключительно на выживании, совершая при этом поступки, которые в «нормальном» мире считались бы неэтичными (например, воровство еды или обуви у соседа). Однако в воспоминаниях тех, кто пережил концентрационные лагеря, всегда упоминается Некто несломленный, человек, который в невыносимых условиях, обрекших всех остальных на простую борьбу за выживание, чудесным образом сохранил и постоянно излучал необъяснимую щедрость и благородство. В терминах Лакана мы имеем здесь дело с функцией Y а d' l'Un: даже там был Некто, служивший опорой минимальной солидарности, определяющей социальные узы в их противопоставлении коллаборационизму в рамках структуры чистой стратегии выживания. Здесь принципиально важно отметить два момента: во–первых, такой человек всегда один (никогда не было множества таких людей; будто, следуя некой туманной необходимости, избыток необъяснимого чувства солидарности должен был всегда воплощаться в Одном). Во–вторых, суть дела заключалась не в том. что этот Один чем–то помогал другим, но в самом его присутствии (другие выживали благодаря осознанию того, что. хоть они большую часть времени ведут себя подобно машинам–по–выживанию, все же есть Один, сохраняющий человеческое достоинство). Мы сталкиваемся здесь с, так сказать, законсервированным, подобно смеху в банке, достоинством. Другой (один) сохраняет для меня мое достоинство, он делает это вместо меня, или, точнее, — я сохраняю свое достоинство посредством Другого: я могу заниматься исключительно жестокой борьбой за выживание, ведь знание того, что есть Некто, сохраняющий свое достоинство. позволяет мне поддерживать минимальную связь с человечеством. Если же, как это зачастую бывает, этот самый Один ломается или оказывается мошенником, другие заключенные теряют свою волю к жизни, превращаются в «мусульман», безразличных живых мертвецов. Сама их готовность бороться за жизнь парадоксальным образом держалась на этом исключении, на том факте, что был Один такой, чье существование не сводилось к борьбе за выживание, и, когда это исключение исчезает, борьба за выживание теряет свою силу. Все это значит, конечно же, что этот Один отличался отнюдь не только моими «реальными» качествами (в этом отношении могло быть куда больше ему подобных индивидов, или могло быть даже, что на самом деле он лишь играл роль несломленного борца, лишь имитировал стойкость): его исключительная роль объясняется скорее переносом, т. е. он занимал место, созданное (предпосланное) другими.
Мусульмане — «нулевой уровень человеческого»: у них не действуют хайдеггеровские координаты проекта (Entwurf), посредством которого здесь–бытие (Dasein) отвечает и допускает со всей вовлеченностью свою заброшенность–в–мир (Geworfenbeit). Мусульмане — это что–то типа «живых мертвецов»: они не реагируют даже на базисные животные стимулы, они не защищаются, когда на них нападают, они постепенно утрачивают чувства жажды и голода, они пьют и едят скорее по привычке, чем из элементарной животной потребности. По этой причине они являют собой точку реального без символической истины, т. е. нет никакой возможности символизировать их проблематичное положение, чтобы как–то превратить его в связный рассказ о жизни. Тем не менее, легко понять опасность этих описаний: они косвенно воспроизводят и, таким образом, свидетельствуют о самой «дегуманизации», приписанной им нацистами. Именно по этой причине необходимо настойчивее обычного утверждать их гуманность, не забывая о том, что они по–своему дегуманизированы, лишены основных черт гуманности: граница, отделяющая нормальное человеческое достоинство, нормальные человеческие обязательства от мусульманского «бесчеловечного» равнодушия, присуща «человеческому», и это означает, что в самом «человеческом», в самой его сердцевине находится бесчеловечное травматическое ядро, бесчеловечный травматический разрыв. Говоря словами Лакана, мусульмане — «люди» экстимным образом. Именно будучи «нелюдьми», лишенными практически всех позитивных человеческих качеств, стоят они на страже человечности «как таковой»: они — тот особенный «бесчеловечный» элемент, который непосредственно воплощает человеческий род, в котором этот род обретает свое непосредственное существование. Короче говоря, мусульманин — это безоговорочно не человек. Здесь возникает искушение сказать, что мусульманин как бы «меньше, чем животное», поскольку лишен даже животной жизненной силы, оказывается необходимым связующим звеном между животным и человеком; это «нулевой уровень» человеческого в строгом смысле того, что Гегель назвал «ночью мира», уход от вовлеченного погружения в среду, чистая само–соотносящаяся негативность, которая как бы «совершенно чиста» и, тем самым, открывает пространство для специфически человеческой символической деятельности [68]. Иначе говоря, мусульманин не просто вне языка (как в случае животного), но он — отсутствие языка как таковое, молчание как позитивный факт, как причина невозможности, пустота, на фоне которой может появиться речь. Именно в этом смысле и можно сказать: чтобы «стать человеком», чтобы перебросить мостик от животной погруженности в окружающую среду к человеческой деятельности, все мы в какой–то момент должны были быть мусульманами, дабы пройти сквозь обозначаемый этим понятием нулевой уровень.
Это означает, как верно подчеркивает Агамбен, что действие «нормальных» этических правил здесь приостановлено: мы не можем просто порицать их судьбу, сожалея о том, что они лишены основных человеческих достоинств, ведь быть порядочным, сохранять достоинство перед мусульманином значит уже проявлять крайнее неприличие. Нельзя просто игнорировать мусульманина: любая этическая позиция, которая не противостоит ужасающему парадоксу мусульманина, по определению оказывается неэтичной, оказывается непристойной пародией на этику а если мы действенно противостоим мусульманину, то такое понятие, как «достоинство» лишается своего основания. Иначе говоря, «мусульманин» — не просто низший в иерархии этических типов («у него не только нет достоинства, но даже животной жизненной силы и эгоизма»), но — нулевой уровень, обессмысливающий всю иерархию. Не принимать во внимание этот парадокс значит приобщиться к тому цинизму, который исповедовали нацисты, когда сначала жестоко низводили евреев до недочеловечсского уровня, а потом предъявляли эту картину как доказательство их неполноценности. Они довели до предела процедуру унижения, которая напоминает ситуацию, в которой я, скажем, отбираю ремень у достойного человека, вынуждая его придерживать штаны руками, а затем высмеиваю его как недостойного…
В современной философии существуют две противоположные позиции в отношении смерти — позиция Хайдеггера и Бадью. Для Хайдеггера подлинная смерть (противопоставленная анонимному «кто–то умирает») есть допущение предельной невозможности существования здесь–бытия как «моего». Для Бадью смерть (конечность и смертность) — то, что у нас общего с животными, а подлинно человеческим измерением оказывается «бессмертие», ответ на призыв «вечного» события. Вопреки противоположности, у Хайдеггера и Бадью одна и та же матрица — оппозиция подлинного вовлеченного существования и безымянной эгоистичной жажды, участия в жизни, в которой вещи — это просто «функция». Уникальная позиция мусульманина опровергает оба полюса этой оппозиции: сказать, что он ведет неподлинную жизнь безличного существа (das Man) на том основании, что он не вовлечен в аутентичный экзистенциальный проект, значит проявить крайний цинизм. Мусульманин находится где–то в другом месте, он — третий член, нулевой уровень, подрывающий саму оппозицию между подлинным существованием и безличным существом (das Man). Этот нечеловеческий «неделимый остаток» человеческого, это существование вне свободы и достоинства, более того, вне самой оппозиции добра и зла характеризует современную посттрагическую позицию, куда более чудовищную, чем любая классическая трагедия. Если же эту позицию все–таки описывать в терминах греческих трагедий, то нужно сказать, что исключительный статус мусульман объясняется тем, что они находятся в запретной зоне, зоне невыразимого ужаса: лицом к лицу сталкиваются они с самой вещью.
Доказательством тому служит еще одна черта, отмеченная очевидцами: взгляд мусульманина. Это десубъективированный, пронизывающий насквозь взгляд, в котором тотальное бесстрастное равнодушие (угасающие «искры жизни», вовлеченного существования) совпадает с жуткой напряженной фиксацией, такой, будто взгляд замерз, оказался обездвиженным от увиденного, оттого, на что нельзя смотреть. Нет ничего удивительного в том, что в связи с этим взглядом вспоминают о голове Горгоны: помимо змеиных волос, ее отличает раскрытый будто в шоке, застывший в удивленной неподвижности рот и пронзительный взгляд широко открытых глаз, уставившихся на неименуемый источник ужаса, чье положение совпадает с нашим, положением зрителя. На более глубоком уровне мы сталкиваемся здесь с позитивизацией невозможности, из которой прорастает объект–фетиш. Как же объект–взгляд превращается в фетиш? Посредством гегелевского превращения невозможности видеть объект в объекте, который материализует саму эту невозможность: поскольку субъект не может прямо видеть эту смертоносно чарующую вещь, он совершает что–то вроде обращения–внутрь–себя–самого, посредством которого чарующий его объект становится самим взглядом. В этом смысле (хотя и не совсем симметрично), взгляд и голос — «рефлексивные» объекты, т. е. объекты, материализующие невозможное, «матемы», как сказал бы Лакан. Может быть, лучшим кинематографическим примером этого будет падение заколотого детектива Арбогаста со ступенек в хичкоковском «Психе»: пронзительный взгляд его неподвижной головы, снятый на движущемся фоне (вопреки тому, что обычно происходит в «реальности», где неподвижным остается фон, а голова движется), смотрит с блаженным выражением куда–то по ту сторону обычного ужаса, смотрит на вещь, что убивает его. У этого взгляда есть предшественники. Это пронизывающий взгляд Скопи в сновидении из «Головокружения». Это пронзительный взгляд летящего на пир убийцы из раннего недооцененного шедевра «Убийца» [69]. Где же здесь объект–взгляд? Это не тот взгляд, которым мы смотрим, но то, что смотрит, т. е. взгляд самой камеры, в конечном счете наш собственный (зрительский) взгляд. Мусульманина как раз–таки и характеризует этот нулевой уровень, на котором больше невозможно четко отличить взгляд от воспринимаемого им объекта, уровень, на котором сам шокированный взгляд становится предельным объектом ужаса.
Неожиданная истина этого возвышения Холокоста до невыразимого зла оборачивается неожиданным превращением в комедию: если никакая трагическая постановка не может быть адекватной ужасу Холокоста, то единственный выход из этого затруднительного положения — обратиться к комедии, которая, по крайней мере, загодя прием- лет неудачу передачи ужаса и, следовательно, проецирует этот ужас в свое собственное повествовательное содержание, в расщелину между запредельным ужасом происходящего (истребления евреев) и постановкой, организованной евреями ради выживания [70]. Успех фильма Бениньи «Жизнь прекрасна», кажется, отмечает начало нового жанра, невообразимого десятилетие назад, жанра комедии Холокоста. В сезоне 1999–2000 гг, вышел на экраны фильм «Лжец Якоб» с Робином Вильямсом, — римейк старой классики, снятой в ГДР на студии «Дэфа», В нем рассказывается история владельца маленького магазинчика в гетто, который ежедневно сообщает своим напуганным товарищам приободряющие их новости о приближающемся конце Германии, якобы услышанные им по имеющемуся у него радиоприемнику. В этом же сезоне появился и американский фильм, сделанный по румынскому «Поезду надежды». В этой истории жители маленькой еврейской общины, когда приходят нацисты и собираются отправить их всех в лагерь смерти, организуют «левый» поезд с нацистскими охранниками, садятся в него и вместо лагеря, конечно же, отправляются на свободу. Интересно отметить, что все три фильма центрируются вокруг лжи, позволяющей евреям справиться с тяжелым испытанием и выжить.
Проблематичность природы этого жанра возникает тогда, когда мы противопоставляем ему ранние, другого типа комедии Холокоста — «Великого диктатора» Чаплина, сделанного еще до второй мировой войны, «Быть или не быть» Любича 1942 года и попытки комедии Холокоста «Паскуалино — Семь красоток» Лины Вертмюллер 1975 года [71]. Первое, на что стоит обратить внимание, — над чем здесь смеются, ведь вo всех этих фильмах есть порог; который не переступается. Скажем, в принципе можно с легкостью представить себе «мусульман» в качестве объекта, вызывающего смех автоматическими бездумными движениями. Однако совершенно очевидно, что такой смех будет этически совершенно неприемлем. Более того, вопрос, которым здесь необходимо задаться, предельно прост: ни один из этих фильмов не является стопроцентной комедией, и в какой–то момент смех или сатира прекращаются и мы сталкиваемся с серьезным посланием. Так что вопрос таков: что это за момент? В чаплинском «Великом диктаторе» это очевидно патетическая заключительная речь бедного еврейского брадобрея. который, оказывается, занимает место Хайнкеля (Гитлера). В фильме «Жизнь прекрасна» это, наряду с прочим, и самая последняя сцена, в которой, вслед за появлением танка, мы видим ребенка после войны, счастливо обнимающего свою мать на зеленом лугу, а голос за кадром благодарит отца за то, что тот принес себя в жертву ради жизни сына. Во всех этих случаях есть некий патетический момент искупления. Именно его и не хватает в «Семи красотках». Если бы Вертмюллер снимала «Жизнь прекрасна», то фильм закончился бы выстрелом из американского танка по ребенку, ошибочно принятому за одинокого нацистского снайпера. В «Семи красотках» речь идет о карикатурном энергичном итальянце Паскуалино, одержимом семейной честью (Джанкарло Джаннини защищает честь своих семи не слишком уж красивых сестер), который приходит к выводу, что, если ему суждено выжить, то он должен соблазнить пухлую беспокойную женщину–коменданта. Мы становимся очевидцами его попыток предложить себя в эрегированном состоянии, в состоянии готовности к успеху своего предприятия… После успешного соблазнения он становится капо, и, чтобы спасти людей, оказавшихся под его началом, ему предстоит убить шестерых, в том числе и лучшего друга, Франческо.
Как и в прочих случаях, комедия попадает в тиски диалектического напряжения, впрочем, не в тиски искупительной патетики. Как мы видели, во всех остальных комедиях Холокоста в какой–то момент комедия прекращается, и мы оказываемся перед серьезным патетическим сообщением: заключительной речью бедного еврейского брадобрея Хайнкеля—Гитлера в «Великом диктаторе», речью польского актера, играющего Шэйлока в «Быть или не быть», финальной сценой «Жизнь прекрасна», когда ребенок воссоединяется с матерью и вспоминает жертвоприношение отца. В «Семи красотках», однако, комедия оказывается в тисках далекого от патетики ужаса — ужаса жесткой логики выживания в концентрационном лагере. Смех выносится за пределы «хорошего вкуса», он наталкивается на сцены сжигания трупов, на людей, совершающих самоубийство, прыгая в яму, полную человеческих экскрементов, на героя перед жестоким выбором необходимости стрелять в своего лучшего друга. Перед нами здесь не патетическая фигура маленького хорошего человека, сохраняющего героическое достоинство в чудовищных условиях, а жертва–превращающаяся–в–угнетателя, явно утрачивающая свою моральную невинность. Здесь нет заключительного сентиментального искупительного послания.
9. ОТЦЫ, КРУГОМ ОДНИ ОТЦЫ
В общем, деполитизацию Холокоста, его возведение в ранг предельного зла, некоего неприкасаемого исключения, недоступного «нормальному» политическому дискурсу, можно расценить и как политический акт крайне циничной манипуляции, политической интервенции, нацеленной на узаконивание определенных иерархических политических отношений. Во–первых, этот акт — часть постмодернистской стратегии деполитизации и/или виктимизации, превращения человека в жертву. Во–вторых, этот акт дисквалифицирует те формы насилия в странах третьего мира, за которые западные государства (но не только) несут ответственность; и насилие это подается как некое незначительное зло в сравнении с Абсолютным Злом Холокоста. В-третьих, этот акт служит для того, чтобы бросить тень на любой радикальный политический проект, т. е. чтобы подвергнуть запрету мысль (Denkverbot) радикального политического воображения: «Вы что, не понимаете, что ваши предложения в конечном счете приведут нас к Холокосту?»
Вопреки своей ограниченности, фильм Бениньи все же бесконечно превосходит своего «серьезного» двойника, «Список Шиндлера». В некоторых фильмах, снятых великими европейскими режиссерами, встречаются сцены, представляющие собой предельно претенциозный обман. Например, сцена десятка совокупляющихся пар в красно- желтой пыли долины Смерти из кинофильма Антониони «3абриски пойнт». Подобные сцены идеологичны в худшем смысле слова. Коммерческий кинодвойник такого претенциозного блефа — сцена, вобравшая в себя всю фальшь Спилберга. Впрочем, многие критики превозносили именно эту сцену из «Списка Шиндлера» как самую сильную с точки зрения игры обладателя «Оскара» Ральфа Финнеса. Речь, конечно же, идет о сцене, в которой комендант концентрационного лагеря встречается с одной заключенной, красивой еврейской девушкой. Мы сгущаем его длинный квазитеатральный монолог, пока застывшая в испуге от смертельного ужаса девушка молча смотрит перед собой. Его желание разорвано, ибо, с одной стороны, она его привлекает сексуально. но, с другой стороны, он считает её недостойным объектом любви в силу её еврейского происхождения. Это — яркий пример конфронтации разделенных субъекта и объекта — причины его желания.
Эту сцену обычно описывают как битву между общечеловеческим влечением и расистскими предубеждениями. В конечном счете, ненависть расиста одерживает верх и он прогоняет девушку. Что же такого фальшивого в этой сцене? Напряжение сцены якобы заключается в радикальной несоизмеримости двух субъективных перспектив: то, что ему представляется легким флиртом, маленьким любовным приключением, для нее — вопрос жизни и смерти. Мы видим в девушке до предела запуганное человеческое существо, в то время как он обращается даже не столько непосредственно к ней, сколько к некоему объекту служащему лишь предлогом для его громогласного монолога… Ошибочным же в этой сцене является тот факт, что она представляет (психологически) невозможную позицию высказывания субъекта, т. е. что она передает его расщепленное отношение к запутанной еврейской девушке в качестве его прямого психологического самоощущения. Единственно верный способ, которым можно было бы передать подобное расщепление, это постановка такой сцены (противопоставления еврейской девушке) в духе Брехта, т. е. с актером в роли нацистского злодея, который прямо обращается к публике: «Я, комендант концентрационного лагеря, считаю эту девушку сексуально очень привлекательной; я могу делать со своими заключенными все, что захочу, я могу ее безнаказанно изнасиловать. Однако я обременен расистской идеологией, которая говорит мне, что евреи — грязные и потому не заслуживают моего внимания. Так что я не знаю, какое же решение мне принять…»
Фальшь «Списка Шиндлера», таким образом, та же, что и фальшь тех, кто пытается найти ключ к ужасам нацизма в психологическом портрете Гитлера и других нацистов (или тех. кто анализирует патологию индивидуального развития Сталина, чтобы понять сталинский террор). Несмотря на свой в целом проблематичный тезис о «банальности зла», в одном по крайней мере Ханна Арендт права: если взять Адольфа Эйхманна как психологическое существо, как человека, то мы не найдем в нем ничего ужасного; он — типичный бюрократ, т. с. психологический портрет не даст нам никакого ключа к пониманию тех ужасов, которые он вытворял. В заблуждение вводит и исследование психических травм и колебаний лагерного коменданта, предпринимаемое Спилбергом. Мы сталкиваемся в этом случае с проблемой взаимоотношения социальной и индивидуальной патологии. Первое, что нужно сделать, это, конечно же, разграничить эти два уровня. Сталинская система действительно функционировала как перверсивная машина, но из этого не следует заключать, что большинство сталинистов было извращенцами. Общее описание структуры политико–идеологического здания сталинизма ничего нам не говорит о психической экономике отдельных сталинистов. которые вполне могли быть извращенцами, истериками, параноиками или страдать навязчивыми состояниями. И хотя нет ничего противозаконного в том, чтобы описывать социальную либидную экономику сталинистского политико–идеологического здания в целом, без доставления индивидуальных психологических портретов сталинистов как первертов, все же нам следует избегать и ловушки, стоящей на социальном уровне в виде дюркгеймовской автономии «объективного Духа», существующего и функционирующего независимо от подчиненных ему индивидов. Предельная реальность не есть пространство между субъективными патологиями и патологией «объективной», вписанной в саму политико–идеологическую систему: такое прямое суждение об этом пространстве оставляет без объяснения то, как субъект принижает эту независимую от его субъективных психических флуктуаций «объективную» систему. Иначе говоря, никогда не следует забывать о том, что различие между «субъективными» патологиями и либидной экономикой «объективной» идеологической системы суть, в конечном счете, нечто присущее субъекту: «объективная» социосимволическая система существует до тех пор, пока субъекты воспринимают ее в качестве таковой. Именно к этой загадке и обращено лакановское понятие Большого Другого. Большой Другой — измерение непсихологических, социальных, символических отношений, воспринимаемых субъектом в качестве таковых. Иначе говоря, это измерение символического института. Когда субъект, скажем, встречается с судьей, он прекрасно понимает, как отличить субъективные особенности этого судьи как человека и тот «объективный» институциональный авторитет, которым он наделен, будучи судьей. Пространство, зазор возникает между моими словами, когда я произношу их как частное лицо, и словами, которые я произношу как лицо, облеченное властью институции, когда эта институция говорит через меня. Лакан в этом вопросе не занимает сторону Дюркгейма: он против любого овеществления институции. Ему хорошо известно, что институция возникает здесь лишь в качестве перформативного эффекта деятельности субъекта. Институция существует только тогда, когда субъекты в нее верят или, точнее, ведут себя так (в их социальном взаимодействии), будто верят в нее. Так что перед нами может быть глобальная перверсивная политико–идеологическая система и индивиды, которые представляют в отношении этой системы истерические, паранойяльные и прочие черты.
Исходя из этого, совершенно понятно, почему в представлении Ханны Арендт о «банальности зла» тезис о безразличии нацистских палачей (которыми двигала не патологическая ненависть, а хладнокровное равнодушие бюрократической эффективности) недостаточен. Ярая ненависть, которую субъекты психологически больше не переживают, переносится (воплощается, материализуется) на «объективную» идеологическую систему, которая узаконивает их деятельность. Они могут позволить себе быть безразличными, поскольку от их лица «ненавидит» сам «объективный» идеологический аппарат. Принципиально важным для понимания того, как функционируют «тоталитарные» системы, оказывается понятие «объективированного» личного переживания, освобождающего субъект от ответственности за переживания и допускающего либидную позицию идеологии, которой он следует. Мы сталкиваемся здесь с феноменом, который строго гомологичен феномену законсервированного в банке смеха. Возникает даже искушение сказать: законсервированной в банке ненависти. Нацистский палач, действующий подобно холодному бюрократу, равнодушный к положению своих жертв, вполне напоминает субъекта, который может поддерживать усталое безразличие к комедии, которую он смотрит, пока идущий из телевизора звук представляет ему смех, смех от его лица (или, в случае марксистского товарного фетишизма, буржуазный индивид может себе позволить быть в его субъективном самоощущении пользователем–рационалистом — фетишизм проявляется в самих товарах) [72]. Ключ же к лакановскому решению проблемы отношений субъективного либидного переживания и либидной экономики, воплощенной в Большом Другом, объективном символическом порядке, в том, что пространство между ними является изначальным и конститутивным: не существует исходного непосредственного переживания себя, которое затем, неким вторым шагом, «овеществлялось» бы, объективировалось в действии символического порядка. Сам субъект возникает в результате смещения его внутреннего самоощущения на «овеществленный» символический порядок. Именно так можно прочитать лакановскую матему субъекта, «перечеркнутого субъекта», S: субъект опустошен тем фактом, что он лишен своего внутреннего фантазматического ядра, перенесенного на «овеществленного» Большого Другого. По этой причине субъект без минимального «овеществленного» символического института просто невозможен.
Куда точнее передан ужас Холокоста в другой сцене «Списка Шиндлера». Речь идет о той сцене, в которой мы видим еврейских детишек в поисках места, где можно было бы спрятаться (в шкафах, туалетах…) от нацистских головорезов, занятых обыском домов в гетто. Эта сцена снята легко, как будто она описывает детскую игру. Сцена сопровождается легкой оркестровой музыкой, типичной для фильмов Вильяма Вайлера, знакомящих с идеализированной жизнью маленького американского городка. Сцена эта оказывается невыносимой в силу напряжения, возникающего между детской игрой в прятки и надвигающимся кошмаром. Таким же образом и «Жизнь прекрасна» Бениньи справляется с фальшивым вопросом «психологии Холокоста». История, рассказываемая в фильме, хорошо известна: когда итальянского еврея арестовывают и отправляют в Освенцим вместе с сыном, он прибегает к отчаянной стратегии защиты своего сына от травмы представлением ему происходящего в виде соревнования, в котором нужно следовать всем правилам (есть как можно меньше и т. д.), чтобы заработать как можно больше очков и выиграть американский танк. (Отец переводит на итальянский язык приказы, выкрикиваемые злобными немецкими охранниками, как правила игры.) Чудо фильма в том, что отцу удается поддерживать эту игру до самого конца. Даже когда перед самым освобождением лагеря союзниками его уводит на расстрел немецкий солдат, он подмигивает сыну (скрывающемуся в близстоящей будке) и начинает маршировать забавным гусиным шагом, будто играет с солдатом в игру…
Ключевым моментом фильма, по–видимому, можно считать ту сцену, в которой ребенок устает от игры, требующей от него стольких лишений (нехватку пищи, необходимость часами прятаться), и заявляет отцу, что хочет домой. Отец невозмутимо соглашается, но затем с притворным равнодушием сообщает сыну, как рады будут его соперники, узнав, что он выходит из игры, ведь сейчас он на много очков опережает всех. Короче говоря, он искусно манипулирует желанием Другого. Так что, когда, наконец, перед дверьми отец говорит сыну: «Хорошо, войдем, я не могу тебя ждать весь день!», сын вдруг меняет свое решение и просит отца остаться. Напряжение этой сцены, конечно же, создается за счет того, что нам, зрителям, прекрасно известно: предложение отца отправиться домой — это ложный выбор, чистый блеф: если они сделают хоть шаг за пределы барака, где скрывается его сын, того тотчас отправят в газовую камеру. Здесь, по–видимому, коренится фундаментальная функция защищающего отца: под предлогом (фальшивого) выбора он дает возможность субъекту–сыну свободно выбирать неизбежное благодаря конкурентному призыву желания Другого…
Этот совсем не пошлый фильм в своем комическом аспекте оказывается куда более уместным для разговора о Холокосте, чем псевдосерьёзные попытки на ту же тему а-ля «Список Шиндлера». Он проясняет, как так называемое человеческое достоинство полагается на крайнюю потребность сохранения минимума защиты. Разве не так же поступают с нами все наши отцы, хотя и не в столь драматических обстоятельствах? Так что не стоит забывать, что защищающий отец все же завершает работу символической кастрации: ему удается отделить сына от матери и ввести его в диалектическую идентификацию с желанием Другого (его ровни) и, таким образом, приучить его к жестокой реальности внешнего по отношению к семье мира. Фантазматический щит — лишь великодушная выдумка, позволяющая сыну установить соглашение с грубой реальностью. Отец не защищает сына от жестоких реалий лагеря, но лишь окружает его символическим вымыслом, который делает реальность терпимой. Разве не в этом заключается главная функция отца? Если мы становимся «взрослыми» и больше не нуждаемся в такой защите, то в известном смысле мы никогда на самом деле не достигаем «зрелого» возраста. Мы лишь меняем одну защиту на другую, более «абстрактную». Сегодня, во времена безудержного «срывания масок с ложных явлений» (начиная с традиционной левой критики идеологического лицемерия моральности или власти и заканчивая американским те- левидением, где люди в ток–шоу публично рассказывают о своих самых сокровенных тайнах и фантазиях), картина Бениньи представляет вымысел как спасение, что не может не трогать зрителя. Единственное, что остается здесь проблематичным, — это то, как фильм обращается к своим зрителям. Разве не создает Бениньи–отец подобного рода вымышленный щит, защищающий от травматической реальности концентрационного лагеря? Разве не поступает режиссер подобным же образом и со своими зрителями? Иначе говоря, разве не обращается он со своими зрителями, как с детьми, которых нужно защищать от ужасов Холокоста, рассказывая им «безумную» сентиментальную и забавную сказку отца, спасающего своего сына, сказку, которая позволяет хоть как–то справиться с историческими реалиями Холокоста?
Фильм Бениньи стоит противопоставить недавно вышедшему фильму, в котором отцовская фигура — монстр, насилующий своих детей, В фильме Томаса Винтерберга «Торжество» (Дания, 1998) гадкий отец далек от того, чтобы защищать своих детей от травмы, ибо сам он и есть причина травмы. В одном случае перед нами отец, фактически играющий материнскую защищающую роль, отец, полагающийся на чистую видимость, отец, плетущий для своего сына защитную паутину вымысла, своего рода эрзац–плацебо. В другом случае перед нами фигура отца, суть которой — реальное неудержимое насилие, потому она провоцирует радикальный демонтаж всех защитных фикций. Мы видим его таким, каков он есть, — жестоким, наслаждающимся… «Торжество» — потрясающий фильм с точки зрения точности описания статуса авторитета. В начале фильма отец жалуется на то, что его никто не уважает: его перебивают, когда он рассказывает сыну грязный анекдот. Подобная ситуация повторяется ближе к концу фильма, только теперь она взрывается. Видимость (вежливого ритуала трапезы) нарушается после того, как дочь читает вслух предсмертное письмо своей сестры, изнасилованной отцом и покончившей с собой. После этого отец требует стакан вина для себя и для дочери, чтобы выпить за ее прекрасную речь, и затем, когда никто не двигается с места, начинает орать, жалуясь на отсутствие к нему уважения. Вот оно — уважение в чистом виде, уважение к фигуре авторитета, вопреки тому, что он проявляет неуважение, бестактность, гнусность… Еще один важный урок этого фильма заключается в том, насколько на самом деле сложно прервать поддерживающий видимость ритуал: даже после повторного, приводящего в смущение разоблачения преступления отца ритуал ужина «воспитанных» продолжается. Упорствует здесь не реальное травмы, которая возвращается и сопротивляется символизации, но собственно символический ритуал. Короче говоря, радикальная версия этого фильма выглядела бы так, что собравшаяся компания выслушала бы произнесенные в отчаянии (и при этом спокойным тоном) обвинения в адрес отца за то, что тот изнасиловал свою дочь, как праздничный тост.
Впрочем, в связи с этим фильмом возникают кое–какие проблемы. Здесь важно избежать ловушки понимания этих двух противоположных полюсов (защищающий отец Бениньи и гнусный отец Винтерберга) как противостояния видимости и реальности, как оппозиции чистой видимости (защищающего материнского отца) и реального насильника, обнаруживающегося, как только мы срываем фальшь видимого. «Торжество» многое проясняет нам в т. н. синдроме ложных воспоминаний (о родительских домогательствах), который есть не что иное, как возвращение к жизни призрачной фигуры фрейдовского праотца, сексуально овладевающего всеми вокруг. Фильм проясняет искусственный, вымышленный характер этой фигуры. Иначе говоря, простой сентиментальный просмотр «Торжества» говорит нам: что–то не так, что–то фальшивое связано со всеми этими псевдофрейдовскими рассуждениями о «демистификации буржуазного отцовского авторитета», в демонстрации отвратительных сторон его характера. Сегодня такого рода «демистификация» звучит фальшиво и по сути своей фальшива. Она все больше и больше функционирует как постмодернистский пастиш на старые добрые времени, когда еще можно было переживать такого рода «травмы». Почему? Перед нами здесь нет никакой оппозиции между видимостью (великодушного, защищающего отца) и жестокой реальностью (чудовищного насильника), которая проявляется в тот момент, когда мы демистифицируем тление. Напротив, как раз–таки ужасная тайна скрывающегося за вежливой маской жестокого отца оказывается фантазматической конструкцией. Недавно возникшая проблема с «Фрагментами» Биньямина Вилкомирского указывает в том же направлении: то, что все приняли за подлинные смутные воспоминания автора, когда тот в возрасте 3–4 лет был заключенным Майданека, оказалось его литературным вымыслом. Помимо традиционного вопроса о литературной манипуляции, возникает и другой вопрос: осознаем ли мы, насколько эта «подделка» обнаруживает фантазматические инвестиции и оперативное наслаждение в самых болезненных и экстремальных условиях? Иначе говоря, загадка заключается в следующем: мы порождаем [фантазии как своего рода щиты, защищающие нас от невыносимых травм; здесь же самый травматичный опыт, опыт Холокоста, придумывается, чтобы служить щитом. Но от чего он призван защищать? Такие чудовищные видения — «возвращения реального» потерпевшего неудачу символического авторитета: повтор падения отцовского авторитета, неудача отца как воплощения символического Закона оборачиваются появлением отца–насильника синдрома ложных воспоминаний. Эта фигура гнусного насильника отца, далекого от реального, скрывающегося за респектабельной внешностью, скорее сама по себе уже является фантазийным образованием, щитом. Щитом, защищающим от чего? Разве отец–насильник синдрома ложных воспоми- наний не служит» вопреки своим ужасным чертам» последним гарантом существования полного, ничем не сдерживаемого наслаждения? А что» если настоящий ужас — в отсутствии наслаждения?
Общее между этими двумя отцами (Бениньи и Винтерберга) в том, что оба они приостанавливают действие инстанции символического Закона/Запрета, т. е. отцовской инстанции, чья функция заключается во введении ребенка в универсум социальной реальности со всеми ее грубыми запросами, реальности, перед которой ребенок оказывается без материнской защиты: отец Бениньи предлагает воображаемый щит, который должен защитить от травматической встречи с социальной реальностью, а отец–насильник Винтерберга — это еще и отец без каких–либо ограничений (символического) Закона, получающий удовольствие от доступа к полному удовольствию. Эти два отца вполне соотносятся с лакановской оппозицией воображаемого и реального: поборник воображаемой безопасности Бениньи и беззаконная жестокость реального. Не хватает же здесь отца как носителя символического авторитета, имени отца, запрещающей «кастрирующей» инстанции, которая позволила бы субъекту войти в символический порядок и, тем самым, в сферу желания. Эти два отца, воображаемый и реальный, являют собой то, что остается после дезинтеграции отцовского символического авторитета. Так что же происходит с функционирующим символическим порядком после того, как символический Закон уже не действует, после того, как он больше не способен исправно функционировать? В результате перед нами появляются такие субъекты, которые странным образом дереализованы, или даже точнее — депсихологизированы. Мы имеем дело с как бы роботоподобными марионетками, подчиняющимися странному заводному механизму. Они напоминают о том, как снимают мыльные оперы в Мексике. Поскольку график съемок крайне напряжен (студия должна снимать каждый день не менее 30 минут), то у актеров нет времени учить текст заранее, и поэтому в ушах у них прячут маленький наушник и сидящий в будке суфлер просто дает им инструкции, что делать, что говорить и т. д. Актеры должны лишь действовать без промедления.
Этот парадокс мы и должны держать с вами в уме: сегодняшнее господство «психологизации» социальной жизни (поток психологических самоучителей от Дейла Карнеги до Джона Грэя, пытающихся убедить нас в том, что путь к счастливой жизни можно найти в самих себе, в психической зрелости и самообнаружении; общественные откровения в стиле Опры Винфри; то, как политики публично делятся своими травмами и заботами, дабы оправдать те или иные политические решения) — это маска (или форма проявления) своей полной противоположности, а именно нарастающей дезинтеграции собственно «психологического» измерения настоящего переживания; "личности", с которыми мы сталкиваемся, все чаще и чаще напоминают индивидов, говорящих подобно марионеткам, повторяющим заранее записанное сообщение. Вспомните проповедников времен нью–эйджа, убеждавших нас в том, что мы должны найти себя, обнаружить подлинную самость: разве манера их обращения не противоречила посланию — одни и те же автоматически заученные фразы… Этим, кстати, объясняется собственно жутковатый эффект, производимый нью–эйджевскими проповедниками. За их добрыми, открытыми речами скрывалось что–то невыразимо чудовищное.
Лучше разобраться в этом вопросе поможет нам еще один пример из современного кинематографа. Чем можно объяснить успех «Спасти рядового Райана» Стивена Спилберга? Как подчеркивал Колин Маккейб, открыто антивоенное жестокое описание ужасов военной кровавой бойни стоит воспринимать на фоне того, что с оговорками можно отнести к радикальным урокам американской военной интервенции — операции «Лисица в пустыне» против Ирака в конце 1998 года. Это операция «сигнализировала о новой эре в военной истории — о баталиях, в которых атакующая сторона действует с ограничениями, так, чтобы нс понести вообще никаких потерь» [73]. (Этот же вопрос обсуждается вновь и вновь во всех американских дебатах по поводу военных вторжений, от Сомали до бывшей Югославии: все ждут лишь гарантий, что потерь не будет.) И разве не звучали контрапунктом почти сюрреалистические сводки компании Си–Эн–Эн с театра военных действий? Война не только в Америке воспринималась как телесобытие, но, казалось, к ней так же относятся сами иракцы: в течение дня Багдад — «нормальный» город, по которому ходят люди, занятые своими делами, будто война и бомбардировки — ирреальный призрак из ночного кошмара, появляющийся лишь ночью и не существующий в актуальной реальности.
Однако это стремление стереть смерть с поля военных событий не должно побудить нас подписаться под общепринятым утверждением, что война менее травматична, если ее переживает не солдат, встречающийся в действительности с другим человеком, которого он должен убить, а когда это — некая абстрактная деятельность перед экраном или за пультом, расположенными вдали от места взрыва (подобно тому, как выводят ракету на корабль, находящийся в сотнях миль от того места, где его берут под прицел). В то время как такая процедура действительно снимает с солдата часть вины, она подымает вопрос: снижается ли на самом деле эмоциональное напряжение? Тот факт, что солдаты часто фантазируют о встрече с врагом лицом к лицу, о том, как его можно вбить, как можно посмотреть ему в глаза, прежде чем вонзить в него свой штык, может быть понят как своего рода версия сексуального синдрома ложных воспоминаний: они зачастую «вспоминают» о таких встречах, хотя на самом деле их никогда не было. Существует богатая литературная традиция, превозносящая такие встречи лицом к лицу как подлинные военные переживания (например, сочинения Эрнста Юнгера, воздающего хвалу таким встречам в своих воспоминаниях о траншеях и атаках времен первой мировой войны). А что, если по–настоящему травматичным оказывается не понимание того, что я убиваю другого человека (которое необходимо стереть через «дегуманизацию» и «объективизацию» войны, превращаемой в техническую процедуру), но, напротив, сама эта объективация, порождающая необходимость восполняться фантазиями о подлинных личных встречах с врагом? Это, таким образом, не фантазия о чисто асептической войне, разыгрывающейся подобно компьютерной игре на экранах, защищающих нас от реальности убийства лицом к лицу. Все как раз–таки наоборот: именно эту фантазию встречи лицом к лицу с врагом, которого кровавым образом убиваешь, мы конструируем, чтобы избежать реальное, деперсонализированное, превращенное в безымянный технологический аппарат. Вспомним, что было после американской атаки на Ирак во время войны в Персидском заливе: никаких фотографий, никаких сообщений, только слухи о танках и бульдозерах, засыпающих землей и песком иракские траншеи вместе с тысячами солдат. Происходящее расценили как якобы слишком жестокое во всей этой механической эффективности, как слишком уж отличающееся от распространенных представлений о героической схватке лицом к лицу. Такие картины слишком бы возбудили общественное мнение, так что они были подвергнуты строжайшей цензуре. Здесь перед нами два взаимосвязанных аспекта: новое представление о войне как о чисто технологическом событии, разыгрывающемся на радарах и компьютерных экранах, без жертв, и с крайней физической жестокостью, невыносимой на взгляд средств массовой информации, — не покалеченные дети и изнасилованные женщины, жертвы, высмеиваемые местными этническими «военными баронами–фундаменталистами», но тысячи безымянных солдат, жертв безымянной технологической военщины. Когда Бодрийар заявил, что войны в Заливе не было, то утверждение это можно было прочитать и в том смысле, что на ее травматические картины в роли реального наложили полный запрет…
Теперь наш тезис будет совершенно понятен: спилберговский «Райан» связан с понятием виртуализованной войны без жертв именно так, как Фестен связан с фильмом «Жизнь прекрасна» Бениньи. И в том, и в другом случае мы не имеем дела с символическим вымыслом (виртуальной бескровной войны, повествования защитного характера), скрывающим реальное бессмысленного кровавого сексуального насилия. И в том, и в другом случае само насилие уже играет роль фантазируемого предохранительного щита. Здесь коренится один из фундаментальных уроков психоанализа: картины самой разрушительной катастрофы, далекие от того, чтобы открыть доступ к реальному, могут функционировать как предохранительный щит, защищающий от реального. В сексе, так же как и в политике, мы находим убежище в катастрофических сценариях, чтобы избежать настоящего тупика. Короче говоря, настоящий хаос вызывает не Праотец–насильник, против которого благородный материнский отец защищает нас своим фантазийным щитом, но как раз–таки этот милосердный материнский отец. Было бы по–настоящему удушающим, психозогенным опытом для ребенка иметь такого отца, как Бениньи, который своей защищающей заботой стирает все следы избыточного прибавочного наслаждения. Именно как об отчаянных защитных мерах против этого отца человек фантазирует об отце–насильнике. Другой проблематичный аспект этой новой волны фильмов — присущая им идеология виктимизации, которая странным эхом отдается в этнополитических вопросах, возникших в последние годы. В не так давно написанном эссе под названием «Косово и конец национального государства» Вацлав Гавел пытается провести следующую мысль: блок НATO, бомбивший Югославию, «ставит права человека выше прав государства. Федеративная Республика Югославия подверглась нападению сил альянса без непосредственной санкции со стороны ООН. Это не было безответственным актом, актом агрессии или неуважения международных прав. Напротив, это случилось со всем уважением к закону, закону. который стоит выше закона, защищающего суверенность государств. Альянс действовал из уважения к правам человека, что продиктовано и совестью, и международными юридическими документами» [74]. Далее Гавел уточняет, что это за «более высокий закон», когда говорит: «Права человека, человеческая свобода и человеческое достоинство уходят своими корнями далеко за пределы видимого мира. <…> В то время как государство — творение человека, человек — творение Бога» [75]. Если мы посмотрим на два утверждения Гавела как на две предпосылки для суждения, то вывод, который напрашивается сам собой, таков, что силам НАТО позволено нарушать существующий международный закон, поскольку они действовали как непосредственные исполнители «более высокого закона» самого Господа Бога, и, если это не случай «религиозного фундаментализма» в полном смысле слова, тогда это понятие лишено какого бы то ни было смысла. Утверждение Гавела являет собой разновидность того, что в своей статье в «Die Zuddeutsche Zeitung» в апреле 1999 года Ульрих Бек назвал «милитаристским гуманизмом» и даже «милитаристским пацифизмом». Проблема здесь не в том, что они представляют собой оруэлловский оксюморон, напоминая о лозунгах типа «Мир — это война» и тому подобных из «1984», а в том, что сами по себе они непосредственно изобличают истинность своей позиции. (В связи с этой очевидно пацифистски–либеральной критикой я думаю, что скорее фальшивой является пацифистская позиция типа «большее число бомб и убийств никогда не принесут мира», и что необходимо геройски одобрять парадокс милитаристского пацифизма.) Дело, кроме того, не в том, что цели бомбардировок очевидно не выбираются по чисто моральным соображениям, но избирательно зависят от геополити- ческих и экономических стратегических интересов (критика в марксистском стиле). Проблема скорее заключается в том, что эта чисто гуманитарно–этическая легитимизация (вновь) абсолютно деполитизирует военную интервенцию, превращая её тем самым из интервенции с четко установленными политическими целями в гуманитарную катастрофу, коренящуюся в чисто моральных основаниях. Иными словами, проблема «милитаристского гуманизма/пацифизма» не в «милитаристском», а в «гуманизме/пацифизме»: «милитаристское» вторжение (в социальную борьбу) представляется как помощь жертвам (этнических и прочих) ненависти и насилия и непосредственно оправдывается деполитизированными всеобщими правами человека. Следовательно, нам нужен не «подлинный» (демилитаризированный) гуманизм/пацифизм, но «милитаристское» социальное вторжение без каких–либо деполитизированных гуманистических/пацифистских одеяний.
Статья Стивена Эрланджсра о страданиях косовских албанцев в «Нью–Йорк таймс» [76] прекрасно передает эту логику виктимизации. Весьма показателен уже заголовок статьи: «Женщина Косово, символ страдания». Защищать (войскам НАТО) необходимо эту беззащитную жертву обстоятельств, эту напрочь лишенную политической идентичности, ни за что страдающую женщину. Ее положение сводится к чрезмерному страданию, травматическим переживаниям, превосходящим допустимые пределы. «Я такого насмотрелась, — говорит Мели. — Мне просто хочется от всего отдохнуть. Мне хочется, чтобы все это закончилось». Она далека от всех взаимных обвинений. Она даже и не думает о независимом Косово. Ей хочется лишь одного — чтобы весь этот ужас поскорее закончился. «Выступаете ли вы за независимость Косово?» — «Видите ли, меня не волнует, так это или эдак, — говорит Мели, — я хочу, чтобы все это кончилось, чтобы опять себя хорошо чувствовать, спокойно чувствовать себя на родине, дома, с друзьями и близкими». Она поддерживает вторжение иностранцев (НАТО) именно потому, что хочет прекращения этого кошмара: «Она хочет, чтобы здесь появились иностранцы, и ее совершенно не волнует, кем именно они будут». Таким образом, она всесторонне разделяет всеобщую гуманистическую позицию: «Все хлебнули горя. Мне очень жаль, — говорит она, — сербов, которые гибнут под бомбами, и мне жаль свой народ. Но, может быть, теперь найдут какое–то решение, может быть, войска к лучшему. Так будет лучше». Здесь мы сталкиваемся с идеологической конструкцией идеального субъекта–жертвы, нуждающегося в защите со стороны НАТО: не политический субъект, четко осознающий, что ему надо, но беззащитная, страдающая, сочувствующая всем сторонам конфликта женщина, попавшая в безумную мясорубку: остановить которую можно исключительно с помощью введения благородного иностранного контингента. Единственное сильное желание этой женщины предельно просто — это почти что животное стремление «опять себя хорошо почувствовать»…
Радикальный парадокс натовских бомбардировок Югославии, таким образом, заключается отнюдь не в том, на что сетуют западные пацифисты, мол, бомбардировками Югославии, нацеленными на предотвращение этнических чисток в Косово, НАТО на самом деле лишь усиливает широкомасштабные зачистки и как раз–таки создает ту самую гуманитарную катастрофу, которую намеревался предотвратить. Это более глубокий парадокс, вовлеченный в идеологию виктимизации. Ключевой аспект, на который стоит обратить внимание, — поддержка, которую НАТО оказывал ныне дискредитировавшей себя «умеренной» фракции косоваров Ибрагима Руговы, а не противостоящей ей «радикальной» Освободительной армии Косово. Это поддержка означала, что НАТО активно блокировал широкомасштабное вооруженное сопротивление самих албанцев. В тот момент, когда этот выбор был сделан, полились и слухи, что Освободительная армия Косово — на самом деле никакая не армия, а горстка необученных борцов сопротивления; мы не должны верить ОАК, поскольку они связаны с перевозкой наркотиков и или маоистской группой и их победа может привести к установлению в Косово режима типа Красных кхмеров или Талибана… Вместе с соглашением, согласно которому сербская армия выходила из Косово, это недоверие к ОАК обрело нотки возмездия: на повестке дня вновь была «опасность». На сей раз опасность того, что после вывода сербской армии ОАК — как сообщали источники НАТО и ряд средств массовой информации — «заполнит образовавшийся вакуум» и захватит власть. Недоверие это нельзя было выразить более точно: хорошо, что мы помогаем беззащитным албанцам в борьбе с сербскими чудовищами, но нельзя давать им возможность использовать эту беспомощность и заявить о себе как о независимом и самодостаточном политическом субъекте, субъекте, не нуждающемся в милосердном «протекторате» НАТО…
Короче говоря, пока блок НАТО осуществлял вторжение ради защиты косоварских жертв, он в то же время заботился и о том, чтобы они оставались жертвами, жителями разрушенной страны с пассивным населением, без какой–либо активной военной силы, способной на самооборону. Стратегия НАТО, тем самым, была перверсивной в самом точном фрейдовском смысле этого слова. Альянс сам (но не только) несет ответственность за те бедствия, от которых он предложил себя в качестве лекарства (подобно безумной гувернантке из «Героини» Патриции Хайсмит, которая поджигает свой дом, а затем выносит из бушующего пламени детей, чтобы доказать свою преданность семье). Здесь мы вновь сталкиваемся с парадоксом виктимизации: другой, которого нужно защищать, — хорош, пока он остается жертвой (именно поэтому нас бомбардировали картинами беспомощных косоварских матерей, детей и стариков, рассказывающих душещипательные истории о своих страданиях); в тот момент, когда он перестает вести себя как жертва и хочет сам защищаться, он тотчас магическим образом превращается в террориста, фундаменталиста, торговца наркотиками… Главное, четко увидеть в этой идеологии глобальной виктимизации, в этой идентификации (человеческого) субъекта в качестве «чего- то такого, что можно ранить», форму идеологии, которая вполне адекватна сегодняшнему глобальному капитализму. Эта идеология виктимизации суть та форма, в которой, по большей части незаметно для общественного глаза, обнаруживается реальное правящего капитала.
В каком именно смысле «логика капитала» является реальным сегодняшнего мира? Возьмем пример Южной Африки. Конец апартеида, конечно же, не был непосредственно обусловлен объективной «логикой капитала», универсализмом капитала, стремящегося преодолеть, нарушить все естественные границы. Конец апартеиду положила героическая борьба тысяч безымянных борцов за свободу. Тем не менее, как демонстрируют нынешние трудности правительства АНС, конец апартеида поставил перед черным большинством настоящую дилемму: стоит ли нарушать свободное функционирование капитала, чтобы разрушить наследие апартеида? Или они должны заключить пакт с дьяволом и, подобно Клинтону или «новым рабочим» в Великобритании, принять фундаментальную деполитизацию экономики и ограничиться борьбой за культурные, этнические, сексуальные и прочие права? Борьба за гегемонию в сегодняшней постмодернистской политике имеет предел: она сталкивается с реальным, когда затрагивает вопрос о нарушении работы свободно функционирующего капитала.
Согласно средствам массовой информации, когда на недавней встрече руководителей западных сверхдержав, посвященной политико–идеологическому понятию «третьего пути», итальянский премьер- министр Массимо д’Алема сказал, что не стоит бояться слова «социализм», Клинтон, а за ним Блэр и Шредер не могли удержаться от смеха. Этот анекдот свидетельствует о проблематичном характере сегодняшних разговоров о третьем пути. Важна же на самом деле здесь загадка второго пути: каков сегодня второй путь? Иначе говоря, не появляется ли понятие третьего пути в тот самый момент, когда, по крайней мере в развитых странах Запада, все прочие альтернативы, от подлинного консервативизма до радикальной социал–демократии, потерялись перед лицом триумфального натиска глобального капитализма с его идеей либеральной демократии? Разве настоящее содержание понятия «третий путь» не состоит в том, что не существует второго пути, что никакой настоящей альтернативы глобальному капитализму нет, так что, своеобразно пародируя псевдогегелевское отрицание отрицания, этот превозносимый «третий путь», можно сказать, ведет нас назад, к первому; и только первому пути. Третий путь — лишь глобальный капитализм с человеческим лицом, т. е. попытка свести к минимуму человеческие потери в глобальной капиталистической машинерии, чье функционирование остается незатронутым.
10. ФАНТАЗМАТИЧЕСКОЕ РЕАЛЬНОЕ
Здесь мы сталкиваемся с лакановским различием между реальностью и реальным: реальность — это социальная реальность людей, вовлеченных во взаимодействие и в производственные процессы, в то время как реальное — неумолимая абстрактная призрачная логика капитала, определяющая то, что происходит в социальной реальности. Этот разрыв ощутим, например, когда международные финансовые эксперты оценивают экономическую ситуацию в стране как хорошую и стабильную, даже если большая часть страны живет хуже, чем раньше. Реальность не имеет значения, важна лишь ситуация с капиталом… Каким же образом реальное фантазматической призрачности оказывается столь действенным в идеологии?
Эрик Сантнер рассматривает его функционирование на примере фрейдовской фигуры Моисея [77]. Травматичным в этой фигуре, в еврейском разрыве с языческой домонотеистической косморелигией Единой Природы, в которой сосуществует множество божеств, является не просто монотеистическое вытеснение языческого наслаждения (священнодействия, оргии, изображения…), но чрезмерно насильственная природа самого жеста вытеснения языческой вселенной и насаждения вселенского права Единого Закона. Иными словами, «"вытесненным" еврейского монотеизма является не богатство языческих священнодействий и божеств, а отринутая чрезмерная природа его собственного учредительного жеста, т. е., попросту говоря, преступление, которое устанавливает право самого Закона, насильственный жест, который приносит режим, делающий в ответ сам этот жест нелегальным, преступным. Сантнер намекает здесь на хорошо известный парадокс: «В нашем племени нет каннибалов, поскольку вчера мы съели последнего», принимая Моисея за образец такого окончательного каннибалистического уничтожения условий существования каннибализма. В сравнении с Моисеем Иисус — фигура последней трапезы, последней жертвы. Он будет умерщвлен и съеден. Согласно Рене Жирару, жертвоприношение Христа должно положить конец всем жертвоприношениям.
Сантнер проводит принципиальное различие между символической историей (набором проявленных мифических повествований и идеолого–этических предписаний, образующих традицию общины, ее «этическую субстанцию», как сказал бы Гегель) и ее непотребным другим — непризнанной, «призрачной», фантазматической тайной историей, которая по сути дела поддерживает проявленную символическую традицию, оставаясь при этом, чтобы быть действенной, замкнутой. Фрейд в своей книге о Моисее (об истории убийства Моисея и т. д.) пытается реконструировать подобную призрачную историю, преследующую пространство еврейской религиозной традиции. Сантнер прибегает здесь к очень точной формулировке, которая тотчас вызывает в памяти лакановское определение реального как невозможного из семинара «Еще»: призрачная фантазматическая история рассказывает о травматическом событии, которое «по–прежнему не имеет места» (Сантнер), которое невозможно вписать в собственно символическое пространство. порождаемое его вторжением. Как сказал бы Лакан, призрачное травматическое событие «пе cesse pas de ne pas s'écrire», т. е.«не прекращает не вписываться» [78] (и, конечно же, в качестве такового, не–существующего, оно продолжает упорствовать, т. е. его призрачное присутствие продолжает преследовать существующее). Человек становится полноправным членом сообщества, не просто когда он идентифицируется с проявленной символической традицией этого общества, но только тогда, когда он допускает призрачное измерение, которое поддерживает эту традицию неумирающих призраков, преследующих живущих, тайную историю травматических фантазий, передаваемых меж строк, в лакунах и искажениях проявленной символической традиции. В еврейской традиции хорошо известна история раввина, рассказавшею ученику легенду об одном еврейском пророке, которому явилось божественное видение. Так вот, когда ученик спросил его: «Это что, правда? Это что, случилось на самом деле?», раввин ответил: «Может быть, этого и не было на самом деле, но это правда» [79]. То же самое и история об убийстве первобытного отца и прочие фрейдовские мифы — в известной мере они реальнее реальности: они «истинны», хотя, конечно же, «на самом деле их не было», их призрачное присутствие поддерживает проявленную символическую традицию. Ссылаясь на недавно вышедшую работу Яна Хакинга [80], Сантнер проводит тонкую черту различия, отделяющую ею от общепринятого представления об изменении в нарративной сети, которая позволяет нам рассказать связную историю нашего прошлого: когда человек переходит от одного повествовательного регистра к другому, что позволяет ему «переписать прошлое», возникновение нового «описательного словаря» должно замкнуть/вытеснить травматический избыток своего собственного насильственного навязывания, этого «исчезающего посредника» между старым и новым дискурсивным режимом. И поскольку этот «исчезающий посредник» остается неинтегрированным, исключенным, он продолжает преследовать «актуальную» историю как ее призрачная Другая Сцена. Этот замкнутый («первовытесненный») миф, подводящий основание под правило Логоса, является, таким образом, не просто прошлым событием, но непрекращающимся призрачным присутствием, неумирающим призраком, который должен всегда настаивать на своем, чтобы присутствующая символическая решетка оставалась действенной.
Теперь мы можем взять на себя риск и сформулировать собственно диалектические отношения между вечностью и временем. «Вечность» не безвременна в простом смысле выхода за пределы времени. Скорее это имя события или эпизода, который поддерживает, открывает временное измерение как серию, последовательность неудачных попыток захватить вечность. Психоаналитическое название для такого события/эпизода, конечно же, травма: травма «вечна», ведь ее никак нельзя овременить, сделать достоянием истории. Она — точка «вечности», вокруг которой циркулирует время, т. е. это событие, доступное во времени исключительно через множество следов. Вечность и время (в смысле овременения/историзации), таким образом, отнюдь не противоположны, В известном смысле, без вечности не бывает времени, т. е. временность поддерживается нашей невозможностью схватить/символизировать/сделать достоянием истории «вечную» травму. Если бы травму можно было удачно овременить, сделать достоянием истории, то само измерение времени взорвалось бы, коллапсировало в безвременное вечное Сейчас. Здесь следует высказаться против историзма: историзму не удается принять во внимание указание на травматическую точку Вечности, которая поддерживает саму временность.
Нам здесь может помочь понятие Клода Леви—Строса «установление нулевого типа», Леви—Строс говорит о нем в «Структурной антропологии», когда проводит показательный анализ пространственного расположения жилищ у виннебаго, одного из племен, живущих в районе Великих Озер. Племя разделено на две группы («moieties», половины), «людей Верха» и «людей Низа»; когда их просили изобразить на бумаге или песке план деревни (пространственное расположение хижин), то получали две совершенно разные картины, в зависимости от того, к какой из половин принадлежал информант. И те, и другие воспринимали деревню в виде круга, но для одной группы в этом круге находился еще один круг с хижинами в центре, а для другой — круг четко разделялся границей на две части. Иными словами, члены первой группы (назовем ее «консервативно–корпоратистской») изображают деревню в виде кольца жилищ, более–менее симметрично расположенных вокруг центра, в то время как члены второй группы («вращающейся–антагонистической») — в виде хижин, разделенных невидимой границей [81].
Главное в этом примере для Леви—Строса заключается в том, что мы не должны поддаться соблазну и впасть в культурный релятивизм, в соответствии с которым восприятие социального пространства зависит от того, к какой группе принадлежит наблюдатель: само расщепление на две «относительные» формы восприятия подразумевает скрытое указание на константу — не на объективное, «актуальное» расположение построек, но на травматическую сердцевину, фундаментальный антагонизм населения деревни, который невозможно символизировать, объяснить, «интернализовать», привести в согласие, — неустойчивость в социальных отношениях предотвращает стабилизацию общины в гармоничном целом. Две формы восприятия плана местности — это просто две взаимоисключающие попытки совладать с этим травматическим антагонизмом, залечить его раны посредством наложения сбалансированной символической структуры. Следует добавить, что в точности то же самое происходит и с половыми различиями: «мужское» и «женское» подобны двум конфигурациям хижин в леви–стросовской деревне. Дабы рассеять иллюзию того, что в нашей «развитой» вселенной господствует совсем другая логика, достаточно вспомнить расщепление нашего политического пространства на левое и правое, левые и правые ведут себя точно так же, как члены противоположных групп леви–стросовской деревни. Они не просто занимают различные места в политическом пространстве, но каждый из них по–разному воспринимает само расположение этого пространства. Для левых оно по природе своей раздираемо рядом фундаментальных различий, а для правых оно — органическое единство сообщества, нарушаемое исключительно вторжением иностранцев.
В дальнейшем Леви—Строс делает еще одно очень важное замечание: поскольку две группы все же составляют одно племя, живут в одной деревне, то эта идентичность должна быть каким–то образом в него вписана. Как же это происходит, если вся артикуляция символического, все социальные институты племени не нейтральны, а сверхдетерминированы фундаментальным, конститутивным антагонистическим расщеплением? Происходит же это благодаря тому, что Леви—Строс гениально называет «установлением нулевого типа», своего рода институт тональной противоположностью знаменитой маны, пустым означающим без определенного значения, которое означает только присутствие значения как такового в его оппозиции к его отсутствию. Это особый институт; у которого нет позитивной, определенной функции. Его единственная функция чисто негативна. Это функция сигнала о присутствии и актуальности социальных институтов как таковых в оппозиции к их отсутствию. досоциальному хаосу. Именно связь с таким установлением нулевого типа позволяет всем членам племени переживать себя в качестве таковых, в качестве членов одного и того же племени. Не оказывается ли тогда это установление нулевого типа идеологией в чистом виде, прямым воплощением идеологической функции обеспечения нейтрального всеобъемлющею пространства, в котором стирается социальный антагонизм, в котором все члены общества способны себя узнавать? И разве эта борьба за гегемонию не является в полном смысле слова борьбой за то, как именно установление нулевого типа будет сверхдетерминировано, в какое именно значение оно будет окрашено? Вот конкретный пример: разве современное понятие нации не является таким установлением нулевого типа, возникающим в связи с распадом социальных уз, которые когда–то основывались на непосредственных семейных или традиционных символических матрицах, а под натиском модернизации стали все меньше зависеть от природной традиции и все больше переживаться как вопрос «контракта» [82]. Особенно важен здесь тот факт, что национальная идентичность переживается как по крайней мере минимально «естественная» принадлежность, основывающаяся на «крови и почве», и в качестве таковой она противопоставляется «искусственной» принадлежности собственно социальным институтам (государству, профессии). Досовременные институты функционировали как «натурализованные» символические организации (как установления, основанные на неоспоримых традициях). В тот же момент, когда институты начинают восприниматься как социальные артефакты, возрастает потребность в «натурализованных» установлениях нулевого типа, которые могут служить им нейтральным общим основанием.
Возвращаясь к вопросу о половых различиях, я, пожалуй, рискну выдвинуть гипотезу, что, возможно, ту же самую логику установления нулевого типа следует приложить не только к единому обществу, но также к его антагонистическому расщеплению. А что, если половые различия — это, в конечном счете, своеобразное установление нулевого типа социального расщепления человечества, натурализованное минимальное нулевое различие, расщепление, которое, предшествуя сигналам о каком–либо определенном социальном различии, сигнализирует о различии как таковом? Борьба за гегемонию, таким образом, это опять–таки борьба за то, как это нулевое различие будет сверхдетерминировано другими частными социальными различиями. Таким образом, важно, что в обоих случаях (как в случае нации, так и в случае половых различий) мы сталкиваемся с гегелевской логикой «постулирования предположений»: ни нация, ни половые различия не являются непосредственной естественной предпосылкой для дальнейшей проработки/«опосредования» деятельностью культуры [83]. И то, и другое (пред)полагается и (полагается в ответ) самим «культурным» процессом символизации.
Именно на этом фоне следует посмотреть на одну важную черту лакановской схемы означающего, на которую обычно не обращают внимания. Лакан заменяет общепринятую схему де Соссюра (над чертой — слово «дерево», под чертой — рисунок дерева) схемой, на которой над чертой рядом находятся два слова, «мужчина» и «женщина», а под чертой — два одинаковых изображения дверей. Чтобы подчеркнуть дифференциальный характер означающего, Лакан сначала заменяет одно соссюровское означающее парой, оппозицией мужчина/женщина, половыми различиями. Однако по–настоящему неожиданно то, что на уровне означаемого референта никаких различий нет (мы не получаем никакого графического указателя на половые различия, лишь схематичные рисунки мужчины и женщины, так, как их обычно изображают на дверях туалетов, и при этом дважды воспроизводится одна и та же дверь). Более точно можно сказать, что половые различия не означают никаких биологических оппозиций, имеющих основания в «реальных» качествах. Они указывают на чисто символическую оппозицию, которой нет никакого соответствия среди обозначаемых объектов — ей не соответствует ничто, кроме некоего реального неопределенного «икс», которое никогда и никоим образом не может быть захвачено никаким означаемым.
Вернемся к примеру Леви—Строса с двумя рисунками деревни. Мы здесь в точности видим, как реальное вторгается через анаморфоз. Перед нами сначала «актуальное», «объективное» расположение домов, а затем его две различные символизации, каждая из которых анаморфически искажает действительное расположение. Тем не менее, «реальное» здесь — не действительное расположение, но травматическая сердцевина социального антагонизма, искажающая взгляд членов племени на актуальный антагонизм. Реальное, таким образом, это отринутое «икс», на основании которого анаморфически преломляется наше видение реальности. (В связи с чем этот трехуровневый диспозитив строго гомологичен фрейдовскому трехуровневому диспозитиву толкования сновидений: реальная сердцевина сновидения — это не его скрытые мысли, которые смещены/переведены в проявленную ткань сновидения, но бессознательное желание, вписывающееся через самое искажение скрытой мысли в проявленную ткань.)
11. СТРУКТУРА И ЕЕ СОБЫТИЕ
В терминах теологии понятие реального как предела историзации позволяет нам сформулировать отношения между вечностью и временной реальностью: каждая конкретная констелляция реальности порождает свою собственную вечность. И дело здесь вовсе не в том, что, мол, вечность — это идеологический миф, порожденный реальностью. Дело именно в том, что вечность исключена и потому поддерживает постоянство реальности.
Дохристианские религии остаются на уровне «мудрости», они подчеркивают недостаточность любого временного конечного объекта и проповедуют либо умеренность в удовольствиях (следует избегать излишней привязанности к конечным объектам, поскольку любое удовольствие преходяще), либо уход из временной реальности ради Истинного Божественного Объекта, который может принести Бесконечное Блаженство. Христианство же, напротив, предлагает Христа в качестве смертного, временного индивида и настаивает на том, что вера во временное Событие Воплощения суть единственный путь к вечной истине и спасению. Именно в этом смысле христианство и является «религией любви»: в любви сосредоточиваются на конечном временном объекте, который «значит больше, чем что–либо еще». Этот же парадокс действует и в христианской идее обращения грешников и прощения грехов: обращение — временное событие, которое меняет саму вечность. Поздний Кант сформулировал понятие ноуменального акта выбора, посредством которого индивид выбирает свой вечный характер и который, следовательно, еще до его временного существования, заранее прочерчивает контур его земной судьбы [84]. Без акта божественной милости судьба наша остается неподвижной, навсегда скованной этим вечным актом выбора. «Благая весть» христианства, однако, заключается в искреннем обращении в веру, в том, что человек способен как бы повторить этот акт и тем самым изменить последствия самой вечности.
Здесь мы подходим к сути проблемы, к деликатному вопросу отношений христианства с иудаизмом. Иудаизм с его, по выражению Джудит Батлер, «устойчивой привязанностью» к непризнаваемому жесту собственного насильственного учреждения, преследующего общественный законный порядок под маской его призрачного восполнения, не просто являет собой раскол между «общественным» аспектом символического Закона и его непристойной обратной стороной («виртуальным» повествованием о неискупимом избытке насилия, учредившем само право Закона). Раскол этот является еще и расколом между иудаизмом и христианством. Парадокс иудаизма заключается в том, что он сохраняет верность учредительному насильственному Событию, не исповедуясь в нем, не символизируя его. Этот «вытесненный» статус События суть то, что наделяет иудаизм беспрецедентной жизненной силой, позволяющей евреям выживать столетие за столетием без земли и общей институциональной традиции. Короче говоря, евреи не покончили с призраком и выдержали все тяжелые испытания именно потому, что отказались с ним порвать, разорвать связь со своей тайной, своей отринутой традицией. Христианство, с другой стороны, это религия исповедания: как подчеркивал и сам Фрейд в своей книге о «Моисее», христиане исповедуются в первородном преступлении (в смещенной форме убийства не Отца, а Христа, Сына Бога) и, стало быть, предают свой травматический импульс, изображая, что с ним якобы можно договориться, примириться.
На этом фоне уместным представляется тезис Фуко о том, что психоанализ — последний, заключительный шаг в исповедальной форме дискурса, появившегося когда–то вместе с ранним христианством [85]. Если согласиться с теми, кто подчеркивает не только фактическое еврейское происхождение психоанализа, но и настаивает на том, что психоанализ, по сути дела, всегда был еврейской дисциплиной и «еврейскость» его жива, несмотря на все попытки иноверцев порвать его еврейскую пуповину (имея в виду и самого Фрейда, видевшего в Юнге своего наследника), тогда неизбежно следует вывод, что, будучи далеким от исповедальной формы дискурса, психоанализ влечет за собой принятие и допущение того, что все наши дискурсивные формации всегда преследуются неким «неделимым остатком», неким травматическим призрачным остатком, сопротивляющимся «исповеди», т. е. интеграции в символической вселенной, или, говоря языком христианства, остатком, который невозможно искупить, успокоить, усмирить. Имя, которым этот «немертвый» остаток называет Фрейд, конечно же, травма. Существует имплицитное указание на некую травматическую сердцевину, которая действует как непристойный/чудовищный «неумирающий» остаток, поддерживающий дискурсивную вселенную в «живом» состоянии, т. е. нет жизни без восполнения этим непристойным–неумирающим призрачным упорством «живого мертвеца». Следовательно, конечная цель психоанализа заключается не в исповедальном усмирении травмы, но в принятии самого факта, что жизнь наша включает в себя травматическую сердцевину, находящуюся по ту сторону искупления, что существует такое измерение нашего бытия, которое всегда сопротивляется искуплению–освобождению.
Иными словами, иудаизм выдерживает парадокс универсализма, сохраняя свое универсальное измерение как раз–таки посредством «страстной привязанности» к метке исключительности, служащей непризнанным основанием. Иудаизм не только опровергает представление здравого смысла о том, что за вхождение в универсальное необходимо заплатить цену собственной исключительности, но он также демонстрирует, как эта отметка непризнания исключительности порождающего универсальное жеста оказывается глубинным источником универсальной витальности: отрезанное от неискупимых/вытесненных исключительных корней, универсальное окостеневает и превращается в безжизненную пустую абстрактную универсальную форму. Иначе говоря, иудаизм как бы иронично переворачивает обычную марксистскую процедуру, в которой в абстрактном универсальном содержании утверждается некая исключительная гегемония («всеобщие права человека — на самом деле права… белого мужчины, располагающего собственностью»). Его скрытое утверждение заключается в том, что настоящее содержание еврейской «частной исключительности», его упрямое следование набору произвольных частных предписаний на самом деле утверждает настоящую универсальность.
Однако здесь–то как раз все и начинает усложняться. Разве христианство выступает за переход от универсальности, продолжающей поддерживать связь с чрезмерным насилием одного из своих частных оснований, источником своей жизненной силы, к универсальности, стирающей следы этого условного насилия, достигающей Искупления и тем самым способствующей примирению со своей травматической Причиной, ритуально разыгрывающей основополагающее Преступление и Жертвоприношение, которое стирает его следы и приносит согласие в Слове? А что, если раскол между символическим Законом и непристойным теневым восполнением чрезмерного насилия, его поддерживающим, не является предельным горизонтом нашего переживания? А что, если эти запутанные отношения Закона с его призрачным двойником суть то, что в знаменитом отрывке из Послания к Римлянам (7:7) Святой Павел изобличает как нечто излишнее для христианской трапезы любви и милости? А что, если агапэ Павла, этот шаг по ту сторону взаимосвязи закона и греха, не является шагом в сторону полной символической интеграции частного греха в универсальную область закона, но как раз–таки наоборот, есть невидимый жест выхода за пределы самого закона, существования «умерши для закона», как пишет Святой Павел (Римлянам, 7:5)? Иными словами, а что, если христианский зарок — это вовсе не Искупление в смысле возможности для сферы универсального Закона ответным движением «снять», интегрировать, успокоить, стереть свои травматические основания, но нечто совершенно иное, а именно — разрыв в гордиевом узле порочного круга Закона и его основополагающей Трансгрессии?
Для многих проблематичным в агапэ Святого Павла кажется то, что он, похоже, представляет любовь сверхэгоистичной, понимает ее почти по–кантовски, не как спонтанный выплеск великодушия, не как самоутверждающуюся позицию, но как самоподавляющую обязанность любить ближнего и заботиться о нем, как тяжелый труд, как нечто такое, что необходимо выполнять с неимоверными усилиями, направленными на борьбу и подавление собственных спонтанных «патологических» наклонностей. Агапэ как таковое противоположно эросу, поскольку означает не столько плотские удовольствия, сколько доброту и заботу как часть собственной природы, и чье отправление приносит удовлетворение. Однако, разве такова позиция Святого Павла? Разве речь не должна идти о любви без налагаемых Законом ограничений, о любви как борьбе за подавление греховной невоздержанности, порождаемой Законом? И разве подлинная агапэ не ближе к скромной непринудительной добродетели? [86]
К этому же вопросу можно было бы подойти и с другой стороны — со стороны иконоборчества. Как всем известно, языческие (до–еврейские) боги были антропоморфными (скажем, древнегреческие боги вступают во внебрачные связи, мошенничают и предаются прочим обычным человеческим страстям…), в то время как еврейская религия с ее иконоборчеством стала первой, старательно лишившей божественное антропоморфизма. А что, если все как раз–таки наоборот? Что, если сам запрет человеку на творение образов Бога несет свидетельство Его «персонификации», распознаваемой в словах Его «сотворим человека по образу Нашему и по подобию Нашему» (Бытие, 1:26)? Что, если цель еврейского иконоборческого запрета связана не с предшествующими языческими верованиями, а со своей собственной антропоморфизацией/персонализацией Бога? Что, если еврейская религия сама порождает тот избыток, который следует запрещать? Ведь в языческих религиях такого рода запрет был бы просто лишен смысла. (И христианство затем совершает еще один шаг вперед, утверждая не только подобие Бога и человека, но их непосредственное тождество в фигуре Христа: «Неудивительно, что человек выглядит как Бог. поскольку Человек/Христос/Есть Бог…») Согласно распространенным представлениям, язычники были антропоморфистами, евреи — радикальными иконоборцами, а христиане осуществили некий «синтез», отчасти регрессировав к язычеству, когда утвердили «икону, стирающую все остальные иконы» — страдающего Христа. Против этого общепринятого мнения стоит возразить, что именно еврейская религия остается «абстрактным/непосредственным» отрицанием антропоморфизма, с ней связанного, определенного ею в самом непосредственном отрицании, в то время как только христианство на самом деле «снимает» язычество.
12. РАЗЪЕДИНЕНИЕ ХРИСТА
Итак, еще раз; в чем же именно заключается элементарный христианский жест, лучше всего выраженный в агапэ Святого Павла? Даже среди христиан в объяснении его природы встречается множество расхождений. По этой причине, кажется, лучше всего для его определения прибегнуть к методу от противного, т, е. для начала сосредоточиться на тех очевидно христианских тенденциях, которые сегодня представляют собой угрозу для собственно христианской позиции. Как хорошо известно, миф о Граале — показательный случай религиозно–идеологической «экз–аптации» (если воспользоваться этим понятием Стефена Джея Гоулда из его критики ортодоксального дарвинизма). Этот миф вновь вписывает в христианский мир языческое понятие магического объекта, приносящего изобилие и дарующего сезонное возрождение, регенерацию. В своей последней опере, «Парсифаль», Рихард Вагнер представляет этот процесс с противоположной стороны: он истолковывает смерть Христа и чудо Страстной пятницы как языческий миф сезонной смерти и возрождения. Жест этот глубоко антихристианский: порывая с языческим понятием космической Справедливости и Гармонии, христианство порывает и с языческим представлением о круговороте смерти и перерождения божественного. Смерть Христа — не то же самое, что сезонная смерть языческого бога. Она скорее обозначает разрыв с круговым характером движения смерти и возрождения, представляет собой переход к совершенно иному измерению Святого Духа. Здесь возникает искушение сказать, что «Парсифаль» — образец для всех нынешних христиан–фундаменталистов, которые под маской возвращения к подлинно христианским ценностям делают обратное, предают травматичную сердцевину христианства.
На каком именно уровне христианство придает основания правам свободам человека? Если немного упростить картину, то следует сказать, что в истории религий можно усмотреть два противоположных подхода — глобальный и универсальный. С одной стороны, есть языческий Космос, божественный иерархический порядок космических принципов, которые, будучи перенесенными на общество, создают картину сообразного здания, в котором каждый член этого общества занимает свое место. Высшее Добро здесь — глобальное равновесие принципов. в то время как Зло рассматривается как отпадение от них. как их нарушение, ибо чрезмерное утверждение одного из принципов ущемляет другие (например, чрезмерное утверждение мужского принципа наносит вред женскому; разума — чувствам). Космический баланс вновь устанавливается благодаря Справедливости, которая с неумолимой необходимостью ставит все на свои места, уничтожая то, что стоит на пути гармонии. Что касается социального тела, то индивид считается «хорошим», если он действует в соответствии с тем местом, которое отведено ему в социальном здании (когда он уважает природу, дающую ему еду и убежище, когда он проявляет уважение к старшим, которые по–отечески о нем заботятся), а Зло появляется, когда отдельные слои общества или индивиды не удовлетворяются занимаемым местом (дети не слушаются родителей, слуги не подчиняются господам, мудрый правитель превращается в капризного злобного тирана). Самая сердцевина языческой мудрости коренится в прозрении космического равновесия иерархического порядка принципов, в понимании вечного круговращения космической катастрофы и восстановлении Порядка благодаря справедливому наказанию. Самым тщательно разработанным примером такого космического Порядка может служить древнеиндийская космология, которая сначала копируется социальным порядком в виде системы каст; а затем отдельным организмом в виде гармонической иерархии органов (головы, рук, живота). Сегодня такое отношение искусственным образом возрождается во множестве нью–эйджевских подходов к природе и обществу.
Христианство вводит в этот глобальный уравновешенный космический Порядок один принцип, который совершенно ему чужд, принцип, который, если подходить к нему с мерками обычной языческой космологии, может показаться лишь чудовищным искажением. Это принцип, согласно которому у каждого индивида есть непосредственный доступ к универсальному (Святому Духу или, сегодня, — к правам и свободам человека): я не могу участвовать в этом универсальном измерении непосредственно, безотносительно к тому особому месту, которое я занимаю в глобальном социальном порядке. И разве «скандальные» слова Христа из Евангелия от Луки не указывают в том же направлении: «Если кто приходит ко Мне и не возненавидит отца своего, и матери, и жены и детей, и братьев и сестер, и притом и самой жизни своей, тот не может быть Моим учеником» (14:26)? Здесь, конечно же, мы не имеем дело с простой жестокой ненавистью, востребованной жестоким и ревнивым Добром: семейные отношения здесь метафорически представляют всю социосимволическую сеть, а также любую этническую субстанцию, которая определяет наше место в глобальном Порядке Вещей. «Ненависть», которую предписывает Христос, это, следовательно, не просто своеобразная псевдодиалектическая противоположность любви, но непосредственное выражение того, что Святой Павел в Послании Коринфянам I (13) с невероятной мощью разворачивает как агапэ. Речь идет о ключевом понятии, посредствующем между верой и надеждой: именно сама любовь предписывает нам выключиться из нашего органического общества, в котором мы родились, или, как говорит Святой Павел, для христианина нет ни мужчин, ни женщин, ни евреев, ни греков… Неудивительно, что те, кто идентифицировался с еврейской «национальной субстанцией», равно как греческие философы и те, кто выступал в защиту глобальной Римской Империи, восприняли явление Христа как забавный и/или травматический скандал.
Именно для того, чтобы подчеркнуть это снятие социальной иерархии, Христос открыто обращается к самому дну социальной иерархии, к отбросам социального порядка (нищим, проституткам…) как к привилегированным, образцовым членам новой общины. Эта новая община, таким образом, откровенно строится как коллектив отщепенцев, как антипод любой установленной «органической» группы. Возможно, лучше всего можно представить себе такую общину, поместив ее в линию наследования других «эксцентричных» общин, состоящих из отбросов, которые мы знаем из прошлого и настоящего, от прокаженных и цирковых уродцев до ранних компьютерных хакеров, — групп, в которых заклейменные индивиды объединены тайными узами солидарности. Чтобы точнее определить особенности этих двух общин, возникает искушение сослаться на Фрейда, который в своей «Психологии масс» приводит два примера образования толпы — церковь и армию. Обычно их рассматривают вместе. забывая о существующих между ними отличиях. А что, если между ними существуют принципиальные отличия, согласно оппозиции Лаклау, между структурой различий и антагонистической логикой тождеств? Церковь — глобальна. Она представляет собой структурированный институт, всеохватывающую сеть иерархически дифференцированных позиций, в основном экуменических, терпимых, склонных к компромиссам. Она все в себя включает и распределяет доходы между своими подразделениями. Армия же делает акцент на антагонизме, на Мы против Них, на эгалитаристском универсализме (все мы, в конечном счете, равны, когда сталкиваемся с Ними, с Врагами). Армия склонна к недопущению чего–то, к уничтожению другого. Конечно же, это умозрительная оппозиция: эмпирически граница эта легко стирается и мы зачастую сталкиваемся с воинствующей церковью и с армией, которая действует как церковь, как корпоративный социальный институт. Фундаментальный парадокс, таким образом, заключается в том, что в связи с эмпирическими институтами эти сообщества зачастую меняются местами: церковь часто напоминает антагонистически действующую армию, и наоборот. Достаточно вспомнить существовавшие в XI–XIII веках трения между церковью как институтом и возникшими монашескими орденами, которые как подрывные контробщины угрожали занимаемому в социальном порядке церковью месту. Так что церковь была вынуждена вместить в себя этот избыток, вписать это собственно религиозное Событие (подобно раннему движению, порожденному Святым Франциском) в рамки порядка Бытия… Разве эта оппозиция не описывает то, как последователи Лакана относятся к Международной Психоаналитической Ассоциации: МПА — это психоаналитическая церковь, исключающая людей из своих рядов, как только чувствует исходящую от них угрозу, склонная к бесконечным спорам, компромиссам и т. д. Последовали же Лакана, напротив, это психоаналитическая армия. Это воинственная группа, работающая над агрессивным перезавоеванием, определенным антагонизмом между Нами и Ими, избегающая мирных переговоров с МПА, отказывающаяся от них (вернитесь, мы примем вас, но вы также должны пойти на компромисс немного изменить даже не суть, но форму вашей деятельности…). С точки зрения политической борьбы, фрейдовскую формулу wo es war; soll ich werden (где было оно, там должно стать я) можно понимать и как: где была церковь, там должна стать армия.
В этом же смысле следует читать те слова Христа, которые нарушают круговую логику мести или наказания, направленную на восстановление равновесия Справедливости: вместо «око за око» — «если кто ударит тебя по правой щеке, подставь ему левую!» Дело здесь не в тупом мазохизме простом приятии унижения, но в прерывании круговой логики восстановления равновесия. Интересно посмотреть, как, даже когда Святой Павел прибегает к органической метафоре религиозной общины как живого тела, он подрывает её переворачиванием: «Но Бог соразмерил тело, внушив о менее совершенном большее попечение» (Коринфянам I, 12:24). Таким образом, социальная иерархия в религиозной общине отражается в перевернутом виде, так, что низшее заслуживает высшего уважения. Конечно же, здесь нужно быть осторожным, дабы избежать того, что в психоанализе называют извращенным искушением: это «выключение» из социального тела не должно обернуться извращением, в котором мы любим низшие слои только за то, что это низшие слои (таким образом, тайно желаем, чтобы они таковыми оставались), — так мы на самом деле не «выключаемся» из иерархического социального порядка, но просто переворачиваем его, ставим его с ног на голову и тем самым продолжаем на нем паразитировать (эта извращенная логика была доведена до крайности средневековыми сектами, чьи члены дошли до поедания экскрементов своих собратьев, дабы подчеркнуть свою сострадательную солидарность с «самым низменным в человеке»). И разве (на другом уровне, конечно) подобное «разъединение» не действует в страстной сексуальной любви? Разве такая любовь — не один из величайших уничтожителей социальной иерархии? Когда в сцене на балконе Ромео и Джульетта патетически заявляют об отречении от своих фамилий, Монтекки и Капулетти, тем самым о «выключении» из своих частных (семейных) социальных субстанций, не подают ли они высший пример того, что «ненависть к родителям» есть прямое выражение любви? Более того, разве не сталкиваемся мы с чем–то подобным в демократическом «выключении»: все мы являемся непосредственными членами демократического коллектива, независимо от места в сети отношений, образующих наши сообщества?
И все же, разве христианство не делает еще одного шага вперед, предписывая нам не только ненавидеть родителей и т. д. от лица возлюбленного, но и в диалектическом переворачивании любви к врагу — «ненавидеть возлюбленного из любви и в любви» [87]? Чтобы понять это, нужно поставить точный вопрос что именно в возлюбленном другом мне следует ненавидеть? Возьмем ненависть к отцу в семейных эдиповых трениях: как мы постоянно отмечаем, эта ненависть исчезает и новое понимание отца возникает в тот момент, когда сын избавляется от отцовского авторитета, короче говоря, она исчезает тогда, когда сын осознает, что его отец — не воплощение его социосимволической функции, а уязвимый субъект, «выключенный» из нее. Именно в этом смысле в подлинной любви я «ненавижу возлюбленного из любви»: я «ненавижу» его приписанность социосимволической структуре от лица моей настоящей любви к нему как к исключительному человеку… Впрочем, нужно попытаться избежать того абсолютного недопонимания, которое здесь навязывается: это «выключение» агапэ не имеет ничего общего с «гуманистической» идеей, согласно которой следует забывать об «искусственных» символических качествах и воспринимать ближнего как уникального человека, т. е. видеть в нем «настоящую человеческую личность», скрывающуюся за той «социальной ролью», которую он исполняет. Святой Павел весьма последователен в своем «теоретическом антигуманизме»:
«Поэтому отныне мы никого не знаем по плоти: если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем. Итак, кто во Христе, тот новая тварь, древнее прошло, теперь все новое» (Коринфянам II. 5:16–17).
В таком «разъединении» ближний сводится к отдельному члену общины верующих (»Святого Духа»). Используя альтюссеровско–лакановскую оппозицию, можно сказать, что не символический субъект сводится к «реальному» индивиду, но индивид (во всем богатстве его «личности») сводится к отдельной точке субъективности. «Разъединение» как таковое эффективно включает «символическую смерть» — следует «умереть для закона» (Святой Павел), который регулирует нашу традицию, нашу социальную «субстанцию». Выражение «новая тварь» свидетельствует здесь о жесте сублимации, о стирании следов своего прошлого (»древнее прошло, теперь все новое»), о начале всего сначала. Итак, в этом «разъединении» всегда в действии ужасающее насилие, насилие влечения к смерти, желание окончательно «покончить с прошлым», чтобы создать условия для Нового Начала.
13. «РАСЧЕТ, РАСЧЕТ, ПРИЯТЕЛЬ!»
Какое понятие противоположно агапэ? — Скупость как один из самых загадочных смертных грехов. Здесь даже возникает искушение вернуться к старой моралистической традиции: капитализм возникает из греха скупости, из скаредного нрава. Дискредитированное фрейдовское понятие «анального характера» в его связи с капиталистическим накоплением получает здесь неожиданную поддержку. В «Гамлете» (акт I, сцена 2) очень точно показан этот грешный характер чрезмерной бережливости:
Горацио: Я плыл на похороны короля.
Гамлет: Прошу тебя, без шуток, друг–студент;
Скорей уже — на свадьбу королевы.
Горацио: Да, принц, она последовала быстро.
Гамлет: Расчет, расчет, приятель! От поминок Холодное пошло на брачный стол.
О, лучше бы мне встретился в раю
Мой злейший враг, чем этот день, Горацио! [88]
Крайне важно здесь то, что «расчет», бережливость не просто означают некую неопределенную экономность, но конкретный отказ как следует оплачивать траурный ритуал: расчет (в данном случае то, что холодное с поминок идет на брачный стол) разрушает значение ритуала, его стоимость, ту, которую, согласно Лакану, Маркс отрицал в своем объяснении стоимости:
Это понятие (расчет) служит хорошим напоминанием о том, что в разработанных современным обществом удобных отношениях между потребительской стоимостью и меновой стоимостью, кажется, есть кое–что такое, мимо чего прошел анализ экономики Маркса, кое–что занимающее умы нашего времени, кое–что такое, чью силу и размах мы непрерывно на себе ощущаем. Это кое–что — ритуальная стоимость [89].
Каков же тогда статус расчета как порока? [90]
В рамках аристотелевской мысли несложно было бы поместить расчет в оппозицию к расточительности и затем, конечно, установить срединное понятие, скажем, благоразумие, искусство умеренных трат избегающее как одной крайности, так и другой, т. е. настоящее благе Однако парадокс скряги заключается в том, что он саму умеренность числит излишеством. Иначе говоря, обычное описание желания фокусируется на его трансгрессивном характере: этика (в домодернистском смысле «искусства жить») — это, в конечном счете, этика умеренности сопротивление необходимости переходить за определенную черту, сопротивление желанию, трансгрессивному по определению — сексуальной страсти, которая поглощает целиком и полностью, ненасытной разрушительной страсти, которая не остановится ни перед чем, даже перед убийством… Вопреки этому трансгрессивному представлению о желании, скряга направляет свое желание (вместе с избыточным характером) на саму умеренность: не тратить, не расходовать, экономить, воздерживаться — все пресловутые «анальные качества». Но только это желание, это анти–желание и является по сути своей желанием. Здесь целиком и полностью оправдано использование гегелевского понятия «противоположного определения» [gegensaetzliche Bestimmung] [91]: Маркс утверждает, что «производство» дважды вписано в ряд производство- распределение — обмен — потребление. Оно одновременно присутствует в самом ряду и является принципом, структурирующим весь ряд. Производство — один из членов последовательности, и производство — структурирующий принцип, который, будучи таковым, «сталкивается со своим противоположным определением» [92], как говорит Маркс, прибегая к понятию Гегеля. То же самое касается и желания: есть различные виды желания, например — излишняя привязанность, подрывающая принцип удовольствия. Среди различных видов желания желание «как таковое» встречается в своем «противоположном определении» под маской скряги или его расчета, в самой противоположности трансгрессивного движения желания. Лакан проясняет это на примере Мольера:
Объект фантазии, образ и пафос — другой элемент, занимающий место того, чего субъект символически лишен. Таким образом, воображаемый объект находится в том положении, из которого он должен вместить в себя достоинства или качества существа, стать той истинной его уловкой, которую Симона Вайль рассматривает, сосредоточиваясь на богатых и в то же время туманных отношениях человека с объектом его желания — на отношениях Скупого у Мольера с его драгоценным сундуком. Это — кульминация фетишистского характера объекта в желании человека. <..> Туманный характер объекта a в воображаемой фантазии определяет его в его наиболее ярко выраженной форме в качестве полюса перверсивного желания. [93]
Так что если мы хотим разобраться в тайне желания, то нам следует сосредоточить внимание не на любовнике или убийце, этих пленниках страсти, готовых поставить на карту все что у них есть, но на отношении скупого с его сундуком, заветным местом накопления и хранения богатств. Тайна, конечно же, заключается в том, что в фигуре скупого избыток совпадает с недостатком, могущество — с бессилием, алчное накопление запасов — с возвышением объекта до уровня запретной, неприкасаемой Вещи, которую можно лишь наблюдать, но которой нельзя в полной мере наслаждаться. Разве не об этом ария Бартоло «А un dottor della mia sorte» из первого акта «Севильского цирюльника» Россини? Его навязчивое безумие совершенно точно передает его полное безразличие к сексуальному обладанию юной Розиной. Он хочет на ней жениться, чтобы завладеть ею подобно тому, как скупой владеет своим заветным сундуком. Говоря философским языком, парадокс скупого в том, что он соединяет две несовместимые этические традиции: аристотелевскую этику умеренности и кантовскую этику безусловного требования. Следование правилу умеренности, бегство от избытка порождает свой собственный избыток, свое собственное прибавочное наслаждение.
Однако капитализм выворачивает эту логику: капиталист — это уже не одинокий скряга, привязанный к скрытым сокровищам, украдкой, за тщательно закрытыми дверями взирающий на свои богатства, но субъект, следующий главному парадоксу: единственный способ сохранения и умножения ценностей — их трата. Формула любви, которую произносит со своего балкона Джульетта («чем больше я даю, тем больше остается») подвергается перверсивному вывиху. Разве эта формула не передает капиталистическую авантюру? Чем больше капиталист инвестирует (и занимает денег, чтобы инвестировать), тем больше у него их оказывается, так что, в конечном счете, перед нами чисто виртуальный капиталист а-ля Дональд Трамп, чья наличность, «собственный капитал» практически равен нулю или даже в минусе, но при этом с учетом его грядущих доходов он слывет «богачом». Возвращаясь к гегелевскому «противоположному определению», можно сказать, что капитализм вращается вокруг понятия расчета, скупости как противоположного определения (формы видимости) производства желания (т. е. потребления объекта): род здесь — алчность, в то время как избыточное безграничное потребление есть сама алчность в форме видимости (противоположного определения).
Этот основополагающий парадокс позволяет нам даже разрабатывать элементарную маркетинговую стратегию, обращенную к потребительской скупости. Разве не таков основной призыв рекламных роликов «Купи это, потрать больше, и ты сэкономишь, ты получишь еще часть задаром!»? Вспомните хорошо всем известную сцену (вполне в духе мужского шовинизма): жена приходит домой после похода за покупками и сообщает мужу: «Я только что сэкономила 200 долларов! Я хотела купить одну куртку; но купила три и получила скидку в 200 долларов!» Воплощением подобного рода прибыли может служить тюбик зубной пасты, треть которого окрашена в другой цвет и на фоне которого большими буквами написано «30% бесплатно!» Мне всегда хотелось, глядя на этот тюбик, сказать: «Ладно, давайте мне эти 30%!» Определение «собственной цены» при капитализме — цена скидки. Уже надоевший ярлык «общество потребления» справедлив лишь в том случае, если под потреблением понимать его противоположность — сбережение.
Здесь мы должны вернуться к Гамлету и ритуальной стоимости: ритуал — это, в конечном счете, ритуал жертвоприношения, открывающий пространство изобильного потребления. После принесения богам внутренностей жертвенного животного (сердца, кишок) мы вправе от всего сердца наслаждаться оставшимся мясом. Вместо разрешения на свободное потребление без жертвоприношения, современная «тотальная экономия», которая пытается обойтись без этого «излишнего» ритуализованного жертвоприношения, порождает парадоксы расчетливого сбережения. Нет никакого изобильного потребления! Потребление разрешено лишь постольку, поскольку оно функционирует как форма проявления своей противоположности. Разве не был нацизм отчаянной попыткой восстановления ритуальной стоимости в ее правах посредством Холокоста, этого гигантского жертвоприношения «мрачным богам», как говорит Лакан в своем Одиннадцатом семинаре? [94] В жертву приносили евреев как воплощение капиталистического парадокса расчетливого сбережения. Фашизм следует отнести к попыткам сопротивления капиталистической логике: помимо фашистской корпоратистской попытки «вновь установить равновесие», удалив излишек, воплощенный в «еврее», следует отметить и стремление восстановить домодернистский суверенный жест чистой траты. Достаточно вспомнить фигуру наркомана, единственного подлинного «субъекта потребления», единственного, кто растрачивает себя до смерти в неограниченном наслаждении [95].
14. «ДОЛЖЕН, ПОТОМУ ЧТО МОЖЕШЬ!»
Давайте проясним этот крайне важный момент, обратившись к хорошо известной и весьма бестактной защите Гитлера. Его защитники говорят: «Да, действительно, Гитлер допустил всякие ужасы, пытаясь избавить Германию от евреев, но не стоит забывать и о том хорошем, что он сделал, — о строительстве дорог, о том, что благодаря ему поезда стали ходить по расписанию!» Вся эта защита, несмотря на формальное осуждение антисемитского насилия, конечно же, является скрытым антисемитизмом: само сравнение антисемитского кошмара со строительством дорог, а также высказывания типа: «Да, я знаю, однако…» четко указывает на то, что хвала гитлеровскому строительству дорог — это по сути дела смещенная похвала его антисемитским деяниям. Критика Гитлера со всеми этими разговорами о его вкладе в строительство дорог (популярная в отдельных весьма консервативных экологических кругах) неприемлема потому, что под маской критики скрывается желание защитить Гитлера: «Да, действительно, Гитлер сделал кое–что хорошее, например постарался освободить Германию от евреев, но мы не должны забывать, что он совершил и ужасные вещи — понастроил дорог и тем самым испортил окружающую среду страны…» Подобного рода переворачивание — подлинное содержание распространенной защиты сторонников крайне правого расистского насилия: «Да, он участвовал в линчевании афроамериканцев, но не стоит забывать, что он был добропорядочным честным семьянином, регулярно посещал церковь…» Мы должны читать это следующим образом: «Да, он совершал хорошие поступки — пытался избавить нас от этих мерзких афро–американцев, и все же не стоит забывать, что он был заурядным отцом семейства, регулярно посещавшим церковь…» Ключ к такого рода переворачиванию и в одном, и в другом случае в том, что мы имеем дело с напряжением между общественно признанным и допустимым идеологическим содержанием (строительство дорог, посещение церкви) и его неприемлемой теневой стороной (Холокостом, линчеванием): первая, общепринятая версия высказывания признает общественное содержание и отвергает теневую сторону (одобряя ее втайне); вторая версия открыто не признает общественное мнение и поддерживает теневую сторону. Поскольку, в связи с дуальностью «официального» общественного символического повествователь- ного пространства и его призрачного двойника, общественное символическое пространство регулируется символическим законом, то возникает вопрос: какого именно рода закон действует в жуткой области его призрачного двойника? Ответ, конечно же, лежит в области сверх-я [96]. Не следует забывать, что напряжение между символическим законом и невозможной/реальной вещью, доступ к которой запрещен законом (в конечном счете, материнская вещь запрещена отцовским законом), не является для Лакана пределом. То, что лежит по ту сторону (или скорее по эту), — жуткая вещь, которая сама «создает закон»:
Вещь (das Ding) представляется на уровне бессознательного опыта как то, что уже создает закон. <…> Это капризный и произвольный закон, закон оракула, закон знаков, в которых субъект не получает никаких обещаний [97].
Так что перед нами не открывается вещь как некая черная потусторонность, образованная запрещающим законом: предельный ужас исходит от самой реальной вещи, которая прямо «создает Закон». И поскольку вещь представляет наслаждение, этот закон, который является законом самой вещи, суть не что иное, как сверх-я, Закон, чье предписание — это невозможный приказ: «Наслаждайся!» Это также измерение, которое являет собой лицевую сторону кантовской логики бесконечного приближения к недостижимой цели: в кантовском горизонте вещь остается недоступной, пустотой за законом, в то время как закон–вещь как бы представляет лицо де Сада/истину Канта, обратную сторону Закона, т. е. закон самой вещи.
То, что сверх-я приостанавливает действие морального запрета, — отличительная черта сегодняшнего «постмодернистского» национализма. Здесь следует перевернуть клише, согласно которому полная страсти этническая идентификация восстанавливает в сегодняшние времена всеобщей путаницы и неуверенности, в эпоху атеистического глобального сообщества четкий набор ценностей и верований: националистический «фундаментализм» служит оператором тайного, едва прикрытого ты можешь! Нынешнее явно гедонистическое и все разрешающее постмодернистское рефлексивное сообщество парадоксальным образом все больше и больше насыщается правилами и установками, якобы служащими нашему процветанию (запрет на курение, ограничения в еде, правила ограждающие от сексуальных домогательств…). Так что намеки на страстную этническую идентификацию далеки от того, чтобы нас ограничивать, уж скорее такого рода идентификация действует согласно раскрепощающему «ты можешь!» Ты можешь нарушать (не десять заповедей, но) жесткие правила либерального общества терпимости. Ты можешь пить и есть, что хочешь, участвовать в патриархальных излишествах, запрещенных либеральной политической корректностью, даже ненавидеть, бороться, убивать и насиловать… Без полного признания этого перверсивного псевдоосвободительного эффекта сегодняшнего национализма, без осмысления того, как непотребно разрешающее сверх-я восполняет эксплицитную фактуру социального символического закона, мы обрекаем себя на неудачу в понимании подлинной динамики этого самого национализма [98].
Вот как описывает «странный симбиоз Милошевича и сербов» Александр Тижанич, один из ведущих сербских журналистов, какое–то время даже исполнявший в правительстве Милошевича обязанности министра информации:
Милошевич вообще подходит сербам. Во время его правления сербы упразднили время работы. Никто ничего не делал. Он допустил расцвет черного рынка и контрабанды. При нем можно было появиться на государственном телевидении и поносить Блэра, Клинтона и прочих «мировых сановников». <…> Более того, Милошевич дал нам право носить оружие. Он дал нам право решать при помощи оружия все наши проблемы. Он также дал нам право ездить на ворованных машинах. <…> Милошевич превратил повседневность Сербии в один сплошной праздник и дал нам всем возможность почувствовать себя старшеклассниками в выпускной вечер, что значит — нет ничего, ничего вообще такого, за что ты можешь быть наказан [99].
Сверх-я, таким образом, становится собственно непотребным превращением дозволяющего «можно!» в предписывающее «должен!», служит той точкой, в которой разрешенное удовольствие оборачивается предопределенным удовольствием. Все мы знаем кантовскую формулу безусловного этического императива «Du kannst, denn du sollst!» («Можешь — значит должен!»); сверх-я превращает кантовское «можешь, потому что должен» в «должен, потому что можешь!» Самым ярким примером тому служит несчастная виагра, таблетки для улучшения потенции, обещающие восстановить способности мужской эрекции чисто биохимическим образом, разрешая попутно все проблемы психологических торможений: теперь виагра берет на себя ответственность за эрекцию, и нет никаких отговорок, ты должен наслаждаться сексом, а если не будешь — ты виноват! На противоположном конце спектра находится мудрость в духе нью–эйджа — мудрость восстановления спонтанности собственного подлинного я, которая предлагает выход из системы предписаний сверх-я. Что же здесь, в конце концов, происходит? Разве подход в духе нью–эйджа втайне не поддерживает императив сверх-я: «Ты должен, выполняй свой долг достижения полной самореализации и самоосуществления, ибо можешь!» Разве не по этой причине за угодливой терпимостью нью–эйджевских проповедников мы постоянно ощущаем по–настоящему террористическое давление? [100] Попросту говоря, элементарная авторитарная «мудрость» заключается в том, что человек слаб и нуждается в сильном господине, который будет управлять его антисоциальными импульсами. Потому–то традиционные авторитарные учителя говорят нам: «Неважно, что ты думаешь в глубине души, неважно, насколько трудным тебе это покажется, насколько противным собственной природе, подчиняйся (моим приказам), подави, отринь свои внутренние позывы!» Совершенно по–другому звучит послание тоталитарного учителя: «Мне лучше знать, чего ты хочешь на самом деле, что для тебя лучше, и я приказываю тебе то, чего в глубине души ты больше всего хочешь, даже не подозревая об этом, даже если, как кажется, этому противишься!»
Есть два способа преодоления внешнего противопоставления «удовольствия и долга». С одной стороны, перед нами парадокс крайне репрессивной «тоталитарной» власти, которая идет еще дальше, чем традиционная «авторитарная» власть. Она не просто говорит: «Выполняй свой долг, меня не волнует, нравится тебе это или нет!» Она говорит: «Ты не только обязан подчиняться моим приказам и выполнять свой долг, но ты должен получать удовольствие; выполняя свой долг, ты должен наслаждаться!» (Так работает тоталитарная популистская демократия: недостаточно идти за вождем, его нужно еще и любить…) С другой стороны, есть еще и дополнительный парадокс самого удовольствия, получение которого превращается в долг: в «дозволяющих» обществах люди испытывают необходимость «хорошо проводить время», получать удовольствие, будто это необходимо, и, стало быть, переживают вину, если им не удается быть счастливыми… Я хочу сказать, что понятие сверх-я как раз–таки и обозначает ту интерзону, т. е. в которой эти две противоположности пересекаются, в которой приказ наслаждаться при исполнении долга накладывается на долг наслаждаться.
И вновь здесь двусмысленную роль играет христианство: «Вы слышали, что сказано древним: не прелюбодействуй. А Я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем» (Евангелие от Матфея, 5:27–28). Разве это предписание, представляющее собой еще один шаг вперед по сравнению с десятью заповедями, поскольку оно налагает запрет не только на грешные деяния, но и на грешные мысли, не обозначает сдвиг от еврейского символического запрета к стимуляции его сверх-я (дело не только в том, что не следует действовать согласно грешным желаниям, что нужно с ними бороться, но в том, что сами эти желания, даже если успешно удается им противостоять, уже равны совершенному греху так что нужно изменить своим желаниям, изменить их и желать лишь разрешенного)? Или все же христианство, напротив, поощряет нас разорвать порочный круг запрета, порождающего желание его нарушать, круг, описанный Святым Павлом в Послании к Римлянам, 7:7?
15. ОТ ЗНАНИЯ К ИСТИНЕ… И ОБРАТНО
Давайте подойдем к этой дилемме с другой стороны, со стороны диалектического напряжения между знанием и истиной. Как правило, психоанализ действует в области оппозиции (фактического «объективного») знания и «субъективной» истины: можно лгать под маской истины (так поступают невротики с навязчивыми состояниями, когда в абсолютно точных по факту высказываниях скрывают или отрицают свое желание), а можно говорить правду под маской лжи (в истерических процедурах или в самых заурядных оговорках, выдающих подлинное желание субъекта). В своей книге «Опасная идея Дарвина» Даниэл Деннетт предлагает провести следующий умственный эксперимент: вас вместе с вашим лучшим другом вот–вот захватят в плен вражеские силы, которые знают английский язык, но не очень–то разбираются в нашей жизни. Вы оба знаете азбуку Морзе и договариваетесь между собой использовать следующую схему шифровки: тире — говорить правду, точка — говорить ложь. Взявшие вас в плен слушают, как вы между собой говорите: «Птицы откладывают яйца, а жабы летают. Чикаго — это город, мои ступни сделаны из олова, а в бейсбол играют в августе», — говорите вы, отвечая «нет» (точка–тире; тире–тире–тире) на вопрос, заданный вашим другом. Даже если ваши враги знают азбуку Морзе, но не могут определить истинность и ложность предложений, им не удастся понять, что же именно означают точка и тире [101]. Деннетт прибегает к этому примеру для демонстрации того, что значение невозможно установить в чисто синтаксических терминах: единственный способ, каким можно подобраться к значению высказывания, — поместить его в жизненный контекст собственного мира, т. е. принять во внимание семантические параметры, объекты и процессы, к которым оно отсылает. Я хочу сказать кое–что другое: как указывает в этом случае сам Деннетт, два пленника используют собственно мир в качестве «разового блокнота»: хотя истинное значение их высказываний имеет не безразличное, но решающее значение, важным здесь оказывается не само по себе истинное значение. Важен перевод истинного значения в дифференциальную последовательность плюсов и минусов (тире и точек), передающий истинное содержание на языке азбуки Морзе. Разве в ходе психоаналитического процесса не происходит кое–что подобное? Хотя истинное значение вы- сказываний пациента не является безразличным, на самом деле важна не истинность значения как такового, но то, как чередование истины и лжи обнаруживает желание пациента; и пациент также пользуется самой реальностью (то, как он к ней относится) как «разовым блокнотом», чтобы записать на его страницах свое желание. Когда, например, пациентка утверждает, что была совращена своим отцом, необходимо, конечно же, установить, было ли домогательство на самом деле или нет: однако по большому счету важно не само это совращение как таковое, а то, какую роль оно играет в символической экономике пациентки, то, как оно было «субъективировано». Если мы узнаем, что на самом деле никакого совращения не было, тогда факт активного фантазирования пациенткой на данную тему приобретает иное символическое значение, ибо он говорит нам о ее желании.
И все же это понятие подлинной субъективной истины в его противопоставлении простому «объективному» знанию не является для Лакана последним словом. У позднего Лакана имеется представление о некоем знании (равном влечению), которое более фундаментально, чем сама (субъективная) истина. На лакановской конференции «Субъект — еще раз», состоявшейся в марте 1999 года в Калифорнийском университете Лос—Анджелеса, один из участников рассказывал о медико–юридических аспектах истории одной женщины, наотрез отказавшейся по религиозным причинам от переливания крови, которое могло бы спасти ей жизнь. Судья, к которому ее привели, спросил: «А что, если бы вам перелили кровь против вашей воли? Навлекло бы это на вас проклятие, попали бы вы тогда после смерти в ад или нет?» После недолгих размышлений женщина ответила: «Думаю, нет». Услышав такой ответ, судья решает взять на себя всю ответственность: чтобы спасти жизнь женщины, не обрекая ее при этом на невыносимые моральные муки, он объявляет, что она не несет никакой ответственности, и предписывает переливание крови против ее воли. Каков этический статус такого решения?
Участники приветствовали находчивость судьи, которая может даже служить образцом успешного решения психоаналитика: как позволить пациенту утвердиться в его фундаментальной воли–к–жизни и при этом не навредить его идеологическим и символическим идентификациям. И все же с точки зрения психоаналитической этики такое решение является ложным. Оно хорошо в качестве практического решения, например, в истории с судьей, но оно не позволяет субъекту столкнуться с истиной его собственного желания. Оно скорее оказывается сострадательно–вспомогательной процедурой, предлагающей благотворный защитный вымысел, или, грубо говоря, ложь. Поскольку в конечном счете это решение суть ложь: «А что, если бы вам перелили кровь против вашей воли? Навлекло бы это на вас проклятие, попали бы вы тогда после смерти в ад или нет?» Ведь женщина знает: если она ответит «нет», судья предпишет насильственное переливание. Дабы понять, что выбор относительно переливания крови целиком и полностью находится в ее руках, обратимся к лакановскому различению субъекта заявления и субъекта высказывания: говоря правду на уровне заявления (она действительно верит, что насильственное переливание крови не является для нее смертным грехом), она совершает грех (она солгала и, тем самым, подписалась под переливанием) на уровне субъективной позиции высказывания, т. е. подлинное содержание ее «нет» — «да, пожалуйста, перелейте мне кровь» (подобно фигуре лицемерной женщины, ставшей притчей в духе мужского шовинизма, которая может наслаждаться сексом, только если ее к нему склоняют, если она прикидывается, что это происходит против ее воли…). Так что остаться честной перед самой собой на уровне субъективной истины (на позиции высказывания) значит для нее, парадоксальным образом, солгать на уровне заявления, т. е. сказать «да!», даже если на самом деле она думает, что переливание крови против воли не является смертным грехом, и таким образом предотвратить переливание.
Однако, охватывает ли эта альтернатива все возможные варианты! Разве нельзя представить себе, как бедная женщина отвечает правильно (т. е. как она и сделала — «нет»), не совершая при этом греха? Что, если мы представим себе человека, который ускользает от напряжения между объективным знанием и субъективной истиной, откладывая само понятие истины в сторону и обращаясь к холодному безличному знанию? Иначе говоря, что, если бедная женщина говорит «нет», но не ради собственного спасения, а исходя из радикального пренебрежения к субъективным последствиям? (В этом случае было бы совершенно неуместно утверждать, что судья, подобно хорошему психоаналитику, обнаружил в ней отринутое желание жить и нежно, посредством спасительной лжи, позволил ей исполнить это желание, не нарушая религиозных принципов.) Здесь нам следует вспомнить мысль Жака- Алэна Миллера о том, что психоаналитический дискурс должен использовать такой язык, который не предает и ничего не скрывает, который не прибегает к прямому значению как к тайной риторической стратегии аргументации. Освальд Дюкро 2 развил идею, что в нашем языке все предикаты — это, в конечном счете, просто овеществленные процедуры, направленные на доказательство чего–либо. В конце концов, мы пользуемся языком не для обозначения некой реальности, некоего содержания, но чтобы одурачить другого, одержать верх над ним в разговоре, соблазнить его или пригрозить ему, скрыв наше подлинное желание… В обыденном разговоре истина никогда не бывает полностью установленной, всегда есть «за» и «против», на каждый довод находится контрдовод, на каждую точку зрения имеется «однако», на каждое утверждение можно обнаружить отрицание. Неразрешимость оказывается всеобъемлющей, и эта вечная неустойчивость прерывается исключительно появлением некоей точки крестообразной стежки (главенствующего означающего). По Лакану, психоаналитический дискурс воссоединяется с современной наукой в том, что он нацелен на прорыв этого порочного круга повсеместно распространяющейся аргументации, но не посредством точки крестообразной стежки: такая точка не нужна для стабилизации означающих, поскольку они в самом своем функционировании не являются неустойчивыми, не подвержены непрестанному скольжению смысла.
Так что на этом уровне субъекту удается выйти из порочного круга толкования: «нет!» пациентки не нужно больше истолковывать, поскольку это неуместно в отношении того, что она на самом деле желает. И, по–видимому, так же можно ответить на распространенный христианский упрек евреям, которые, дескать, ищут пути буквального подчинения заветам и запретам Бога, но при этом обманывают Его, всегда делая то, что им хочется. (В Израиле имеется религиозный институт, который занимается вопросами того, как обойти запреты: примечательно, что название этого учреждения — Институт иудаизма и науки.) Этот упрек осмыслен исключительно в рамках обычной христианской позиции, согласно которой важен дух, а не буква, а потому ты виновен, если в глубине твоей души имелось желание, даже если ты не нарушил своими деяниями никакой буквы закона. Когда, дабы нарушить предписание, запрещающее разводить свиней на святой земле Израиля, их все же разводят на высоте трех футов над уровнем моря, христиане истолковывают это так: «Вы только посмотрите, какие лицемеры эти евреи! Смысл повеления их бога совершенно ясен — не разводить свиней! Еврей же лицемерно понимает божественное повеление буквально, обращая внимание на совершенно не важное уточнение «на земле Израиля». Так им удается нарушить дух предписания, придерживаясь его буквы… Для нас, христиан, евреи виноваты в глубине души, ибо они прилагают все усилия к тому, как бы сделать так, чтобы овцы были целы и волки сыты, к тому, как обойти божественный запрет, а не к его выполнению». Ответом на такой упрек может служить приостановка действия всякого толкования: а что, если бедная женщина, отвечая «нет», без всякого лицемерия полагалась на то, что ее желание жить исполнится, что ей перельют кровь, но она не будет ответственна за это, не будет за это расплачиваться? Что, если ее позиция заключалась в полном безразличии ко всей области возможных патологических (в кантовском смысле слова) последствий за слова правды? Что, если ее высказываемая косвенно этическая аксиома заключалась в точном переворачивании общепринятого: «Нужно говорить правду, даже если это причинит тебе боль!» — «Нужно говорить правду, даже если она тебе выгодна!»? Фундаментальный урок психоаналитического понятия сверх-я заключается в том, что оно, в отличие от позиции неоконсерваторов, стонущих от якобы гедонистического нарциссизма нашего времени, говорит нам: есть кое–что посложнее безвинного удовольствия от выполнения долга (в данном случае долга говорить правду). В то время как легко эгоистически наслаждаться вопреки долгу возможно, только в результате психоаналитического лечения человек может обрести способность наслаждаться, исполняя долг. Может быть, именно так звучит одно из определений завершения анализа.
Такое решение совершенно очевидно позволяет нам разорвать порочный круг сверх-я. христианская логика «если ты только подумал об этом, то уже виноват, будто это совершил» строится на чувстве вины, т. е. включает парадокс сверх-я: «чем сильнее вытесняешь ты свое трансгрессивное желание, чтобы подчиниться закону, тем чаще и чаще желание это возвращается в мыслях твоих, тем сильнее оно навязывается и, следовательно, тем больше ты виноват». С такой христианской точки зрения, конечно же, еврейское буквальное подчинение закону не может проявиться, но все же проявляется как предельно оппортунистическая манипуляция, подразумевающая целиком и полностью внешние отношения с законом как с набором правил, которыми можно крутить как угодно для достижения собственной цели. При этом евреи не обращают внимания на то, что представляется христианским братьям дешевыми трюками, в результате которых и волки сыты, и овцы целы. Евреи добиваются желаемого и подчиняются букве закона, не испытывая при этом никакого чувства вины. Но что, если это отсутствие вины как раз–таки и показывает, как бьет мимо цели христианский упрек, согласно которому евреи занимаются дешевой манипуляцией с законом, преследуя свои патологические цели: можно сказать правду, не испытывая вины, даже если правда выгодна, ибо важна только правда, а не вложенные в нее желания. Итак, еврейская религия, отнюдь не являющаяся «религией вины», позволяет нам ее избежать, а христианство как раз этой самой виной и манипулирует.
Диалектика закона и его нарушения в духе сверх-я коренится не только в том факте, что сам закон провоцирует свое собственное нарушение. Наше подчинение закону не является «естественным», спонтанным. Оно всегда уже опосредовано (вытеснением) желания нарушать закон. Когда мы подчиняемся закону, мы поступаем так, мучительно преодолевая желание закон этот нарушить. Так что, чем строже подчиняемся мы закону, тем отчетливее видим, как в глубине души испытываем давление желания согрешить. Так что чувство вины сверх-я право: чем больше подчиняемся мы закону, тем больше мы виноваты, ибо это подчинение на самом деле является защитой от нашего грешного желания, а в христианстве желание (намерение) согрешить равносильно самому греховному деянию: возжелал жену ближнего своего — уже совершил прелюбодеяние. Может быть, лучше всего эти особенности христианского сверх-я выражены T. С Элиотом в строках из «Убийства в соборе»: «Последнее звучало всех подлее: / Творить добро, дурную цель лелея». Даже когда ты совершаешь правильные поступки, то совершаешь их ради противодействия и тем самым скрываешь фундаментальную низость своей подлинной натуры… Именно этой диалектики сверх-я успешно избегают евреи: их подчинение закону не опосредовано вытесненным желанием грешить. По этой причине они могут держаться буквы закона и находить пути удовлетворения желания без какого–либо чувства вины. Однако эта сверх–я–диалектика, диалектика порождающего вину трансгрессивного желания, не исчерпывает позицию христианства: как проясняет Святой Павел, христианская позиция в своей наиболее радикальной форме включает именно приостановку движения по порочному кругу закона и нарушающего его желания. Как же выйти из этого тупика? Совершив поступок!
16. ПРОРЫВ
В некоторых коммерческих фильмах, недавно вышедших на экраны мы видим тот же на удивление радикальный жест. В кинофильме «Скорость» главный герой (его играет Киану Ривз) сталкивается с террористом, который его шантажирует, наставив пистолет на его партнера; и тогда герой стреляет не в шантажиста, а в ногу своего напарника. Этот явно бессердечный поступок на какое–то мгновение шокирует шантажиста, тот бросает заложника и убегает. В другом кинофильме, «Выкуп» медиамагнат (Мел Гибсон) приходит на телевидение, чтобы ответить на требование похитителей заплатить 2 миллиона долларов за его сына Неожиданно он предлагает 2 миллиона долларов любому, кто предоставит какую–нибудь информацию о похитителях, и заявляет, что будет преследовать их до самого конца, используя все возможные средства, если они немедленно не отпустят его сына. Этот радикальный жест ошеломляет не только похитителей. Сразу после своих слов Гибсон сам оказывается на грани нервного срыва, понимая, насколько он рискует. И, наконец, самая невероятная вещь: когда в «обратном кадре» из «Обычных подозреваемых» загадочный Кейсер Сёзе возвращается домой и обнаруживает жену и маленькую дочку под прицелом членов конкурирующей шайки, он решается на самый радикальный жест. Он сам убивает жену и дочку, и это позволяет ему начать безжалостное преследование бандитов, их семей, их родителей, друзей, убивать их одного за другим… Общим для всех этих сцен является то, что в ситуации принудительного выбора субъект совершает «безумный», невозможный выбор, стреляя в самого себя, в самое для него дорогое. Этот жест, далекий от бессильной, направленной на самого себя агрессивности, меняет координаты ситуации, в которой оказывается человек: освобождаясь от драгоценного объекта, которым завладел враг, он обретает свободу действий. Разве такой радикальный, «поражающий самого себя» жест не является конститутивным для субъективности как таковой?
Разве не так же поступает Авраам, подчиняющийся приказанию Господа принести в жертву Исаака, его единственного сына, который значит для него больше, чем собственная жизнь? В этой истории, впрочем, в последний момент появляется ангел и останавливает руку Авраама. (В христианском прочтении можно сказать, что в настоящем убийстве не было необходимости, поскольку значимо лишь внутреннее намерение, так же как и в случае совершения греха тем, кто возжелал соседскую жену.) Здесь, конечно же, мы должны провести черту, отделяющую классическую историю от истории современною героя: если бы Авраам был нашим современником, никакой ангел не появился бы в последний момент и он бы заколол собственного сына. Разве такой жест не указывает на самый сложный вопрос книги Фрейда о Моисее и монотеизме? Как реагирует Фрейд на исходящую от нацистов антисемитскую угрозу? Он не присоединяется к тем евреям, которые пытаются, оказавшись в западне, сохранить свое наследие. Более того, он целится в свой собственный народ, в самую ценную часть еврейского наследия — в фигуру основоположника, Моисея. Он лишает евреев этой фигуры, доказывая, что Моисей вовсе не был евреем. Итак, на деле он подрывает бессознательные основания антисемитизма. Более того, разве не производит подобный «выстрел в себя» Лакан, распуская в 1979 году «Фрейдовскую школу Парижа», свою агальму, свою собственную организацию, само пространство своей коллективной жизни? И все же он прекрасно понимал, что такого рода «самоуничтожающий» акт сможет расчистить территорию для нового начала.
Тот факт, что все приведенные примеры служат образцами мужского поведения, может навести на мысль, что жесты эти являются мужскими по своей природе. В отличие от мужской готовности разорвать все узы, женщина остается укорененной в ее специфическую материю… А что, если урок психоанализа заключается в том, что такой жест — нейтрален в полоролевом отношении или даже что все как раз–таки наоборот? Так как же может субъективироваться женщина в таком «выстреле в себя»? Первое, что здесь приходит в голову, это, конечно, типично феминистская точка зрения: чтобы стать субъектом, женщина должна остерегаться самой сердцевины своей «феминности», этого таинственного je ne sais quoi, чего–то «ce самою превосходящею», тайной драгоценности (агальмы), делающей ее объектом мужского желания. Однако здесь следует сделать куда более радикальный жест. Лакан предложил в качестве одного из возможных определений «настоящей женщины» некий радикальный поступок: изъятие, даже уничтожение у мужчины- партнера того, что «в нем больше, чем он сам», того, что «значит для него все», того, к чему он привязан больше, чем к своей собственной жизни, того, что служит ему драгоценной агальмой, вокруг которой вращается вся его жизнь. В качестве показательного примера подобного деяния в литературе Лакан приводит Медею, которая, узнав о намерениях мужа, Ясона, оставить ее ради молодой соперницы, убивает двух их маленьких детей, самое для него дорогое. Это чудовищное злодеяние, уничтожающее самое драгоценное в жизни её мужа, для Лакана и есть деяние une traie femme [102]. Так что, возможно, пришло время восстать против пышных славословий в честь Антигоны и вновь утвердить в правах Медею, жуткую, тревожащую противоположность Антигоны, утвердить ее в качестве субъекта подлинного действия, в духе «Возлюбленной» Тони Моррисон, романа о невыносимо болезненном рождении афроамериканской субъективности. Как всем известно, «Возлюбленная» сосредоточена на отчаянном травматическом действии героини, Сете. После того как ей удается бежать из рабства вместе с четырьмя детьми, она целый месяц наслаждается спокойной жизнью — восстанавливает силы у свекрови в Цинциннати. Тем временем жестокий надзиратель с плантации, откуда она бежала, пытается заставить ее вернуться, пользуясь правом закона о беглых рабах. Оказываясь в безвыходном положении, без малейшей возможности избежать рабства, Сете прибегает к радикальным мерам, дабы уберечь от него своих детей. Она перерезает горло старшей дочери, пытается убить своих двоих мальчиков и угрожает вышибить мозги из маленькой дочки. Короче говоря, она совершает Медеин поступок, уничтожая самое ценное — потомство. Неподражаемый оттенок жестокой иронии: отчаянное утверждение свободы интерпретируется белым школьным учителем как доказательство того, что, если афро–американцам дать чуть больше свободы, они регрессируют к африканской дикости, хотя ее поступок совершенно немыслим в большинстве африканских племен, к которым восходит история рабовладения… Принципиально важными для понимания отчаянных мер Сете оказываются ее последующие, очевидно парадоксальные, размышления, по ходу которых она заявляет: «Если бы я ее не убила, она бы все равно погибла, и вот этого я бы точно не вынесла» [103]. Убийство дочери для нее — это единственное средство сохранить хотя бы минимум достоинства. Вот что говорит сама Моррисон о том, что может показаться крайней жестокостью, т. е. об убийстве потомства в одном из интервью по поводу «Возлюбленной»: «Сете настаивает на своей родительской роли, настаивает на своей независимости, на той свободе, которая ей необходима для защиты детей, ради их достоинства» [104]. Короче говоря, в критической ситуации принудительного выбора, в которой из–за существующего рабства дети Сете «совсем не были ее детьми» [105], единственный родительский поступок, который ей остается ради защиты и сохранения достоинства детей, — убить их. Этот радикальный характер поступка Сете становится очевидным, если мы сравним его с другим литературным образцом, с «Выбором Софи» Уильяма Стайрона. В этом романе героиня оказывается перед выбором: спасти одного ребенка от газовой камеры, отказавшись от другого. Подчиняясь шантажу нацистского офицера, она вынуждена отдать свою старшую дочь и спасти младшего сына; результат этого выбора предсказуем: чувство вины будет преследовать ее до конца дней, доведя в итоге до самоубийства. Хотя травматический поступок Сете также преследует ее на протяжении нескольких десятилетий (возлюбленная из названия романа — это призрак убитой дочери, которая треплет, подобно неутомимой гарпии, нервы всем членам семьи, играя с ними в эмоциональные и сексуальные игры), все же здесь мы имеем дело с тем, что по своей природе совершенно противоположно «выбору Софи»: если чувство вины Софи возникает из–за компромисса, на который она пошла, приняв условия нацистского офицера, из–за невозможного выбора, который она делает, — одного ребенка за счет другого, то Сете оно преследует как раз–таки из–за того, что она не пошла на компромисс со своим желанием, но пошла на целиком и полностью невозможное травматическое деяние «выстрела в себя», в самое ценное в себе. Лишь к концу романа признаки ухода Возлюбленной дают Сете возможность прийти в согласие с этической чудовищностью ее поступка» [106].
Поступок Сете — показательный случай современного этического поступка, который, согласно Лакану, показывает структуру того, что Фрейд назвал воздержанием (Versagung) [107]. В традиционном (домодернистском) поступке субъект жертвует всем (всем «патологическим») ради причины–вещи. значащей для него больше, чем жизнь: когда приговоренная к смерти Антигона перечисляет все то, что она уже не сможет пережить из–за рано пришедшей смерти (замужество, дети…), то она приносит в жертву «дурную бесконечность» ради одного исключения (той Вещи, ради которой все совершается и которая сама не приносится в жертву). Здесь действует структура кантовского возвышенного: превосходящая бесконечность принесенных в жертву эмпирических/патологических объектов делает негативно ощутимым огромное, непостижимое измерение той Вещи, ради которой это жертвоприношение осуществляется. Антигона сохраняет возвышенный характер в своем печальном перечне жертв; и список этот в его бесконечности указывает на трансцендентные контуры Вещи, которой она сохраняет безоговорочную верность. Стоит ли упоминать о том. что эта Антигона — в конечном счете суть мужская фантазия.
В современной этической констелляции, напротив, эта исключительность Вещи оказывается подвешенной: свидетельством преданности Вещи служит жертвоприношение этой самой Вещи (так Кьеркегор требует от настоящего верующего христианина ненависти к возлюбленному, ненависти ради любви). Разве не та же невыносимая сложность заключается в поступке Сете, в том. что она убивает своих детей в силу своей им верности, а не из «примитивного» жестокого жертвоприношения сумеречным богам сверх-я? Без такого рода приостановки нет и собственно этического поступка. [108] Итак, когда мы утверждаем, что этический поступок «как таковой» обладает структурой женской субъективности и, более того, что субъект «как таковой» в конечном счете женственен, то речь не идет об общепринятом мнении, что мужчина участвует в политической борьбе, в то время как женщина по природе своей аполитично этична (таково обычное кривочтение Антигоны как защитницы этических семейных ценностей от мужских политических манипуляций): само такое возвышение женщины до уровня покровительницы чистой этики, далекой от мужской борьбы за власть, оберегающей ее от безграничного стремления к власти, уничтожающей все человеческие черты, является по сути своей мужской логикой. В отличие от этой («мужской») универсальности борьбы за власть, полагающейся на этическую фигуру женщины как природного исключения, («женский») этический жест включает как раз–таки приостановку этого исключения: он имеет место на пересечении этики и политики, в жуткой области, где этика, в конечном счете, «политизируется», где авантюру радикальных непредвиденных решений уже нельзя рассматривать с точки зрения преданности какой–то предсуществующей причине, поскольку пересматриваются сами условия существования этой причины. Короче говоря, два противоположных способа прочтения отношений этики и политики здесь в точности подпадают под лакановскую оппозицию между мужскими и женскими «формулами сексуации»: само вознесение женской позиции до аполитичного этического уровня, спасающее мужской мир политики борьбы за власть от криминальных эксцессов, по сути своей носит мужской характер, поскольку «женский» этический акт включает отмену этой границы, т. е. имеет структуру политического решения. Да, поступок Сете становится чудовищным из–за «приостановки действия этического порядка», и эта приостановка является «политической» в смысле глубинного избыточного жеста, который не может укорениться в «общечеловеческих основаниях». В своем прочтении Антигоны Лакан подчеркивает, как после изгнания с родины Антигона попадает в область невыразимого ужаса «между двумя смертями», еще живая, но вырванная из символической общины. Разве не то же самое происходит и с Сете? Моррисон сама говорит в одном из интервью, что
она, так сказать, переступила черту Ее поступок можно понять, но все же это уж слишком. Жители Цинциннати отреагировали не на ее глубокую печаль, но на ее гордыню. <…> Они бросили ее на произвол судьбы, поскольку чувствовали ее гордость. То, что ценно для нее, становится проклятьем тому, что ценят они. У них тоже бывали утраты. Они понимают, что своим нежеланием покаяться она лишь подчеркивает, что убила бы свое дитя в такой ситуации еще раз. Это и проводит черту между ней и остальными членами общины [109].
Короче говоря, чудовищем делает Сете не ее поступок как таковой, но то, что она отказывается его «с чем–то соотнести», принять на себя за него ответственность, признать, что она совершила его в непростительном приступе отчаяния или даже безумия. Вместо того чтобы пойти на соглашение со своим желанием, дистанцировавшись от своего поступка, определив его как нечто «патологическое» (в кантовском смысле слова), она продолжает настаивать на предельно этическом статусе сво- его чудовищного деяния… И разве адекватным примером такого же жеста из сегодняшней политической жизни не служит то, что сербы относятся к Косово как к самому драгоценному объекту, как к колыбели своей культуры, как к тому, что значит для них больше всего на свете, как к тому, от чего они никогда не смогут отказаться. Это и задает предел большинству так называемой «демократической оппозиции» режиму Милошевича. Они безоговорочно поддерживают антиалбанскую доктрину Милошевича и даже обвиняют его в компромиссах с Западом, «предающих» сербские национальные интересы в Косово. По этой самой причине непременным условием настоящего поступка в сегодняшней Сербии был бы отказ от претензий на Косово, было бы принесение в жертву привязанности к этому привилегированному объекту. (Здесь мы имеем дело с удачным примером политической диалектики демократии: хотя демократия — это конечная цель, в сегодняшней Сербии любая прямая защита демократии, которая не затрагивает националистические претензии на Косово, обречена на провал. Вопрос, в котором будет предрешен исход борьбы за демократию, — это вопрос Косово.)
17. АГАПЭ БЕЗ МИЛОСТИ
Если идти до самого конца, то нужно задуматься над следующим вопросом: разве распятие Христа не дает нам образец предельно радикального жеста, примера «выстрела в себя», отказа от самого в себе самом драгоценного? С этих позиций нам и стоит посмотреть на эссе Герберта Шнэдельбаха «Проклятие христианства» [110], которое содержит, возможно, наиболее четко сформулированную еврейско–либеральную атаку на христианство. В этом эссе перечисляются семь… нет, не грехов, а «ошибок при рождении»: (1) понятие первородного греха, свойственного человечеству вообще; (2) представление о том, что Бог оплатил этот грех, заключив с Собой сделку о насилии, принося в жертву Собственного Сына; (3) миссионерский экспансионизм; (4) антисемитизм; (5) эсхатология с видениями Судного Дня; (6) признание платоновского дуализма с его ненавистью к телу; (7) манипуляции с исторической правдой. Хотя Шнэдельбах, разумеется, возлагает вину по большей части на Св. Павла, на его стремление институциализировать христианство, он все же подчеркивает, что мы имеем дело не со вторичным осквернением оригинального христианского учения о любви, но с тем, что лежит в самых его основаниях. Более того, он настаивает на том, что, грубо говоря, все стоящее в христианстве (любовь, человеческое достоинство и т. д,), отнюдь не является христианским изобретением, а заимствовано у иудаизма.
Именно христианский универсализм проблематизируется в этом эссе: всеобъемлющий подход (вспомним знаменитые слова Святого Павла «нет ни мужчины, ни женщины, ни еврея, ни грека») строится на исключении тех, кто не принадлежит христианской общине. В иных «партикуляристских» религиях (даже в исламе, вопреки его глобальному экспансионизму) другому все же отводится какое–то место, хотя на него и смотрят свысока. Христианский лозунг «все люди — братья» означает еще и то, что «кто мне не брат, тот не человек». Христиане обычно похваляются тем, что преодолели еврейское представление об избранном народе, что христианство имеет отношение ко всему человечеству. Весь фокус здесь заключается в том, что евреи, настаивая на своей избранности, на привилегированных, непосредственных отношениях с Богом, все же принимают других людей за людей, за тех, кто просто поклоня- ется ложным богам, в то время как христианский универсализм исключает неверующих из самой человеческой универсальности.
Вопрос не снимается даже в том случае, если этот резкий отказ позволяет объяснить столь серьезный аспект агапэ Павла как «чудо» ретроактивного «аннулирования» грехов посредством приостановки действия Закона. Обычно строгая еврейская Справедливость противопоставляется христианскому Милосердию, необъяснимому жесту незаслуженного прощения: мы, люди, рождены во грехе и не можем оплатить наши долги, обрести в своих деяниях искупление; наше единственное спасение в руках Божьей Милости, оно — в Его возвышенном жертвоприношении. Самим этим жестом разрывания цепи справедливости необъяснимым актом милосердия, оплаты нашего греха, христианство вводит нас в еще большие долги: мы всегда в долгу перед Христом и мы никогда не сможем рассчитаться с Ним за то, что Он для нас сделал. Такого рода избыточное давление, от которого нам никак не отделаться. Фрейд называет сверх-я (das Uberich). (Если быть точным, то нужно сказать, что понятие «милость» само по себе уже двусмысленно и его нельзя свести к инстанции сверх-я. У милости есть еще и то значение, в каком его понимает Бадью, а именно «милость» события истины (или, для Лакана, деяния): мы не можем решиться что–то совершить, и неожиданный поступок удивляет самого агента действия; «милость» как раз- таки и означает это неожиданное свершение поступка.)
Обычно именно иудаизм считают религией сверх-я (подчинения человека ревнивому, всемогущему и жестокому Богу, сравнивая его с христианским Богом милосердия и любви). Однако христианский Бог милосердия утверждает себя как высшая инстанция сверх-я именно потому, что не устанавливает нам никакой платы за наши грехи, именно потому, что Он Сам оплачивает наш счет; «Я заплатил высшую цену за ваши грехи, и потому вы мои должники навек…» Так что, этот Бог как инстанция сверх-я, чья милость порождает у верующих неотвратимое чувство вины, выступает как предельный горизонт христианства? Христианское агапэ — это еще одно имя милости?
Давайте вернемся к понятию агапэ: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную» (Иоанн, 3:16). Как же нам понимать этот основной догмат христианской веры? Проблема возникает в тот момент, когда мы пытаемся осмыслить то, что Бог «отдал Сына Своего Единородного», т. е. смерть Христа как жертвоприношение в размене между Богом и человеком. Если мы утверждаем, что посредством принесения в жертву самого для Него дорогого, Его Собственного Сына, Бог позволяет человечеству искупить его грехи, выкупить их, то у нас есть два возможных объяснения этого поступка. Либо Бог сам требует этого возмездия, т. е. Христос приносит себя в жертву как представитель человечества, дабы удовлетворить карающие потребности Бога, Своего Отца; либо Бог — не всемогущ, т. е. Он, подобно трагическому греческому герою, подчиняется всемогущей Судьбе: Его акт творения, как роковое деяние греческого героя, приносит с собой нежелательные, ужасные последствия, и единственный способ, каким Он может восстановить равновесие Справедливости, — принести в жертву самое дорогое из того, что у Него есть, Своего Собственного Сына. В этом смысле Сам Бог суть Авраам. Фундаментальная проблема христологии заключается в вопросе, как избежать этих двух совершенно очевидно навязываемых нам прочтений жертвоприношения Христа.
Следует отвергнуть любого рода мысль, что Бог «нуждается» в искуплении с нашей стороны или со стороны нашего представителя. Равным образом нужно наложить запрет и на ту мысль, что над Богом существует некое моральное приказание, с которым Он должен примириться, требуя искупления [111].
Проблема, конечно же, заключается не в том, как избежать этих двух подходов, если само библейское слово, похоже, держится их общей предпосылки: деяние Христа постоянно обозначается как «искупление», причем Его же собственными словами, а также в других библейских текстах и, кроме того, в наиболее знаменитых комментариях к Библии. Иисус сам говорит, что пришел, дабы «отдать душу Свою для искупления многих» (Марк, 10:45); Тимофей (2:5–6) говорит о Христе как о «посреднике между Богом и человеками <…>, предавший Себя для искупления всех»; сам Святой Павел, утверждая, что христиане — рабы, «купленные дорогою ценой» (Коринфянам, 6:20), подразумевает, что смерть Христа нужно понимать как приобретение нашей свободы. Итак, Христос Своими страданиями и смертью платит цену за наше раскрепощение, за освобождение нас от бремени греха. И если мы выпущены на свободу из плена греха и освобождены от страха смерти смертью воскресшего Христа, кто же установил эту цену? Кому было оплачено искупление? Этот вопрос был хорошо известен ранним христианским авторам, и они предлагали на него логический, хотя и еретический ответ: поскольку жертвоприношение Христа освободило нас от власти Дьявола (Сатаны), то смерть Христа — та цена, которую Бог должен был заплатить за нашу свободу Дьяволу, нашему «хозяину», под которым мы жили во грехе. И все же мы оказываемся в тупике: если Христу предлагают принести Себя в жертву Самому Богу, тогда возникает вопрос, почему Бог потребовал этого жертвоприношения? Был ли Он по–прежнему жестоким, ревнивым Богом, установившим столь тяжкую цену за примирение с предавшим его человечеством? Если же жертвоприношение Христа было предназначено кому–то другому (Дьяволу), тогда перед нами странное зрелище, в котором Бог и Дьявол выступают в качестве партнеров по обмену.
Смерть Христа в жертвоприношении, конечно же, легко «понять», поскольку в Его деянии содержится потрясающая «психологическая силя»: когда нас преследует мысль о том, что все идет абсолютно не туда и ответственность за это лежит на нас, что в глубине есть некий изъян, присущий самому существованию человека, что нас обременяет гигантское чувство вины, которую мы никогда не сумеем оплатить, то идея Бога, абсолютно невинного существа, приносящего Себя в жертву за наши грехи из бесконечной любви к нам, дабы освободить нас от вины, служит доказательством того, что мы не одиноки, что мы значимы для Бога, что Он заботится о нас, что мы защищены бесконечной Любовью Творца, будучи в неоплатном перед Ним долгу. Жертвоприношение Христа служит, таким образом, вечным напоминанием и стимулом к этической жизни — что бы мы ни делали, нам всегда следует помнить о Боге, отдавшем Свою жизнь ради нас… И все же такое объяснение не кажется достаточным, ибо деяние это следует раскрыть в собственно теологических понятиях, а не с точки зрения действия психологических механизмов. Загадка остается, и даже изощренные теологи, типа Ансельма Кентерберийского, склонны регрессировать к ловушке законности. Ансельм считает, что если существуют грех и вина, то должно быть и искупление, что–то должно быть сделано ради очищения от противозаконности человеческого греха. Однако у человечества недостаточно сил, чтобы искупить свои грехи. Только Бог может это сделать. Единственно возможное решение в этом случае — воплощение, явление Богочеловека, существа одновременно совершенно божественного и совершенно человеческого: как Бог, это существо способно заплатить требуемую цену и, как человек, оно обязано платить [112].
Проблема этого решения состоит в том, что законное представление о непреложном характере необходимости платить за грехи (преступление должно искупить) не подлежит обсуждению, оно просто принимается. Вопрос здесь очень наивный: почему Бог нас не простил прямо? Почему Он должен был подчиниться необходимости платить за грехи? Разве основной догмат христианства не противоположен приостановке этой законнической логики воздаяния, той идее, что благодаря чуду обращения возможно Новое Начало, в котором прошлые долги (грехи) просто не принимаются в расчет? Следуя этой логике, разве что с совершенно другим акцентом, Карл Барт дает предварительный ответ в своем сочинении о «Судье, судимом на нашем месте»: Бог подобно судье вначале выносит человечеству приговор, а затем принимает облик человека и Сам оплачивает цену, налагая на Себя наказание, «дабы таким образом принести нам примирение с Ним и обратить нас к Нему» [113]. Итак, выражаясь не совсем адекватным языком, Бог стал человеком и принес Себя в жертву, пошел на крайние меры, чтобы пробудить в нас сочувствие к Нему и тем самым обратить нас к Нему.. Впервые эту идею четко сформулировал Абеляр:
Сын Божий принял наше естество, и принял Он его. дабы научить нас и словом, и примером смерти Своей, дабы привязать нас к Себе Своей любовью [114].
Причина, по которой Христос страдал и умер, лежит не в области юридического понятия воздаяния, но в религиозно–моральной области наставления. Он поучает нас, грешных людей, Своей смертью. Если бы Бог просто нас простил, это бы нас не изменило, мы бы не стали лучше. Только сострадание, чувство долга и благодарности, вызванные сценой жертвоприношения Христа, обладают достаточной силой, чтобы нас изменить… В этих рассуждениях легко заметить ошибку: разве не странно, что Бог приносит в жертву Своего Собственного Сына, самое дорогое, что у него есть, всего лишь ради того, чтобы произвести на людей впечатление? Еще более жуткое ощущение вызывает мысль о том, что Бог принес в жертву Своего Сына, чтобы привязать нас к Себе любовью. Тогда получается, что на кон поставлена не только любовь к нам Бога, но также Его (нарциссическое) желание, чтобы мы, люди, Его любили. Разве такая мысль не сближает Самого Бога с безумной гувернанткой из «Героини» Патриции Хайсмит, которая поджигает семейное поместье и бросается в бушующий огонь, чтобы спасти детей и тем самым доказать свою преданность семье? Таким же образом и Бог сначала ведет к грехопадению, т. е. создает ситуацию, в которой мы в Нем нуждаемся, а затем искупает наши грехи, т. е. вытаскивает нас из беды, за которую Сам же и ответствен.
Означает ли все это, что христианство суть порочная религия? Или что возможно и другое прочтение распятия Христа? Первый шаг, позволяющий выйти из затруднительного положения, — вспомнить высказывание Христа, которое нарушает, а точнее, приостанавливает круговую логику мести или наказания, нацеленную на восстановление равновесия справедливости: вместо «Око за око!» — «Если тебя ударят по правой щеке, подставь твою левую щеку!» Дело здесь отнюдь не в тупом мазохизме, простом смирении с унижением, но в стремлении прервать замкнутую круговую логику восстановления равновесия справедливости. Таким же образом и жертвоприношение Христа, его парадоксальная природа (тот человек, по отношению к которому мы согрешили, чью веру мы предали, и искупает грехи, платит за них свою цену) приостанавливают логику греха и наказания, законного или этического воздаяния, «сведения счетов» посредством принятия удара на себя. Единственный способ, позволяющий разорвать порочный круг преступления и наказания/воздаяния — выразить готовность самоустранения. Любовь по большому счету есть не что иное, как такой парадоксальный жест разрыва цепи искупления. Так что второй шаг — сосредоточиться на ужасающей силе априорного принятия и достижения своего устранения: Христос не был принесен в жертву кем–то и за кого–то, Он принес в жертву Себя.
Третий шаг — сосредоточиться на представлении Христа как посредника между Богом и человечеством: чтобы человечество вернулось к Богу, посредник обязан принести себя в жертву. Иначе говоря, пока Христос здесь, здесь не появится Святой Дух, который суть фигура воссоединения Бога и человечества. Христос как посредник между Богом и человечеством, говоря языком сегодняшнего деконструктивизма, — условие возможности и условие невозможности между ними: будучи посредником, Он выступает как препятствие, не позволяющее непосредственное взаимодействие между противоположными полюсами. Однако, говоря гегельянским языком христианского силлогизма, есть две «предпосылки» (Христос — Сын Божий, целиком божественный, и Христос — сын человеческий, целиком человек) и, чтобы объединить противоположные полюса, чтобы прийти к «заключению» (человечество полностью объединено с Богом в Святом Духе), посредник должен устраниться. Смерть Христа не есть часть вечного цикла божественного воплощения и смерти, в котором Бог постоянно появляется и затем возвращается к Себе, в Свою По Ту Сторону. Как отмечает Гегель, на Кресте умирает не человеческое воплощение трансцендентного Бога, но Бог По Ту Сторону Самого Себя. Жертвоприношение Христа, Сам Бог оказывается уже не по ту сторону, но входит в Святого Духа (или религиозную общину). Иначе говоря, если Христу суждено было стать посредником между двумя отдельными сущностями (Богом и человечеством), то смерть Его не означает, что в отсутствие посредника две сущности вновь отделены друг от друга. Так что совершенно очевидно — Бог должен быть посредником в самом строгом смысле слова. Речь не идет о том, что у Святого Духа нет больше нужды в Христе, поскольку два полюса соединены напрямую, ведь, чтобы посредство стало возможным, должна радикально измениться природа обоих полюсов, т. е. одним и тем же движением оба полюса должны претерпеть пресуществление. Христос, с одной стороны, — исчезающий посредник, чья смерть позволяет Богу Отцу «войти» в Святой Дух, и, с другой стороны, Он — исчезающий посредник, чья смерть позволяет человеческой общине «войти» в новую духовную стадию.
Две эти операции не отделены друг от друга, это — два аспекта одного и того же движения: само движение, которым Бог утрачивает характер трансцендентного По Ту Сторону и входит в Святого Духа (в дух общины верующих), равно движению, которым «павшая» человеческая община восходит к Святому Духу. Иначе говоря, люди и Бог не связаны напрямую в Святом Духе, а прямо совпадают — Бог суть не что иное, как Святой Дух общины верующих. Христос умер не для того, чтобы открыть прямую связь между Богом и человечеством, но чтобы не было больше никакого трансцендентного Бога, с которым нужно связываться.
Как недавно заметил Борис Гройс [115], Христос — это первый и единственный в истории религий целиком и полностью Бог–реди–мэйд, Это — человек, и как таковой ничем не отличается от других людей, ничто в его телесном воплощении не делает его особенным. Точно так же и писсуар или велосипед Дюшана являются произведениями искусства не по своим внутренним качествам, а по тому месту, которое они занимают. Христос — Бог не потому, что обладает какими–то «божественными» качествами, но потому что, как человек, он — Сын Божий. По этой причине собственно христианское отношение к смерти Христа заключается не в меланхолической привязанности к его ушедшей фигуре, но в бесконечной радости: крайний горизонт языческой мудрости — это меланхолия, все обращается в прах, так что нужно научиться отделять себя от привязанности, отрекаться от желаний, в то время как если и была религия не меланхолическая, то это христианство, вопреки обманчивому внешнему виду меланхолической привязанности к Христу как к утраченному объекту.
В некоем радикальном смысле жертвоприношение Христа — бессмысленно: не акт обмена, но ненужный, лишний, неоправданный жест, направленный на показ Его к нам, павшему человечеству, любви. Ведь так же и в нашей повседневной жизни, когда мы хотим показать кому–то, что на самом деле его любим, единственное, что мы можем сделать, это ненужный жест траты. Христос не «платит» за наши грехи, как показал Святой Павел; сама эта логика платы, обмена, можно сказать, является грехом; а ставка деяния Христа — показать нам, что цепь обмена может быть прервана. Христос искупает грехи человечества не тем, что платит цену за них, но тем, что показывает нам — мы можем разорвать этот порочный круг греха и платы за него. Вместо того чтобы оплачивать наши грехи, Христос буквально погашает их, «аннулирует» в ответ своей любовью.
Именно на этом фоне необходимо отметить то радикальное отличие, которое, несмотря на кажущееся на первый взгляд сходство, отличает христианство от буддизма. Хотя и христианство, и буддизм утверждают возможность индивидуального контакта с Абсолютом (Пустотой, Святым Духом) в обход иерархической структуры космоса и общества, буддизм остается связанным с языческим понятием Великой Цепи Бытия: даже самый героический персонаж подобен Гулливеру, связанному жителями Лилипутии сотнями веревок Иначе говоря, нам не избежать последствий наших прошлых деяний, которые преследуют нас подобно теням и рано или поздно хватают нас, и тогда приходит пора платить высокую цену. Здесь таится самая сердцевина собственно языческого трагического видения жизни: само наше существование, в конечном счете, служит доказательством нашей греховности, чего–то такого, что обязательно вызывает у нас чувство вины, чего–то такого, что нарушает космическое равновесие, и, в конце концов, когда приходит время «вернуться праху к праху», мы платим цену своим исчезновением. Крайне важно здесь то, что это языческое понятие включает короткое замыкание, совпадение «онтологического» измерения с «этическим», лучше всего передаваемого греческим словом, обозначающим причинность (аития): «послужить причиной чему–либо» означает также и «быть виновным, ответственным за это». Этому языческому горизонту христианская Благая Весть (Евангелие) противопоставляет возможность приостановки действия бремени прошлого, позволяет разорвать путы, связывающие нас с делами дней минувших, покончить с прошлым и начать все сначала. Никакой сверхъестественной магии здесь нет. Такого рода освобождение просто означает разведение «онтологического» и «этического»: Великая Цепь Бытия может быть разорвана на этическом уровне, грехи могут быть не только прощены, но и бесследно стерты. Новое Начало возможно.
Собственно диалектический парадокс язычества заключается в том, что оно узаконивает социальную иерархию («каждый находится на своем месте»), указывая на понятие Вселенной, в которой все различия, в конечном счете, считаются бессмысленными, в которой каждое определенное существо, в конце концов, должно кануть в ту первобытную Пучину, из которой оно возникло. В отличие от язычества, христианство проповедует равенство и прямой доступ к универсальности, утверждая радикальное Различие, радикальный Разрыв. Здесь и коренится принципиальное отличие христианства от буддизма: согласно буддийским представлениям, мы можем достичь освобождения от наших прошлых деяний, только вот освобождение это мы сумеем достичь в радикальном отречении от того, что воспринимаем как реальность, в освобождении от того стимула («желания»), который определяет жизнь, в угасании жизненной искры и погружении в изначальную Пустоту Нирваны, бесформенное Единое Всё. В жизни же никакого освобождения нет, ибо в этой жизни (а другой и нет) мы всегда порабощены теми стремлениями, что ее и определяют: тот, кто я теперь (царь, нищий, муха, лев…), предопределено деяниями моих прошлых жизней, а после моей смерти итоги этой моей жизни определят характер последующего перевоплощения. В отличие от буддизма, христианство делает ставку на возможность радикального Разрыва, слома Великой Цепи Бытия уже в этой жизни, пока мы еще живы. И основанная на этом Разрыве община суть живое тело Христа.
18. ЗАГАДКА ДРУГОГО / ЗАГАДКА В ДРУГОМ
Какую же позицию занимает в отношении оппозиции язычество/христианство иудаизм? Есть один неоспоримый аргумент в утверждении, что иудаизм и психоанализ между собой тесно связаны: в обоих случаях акцент ставится на травматической встрече с пучиной желающего Другого. Такова встреча еврейского народа с Богом, чей непостижимый призыв разрывает рутину повседневного существования. Такова встреча ребенка с загадкой наслаждения Другого. Эта особенность, похоже, отличает еврейско–психоаналитическую «парадигму» не только от любой разновидности язычества и гностицизма (с их акцентом на внутреннем духовном самоочищении, на благодеянии как реализации сокровенного внутреннего потенциала), но также и от христианства. Разве христианство не «преодолевает» инаковость еврейского Бога своими принципами любви, примирения, единения Бога и Человека в становлении Богочеловеком? Разрыв же между язычеством и еврейством носит совершенно определенный характер: и язычество, и гностицизм (переписывание еврейско–христианской позиции обратно, в язычество) подчеркивают «внутреннее путешествие» духовного самоочищения, возвращение к подлинному, сокровенному себе, «обнаружение себя», что явно противоположно еврейско–христианскому понятию внешней травматичной встречи (божественный призыв к еврейскому народу, обращение Бога к Аврааму, непостижимая благодать — все это совершенно несовместимо с «внутренними» качествами и даже с нашей «естественной» врожденной этикой). Кьеркегор был в этом отношении прав: Сократ против Христа, внутреннее путешествие припоминания против перерождения в шоке от внешнего столкновения. Здесь же мы видим, как разверзается пропасть, навсегда разделяющая Фрейда с Юнгом: если изначальное прозрение Фрейда касалось травматичного внешнего столкновения с Вещью, воплощающей наслаждение, то Юнг приписывает топику бессознательного повсеместно распространенной гностической проблематике внутреннего духовного путешествия — самообнаружения.
С христианством, впрочем, ситуация посложнее. В своей «общей теории соблазнения» [116] Жан Лапланш дает непревзойденную формулировку встречи с непостижимой инаковостью как фундаментальным фактом психоаналитического опыта. И Лапланш сам настаивает на крайней необходимости сделать шаг от загадки чего–то к загадке в чем–то. Этот шаг — вариация на тему знаменитого гегелевского изречения о сфинксе «Загадки древних египтян были также загадками для самих египтян».
Когда говорят в терминах Фрейда, о загадке женственности (что есть женщина?), то я предлагаю вместе с Фрейдом обратиться к функции загадки в женственности (чего женщина хочет?). Таким же образом (впрочем, сам Фрейд этого шага не делает), то, что он называет загадкой табу, возвращает нас к функции загадки в табу, Более того, загадка печали ведет нас к функции загадки в печали: чего хочет мертвец? Что ему от меня надо? Что он хочет мне поведать?
Загадка, таким образом, возвращает нас к инаковости Другого; и инаковость Другого — это его ответ, его бессознательному, т, е. его инаковости самому себе [117].
Разве не оказывается этот же шаг настоятельно необходимым и в отношении идеи Dieu obscur, ускользающего, непостижимого Бога? Ведь этот Бог непостижим для Себя, у него должна быть темная сторона, инаковость в Себе, нечто такое, что превосходит в Нем Его Самого. Возможно, это же проясняет и сдвиг от иудаизма к христианству: иудаизм остается на уровне загадки Бога, в то время как христианство сдвигается к загадке в Самом Боге. Будучи совсем не противоположным понятию логоса как откровения в слове и через слово, откровение и загадка в Боге четко соотносятся между собой как две стороны одного и того же жеста. Иначе говоря, именно потому, что Бог — загадка в Себе и для Себя, именно потому, что он содержит в Себе непостижимую инаковость, Христос должен явиться, дабы обнаружить Бога не только ради человечества, но и для Самого Бога. Только благодаря Христу Бог целиком актуализируется как Бог. В том же духе следует понимать и модный нынче тезис о том, что наша нетерпимость к внешнему (этническому, половому, религиозному) Другому суть выражение якобы «более глубокой» нетерпимости к вытесненной или отринутой инаковости в нас самих: мы ненавидим и нападаем на чужаков, потому что не можем прийти в согласие с чужаком в себе… Против этого топоса (который, говоря на юнгианский манер, «интернализует» травматическое отношение с Другим в неспособность субъекта совершить «внутреннее путешествие», чтобы окончательно прийти в согласие со своим существом) необходимо возразить тем, что по–настоящему радикальная инаковость это не инаковость в нас самих, не «чужак в самом сердце», но инаковость Другого самого к себе. Только в пределах этого шага и может появиться собственно христианская любовь: как вновь и вновь подчеркивает Лакан, любовь — это всегда любовь для Другого, поскольку он испытывает нехватку. Мы любим Другого из–за его ограниченности. В конечном счете, мы приходим к заключению, что если Бога нужно любить, то Он должен быть несовершенным, находиться в несогласии с Самим Собой. Что–то в Нем должно превосходить Его Самого.
Разве эта непостижимость Бога Самим Собой не звучит совершенно отчетливо в словах Христа: «Отец, почему ты оставил меня?», в этой христианской версии фрейдовского: «Отец, разве ты не видишь, что я горю?»? Эта покинутость Богом — то место, в котором Христос становится целиком человеком, место, в котором пропасть, разделяющая Бога и человека, перемещается в Самого Бога. Христианское представление о связи человека с Богом, таким образом, переворачивает общепринятое языческое представление, согласно которому человек приближается к Богу в духовном очищении, в пренебрежении к «низменным» материальным, чувственным аспектам своего бытия; так он возносится к Богу. Когда я, человеческое существо, переживаю свою оторванность от Бога, в этот момент крайнего уничижения я абсолютно близок Богу, ибо я оказываюсь в позиции покинутого Христа. Нет никакой «непосредственной» идентификации с божественным величием. Нет никакого непосредственного к нему приближения. Я идентифицируюсь с Богом исключительно через идентификацию с уникальной фигурой оставленного Богом Сына. Короче говоря, христианство переворачивает историю с Иовом, верующим, которого оставил Господь. Христос (Бог) Сам вынужден занять место Иова.
Эта божественная само–оставленность, эта непостижимость Бога для Самого Себя указывает на Его фундаментальное несовершенство. Только на этом горизонте и может появиться собственно христианская любовь, любовь по ту сторону милости. Любовь — это всегда любовь для Другого, поскольку он испытывает нехватку; мы любим Другого из–за его ограниченности, беспомощности и даже посредственности. В отличие от языческого восхваления божественного (или человеческого) совершенства, последняя тайна христианской любви, возможно, заключается в том, что речь идет о любовной привязанности к несовершенству Другого. Именно это христианское наследие, зачастую сбивающее нас с толку, сегодня ценнее, чем когда–либо.
* * *
В последние дни 1999 года люди в разных концах (западного) мира подверглись бомбардировке различными версиями одного и того же послания, которое идеально передает фетишистское расщепление типа «я, конечно, знаю, но все же…» Жители крупных городов получили письма от домовладельцев, в которых говорилось, что волноваться не о чем, что все будет хорошо, но все же будет лучше, если они наполнят свои ванны водой и запасутся едой и свечами. Банки сообщили своим клиентам, что их вклады в полной безопасности, но все же лучше, если на руках у них будет наличность и банковская распечатка. Сам мэр Нью—Йорка Рудольф Джулиани, настойчиво убеждавший людей в том, что город отлично ко всему готов, все же провел новогоднюю ночь в бетонном бункере под зданием Всемирного торгового центра, в безопасности от воздействия биологического и химического оружия…
Причина всех этих страхов? Разговоры о каком–то «вирусе тысячелетия», Насколько мы отдаем себе отчет в кошмаре навязчивости этого вируса тысячелетия? Насколько навязчивость эта говорит нам о нашем обществе? Дело ведь не только в том, что вирус порожден человеком. Его можно даже локализовать с большой степенью точности: из- за ограниченного воображения программистов тупые цифровые машины не знают, как прочитать «00» в полночь 2000 года (1900 или 2000). Таким образом, причина всех этих страхов — простая ограниченность машины. Однако несоизмеримой оказалась пропасть между этой причиной и возможными последствиями. Ожидания простирались от глупых до ужасных, ведь даже эксперты не знали наверняка, что случится; может быть, сбой в работе всех социальных служб, а может быть, и ничего (как это и получилось).
Так что, мы действительно столкнулись лишь с угрозой простого механического сбоя в работе? Цифровая сеть, конечно, материализована в электронных чипах и цепях. Однако не стоит забывать о том, что эти цепочки как бы «обязаны знать»: они должны воплощать определенное знание, и именно это знание — а точнее, его нехватка — оказалось причиной всех беспокойств (неспособность компьютеров читать «00»). Вирус тысячелетия столкнул нас с тем фактом, что сама наша «реальная» жизнь поддерживается виртуальным порядком объективированного знания, чей сбой в работе может привести к катастрофическим последствиям. Жак Лакан назвал это объективированное знание символической субстанцией нашего бытия, а виртуальный порядок, регулирующий межличностное пространство, — Большим Другим. Популярная паранойяльная версия этого понятия — Матрица из одноименного фильма братьев Вачовски.
Итак, под видом вируса тысячелетия нам по–настоящему угрожала приостановка действия Матрицы. Здесь мы видим, в каком именно смысле кинофильм «Матрица» был прав: реальность, в которой мы живем, действительно регулируется невидимой и всемогущей цифровой сетью до такой степени, что ее коллапс может привести к «реальной» глобальной дезинтеграции. Откуда и опасная иллюзия в утверждении, будто вирус мог бы привести нас к освобождению, — опасная иллюзия: если нас лишить нашей искусственной цифровой сети, которая служит посредником и поддерживает наш доступ к реальности, то мы оказались бы не перед естественной жизнью в ее неопосредованной истине, а перед невыносимой необработанной землей. «Добро пожаловать в пустыню реального!» — так иронично приветствуют героя «Матрицы», Нео, когда он видит реальность без Матрицы.
Что же тогда такое, этот вирус тысячелетия? Возможно, крайним примером было бы то, что Лакан называет объектом а, «маленьким другим», объектом–причиной желания, малюсенькой пылинкой, наделяющей плотью нехватку в Большом Другом, символическом порядке.
Здесь–то и появляется эта идеология: вирус — возвышенный объект идеологии! Само понятие говорит за себя своими четырьмя значениями: неисправность, дефект; инфекционное заболевание типа простуды; живое существо; фанатик [118]. Это смещение значения представляет собой наиболее элементарную идеологическую операцию: простой недостаток, неисправность незаметно превращается в болезнь, которая затем обнаруживает позитивную причину в виде беспокоящего существа, наделенного неким психическим состоянием (фанатизмом). Очевидно негативный сбой в работе, таким образом, приобретает позитивное существование под маской фанатика, которого нужно уничтожить, как какое–то животное… и вот мы уже по колено в паранойе.
В конце декабря 1999 года главная правая словенская газета вышла с заголовком «Опасность или крыша?», намекающим на подготовку тайными финансовыми кругами Y2K паники [119], дабы использовать ее для гигантского надувательства… Разве вирус не лучшая животная метафора для антисемитской фигуры еврея: оголтелое существо, которое ведет к вырождению и хаосу в социальной жизни; вот она, подлинная причина социальных противоречий?
Жест, который совершенно симметричен паранойе правого толка, совершает Фидель Кастро. Уже после того, как становится ясно, что никакого вируса не существует, что все будет идти дальше более–менее гладко, он разоблачает страх перед вирусом как сценарий, разработанный крупными компьютерными компаниями, для того чтобы подтолкнуть людей к покупке новых компьютеров. Как только страх прошел и стало ясно, что вирус тысячелетия — ложная тревога, из всех углов раздались обвинения, мол, должна была быть причина всего этого шума из ничего, должен был быть некий скрытый (финансовый) интерес в повсеместном распространении этого страха; невозможно, чтобы все программисты просто допустили такого рода ошибку! Тема дискуссии, таким образом, обернулась постпаранойяльной дилеммой: а был ли вообще этот вирус, разрушительные последствия действия которого пытались столь тщательно предотвратить, или же не было ничего и все бы прошло столь же гладко без миллиардных расходов на все эти превентивные меры? И вновь мы сталкиваемся в чистом виде с объектом а, пустотой, которая «является» объектом–причиной желания: неким «ничем вообще», сущностью, о которой нельзя даже сказать, «существует она на самом деле» или нет, и которая, тем не менее, подобно оку бури, производит вокруг себя гигантские разрушения. Иначе говоря, не был ли вирус тысячелетия тем, чем мог бы гордиться сам Макгаффин Хичкока?
Итак, завершить мы могли бы умеренной марксистской точкой зрения: поскольку цифровая сеть воздействует на всех нас, поскольку она уже является сетью, регулирующей нашу повседневную жизнь в самых ее обычных проявлениях типа водообеспечения, сеть эта в той или иной форме должна быть социализирована. Оцифровывание нашей повседневности действительно делает возможным контроль Большого Брата, по сравнению с которым старые коммунистические секретные службы надзора — лишь примитивная детская забава. Мы должны понимать как никогда ранее, что ответ на эту угрозу заключается не в том, чтобы спрятаться в уголок своей личной жизни, а в том, чтобы более эффективно социализировать киберпространство. Нужно собрать всю силу своего воображения, чтобы различить раскрепощающий потенциал киберпространства в том, что сегодня мы (неверно) принимаем за тоталитарную угрозу.
Примечания
1
См.: Vesna Goldsworthy's Inventing Ruritania. New Haven; London: Yale UP, 1998.
(обратно)2
Ibid.
(обратно)3
Cm.: Balibar E. La violence: idéalité et cruauté, in: La crainte des masses. Paris: Editions GaiiJee, 1997.
(обратно)4
Детально этот мотив разрабатывается в третьей главе моей книги "The Métastasés of Enjoyment". London: Verso, 1995, и в шестой главе "The Ticklish Subject": London. Verso, 1999.
(обратно)5
Маркс Энгельс Ф. Манифест коммунистической партии. Избр. произв. в 3–х т. М., 1985. Т. 1. С. 110–111.
(обратно)6
Там же. С. 109.
(обратно)7
Скажем, в последние коммунистические годы в Восточной Европе демократия была желанной, но посредством коммунистических ограничений; как только это опосредующее препятствие исчезло, мы получили объект желания, но он был лишен своей причины.
(обратно)8
И разве, на совершенно другом уровне, не происходит нечто подобное с помощью МВФ развивающихся странах третьего мира? Разве не получается так, что, чем больше помощь, которую эти страны получают от МВФ, чем больше они подчиняются условиям и советам этой организации, тем в большую зависимость от нее они попадают и тем большая помощь требуется в дальнейшем?
(обратно)9
Шекспир У. Ромео и Джульетта. Полн. собр. соч. в 8 т. М.: Искусство, 1960. Т. 3, С. 46.
(обратно)10
Другим примером объекта а может служить печально известное иракское "оружие массового поражения": оно — ускользающая сущность, которую никак не удается вычислить эмпирическим путем; оно — своего рода хичкоковский Макгаффин. Его скрывают в самом заброшенном и невероятном месте, от (что довольно логично) пустыни до (что слегка неразумно) подвалов президентских дворцов (так что, если дворец начнут бомбить, то Саддаму со всем его окружением сразу придет конец), которых якобы бесконечное множество и которые каким–то чудесным образом рабочие все время переносят с места на место, причем чем страшнее угроза, чем больше эти дворцы разрушают, тем мощнее становятся сохранившиеся, хотя, по определению, их вообще невозможно найти и потому они еще опаснее…
(обратно)11
Эти тенденции порой приводят к комичной путанице: произведение искусства по ошибке можно принять за объект повседневной жизни, и наоборот. Недавно на Потсдамской площади, месте крупнейшего строительства в Берлине, скоординированное движение десятков гигантских строительных кранов было поставлено в качестве художественного перформанса, но прохожими воспринималось за напряженные строительные работы… Сам я, будучи в Берлине, допустил противоположную ошибку: я обратил внимание на то, что на главных улицах вокруг номеров домов со всех сторон проходят толстые голубые трубки, образующие как бы замысловатую паутину из водопроводных труб, телефонных и электрических проводов, паутину, которая вместо того, чтобы оставаться под землей, находилась на виду у всех. Я, конечно же, решил, что это очередной художественный перформанс, задача которого — наглядно показать напряженную жизнь города, его скрытую внутреннюю машинерию, подобно тому, как на видеомониторе мы видим свои пульсирующие желудок, легкие и другие органы. Однако оказалось, я ошибся. Друзья сказали мне, что я стал свидетелем обычных работ по профилактике и ремонту подземных служб коммуникации.
(обратно)12
Отметим, что именно лакановская теория, связующая прибавочное наслаждение с прибавочной стоимостью, предлагает лучшую теоретическую схему понимания этих новых тенденций, вопреки обычным упрекам в ее адрес, что она, мол, абстрактна, носит докантовский характер, касается внеисторической символической системы, не затрагивает конкретные социально–исторические условия того, что анализирует. Наш пример противостоит такой критике, и мы видим, как культурологические исследования, приветствующие новые множественные перверсивные формы художественного производства, не уделяют достаточного внимания тому, что феномены эти укоренены в глобальном капитализме с его интенсивной коммодификацией. Лакановская же теория позволяет нам более полно концептуализировать эту связь и эффективно включать в исторический контекст предметы культурных исследований.
(обратно)13
См.: Делез Ж. Логика смысла. М.: Academia, 1995. С. 59–60, а также главу 5 моей книги "Métastasés of Enjoyment".
(обратно)14
Один из способов, позволяющих представить себе это понятие — "ничто. кроме места, не будет иметь места", — увидеть, как из факсового аппарата появляется лист бумаги, на котором ничего нет. Означает ли эта пустота, что аппарат плохо работает, что текст с другого конца провода не передался, или же что человек на другом конце (по всей вероятности, по ошибке отправил чистый лист бумаги (или вставил его не той стороной)? Разве не сталкиваемся мы здесь со своего рода механической противоположностью ницшеанского отличия между "ничего нежеланием" и "[активным] желанием самого Ничто": чистый лист бумаги может означать "послание не прошло" или "Пустота, которую мы видим, и есть отправленное нам послание"? Ну и как нам быть? Пристально вглядываясь в лист бумаги, мы пытаемся определить, нет ли на нем маленьких пятнышек, ничего не значащих материальных следов. Если мы их находим, значит, Пустота суть послание, т. е. "ничто, кроме места, не занимает места", не то, что "ничего не имеет места", поскольку, по–своему, пустое место само занимает место…
(обратно)15
См.: Wajcman G. L'objet du siecle, Lagrasse: Verdier 1998.
(обратно)16
Говоря об истории с этой работой Курбе, я пользуюсь данными диссертации Чарити Скрибнер: Charity Scribner, "Working Memory: Mourning and Melancholia in Postindustrial Europe", diss., Columbia University, 2000.
(обратно)17
Фицджеральд Ф. С. Последний магнат (перевод О. Сороки) // Фицджеральд Ф. С. Романы. СПб.: "Кристалл", 1999, с. 847.
(обратно)18
Другим путем приближения к тупику предшествующего модернизму искусства кажется предприятие, воплощенное прерафаэлитами: в их живописи возвышенная красота, опасно приближающаяся к кичу, как бы подрывается из–за чрезмерного выделения деталей. Первое впечатление возвышенной и эфемерной красоты начинает рассеиваться по мере приближения ко всему этому множеству деталей, которые, кажется, живут своей собственной жизнью и, тем самым, привносят во всю картину черту сладострастной перезревшей вульгарности.
(обратно)19
Этот переход от прямой передачи инцестуозного объекта–превращающегося–в-мерзость к абстракции показателен в творческой биографии Марка Ротко, знаменитым насыщенным цветом абстрактным картинам которого предшествовала серия конкретных портретов его матери. Возникает даже искушение воспринимать поздние абстрактные полотна Ротко как своего рода перенос–в–цвет "Черного квадрата" Малевича: основные пространственные координаты — те же (расположенный в центре квадрат на определенном фоне); а принципиальное различие заключается в том, что у Ротко цвет не столько заполняет контур нарисованных объектов, сколько художник рисует цветом. Ротко не раскрашивал нарисованные формы, а прямо рисовал их (или даже видел их) цветом.
(обратно)20
Знаменитый лозунг Фиделя Кастро "В революции — все, вне ее — ничего" оказывается проблематичным и "тоталитарным" из–за того, что он радикально скрывает свою недетерминированность. Он умалчивает, кто и по каким критериям будет решать, служит ли то или иное произведение искусства (эта фраза была сформулирована, дабы определить генеральную линию поведения в отношении художественной свободы) делу революции или подрывает его. Так и возникает у номенклатуры возможность принимать произвольные решения… (Впрочем, остается возможность и для другого прочтения, которое способно исправить этот лозунг: революция не является процессом, следующим предписанным "законам", так что нет априорных объективных законов, позволяющих прочертить линию, отделяющую революцию от ее предателей. Верность революции заключается не в следовании какому–то набору правил, не в выполнении заранее намеченных целей, но в непрерывной борьбе, позволяющей вновь и вновь определять, где проходит эта линия водораздела).
(обратно)21
См.: Figes О. A People's Tragedy. London: Pimlico, 1997. P. 793.
(обратно)22
Почему же Сталин в тот момент не хотел смерти Ленина? Если бы Ленин умер в начале 1922 года, то вопрос о его преемнике не был бы решен в пользу Сталина, поскольку тот, как генеральный секретарь, еще не успел проникнуть в недра партийного аппарата вместе со своими выдвиженцами. Нужен был еще год–два (как раз до смерти Ленина), чтобы Сталин смог заручиться поддержкой тысяч рядовых кадровых работников, назначенных им самим, и таким образом завоевать старое доброе имя большевика — "аристократа".
(обратно)23
Хулители Ленина любят приводить его паранойяльную реакцию на бетховенскую "Аппассионату" (сначала он заплакал, потом заявил, что революционер не может позволить себе быть таким сентиментальным, поскольку излишняя чувствительность делает человека слабым, вынуждает жалеть врагов, вместо того чтобы безжалостно с ними бороться) в качестве примера его холодной рассудительности и жестокости. Однако, разве этот случай — аргумент против Ленина? Разве скорее не свидетельствует он о крайней чувствительности к музыке, которую приходится сдерживать ради продолжения политической борьбы? Разве поведение Ленина не противоположно здесь поведению высокопоставленных нацистов, которые без всяких проблем сочетали в принятии политических решений подобного рода чувствительность с крайней жестокостью (достаточно вспомнить архитектора Холокоста, Гейдриха, который после тяжелого рабочего дня всегда находил время для того, чтобы поиграть со своими товарищами струнные квартеты Бетховена)? Разве не является это доказательством гуманности Ленина в отличие от такого рода высшего варварства, которое коренится в самом беспроблемном единстве высшей культуры и политического варварства? Разве не был он крайне чувствителен к этому непреодолимому антагонизму искусства и борьбы за власть?
(обратно)24
Недошивин Г. А. О проблеме прекрасного в советском искусстве // Вопросы теории советского изобразительного искусства. М.: Академия художеств СССР, 1950. С. 92.
(обратно)25
Официальная пропаганда называет Ким Чен Ира "остроумным" и "поэтичным". Вот пример его поэзии: "Так же как подсолнух цветет и расцветает, поворачиваясь лицом к солнцу, так и человек может процветать, взирая на вождя!"
(обратно)26
Lacan J. The Ethics of Psychoanalysis. Routledge: London. 1992. P. 149.
(обратно)27
Op. cit. P. 150.
(обратно)28
Именно на таком фоне стоит оценивать ранние (советские) полотна Комара и Меламида типа "Сталин и Музы": они сочетают в одной и той же работе два несовместимых понятия красоты — "реальной" красоты классицистического понятия древнегреческой красоты как утраченного идеала органической невинности (Музы) и чисто "функциональной" красоты коммунистического вождя. Их иронически–разрушительный эффект коренится не только в гротескном контрасте и несовместимости двух уровней, но, возможно, более того, в подозрении, что сама древнегреческая красота была не столь уж естественной, как это может показаться, что она была обусловлена определенными функциональными рамками.
(обратно)29
См. неопубликованную пока статью Майкла Гаддиса: Gaddis М. (Princeton). The God of the Martyrs Refuses You.
(обратно)30
Gotsche O. Die Fahne von Kriwoj Rog. Halle: Mitteldeutscher Verlag, 1959. S. 369–370.
(обратно)31
Мы пользуемся данными западной либеральной прессы, а именно журналистским отчетом Элизабет Беккер (Becker Е. When the War Was Over. Cambodia and the Khmer Rouge Revolution. New York: Public Affairs, 1998). Когда мы слышим жалобы на грубое обращение с диссидентами в последние десятилетия "реально существующего социализма" (или в сегодняшнем Китае или на Кубе), не стоит забывать о том, что сам феномен "диссидентства" уже предполагает минимум законности и правил, сдерживающих экзерсисы Власти. В Камбодже при Красных кхмерах никаких диссидентов не было, так же, как не было их в Советском Союзе в 1930–е гг. и в Северной Корее в 1990–х, — им просто не было места. Проблема в этих странах заключалась не в том, что потенциальных диссидентов арестовывали за измену еще до того, как они осмеливались совершить какой–то публичный акт, но в том, что как предателей забирали совершенно невинных коммунистов…
(обратно)32
Об этом акте см. первую главу моей книги "The Indivisible Remainder". London: Verso, 1996.
(обратно)33
Цит. no: Wilson E. Shostakovich. A Life Remembered. Princeton: Princeton UP, 1995. P. 134.
(обратно)34
Элиот T. С. Полые люди. СПб.: Кристалл, 2000. С. 261.
(обратно)35
Эту логику применительно к антитрестовским законам замечательно сформулировала Айн Ренд: все, что делает капиталист, становится преступлением: если его цены выше, чем у других, — он эксплуатирует свое монополистическое положение; если цены у него ниже, он нечестен в конкурентной борьбе; если они — те же, что и у других, то это сговор, заговор с целью подорвать настоящую конкуренцию… Разве это не напоминает ситуацию с началом психоаналитической сессии? Если пациент опоздал, то это истерическая провокация; если пришел раньше — навязчивая компульсия; если пришел вовремя — перверсивный ритуал.
(обратно)36
Теми же путями лакановская теория десубъективирует противоположность (этического) искупления и милости, а именно удовольствия (или, скорее, наслаждения): между "субъективным" переживанием удовольствия и "объективным" фактом наслаждения существует непреодолимое расщепление — "по ту сторону принципа удовольствия" означает именно то, что я могу быть субъектом наслаждения по ту сторону какого–либо субъективного переживания удовольствия…
(обратно)37
Getty J. A., Naumov О. V. The Road to Terror. Stalin and the Self—Destruction of the Bolsheviks. 1932–1939. New Haven; London: Yale UP, 1999. P. 370. Тот же жуткий смех раздается и в другом месте: "Бухарин: Что бы они ни показывали против меня, все это неправда. (Смех, шум в зале.) Чего вы смеетесь? Ничего смешного". Op. cit. Р. 394.
(обратно)38
Кафка Ф. Процесс // Ф. Кафка. Собр. соч. в 3–х т. М.: Художественная литература. Т. 2. С. 148.
(обратно)39
The Road to Terror. P. 315–316.
(обратно)40
Op. cit. P. 322.
(обратно)41
Op. cit. P. 321.
(обратно)42
Op. cit. P. 399.
(обратно)43
Op. cit. P. 404–405.
(обратно)44
Op. Cit. P. 556.
(обратно)45
Op. cit. P. 558–560.
(обратно)46
Op. cit. P. 558.
(обратно)47
Op. cit. P. 387–378.
(обратно)48
Op. cit. P. 100.
(обратно)49
Более подробный анализ этой ключевой особенности кантовской этики см.: Zizek S. Liebe Deinen Naechsten? Nein, Danke! Berlin: Volk und Welt, 1999.
(обратно)50
Cm.: Zupancic A. The Ethics of the Reaf. London: Verso Books, 2000.
(обратно)51
Не стоит забывать, что за неделю до Октябрьской революции, когда среди большевиков развернулась горячая полемика, Сталин выступил против ленинского предложения немедленного большевистского переворота, вторя меньшевикам, что ситуация еще "не созрела", что вместо опасного "авантюризма" следует поддержать широкую коалицию всех антицаристских сил.
(обратно)52
См.: Badiou A. L'être et l'événement. Paris: Editions du Seuil, 1988.
(обратно)53
Cm.: The Road to Terror. Op. dt. P. 480.
(обратно)54
Op. cit. P. 481.
(обратно)55
См.: Freud S. Psychoanalytic Notes on an Autobiographical Account of a Case of Paranoia, in: The Pelican Freud Library. Harmondsworth: Penguin Books, 1979. P. 211.
(обратно)56
The Road to Terror. P. 14.
(обратно)57
Ibid.
(обратно)58
Cm.: Wilson E. Shostakovich. A Life Remembered. P. 124–125.
(обратно)59
Между прочим, Хайдеггер обращается к подобной формулировке, оправдывая свою связь с нацистами: когда он вел семинар в середине 1930–х гг. по логике Гераклита, всем "с ушами, дабы слышать" было ясно, что он наносил разительный удар по нацистской идеологии!
(обратно)60
Детальный анализ этих двух уровней см.: Zizek S. The Art of the Ridiculous Sublime. Seattle: Washington UP, 2000.
(обратно)61
The Road to Terror. P. 586.
(обратно)62
В том, что следует ниже, я полагаюсь на диссертацию Чарити Скрибнера: Scribner Ch. Working Memory (Columbia University, New York, 2000).
(обратно)63
Cm.: Lukacs G. Solzhenitsyn. Cambridge: The MIT Press, 1971.
(обратно)64
Заслуга Фредерика Джеймисона в том, что он постоянно настаивает на этом пункте.
(обратно)65
Здесь обнаруживается слабое место в остальном в высшей степени артикулированной критики "тоталитаризма" Клода Лефорта. В своей недавно вышедшей книге "La Complication. Retour sur le Communisme" (Paris: Fayard, 1999) Лефорт предлагает убедительное опровержение упрощений Франсуа Фюре, подчеркивая то, как множество достижений сегодняшнего либерального консенсуса были приняты лишь в результате коммунистической борьбы, были усвоены этим самым консенсусом после ожесточенного либерального сопротивления (прогрессивный подоходный налог, всеобщее бесплатное образование). Однако перспективы Лефорта сильно ограничиваются его стремлением развернуть чисто политическую логику "демократических завоеваний". Это ограничение не дает ему обосновать собственно феномен "тоталитаризма": он появляется именно тогда, когда политика прямо одерживает верх, он сигнализирует о провале политического агента в деле реструктурализации производственной сферы.
(обратно)66
"Foreword by Elle Wiesel" in: Insdorf A. Indelible Shadows. Film and the Holocaust, Cambridge (Ma): Cambridge UP. 1989. P. 11.
(обратно)67
Я пользуюсь в данном случае материалами второй главы книги Джорджо Агамбена (Agamben G. Ce qui reste d'Auschwitz. Paris: Rivages, 1999). Между прочим, следы антиарабского расизма в использовании термина "мусульманин" совершенно очевидны: слово "мусульманин", конечно же, возникло, когда заключенные отождествляли поведение "живых мертвецов" с укоренившимся в западном сознании образом "мусульманина" — человека, полностью подчиненного судьбе, пассивно воспринимающего злоключения как результат Божьей воли. Однако сегодня, ввиду арабо- израильского конфликта, этот термин вновь обрел актуальность: "мусульманин" — экстимное ядро, нулевой уровень самого "еврея"…
(обратно)68
Подробнее о "ночи мира" см.: Zizek S. Die Nacht der Welt. Frankfurt: Fischer Verlag, 1998.
(обратно)69
Более детально я пишу об этих съемках в: Zizek S. in His Bold Gaze My Ruin Is Writ Large, и в: Zizek S., ed., Everything You Always Wanted to Know About Lacan (But Were Afraid to Ask Hitchcock), London: Verso Books, 1992.
(обратно)70
Тем не менее, важно отметить, что нет не только гулаговских комедий, но также и фильмов, действие которых проходило бы в ГУЛаге. Почетным исключением служит экранизация "Одного дня Ивана Денисовича" Солженицына в постановке Тома Кортни, снятая в начале 1970–х англичанами в Норвегии и вскоре забытая.
(обратно)71
Подобные попытки имели место и в театре. В 1980–е гг. в СССР был поставлен мюзикл, часть песен и плясок в котором происходила в газовой камере концентрационного лагеря.
(обратно)72
Для более детального анализа см. главу 3 моей книги "The Plague of Fantasies". London: Verso, 1997.
(обратно)73
MacCabe C. Bayonets In Paradise // Sight and Sound, February, 1999. P. 14.
(обратно)74
Havel V. Kosovo and the End of the Nation—State // The New York Review of Books. Vol. XLVI, № 10, June 10, 1999. P. 6.
(обратно)75
Ibid.
(обратно)76
Erlanger S. In One Kosovo Woman, An Emblem of Suffering // The New York Times, May, 12 1999. P. 13 A.
(обратно)77
Cm.: Santner E. Traumatic Revelations: Freud's Moses and the Origins of Anti- Semitism, in: Salecl R., ed., Sexuation. Durham: Duke UP, 2000.
(обратно)78
Lacan J. Seminar XX: Encore. New York: Norton, 1998. P. 59.
(обратно)79
Этой историей я обязан Джорджу Розенвальду из Мичиганского университета. Анн Арбор.
(обратно)80
См.: Hacking I, Rewriting the Soul. Princeton: Princeton UP, 1995.
(обратно)81
Леви—Строс К. Существуют ли дуальные организации? // Структурная антропология. М.: Наука, 1983. С. 118–146; рисунки на с. 119–121.
(обратно)82
См.: Mocnik R. Das "Subjekt, dem unterstellt wird zu glauben" und die Nation als eine Null—Institution // Denk—Prozesse nach Althusser, ed. by H. Boke, Hamburg: Argument Verlag, 1994.
(обратно)83
К этому искаженному пониманию относятся два эволюционистских представления: представление об "искусственных" социальных связях, постепенно развивающихся из естественных оснований типа непосредственных этнических и кровных уз, а также сопутствующее представление о том, что все "искусственные" формы социального разделения и эксплуатации в конечном счете коренятся в естественных основаниях — в половых различиях — и из них проистекают.
(обратно)84
См.: Book One of Immanuel Kant, Religion Within the Limits of Reason Alone, New York: Harper & Row 1960.
(обратно)85
См.: Фуко M. Воля к знанию. История сексуальности. Том первый. // М. Фуко. Воля к истине. Работы разных лет. М., Касталь, 1996.
(обратно)86
В уникальной духовной истории христианства в XII веке мы обнаруживаем два взаимосвязанных переворота оппозиции эроса и агапэ: катарскую версию христианства и возникновение куртуазной любви. Неудивительно, что, будучи противоположностями, они принадлежат одному и тому же историческому движению. Они создают своего рода короткое замыкание, которое, следуя строгой букве Святого Павла, должно появиться как нечто противозаконное. Основная операция куртуазной любви — обратный перевод агапэ в эрос, т. е. переопределение сексуальной любви как таковой в разряд предельного, неоплачиваемого Долга, т. е. вознесение эроса до уровня возвышенного агапэ. Катары, напротив, старательно отрицают эрос как таковой, т. е., для них противопоставление эроса и агапэ восходит к гностически–дуальной космической полярности: нет «умеренной» допустимой сексуальности, любой половой акт, даже между законными супругами, — инцест, ибо служит распространению и воспроизводству земной жизни, а жизнь эта — дело рук Сатаны. Для катаров Бог, который в начале Библии говорит: «Да будет свет!» — не кто иной, как сам Сатана.
(обратно)87
Kierkegaard S., Works of Love. New York: Harper Torchbooks 1962. P. 114.
(обратно)88
Шекспир У. Полн. собр. соч. в 8 т. М.: Искусство, 1960. Т. 6. С. 20.
(обратно)89
Lacan J. Desire and the Interpretation of Desire in Hamlet, in: Literature and Psychoanalysis, edited by Shoshana Felman, Baltimore: London: The Johns Hopkins University Press 1982. P. 40. В защиту Маркса нужно сказать, что это «пренебрежение» является не столько его ошибкой, сколько ошибкой самой капиталистической реальности, т. е. «выработанным современным обществом компромиссом между потребительской и меновой стоимостью».
(обратно)90
Этой частью главы я обязан разговорам с Младеном Доларом, который куда глубже разработал эти понятия, в том числе и развитие антисемитской фигуры еврея, исходя из парадоксов скупца.
(обратно)91
Hegel's Science of Logic, London: George Allen & Unwin Ltd, 1969. P. 431.
(обратно)92
Marx K. Grundrisse, Harmondsworth: Penguin Books 1972. P. 99.
(обратно)93
Lacan J. Desire and the Interpretation of Desire in Hamlet. P. 15.
(обратно)94
Lacan J. The Four Fundamental Concepts of Psycho—Analysis, New York: Norton 1979. P. 253.
(обратно)95
Сегодняшнее внимание к зависимости от наркотиков как к предельной для социальной организации опасности можно понимать на фоне господствующей субъективной экономики потребления как формы явления траты. В предшествующие эпохи употребление наркотиков было просто одной из отчасти замалчиваемых социальных практик, к которым прибегали как реальные (Де Квинси, Бодлер), так и вымышленные (Шерлок Холмс) персонажи.
(обратно)96
С этой оппозицией я работал практически во всех своих последних книгах. См., например, главу 3 в «Métastasés of Enjoyment».
(обратно)97
Lacan J. The Ethics of Psychoanalysis. P. 73.
(обратно)98
В традиции Франкфуртской школы эта особенность либидной структуры тоталитаризма была выявлена под маской гипотезы репрессивной десублимации. О различиях между подходами к этой особенности у представителей Франкфуртской школы и Лакана см.: Zizek S. Métastasés of Enjoyment.
(обратно)99
См.: Tijanic A. The Remote Day of Change. Mladina (Ljubljana), 9. August 1999. P. 33.
(обратно)100
Следующим и последним шагом здесь было бы противопоставление "тоталитарного" «можешь!» либерально–дозволяющему «можешь!» И в том, и в другом случае установка — «Можешь обладать объектом без соответствующей платы за направленное на него желание». И в том, и в другом случае это уклонение от платы за желание — само по себе плата. При пермиссивном либерализме лозунг «Можешь свободно изобретать себя!» оказывается в ловушке запутанной сети запретов в отношении благополучия своего и своих ближних (того, что нельзя есть и пить, правил безопасного секса, ненанесения ущерба другому… Совершенно симметричным образом тоталитарное "можешь…" (наплевать на свое собственное благосостояние и благосостояние ближнего) требует подчинения фигуре Начальника.
(обратно)101
Dennett D. С. Darwin's Dangerous Idea. New York: Simon and Schuster, 1996. P. 421.
(обратно)102
У Хайнера Мюллера (см. "Waterfront Wasteland Medea Material Landscape with Argonauts" // Theatremachine, London: Faber and Faber. 1995) Медея выглядит самой что ни на есть радикальной революционеркой, мстящей деспотическому правлению. Более того, в своей уникальной попытке представить вместе необходимость революционного насилия и основополагающую человечность, требующую от нас признания заслуг мертвого, он предлагает фантазматическое сгущение, соединение Медеи и Антигоны: Медеи, которая сначала убивает и расчленяет своего брата (чтобы позволить себе и Ясону уйти от преследования), а затем, подобно Антигоне, нежно держит брата на руках. Перед нами здесь образ агента, исполнителя, который после совершения чудовищного деяния во имя революции принимает на себя бремя вины и нежно хоронит убиенного. (Еще одна подобная парадоксальная фигура у Мюллера — это "Христос—Тигр", Христос, который сначала убивает своего врага, а затем нежно о нем заботится.) Мы должны здесь отметить следующее: если фигура Медеи будет принадлежать радикальной традиции, то нужно сохранить и переписать тот жест, который делает Медею столь неприятной для благопристойного гуманистического сознания, жест убийства собственных детей (в отличие от замечательной Медеи у Кристы Вольф, которая снимает с героини все обвинения, истолковывая убийство ею брата и детей как злые слухи, распускаемые вокруг нее высокопоставленными сановниками, пытающимися ее опорочить).
(обратно)103
Morrison Т. Beloved, New York: Knopf 1987. P. 217.
(обратно)104
Цитируется по: Morrison Т. Beloved. P. 43.
(обратно)105
Там же.
(обратно)106
На уровне повествовательной техники эта чудовищность поступка проявляется в том, что текст приближается к нему постепенно. Вначале об убийстве Сете дочери сообщается с точки зрения охотников за рабами (для которых поступок этот — последнее доказательство ее варварства), затем — глазами афро–американских очевидцев (Бейби Саггз и Стам Пейд); и, наконец, когда история убийства дочери излагается самой Сете, то ей трудно эту историю выразить словами, поскольку ей совершенно ясно, что ее все равно неправильно поймут, что этот поступок не доступен для "здравого смысла", что он слишком чудовищен для пересказа в героическо–мифологическом духе. Как предположила Сэлли Кинан (см. Morrison Т. Beloved. Р. 129), подобного рода отложенная встреча с травмой проявляется в том, что Моррисон лишь недавно удалось поведать эту историю, поскольку сегодняшний эмоциональный и политический фон, возникший в связи с дебатами по поводу абортов, подготовил для нее почву. С неожиданным поворотом, конечно, но убийство дочери в "Возлюбленной" переворачивает общепринятую оппозицию прав матери и прав плода, оппозицию, которая служит координатами в дискуссиях об абортах. В "Возлюбленной" убийство ребенка парадоксальным образом оправдывается правами самого ребенка.
(обратно)107
Мои размышления по этому поводу основаны на разговорах с Аленкой Жупанчич.
(обратно)108
Более детальный анализ этой структуры воздержания см. в главе 2 моей книги «The invisible Remainder». London: Verso, 1996.
(обратно)109
Цитируется по: Morrison Т. Beloved. P. 34.
(обратно)110
См.: Schnädelbach Н. Der Fluch des Christentums // Die Zeit Nr. 20, 11. Mai 2000. P. 41–42.
(обратно)111
O'Collins G. Christology. Oxford: Oxford UP, 1995. P. 286–287.
(обратно)112
Я ссылаюсь здесь на книгу: McGrath А. E. An Introduction to Christianity. Oxford: Blackwell, 1997. P. 138–139.
(обратно)113
Op. cit. P. 141.
(обратно)114
Op. cit. P. 141–142.
(обратно)115
В частной беседе (октябрь 1999).
(обратно)116
См.: Lapianche J. New Foundations for Psychoanalysis. Oxford: Basil Blackwell, 1989.
(обратно)117
Lapianche J. Essays on Otherness. London: Routledge, 1999. P. 255.
(обратно)118
"Вирус тысячелетия" по–английски — Millennium Bug. Bug не только клоп, жук, микроб, инфекционное заболевание; сбой, неисправность в работе, но и чокнутый, фанатик, энтузиаст. Последнего значения русскому вирусу, увы, недостает. — Прим. перев.
(обратно)119
Аббревиатура Y2K раскрывается как "Год 2000" (Year 2 Kilobite; Year 2000 bites of information). — Прим. перев., благодарного за эту расшифровку Анастасии Буданок.
(обратно)
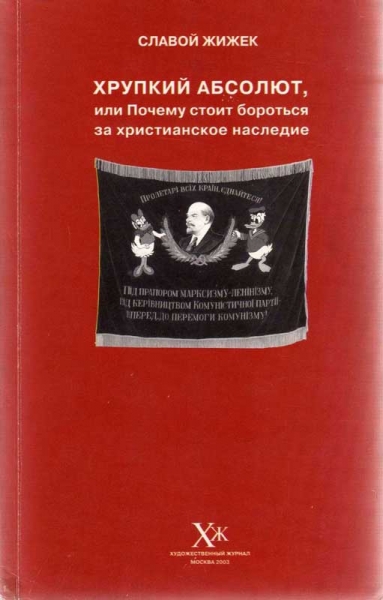






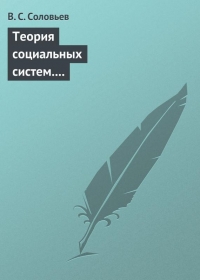

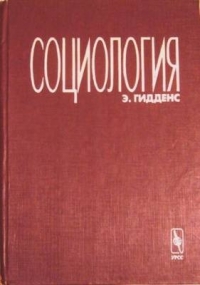
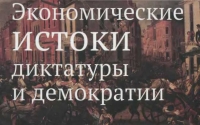

Комментарии к книге «Хрупкий абсолют, или Почему стоит бороться за христианское наследие», Славой Жижек
Всего 0 комментариев