© 1997-2017 Радиостанция «Эхо Москвы»
08 января 2016
-echo/
Д. Быков― Доброй ночи, дорогие друзья, дорогие полуночники! «Один», в студии Дмитрий Быков. Спасибо вам всем на массе добрых слов. Естественно, пожелания — каждый Новый год проводить так же и тем же составом. Спасибо. Что касается меня — я готов. Осталось уговорить «Эхо».
А что касается многих вопросов про праздники: почему я никуда не уехал и как я их провожу? Могу вам сказать с полной откровенностью, что у меня давно уже нет понятия праздников, я их не люблю. Можно сказать, что я каким-то образом неприспособлен к жизни, что трудоголизм — это вариант алкоголизма. Мне нравится, конечно, поспать подольше. Я не очень люблю зимой слишком часто вылезать из дому, хотя люблю, честно говоря, и прогуляться, потому что всё-таки я живу на Ленинских горах, ну, на Воробьёвых, рядом с ними. Могу вам сказать: если вы не хотите тяжкого похмелья после праздников, не хотите мучиться возвращением к труду, вы себе слишком долгих каникул не устраивайте или проводите их так, чтобы после них работа казалась вам отдыхом. То есть надо максимально интенсивно это время проводить.
Я грешным делом довольно много написал (в том числе в роман вписал, который должен выйти, видимо, летом), довольно много я сочинял и как-то никаких особых экзотических развлечений себе не позволял. Этого я всем желаю. Плюс, конечно, нужно много времени проводить, мне кажется, во сне. Уметь видеть сны и благодарно их интерпретировать — это тоже своего рода дар.
Но тем не менее всех я хочу горячо поздравить с Рождеством. Рождество — это один из любимых моих праздников и по настроению, и по ощущению. Хотя трансляция из Храма Христа Спасителя заставила меня чувствовать себя временами немного Хомой Брутом. Действительно плохого слова не скажу, много я увидел и прекрасных лиц, и замечательных.
Как всегда, я начинаю отвечать на вопросы, а потом — в последней четверти — будет лекция. Очень много почему-то пришло заявок на Блока, несколько на Бунина, и пять, но очень для меня значимых, на Леонида Соловьёва — автора «Возмутителя спокойствия» и «Очарованного принца», дилогии о Ходже Насреддине. Сам я склоняюсь к Соловьёву, потому что это автор ныне полузабытый и при жизни недооценённый. Но если кому-то хочется Бунина или Блока, вы можете пока написать на dmibykov@yandex.ru — и я с удовольствием все пожелания учту.
«Скажите пару слов об Александре Волкове и его серии книг про Волшебника Изумрудного города».
Волков — один из той замечательной плеяды советских сказочников, которые отталкивались от западных образцов (как он оттолкнулся от «Волшебника страны Оз», как Толстой оттолкнулся от «Пиноккио», от Коллоди) и дальше начинали импровизировать, творить, вышивать собственные узоры вокруг этой уже устоявшейся фигуры, в данном случае вокруг фигуры девочки Элли. Конечно, его сказки гораздо лучше, чем Баума — во всяком случае, для меня точно. Для меня и «Семь подземных королей», и «Огненный бог Марранов», и «Урфин Джюс» — это в детстве были замечательные источники кошмаров. Мне особенно нравится, что Волков… Он же, строго говоря, не профессиональный писатель, поэтому он насыщает эти книги массой географических, инженерных и других полезных сведений. Вот то, что я знаю о пещерах, например… Я впервые заинтересовался пещерами после «Семи подземных королей». Я вовсе не считаю его эпигоном, не считаю его обработчиком; я считаю его прекрасным сказочником. Вообще несколько таких замечательных сказочников в Советском Союзе, ныне совершенно забытых, определяли моё детство. Вот Владимир Келер, например, с его «Сказками одного дня» — кто сейчас помнит эти сказки, особенно с совершенно божественными и страшными иллюстрациями Трауготов? А для меня это были хорошие страшные сказки, увлекательные, научные. И многое я оттуда помню до сих пор. Шарова я постоянно называю. В общем, что-что, а детскую литературу делать в СССР очень хорошо умели.
«Вышел в свет мюзикл с красивой музыкой Паулса «Всё о Золушке». Ну спасибо, проснулись! Он вышел два года назад. «Что сохранилось от вашего участия в этой постановке?» Два куплета в «Песне часов», больше ничего.
«Есть ли окончание или черновики у романа Андреева «Дневник сатаны»? Он обрывается на самом интересном месте».
Знаете, а может быть, это и входило в авторский замысел. Я не знаю, собирался ли он оканчивать эту книгу. Это второй роман Андреева после малоудачного «Сашки Жегулёва», последний его роман. Понимаете, проблема в том, что Андреев писал без черновиков. В этом, собственно говоря, источник и его стилистической мощи, и его же повторов, и некоторой избыточности по этой части. Он не любил переписывать готовую вещь. Он писал очень быстро, запоями, в два-три приёма.
Что касается романа. Я не знаю, сохранились ли какие-то планы. Вряд ли у Андреева были планы, да и время не располагало. Он начал его, по-моему, в 1916 году, а в 1917–1918 годах писал. Вещь была опубликована посмертно. А поскольку архив Андреева оставался весь целиком на его даче этой несчастной, которая, по-моему, начала уже при его жизни разрушаться, в этом огромном мрачном здании, то я не предполагаю, что какие-то черновики и какие-то фрагменты романа сохранились. Понимаете, некоторые книги тем и ценны, что оборваны на самом интересном месте — как «Тайна Эдвина Друда».
«В фильмографии Раневской мне больше всего нравится фильм «Мечта», где она сыграла драматическую роль матери, которую обманывал и обокрал собственный сын. А какие роли Раневской нравятся вам?»
Мне больше всего нравится её работа в «Дальше — тишина…», прощальная работа в театральной версии хорошего американского фильма 1938 года (забыл, как назывался точно, потом поищу). Блестящая работа, по-моему, самая сильная, где удивительное сочетание смешного и страшного было, где виден её характер, не видна её желчь, а видна только… Хотя нет, это и насмешливая роль тоже, потому что эта мать бывает иногда и так навязчива, и так глупа, но всё равно она безумно трогательна. Я думаю, что и для неё, и для Плятта, чьи совместные работы всегда спасали что угодно (даже фильм «Весна»), это был триумф абсолютный. И я знаю людей, которые бесконечно ходили на этот спектакль и бесконечно потом его пересматривали.
Мне Игорь Старыгин, Царствие ему небесное, рассказывал. Он там играл крошечную роль официанта. И он рассказывал, что он не мог эту роль играть, потому что как только он… Там была прощальная сцена, где сидят Плятт и Раневская и ужинают в последний раз в том ресторанчике, где когда-то он делал предложение. В общем, там слёзы выжимаются коленом. Это ставил, насколько я помню, Эфрос. И прав, конечно, Швыдкой, что Эфрос был самым человечным из советских режиссёров; не самым интеллектуальным, может быть, не самым органичным в организации сценического пространства, но именно самым человечным, самым сентиментальным. И Старыгин рассказывал, что когда он в роли официанта выходил обслуживать Раневскую и Плятта, у него так тряслись руки, что он не мог донести бутылку шампанского, он начинал рыдать прямо на сцене! Невозможно было на них смотреть! Конечно, это было совершенно грандиозное зрелище. А что касается кино, то она, как сказала, к сожалению, «всё больше плевала в вечность».
«Шопенгауэр сказал, что по-настоящему самим собой человек может быть только в одиночестве. Что он хотел этим сказать? И согласны ли вы с ним на передаче «Один»?»
Хорошо одиночество, когда тебя слушают миллионы и каждое твоё слово может быть обращено против тебя? Нет конечно. Я не согласен в этом смысле с Шопенгауэром. Я имел только что как раз с Бунтманом и Шаргуновым довольно увлекательную дискуссию два часа тому назад здесь же на «Эхе», в «Дилетантах»: является ли социализация вообще заслугой, может ли она стать целью жизни? Или профессионализация, например. Я считаю, что социализация — это всё-таки заслуга, что к этому надо стремиться. Я всегда повторяю слова хемингуэевского героя: «Человек ни чёрта не может один». Это не значит, что «единица — вздор, единица — ноль». Эти слова Маяковский написал в тяжелейшем разочаровании от любви. И, конечно, поэма «Владимир Ильич Ленин» — это поэма о несчастной любви. «Партия — единственное, что мне не изменит», да? А всё остальное уже изменило. Я не думаю, что человек должен быть обязательно членом партии, чтобы состояться. Но то, что человек ничего не может один, что люди вокруг него ему необходимы как зеркала, как система ценностей, как намёк на другие возможности, — это моё личное убеждение, и с этим никто ничего не сделает.
Помните, была такая анкета Нади Рушевой, где она отвечает на прустовскую анкету, и там: «Ваше представление о несчастье?» — «Одиночество». Я готов с этим согласиться. Лучше всего, если вокруг человека, конечно, родня или люди духовно ему близкие. И вообще нельзя соотносить себя ни с какими ценностями, если вокруг тебя нет людей. И Шопенгауэр, кстати, не очень-то следовал своим правилам, он был человек достаточно общительный. Дурной характер имел, но его гедонизм очень часто входит в противоречия с его мрачной философией.
«Я пробовал писать стихи по классическим размерам, особенно мне нравился размер, в котором ударение падает на каждый третий слог, — это вы имеете в виду анапест. Спасибо, очень приятно. — А как у вас происходит с выбором размера для нового стиха?»
Я хочу сразу же опровергнуть, как-то опрокинуть глупое утверждение, что поэт получает стихи непосредственно с Парнаса и что всё это небесная гармония, которая ему транслируется в неизменном виде. Всё это, по-моему, глупости. Процесс создания стихотворения вполне рационален. Идея приходит ниоткуда, а как оформить эту идею — вот тут как раз поэт и отличается от графомана. Самое точное, самое объективное описание процесса оставил Пастернак — там, где Юра Живаго пишет, на мой взгляд, великое стихотворение «Сказка». Вот это:
Сомкнутые веки.
Выси. Облака.
Воды. Броды. Реки.
Годы и века.
Помните, да? Он начал писать его пятистопным ямбом — пошло слишком легко, не чувствовалось сопротивления. Он перешёл на четырёхстопный — энергии прибавилось. Но потом он начал писать трёхстопником — и тут получилось, тут пошла энергия сопротивления!
То, что существует семантический ореол метра, открыто сравнительно недавно, но над этой проблемой думал ещё Андрей Белый, а потом, уже в начале 60-х годов, появилось сразу несколько чрезвычайно важных работ на эту тему. В числе главных русских стиховедов нельзя не назвать Михаила Леонтьевича Гаспарова, который этим занимался. Занимался этим и академик Колмогоров, которого очень интересовали зависимости между темой и ритмом. Занимался Кондратов, прекрасный журналист, математик и поэт, кстати, очень хороший. Многие занимались, хотя первая публикация была сделана не ими. Я сейчас посмотрю, кто именно был «отцом темы», чтобы всё-таки не вводить вас в заблуждение.
Насколько я помню, впервые семантический ореол метра был рассмотрен на примере очень показательного в этом смысле размера — пятистопного хорея. Ну, более откровенный уже действительно трудно придумать. Это «Расцветали яблони и груши»… Да, Тарановский, совершенно верно. Тарановский — автор первой публикации на эту тему. Совершенно не нужно делать вид, будто поэт каким размером захочет, таким и напишет. Каждый размер имеет чёткий семантический ореол. Самый наглядный — это тема «выхожу один я на дорогу», которая всегда в русской литературе оформляется пятистопным хореем. Есть знаменитый центон на эту тему:
Выхожу один я на дорогу;
Сквозь туман кремнистый путь блестит;
Ночь тиха. Пустыня внемлет богу,
И звезда с звездою говорит.
Так забудь же про свою тревогу,
Не грусти так шибко обо мне.
Не ходи так часто на дорогу
В старомодном ветхом шушуне.
Я люблю твой замысел упрямый
И играть согласен эту роль.
Но сейчас идёт другая драма,
И на этот раз меня уволь.
Выхожу я в путь, открытый взорам,
Ветер гнёт упругие кусты,
Битый камень лёг по косогорам,
Жёлтой глины скудные пласты.
Это всё, как вы понимаете, Есенин отвечает Лермонтову, в диалог вступает Блок, Пастернак («Гул затих. Я вышел на подмостки»). И можно при желании сюда добавить ещё:
Мы прошли разряды насекомых
С наливными рюмочками глаз.
Он сказал: природа вся в разломах,
Зренья нет — ты зришь в последний раз.
Ещё и Мандельштам со своим «Ламарком» придут нам на помощь. Мотив выхода, движения из более узкого пространства в более широкое.
Упомянутый вами анапест, в особенности трёхстопный, — это размер, который характерен для стихов о России. Возьмём блоковскую «Новую Америку», возьмём очень много текстов Некрасова на эту тему, «Рыцарь на час» в частности. Кстати, именно один мой студент заставил меня понять, что «Среди пыли, в рассохшемся доме» небезызвестного Юрия Кузнецова — это стихотворение именно о России. Я вам прочту с удовольствием это стихотворение, оно маленькое:
Среди пыли, в рассохшемся доме
Одинокий хозяин живёт.
Раздражённо скрипят половицы,
А одна половица поёт.
Гром ударит ли с грозного неба,
Или лёгкая мышь прошмыгнёт, —
Раздражённо скрипят половицы,
А одна половица поёт.
Но когда молодую подругу
Нёс в руках через самую тьму,
Он прошёл по одной половице,
И весь путь она пела ему.
Про что это стихотворение? Это стихотворение про Бога, который живёт в России — в рассохшемся доме, где вечно всего не хватает, где есть ропщущие и недовольные («Раздражённо скрипят половицы»), а есть правильно настроенные, любящие Родину («А одна половица поёт»). И когда Богу надо пройти со своей избранницей, он пройдёт по одной половице («И весь путь она пела ему»). Это блистательное стихотворение, оно ещё с детства казалось мне совершенно волшебным. Да, в нём есть такой смысл, который приоткрывается только благодаря семантическому ореолу метра. Мы понимаем, о чём идёт речь, благодаря размеру.
Как я выбираю размер? Я не знаю. Я делаю это интуитивно, но вполне сознательно. Я понимаю, что о процессах тяжёлых и трагических хореем не больно-то напишешь, особенно краткостопным — трёх-, четырёхстопным хореем. Я понимаю, что амфибрахий, например — это размер энергичного действия, а он не очень хорошо подходит для стихов пантеистического, любовательского, натурно-природного склада и так далее. Но это всё находится у поэта, как вы понимаете, в сфере интуитивного.
«В молодости Никита Михалков, чтобы доказать свою состоятельность, отправился служить в подводный флот, — по-моему, не совсем добровольно всё-таки. — Насколько разумно для человека рисковать своим здоровьем, чтобы показать свою силу и мужество?»
Собственно говоря, а что разумно-то? Разумно рисковать, чтобы показать силу и мужество? Если в человеке кипит энергия, он может либо создать что-то принципиально новое, либо написать, либо отправиться куда-то служить, выполнять долг. Просто не нужно масштаб жертвы сразу же переводить в масштаб деяния. Иногда человек делает глупость абсолютную. Но, с другой стороны, всё-таки если он решается на грандиозный поступок — это скорее для меня критерий какой-то значительности, даже если это поступок абсолютно бессмысленный. Это не значит, что я вас призываю идти служить в подводный флот. Но Никита Михалков в тот момент (а ему оставался год всего до конца призывного возраста, ему было 27, по-моему, когда его призвали) отказался пользоваться возможностями отца, и отец тоже его не удерживал. Они поступили по тем меркам, по тем временам довольно красиво.
«Сколько лет было Лужину, — имеется в виду Александр Иванович, — когда он встретил будущую жену? Я высчитала, что 30. Почему у неё нет имени в романе?»
Это довольно распространённый приём в прозе XX века. А как зовут главную героиню романа «Ребекка» Дафны дю Морье? Мы знаем, как зовут Ребекку, мир сосредоточен вокруг неё, а как зовут главную героиню, мы так и не знаем, и ни разу её по имени не назвали. Это приём, подчёркивающий иногда или безликость персонажа, или наоборот — его растворенность в толпе. Скажем, у некоторых героев нет имён, а есть только номера. Это касается и ремарковской «Искры жизни», это касается и замятинского «Мы».
Обратите внимание, что у самого Лужина тоже нет имени, а оно появляется в последнем предложении романа: «Закричали: «Александр Иванович, Александр Иванович!» Но никакого Александра Ивановича не было». Кстати говоря, последняя фраза романа может трактоваться в расширительном смысле — никакого Александра Ивановича не было вообще никогда; он не существовал, он прошёл, как шахматный сон, через чужие души, потому что существовал его гений, а Лужина-человека не было. Почему у жены Лужина нет имени? Потому что для Лужина в мире Лужина имена не важны.
Кстати, вы упомянули этот роман, и я подумал (я довольно много об этом думал в связи с работой над «Маяковским»): почему шахматная партия Лужина и Турати не может быть закончена? Понимаете, она ведь действительно не кончилась. Проблема в том, что большинство партий, большинство споров XIX века (и XX века, что ещё страшнее) не закончены.
Скоро мне или не скоро
Отправляться в мир иной —
Неоконченные споры
Не окончатся со мной.
Начались они задолго,
Лет за двести до меня,
И закончатся не скоро —
Много лет после меня.
Вот эта нарочитая простота и нарочитая бесхитростность этих стихов Слуцкого не должна вас обманывать. Главная его книга, им так и не собранная, называлась «Неоконченные споры». Речь идёт о неоконченных вещах. Вот партия Лужина и Турати — это главная партия XX века; условно говоря, партия вдохновения и расчёта, партия рациональности и чуда. Большинство поэм XX века ведь тоже не закончены. Понимаете, нельзя же считать законченным замысел «Про это» — поэма искусственно оканчивается, поэма о несостоявшейся любви, о невозможности любви, разрешается каким-то совершенно общим местом. «Спекторский» не закончен или закончен искусственно. От «Поэмы без героя» Ахматова 20 лет не могла оторваться и не считала её оконченной, печатаются разные версии. «Стихи о неизвестном солдате» Мандельштама — главная его оратория — существовала во множестве версий. Консерватизм и либерализм, и так далее. Эти споры не могут иметь разрешения, в этой войне нельзя победить, потому что одно без другого невозможно.
Я думаю, что и партия Лужина и Турати не может быть закончена потому, что Турати — это своеобразный двойник Лужина, это партия Лужина самого с собой. Поэтому единственный выход из ситуации — это самоубийство. Вот почему этот роман мне кажется таким важным. Сколько лет было Лужину? Думаю, 27–28. Думаю, вы правы.
«Скажите пару слов о Владе Колесникове. Мальчик ушёл, и ему помогли это сделать те, которые себя почему-то называют журналистами, хотя это упыри. Но это не только упыри из газеты, — подчёркнуто, какая газета. — Он оказался в абсолютном вакууме, пытался докричаться до людей — и не смог».
Дорогой vitwest, если вы обратили внимание, я об истории Влада Колесникова никак не высказался, потому что я не знаю всех обстоятельств. А самоубийство подростка — это та тема, на которую нельзя высказываться наобум лазаря. Я не знаю, что там было. Я не знаю, какие обстоятельства его к этому привели. Возможно, личные. Возможно, семейные. Я не думаю, что дело было только в Украине. То, что в его травле сыграли свою роль обозреватели «Комсомольской правды»… Я не буду называть конкретного имени этого человека, который и обо мне писал клеветнические пасквили, и о многих писал. Этому человеку воздастся. Думаю, что воздаётся уже. Мне совершенно неинтересно наблюдать за тем, как он будет расплачиваться за свои мерзости. Но мне интересно другое.
Тут меня, кстати, спрашивают: со многими друзьями ли я рассорился за последнее время, и сильно ли сократился мой круг общения? Нет. Но вот один автор выпал из поля моего интереса. Это талантливый писатель (я тоже называть его не буду), который у себя в Facebook написал: «Никто вовремя так и не объяснил Владу Колесникову, что есть вещи куда более важные, чем Крым, чем Украина, и что его жизнь со всем этим не связана, и что через десять лет никто не будет помнить об этих обстоятельствах, а ему, молодому, ещё жить да жить».
Вот человек, который это написал, не просто перестал для меня существовать, а он перестал быть мне интересен, а это гораздо хуже. Я понял, почему его проза упирается в тупик самоповторов. Потому что если для вас ваша жизнь никак не связана с тем, нарушатся ли рядом с вами божеские и человеческие законы или нет, то значит ваша жизнь просто бессмысленна. И все эти разговоры о необходимости частной жизни, о том, что «да ладно, какие-то социальные проблемы, какая-то политика», «мы ничего не можем объяснить, не можем ничего изменить»… Важно быть добрым и порядочным человеком. Когда я слышу эти фарисейские слова, вот тут, к сожалению, во мне кровь вскипает. Это я очень не люблю.
И если человек покончил с собой из-за каких-то внешних обстоятельств, а не из-за измены любимой… Знаете, как обычно в армии писали: «Повесился, потому что девушка его бросила», — а девушки чаще всего и не было вообще. Когда человек говорит, что нельзя кончать с собой из-за общественно-политических мотивов, он тем самым просто осуждает огромную плеяду людей, которые из-за этих общественно-политических мотивов просто жертвовали жизнью — просто шли в конспиративную работу, шли на террор, шли на войну в конце концов. Где-то идёт война, можно же в конце концов отсидеться, а главное — «хорошо относиться к своим деткам и работать для своих деток». Вот когда я это слышу, тут во мне, конечно, загорается дух противоречий. Поэтому этот писатель, к сожалению, для меня перестал существовать. Я думаю, что это для него невеликая потеря, потому что общаться мы перестали очень давно.
Я вообще считаю, что когда сужается круг общения, это не всегда плохо. Людей, которые для вас важны, по-моему, должно быть немного. Они должны быть, но тем сильнее ваши чувства к ним, если их немного. Вот такое у меня есть ощущение.
«Должен ли журналист высказывать публично собственное мнение по каким-то событиям, или же его задача — предоставление максимально объективной информации?»
Я не видел никогда объективной информации. Ну просто её не существует, по-моему. Есть, наверное, люди, которые в себе самих содержат критерии объективности и субъективности. Но даже ваш выбор языка, на котором вы говорите, даже выбор темы, которую вы берёте, — всё свидетельствует об определённом выборе. Даже выбор источника, где вы это печатаете. Поверьте мне, что если с нынешнего Первого канала я услышу какую-то совершенно объективную информацию, она у меня доверия не вызовет. Вот так я ужасно устроен.
«Раскройте секрет. Замысел стихотворения вам виден целиком и сразу, или возможна кардинальная, неожиданная для самого автора метаморфоза к концу?»
Видите ли, мне примерно понятно, когда я берусь писать, что я хочу сказать. Но как я это скажу, куда меня приведёт рифма, какие ходы мне подскажет композиция, я никогда не знаю. И я вам больше скажу. Примерно через час-два наступает счастливое озарение — и в стихотворении появляются четыре хорошие строчки, которые нравятся мне, дописываешься всё-таки до них постепенно. Это как БГ сказал… Я его как-то спросил, есть ли у него секрет написания хорошей песни, и он сказал: «Да, очень просто. Надо перед этим неделю писать плохие — и тогда в конце недели вы напишете хорошую». Я боюсь, что так же и здесь — надо действительно сначала писать два часа, а на третий дописываешься до чего-нибудь хорошего.
Вернёмся через три минуты.
РЕКЛАМА
Д. Быков― Доброй ночи! Продолжаем разговор. Программа «Один» рассказывает вам о всяких увлекательных и, смею думать, не мне одному полезных вещах.
Вот вопрос интересный от автора, который подписался yisrael_rosenkreutz: «Дмитрий Львович, написал этот вопрос под впечатлением вашего восторженного отзыва о творчестве Лукьяненко…» И вот сразу начинается враньё! Это не восторженный отзыв. Это доброжелательный отзыв. Восторженный — это если я кричу: «Ах, гений, гений! Шедевр! Лучше не бывает!» Я хорошо отношусь к Серёже Лукьяненко, но здесь нет никакого восторга. «Учитывая ваше предпочтение уходить, как вы продемонстрировали в прошлом эфире, от неудобных вам вопросов…» Пошло второе враньё. Я ухожу, дорогой yisrael_rosenkreutz, только от тех вопросов, где у меня спрашивают мнение о конкретных людях — чаще всего душевнобольных. Я не могу комментировать в эфире творчество душевнобольных. Это такой «акт милосердия» с моей стороны. «Уверен, что это письмо вы до конца не дочитаете, но тем не менее. Останетесь ли вы таким же восторженным, — восторженным не остаюсь, — поклонником творчества Лукьяненко, поговорив с мамой семнадцатилетнего мальчика-идеалиста, прочитавшего его книги, а затем послушавшего его проповеди (или Прилепина, или Лимонова — ваших других литературных кумиров) и отправившегося на борьбу со злом на стороне «добра с кулаками» (или автоматом)?»
Это витиевато написано, но грубо говоря: несут или Лукьяненко, или Прилепин, или Лимонов… Они не являются моими литературными кумирами, но я хорошо отношусь к творчеству этих людей. Мои литературные кумиры — это Чехов, Капоте, Толстой. А это мои коллеги, мои современники. Несут ли они моральную ответственность перед мамой семнадцатилетнего мальчика, который отправился что-то защищать с автоматом? Нет, не несут. Вот мама несёт ответственность. Если она сыну не объяснила чего-то важного, если он, начитавшись Лукьяненко, взялся за автомат — значит, этот мальчик болен или мама просто его не воспитывала, потому что Лукьяненко не учит браться за автомат. Безусловно, в своём «ЖЖ» Сергей Лукьяненко высказывает очень многие мысли, которые мне отвратительны. Он имеет право на свои заблуждения. Я тоже далеко не во всём представляюсь ему образцом. Но он один из тех, в чей порядочности я не сомневаюсь. Он не делал плохих вещей, и с ним я сохранил человеческие отношения. С очень многими не сохранил, и они мне нужны, эти люди.
«Вы создаёте постоянный когнитивный диссонанс среди ваших поклонников, поэтому вам постоянно задают повторяющийся вопрос: нужно ли добру бороться со злом, и как? И вы, в зависимости от контекста, отвечаете по разному: то «давайте никого не затравливать», то «приезжайте к студии после передачи и скажите мне эти слова в лицо». Выберите, пожалуйста, одну позицию».
Нет, дорогой yisrael_rosenkreutz, я не выберу одну позицию! Потому что если я выберу одну позицию по разным вопросам, я стану проще и понятнее для одномерных, плоских ребят, вроде вас, но я погрешу этим против истины. А нравиться вам — не главная моя задача в жизни. Вот представляете, как оно нехорошо сложилось? Конечно, я рад бы потратить свою жизнь на то, чтобы быть приятным всем, но, к сожалению, это невозможно.
Проблема в одном: нет однозначного ответа на большинство сложных вопросов. Действительно я против того, чтобы кого-либо затравливали. Я с этим абсолютно не согласен. Я против того, чтобы масса правых травила одного неправого. С этим понятно, да? Я надеюсь, я понятно пояснил мою мысль? Я могу разжевать её ещё понятнее, спрашивайте. Но при этом должно ли добро противостоять злу? Да, обязательно. Когда оно видит перед собой разнузданное хамское зло, оно должно в меру своих сил его остановить. Если перед вами мужчина, насилующий ребёнка, нужно этого мужчину немедленно ударить, а по возможности так ударить, чтобы он отлетел подальше от этого ребёнка.
Если у вас есть другие вопросы — пожалуйста, задавайте. Хотя я, конечно, не справочник «Этика в каждый дом» или «Этика в любой семье», но я постараюсь дать вам ответы. Вы знаете, в Политиздате выходил краткий словарь по этике. Я всё-таки другое, я не Байрон, я не Политиздат, но на некоторые вопросы я могу вам дать простые ответы. Просто не пытайтесь делать вид, что вся этика безусловно однозначна. «Однозначность» — это любимое слово Владимира Жириновского, который к этике не имеет даже касательного отношения.
«Вы не ответили на два моих вопроса, — действительно тяжкий грех! — о Михаиле Осоргине и Сергее Клычкове. Хорошо бы исправить». Сейчас исправим! Подумаешь, проблема!
Михаил Осоргин представляется мне писателем такого же примерно класса и того же типа, что и Иван Шмелёв, то есть это крепкий третий ряд. «Сивцев Вражек» — хороший роман, но таких писателей много. Сразу хочу сказать, что на вопрос о масонстве Осоргина твёрдого мнения не имею, мне это неинтересно. И вообще я считаю, что масонство — это главный миф последних пяти веков (может быть, наряду ещё с коммунизмом): на последней ступени посвящения открывается, что никаких тайн нет.
Что касается Сергея Клычкова. Это хороший поэт. Конечно, «Чертухинский балакирь» — очень неплохая вещь. И у него есть проза симпатичная. Но у меня есть такое подозрение, что Клычкову чего-то очень сильно не хватало. Например, однажды Ахматова побывала у него и пересказывала то ли Чуковской, то ли ещё кому-то его новые стихи:
Впереди одна тревога,
И тревога позади…
Посиди со мной ещё немного,
Ради Бога, посиди!
Я поразился — какие гениальные стихи! А оказывается, в оригинале было:
Впереди одна тревога,
И тревога позади…
Посиди ещё немного,
Ради Бога, посиди!
Ахматова одну стопу добавила в нечётную строку — и это зазвучало божественной музыкой. У Клычкова этой божественной музыки не было.
Ещё мне очень нравится один мемуар о нём. Они же были соседями с Мандельштамом в 1934 году. Вот на кухне сидят вместе, Мандельштам и Клычков, бухают, естественное дело (в общем, оба любили это, хотя Мандельштам меньше), и Клычков, характерно окая (а он — такой красавец-великан, русский бородач синеглазый), Мандельштаму говорит: «А всё-таки, Иосиф Эмильевич, мозги у вас еврейские». Мандельштам смотрит на него в упор, кивает и говорит: «Да. А стихи русские». И Клычков, тоже на него так глянув: «Ох, стихи русские!» И, кстати говоря, надо сказать, что очень любили эти поэты, которых считали русофилами… Когда однажды кто-то при Клюеве начал ругать евреев, он сказал, окая: «Ты при Мондельштаме живёшь!» Это тоже очень хорошо о них говорит. За это можно простить даже Мондельштама.
«Почему такие явления, как расизм и национал-шовинизм, так распространены в России? Являются ли они частью русской культуры? С чем связан сегодняшний зашкаливающий уровень нетолерантности в расовых, национальных и религиозных вопросах?»
Да делать людям нечего, вот и всё. Понимаете, когда у людей есть работа — или артельная, или коллективная, неважно какая, любая, — они не задаются вопросом, кто тут еврей, а кто тут чеченец, а они делают дело. К великому сожалению, сейчас действительно создаётся ощущение, что в России очень много ксенофобии. Это абсолютно не так. На самом деле всё обстоит ещё хуже. На бытовом уровне всем просто всё равно. Вот в этом-то вся и катастрофа, что всем безразлично. Если бы их действительно что-то волновало, если бы была действительно ксенофобия, то по крайней мере с этим можно было бы бороться, а то ведь это просто пофигизм. И многие даже не понимают, о чём их спрашивают. Они настолько унижены жизнью, доведены до такого распада, что они вообще не думают ни о чём. Вот это меня очень раздражает. А так шовинизм совсем не распространён. У меня есть такое ощущение, что очень многие люди сегодня судят о России по телевизору. А то, что происходит в телевизоре, — это, по-моему, глупости, это издевательство.
«Смотрели ли вы фильм Познера «Еврейское счастье»?» Нет. И не планирую, к сожалению. И название не нравится, и как-то автор не вызывает большого интереса.
«Как вы относитесь к документальным фильмам Майкла Мура? Является ли он бессовестным мифотворцем либо человеком со своим оригинальным мировидением?»
Он является бессовестным человеком с оригинальным мировидением. Такое тоже бывает. Когда Буш-младший ему сказал, советуя этому парню найти какую-нибудь полезную работу, я отчасти с ним готов согласиться. Во-первых, Мур конспиролог, а мне это не всегда нравится. Во-вторых, он, конечно, авторитарный повествователь, очень сильно склоняющий читателя, слушателя к конкретному выводу. Я не люблю Мура, потому что «Боулинг для Колумбины» представляется мне скучнейшей картиной. Мне не очень нравится его авторский образ, мне не смешны его шутки. Ну, почему-то не нравится. Это не значит, что люди с антиамериканской позицией не вызывают у меня уважения. Вот Оливер Стоун вызывает, он классный режиссёр. А Мур не классный режиссёр. Классный режиссёр — Подниекс. Понимаете, мне нравится та документалистика, которая ничего мне не доказывает, не навязывает, которая заставляет меня самого думать. Мне нравится в этом смысле прибалтийская школа документалистики, а не нравится американская.
«Нет ли у вас желания прочитать лекцию по творчеству английских поэтов XVI–XVII века, в частности Нэша, Бёрда, Гиббонса и других?»
Я не считаю себя вправе читать лекцию о творчестве метафизиков. Во-первых, я не очень люблю их творчество, если уж на то пошло. Мне оно интересно, конечно. Мне интересен этот способ построения поэтического повествования, это многословие, это развёрствование одной мысли на множество абзацев — то, что попытался сделать Бродский в стихотворении «Пенье без музыки» под влиянием именно перечисленных авторов, но в первую очередь, конечно, Донна. Знаете, больше всего, наверное, на них похож ранний Браунинг. Браунинг мне очень нравится, я его считаю великим поэтом.
Я в своё время поставил себе титаническую задачу — перевести поэму «Сорделло», которую и по-английски никто не понимает. Ограничился я для начала тем, что сделал её полный прозаический перевод, а потом стал думать, как её укладывать в эти рифмованные мужской рифмой пятистопные ямбические двустишья, или надо как-то всё-таки в России это дело несколько разнообразить и иногда вставлять женскую рифму. Тогда этого вопроса я для себя не разрешил. Может быть, когда-нибудь, когда у меня будет время, я эти шесть песен (это, наверное, по сто страниц) всё-таки стихами переведу, постаравшись сохранить браунинговские темноты, витиеватости, барочности. По-моему, Теккерей говорил, что в этой поэме две понятные строчки — первая («Кто хочет услышать историю Сорделло?») и последняя («Вот вы и услышали историю Сорделло»). Всё, что между ними — невозможно. И даже жена моя писала: «Я так и не поняла, что такое Сорделло — религиозный праздник, название города или имя странствующего певца?» Ну, последнее верно.
Мне нравится такая витиеватая, сложная, религиозная, мистическая, интеллектуальная поэзия. Мне интересен сам эксперимент. Чтобы у меня мозги не заржавели, я решил в какой-то момент сделать полный перевод такого сложного текста. Я себе эту задачу откладываю на сладкое. Вот когда не будет писаться проза, я возьму и этим займусь.
«Расскажите, пожалуйста, о питерских «Горожанах», а особенно об Игоре Ефимове. Мне интересно ваше мнение о его романах и публицистике».
Группа «Горожане» существовала в Питере примерно с 1966 года по 1975-й, пока не разъехались все её участники. Это такая молодая городская проза. К ней примыкал Рид Грачёв, хотя он ни в какую группу органически входить не мог. Ну а душой этого объединения был Игорь Ефимов с его повестью «Старшеклассница» и вообще с его тогдашними городскими сочинениями. Ефимов — очень хороший писатель.
Понимаете, какая штука? Вы меня ставите перед довольно сложной проблемой, потому что Ефимов жив и здравствует, во-первых. И как мне его обсуждать, когда он может это услышать и прочесть? Во-вторых, Ефимов — активно работающий писатель, он продолжает публиковать ежегодно по большому философскому роману. Он начал ещё с «Философии неравенства», замечательной философской работы. Соответственно, как его оценивать? Я вам честно скажу, что из всего, что написал Ефимов, мне самой интересной кажется его книга об убийстве Кеннеди — вот это документальное расследование, где он видит отчётливый кубинский след (и это не так парадоксально, как казалось когда-то, когда эта книга ещё только вышла). Она интересно написана, динамично, доказательно. Это мне кажется самым интересным. «Философия неравенства» мне кажется немножко вторичной по отношению к либертарианцам. И вообще, когда русский человек попадает на Запад, по-моему, он недостаточно активно знакомится с уже написанным на тему; ему кажется, что он сейчас всем всё объяснит и откроет все Америки, а между тем, многие Америки уже давно открыты. Хотя «Философия неравенства» — всё равно для русской традиции интересная книга.
Что касается собственно прозы Ефимова, то мне она нравится, мне она кажется интересной. Но, обратите внимание, когда вышла книга его переписки с Довлатовым (а всем уже известно, что я Довлатова не считаю крупным писателем), всё-таки видно, что письма Довлатова и грубы часто, и несправедливы, и истеричны, и многое в них не так, а письма Ефимова всегда этически безупречны, всегда логичны. Но всё-таки Довлатов более писатель, конечно — у него слова более красочные, у него темперамент сильнее. Мне кажется, что главный недостаток Игоря Ефимова — это недостаток темперамента или некоторая интеллектуальность этого темперамента. Он интересный полемист, но герой его несколько картонный. Знаете, есть такой значок в Питере «Из Петербурга с апатией и безразличием», и изображена чайка, замотанная шарфом, под моросящим дождичком, и чашка кофе у неё в лапе. Мне кажется, что эта проза слишком апатична, в ней мне не хватает темперамента. Хотя при этом Игорь Ефимов — замечательный и интересный мыслитель и биограф. Вот видите, какой получился развёрнутый ответ. Игорь, если вы меня сейчас слышите, то я вам передаю большой привет и свою любовь.
«Я живу во Владивостоке, подумываю о переезде в столицу, так как тут практически нет ни либералов-единомышленников, ни тем более поклонников «Розы Мира» (знаю, что вы её считаете сказкой, но и Солнце не без пятен), тут её вообще мало кто читал».
Знаете, чтение или не чтение «Розы Мира» — это довольно сомнительный критерий. В Москве много людей, которые читали «Розу Мира», но продолжают жить так, как будто этой книги нет. Я не считаю её сказкой, это не совсем так. Я считаю её развёрнутой метафорой. Вот это да, это пожалуй. Но, воля ваша, усматривать буквальное описание мира во всей этой системе замечательных вещей совершенно невозможно.
Что касается единомышленников. Понимаете, единомышленники — политически это вообще крайне редкая вещь. И выбирать их надо, по-моему, не по политике, а по сродству духовному. У меня очень много единомышленников, но при этом мои убеждения абсолютно не совпадают с их убеждениями, а просто они мне по-человечески приятны. Другое дело, что есть убеждения (например, антисемитизм), которые рано или поздно съедают человека: он сначала милашка, а потом становится наглой скотиной. Ну, ничего не поделаешь. Вам я в любом случае не советую переезжать в Москву. Мне кажется, чем найти единомышленников в Москве, по-моему, выше шанс переубедить кого-то во Владивостоке.
«Есть ли у вас любимый новогодний или рождественский фильм?»
Нет. Я не люблю этот жанр. Хотя фильм про медведя говорящего… Как он назывался-то, господи? Ну, там был говорящий медведь, и он всё время влезал в отношения мальчика с девушкой, давал идиотские советы, разговаривал. Потом его распотрошили, потом зашили. Забыл, как его звали. Вот этот медведь мне был симпатичен, он был дурацкий и смешной.
Тут очень хороший вопрос, долгий и пространный, я не буду его зачитывать, на почту пришёл. Как раз под Рождество очень хорошо об этом поговорить. «Всё во мне хорошо, — пишет автор, — но то, что вы боговерующий, очень снижает ваши акции в моих глазах». Дорогая Аня, мне очень жаль, что я не могу вас порадовать, но как-то мне Господь дороже, чем даже ваша симпатия.
Я тут давеча общался с очень любимым мною священником, очень ценимым мною богословом, даже просто религиозным мыслителем — Петром Мещериновым. И вот мы с ним сошлись на странном ощущении. В последнее время нас, меня уж точно… Я просто ему об этом сказал, потому что всегда у кого-то должен быть если не духовник, то человек, с которым можно откровенно на эти темы поговорить. В последнее время у меня всё меньше сомнений. Раньше я этими сомнениями всех изводил, всех реально верующих, особенно жену, довольно православную (довольно — потому что она не слишком это афиширует, но глубоко православная, держащая посты). Многих своих религиозных друзей я изводил этим вопросом, сомнениями, теодицеей, типа: «а как же он терпит?», «а есть ли бессмертие?». И стихов я довольно много на эту тему написал.
И вдруг я заметил, что в последнее время эти вопросы перестали меня волновать — бытие Божие больше не вызывает у меня вопросов, не вызывает сомнений. Почему? Вот тут парадокс. Вокруг нас столько свидетельств абсолютного безбожия, творящегося сейчас в России! Вокруг нас столько мерзости, столько людей, которые абсолютно сознательно на моих глазах выпускают из себя мистера Хайда, которые сознательно становятся мерзавцами в поисках творческой энергетики, скудного пропитания, общественного признания. Неважно, завоёвывают ли они таким образом массовую аудиторию, пытаются ли они встроиться в мейнстрим, хотят ли обратить на себя внимание, но очень много стало подонков. Кто-то из этих подонков улыбается, подмигивает и говорит: «А что? А все так». А кто-то, наоборот, убеждённо говорит: «А что ты, либералистическая сволочь, можешь предложить стране?» Я-то много чего могу предложить стране, но они этого не услышат. Кстати говоря, страна-то всё понимает, не надо выдавать себя за страну.
И вот среди всего этого вера в Бога очень укрепляется. Почему? Парадокс этот просто разрешается. Да потому что мы видим, как наглядно это зло. Оно наглядно наказывается почти у всех деградацией, распадом личности, творческим бесплодием; оно очень наглядно наказывается превращением, иногда даже внешним, физическим. Наша эпоха бесконечно ценна наглядностью. И вот именно поэтому, даже когда я смотрю на официоз в храме, или слышу в интервью патриарха, что Россия в Сирии занимается обороной, или когда я читаю, например, Александра Щипкова (есть такой православный публицист, который займёт теперь место Чаплина), вот когда я всё это читаю, я ещё больше укрепляюсь в вере, я просто вижу Господа, потому что наглядность невероятная! Вот то, как нам явлено лицо Дьявола, оно оттеняет лицо Господа.
Поэтому у меня сомнений в последнее время совсем не стало. Если раньше я мог сказать «да, я сомневаюсь», да, иногда я впадал в совершенно постыдный агностицизм, то уж теперь я совершенно точно знаю, что Бог есть, и свет во тьме светит, и тьма не объемлет его. И в такие минуты особенно остро вспоминаешь Томаса Манна: «Какая прекрасная вещь абсолютное зло! Как просто по отношению к нему определиться».
Меня тут, кстати, спрашивают о том, как я отношусь к опубликованным сейчас наконец-то полностью «Размышлениям аполитичного». Во-первых, я эту книгу читал раньше. Конечно, не по-немецки, а просто потому, что Елисеев её сто лет назад перевёл. Он пытался опубликовать, никто не брал её, потому что Манн там высказывает иногда совершенно профашистские взгляды. Значительный её кусок, очень важный, был опубликован в серии «Мой XX век» издательства «Вагриус», там можно было ознакомиться с «Размышлениями аполитичного». Как я отношусь к этой книге? Я плохо отношусь к этой книге. Она кажется мне многословной, сырой, плохо написанной. Но я люблю заблуждения гения. Мне кажется важным, что у Томаса Манна вот такие заблуждения были, мне это приятно. То есть заблуждающийся Томас Манн мне всё равно симпатичнее, чем говорящий правду иногда Геббельс (если бы вдруг случайно Геббельс сказал правду). Да и потом, полезная книга.
«В вашей теории реинкарнаций писателей какие предыдущие и последующие воплощения есть у Николая Заболоцкого?»
Над вашим вопросом я надолго задумался. Последующих пока не вижу, а предыдущий — мне кажется, Тютчев Фёдор Иванович, его натурфилософия, его взгляд на вещи. Очень многие стихи Заболоцкого как бы написаны Тютчевым, — Тютчевым, дожившим до XX века. И потом, вот эти тютчевские галлицизмы, языковые неправильности, его неологизмы, типа «с их терпким листьем изнуренным» и так далее… Он кажется мне очень близким к Заболоцкому, почти родным. Ещё мне очень нравится то, что иногда у Тютчева и у Заболоцкого — у этих двух мыслителей русского стиха — случается какая-то совершенно детская, чистая, слёзная интонация:
Вот бреду я вдоль большой дороги
В тихом свете гаснущего дня…
Тяжело мне, замирают ноги…
Друг мой милый, видишь ли меня?
Завтра день молитвы и печали,
Завтра память рокового дня…
Ангел мой, где б души ни витали,
Ангел мой, ты видишь ли меня?
И у Заболоцкого есть такие стихи — стихи про деревянного человечка, поздние стихи из цикла «Последняя любовь». И потом, отношения Заболоцкого с Роскиной мне чем-то напоминают отношения Тютчева с Денисьевой. Ну, много там параллелей, в которые я не хочу впадать, но мне кажется, что Заболоцкий и есть его реинкарнация, только очень несчастная.
«Назовите ваши любимые книги и фильмы в жанре трагикомедии». «Слёзы капали» Данелии, которому я передаю привет.
«Знакомы ли вы с творчеством Андрея Аствацатурова?» Не только с творчеством, но и с самим очень хорошо знаком. Очень люблю Андрея Аствацатурова, его лекции, его романы и его самого.
Услышимся через три минуты.
НОВОСТИ
Д. Быков― Мы продолжаем наш разговор.
Меня тут спрашивают, что речь идёт не только о поэтах-метафизиках, в частности о Нэше, а что я думаю о композиторах, то есть о Гиббонсе и Бёрде. Насколько я помню, Гиббонс не только композитор, он ещё и сочинил кое-что как поэт в вокальном жанре, несколько религиозных сочинений там есть. И, кстати говоря, его считают композитором английского барокко. Сам я слышал очень мало, потому что в музыке, как вы понимаете, я гораздо меньше понимаю, чем в поэзии. Соответственно, и о Бёрде, и о Гиббонсе я говорить могу с меньшим успехом. Вот Томас Нэш — это пожалуйста. Сатирические сочинения всякого рода, достаточно витиеватые, но забавные, с удивительным сочетанием просторечья и высокопарности. Барочную поэзию, как уже было сказано, с её темнотами и многосмысленностями я скорее люблю, потому что скорее люблю сложное. Что касается музыки, то скорее здесь надо всё-таки обращаться, как мне кажется… Ну, я даже не знаю, кого сейчас, кроме Варгафтика, можно посоветовать из музыковедов, разбирающихся в чём-либо профессионально.
«Чтоб лицо влезало в фото,
Сбросить с дюжину кило —
Станет как у Дон Кихота,
А не круглое табло».
А я всё думаю: вот к чему бы цеплялись все эти люди, если бы я был худой? Неужели я настолько совершенен, что ничего, кроме дюжины лишних кило, они не могут во мне дурного найти? Я клянусь вам, что я не сброшу! Понимаете, пока толстый сохнет, худой сдохнет. И не хочу я быть Дон Кихотом совершенно, потому что Дон Кихот был несчастный сумасшедший.
«Известно, что вы занимаетесь и переводами. Какие бы советы вы дали начинающему переводчику?» Да очень простые: переводите дословно, а потом перескажите своими словами. Мне кажется, это единственный путь, потому что буквализм — это самый тяжёлый грех, в который может впасть переводчик.
«За что вы не любите Псоя Короленко?»
Опять! «Вы всё ещё пьёте коньяк по утрам?» Тут не скажешь ни «да», ни «нет». Потому что если скажешь «нет», то получается, что ты пил его раньше, а если скажешь «да», то это тоже неправда. Я очень нейтрально и очень спокойно отношусь к творчеству Псоя Короленко. Персонаж по имени Псиш Коробрянский в романе «ЖД», сделанный с Короленко и Шиша Брянского, — это не более чем такая карикатура, на мой взгляд, совершенно беззлобная. У Псоя Короленко есть хорошие песни, ровно как и у Шиша Брянского.
Всякие «спасибо». И вам спасибо!
Насчёт Антониони, который не требует специальной интеллектуальной работы. Нет, требует, конечно. Всё-таки думать, что «Красную пустыню» Антониони, например, можно вот так брать и смотреть — нет, надо кое-что знать, знать кое-какие контексты.
«Несколько слов о поэзии Михаила Синельникова».
Как бы вам сказать? Тот же случай, по-моему, что и с Игорем Ефимовым, когда талант есть, но темперамента не хватило. У Михаила Синельникова есть очень хорошие стихи и переводы, но боюсь, как и в стихах Геннадия Русакова, мне недостаёт там новизны. Хотя у Геннадия Русакова есть поразительные трагические стихи (в цикле памяти жены, например), но очень часто мне не достаёт какой-то взрывной силы. Ну, может быть, я воспитан на слишком острых блюдах. Вот Арсений Тарковский — тоже, казалось, у него голос негромкий, но сила страдания в некоторых его текстах удивительная, сила исповедальности тоже невероятная. Может быть, это потому, что он не боится в своих стихах и в жизни быть недостаточно хорошим; его лирический герой, его протагонист не всегда позитивен, не во всём прав. К сожалению, ни у Синельникова, ни у Русакова я этого не вижу. Вот у Слуцкого вижу, например. Мне кажется, что механизм вины может очень сильно в лирике сработать.
«Ваше мнение о творчестве Жозе Сарамаго? Ваше мнение о его романе «Евангелие от Иисуса»?»
Это хороший роман, безусловно. Мне нравятся два романа о христианстве из всего массива XX века: роман Сарамаго «Евангелие от Иисуса» и роман Казандзакиса «Последнее искушение Христа». Мне очень стыдно, но эти две книги мне нравятся. Да, и ещё, конечно, рассказ Фланнери О’Коннор «Перемещённое лицо», где главная героиня говорит: «Мне кажется, Иисус был перемещённое лицо». Гениальный рассказ абсолютно!
Вот пришло прекрасное письмо. Меня просят продолжить тактику воздержания от любых упоминаний об этом, ни слова про это, но это письмо я хочу зачитать: «Уважаемый Владимир Владимирович! Я Таня, мне семь лет. Моя мама учительница, папу сократили. У нас нет денег, чтобы купить собаку. Не могли бы вы снова выслать нам собаку, а то прошлую мы уже съели». Это смешно. Спасибо.
«Часто ли вы ходите в театр? Поделитесь самыми сильными впечатлениями от увиденного в прошлом году».
Дорогая grete, я редко хожу в театр. Причина этого проста — я плохо разбираюсь в театре, и мне там чаще всего скучно. Театр бывает либо очень хорошим, либо очень плохим. А плохих, к сожалению, сейчас очень много. Если бы ты был холоден или горяч, я бы в театр ходил. Мой любимой режиссёр — это Някрошюс; всё, что он делает, я смотрю. Второй мой любимый режиссёр — Юрий Любимов времён «Таганки». Лучшим когда-либо поставленным спектаклем в Советском Союзе я считаю «Гамлета». Я видел его в тех немногих сохранившихся фрагментах (40 минут в общей сложности) и в трёхчасовой архивной звуковой записи, которая существует. По-моему, это самый великий «Гамлет», которого можно себе представить.
«Заинтересовала ли вас книга Мариэтты Чудаковой «Литература в школе: читаем или проходим?» Заинтересовала, хорошая книга. Мне ещё очень нравится книга Долининой «Прочитаем «Онегина» вместе» и другие её педагогические пособия. Эти книги для меня в одном ряду. «Как по-вашему, с какого возраста, сколько лет и чему там должны учить?»
Я считаю, что всё правильно сейчас делается, только с одной разницей: нельзя поднимать школьников в школу в 8 утра, нельзя начинать занятия в 8 утра или в 8:30. Я категорический противник искусственных ранних подъёмов. Вот мы, старики, уже встаём поздно, а рано, когда ребёнок хочет встать, — это единичные случаи. Пусть он отсыпается. Мне кажется, что как раз старику необязательно спать долго (он чем раньше встанет, тем больше успеет), а ребёнку лучше отсыпаться. И если бы занятия в школе начинались в 10 или 11 (сейчас во вторую смену давно никто не учится, по-моему, сейчас и обычных учеников не хватает на школу из-за демографической ямы), никто бы себя хуже от этого не чувствовал. Дети злые с утра, и они плохо воспринимают. Пик интеллектуальной активности наступает у школьника в 11 часов, по моим наблюдениям.
«Интересно было бы послушать вашу лекцию на тему «Поворот к христианству». Ну, когда-нибудь со временем я поговорю. Может быть, знаете, я действительно повторю по многим просьбам лекцию об Уайльде и Честертоне, читанную в Англии, потому что для меня это два очень важных имени.
«Чем заменить кондовое слово «мероприятие»?» «Событие», «акт», факт».
«Как вы объясняете использование Акуниным в «Алмазной колеснице» сюжета из «Штабс-капитана Рыбникова»?»
Речь идёт о Японской войне. И обратите внимание, что там полемически это использовано. И вообще «Штабс-капитан Рыбников» — рассказ очень непростой, это рассказ про хорошего шпиона. Помните, почему там этого шпиона проститутка сдала? Он — единственный, кто был с ней ласков. Он — единственный, кто её не бил. И поэтому она что-то заподозрила. И она, помните, в ответ на его нежность могла ответить только одно, она лепетала: «Вы такой страстный мужчина!» Она грубыми и идиотскими своими словами пыталась ответить ему. Он тем её и удивил, что он не побил её. Поэтому купринский рассказ очень неплохой, очень сложный. И то, как использовал его Акунин, лишний раз показывает неоднозначность акунинских прочтений.
«Как вы относитесь к переводам Максима Немцова?» Не хочу про них ничего говорить, не хочу огорчать Максима Немцова.
«Когда выйдет книга Джесси Болла?» Как переведу, так и выйдет. Я сейчас занят был совершенно другими проектами. Ну дайте мне свой роман дописать — и, честное слово, я займусь Джесси Боллом.
«Расскажите о противостоянии «школы Ефремова» и «школы Стругацких».
Никакого противостояния нет! Стругацкие относились к Ефремову очень почтительно. А «школы Ефремова», на мой взгляд, не существует. Существует «школа Стругацких», а именно семинар Бориса Натановича, который никакого противостояния с ефремовцами не знал. Есть противостояние поклонников. Это да, действительно, и о нём можно поговорить особо, но это не очень интересно.
«Мало того, что Россия уподобилась айсбергу, который раз в 70 лет переворачивается, так при каждом перевороте он ещё и уменьшается».
Можно думать о том, хорошо это или плохо. Может быть, это хорошо, что он уменьшается, становится компактнее и самоуправляемее. То, что от России отпадут Польша и другие окраины, предсказывал ещё Александр Дюма. Может быть, полезнее, согласно концепции Цымбурского, как-то сосредоточиться.
«Не раз слыхали ваши хвалебные отзывы о соловьёвской экранизации «Анны Карениной». Вам не кажется, что Гармаш в роли Левина — издевательство над образом? Левин — утончённый интеллектуал».
Нет, Лёвин не утончённый интеллектуал. Левин… Лёвин как раз гордится тем, что он человек довольно обычный и обычных вкусов. В нём нет утончённости. Какой он интеллектуал? Он книгу свою так и не дописал, поняв, что она не нужна. Нужно знание жизни, понимание и чувствование её. По-моему, Гармаш вполне уместен. Во всяком случае он более уместен, чем тот ужасный Лёвин, который в фильме Райта, который вообще больше всего похож на одного из Уизли (собственно он и играл одного из них). Нет, это не Лёвин никаким образом.
Дальше какой-то (не побоюсь этого слова) дурак пишет какую-то (не побоюсь этого слова) глупость. Как же мне тебя жалко, милый мой Вячеслав! Как же тебе тяжело и горько! Как же я тебе сочувствую, если в Рождество у людей праздник, а ты не можешь успокоиться, пока не нахамишь, пока не покажешь себя всем. Ну, у каждого, конечно, свои праздники, но горько, горько, тяжело! Бедный Слава! Надеюсь, что недолго ещё будете вы мучиться среди нас.
«Порекомендуйте книжки, которые лучше начинать читать совсем маленьким детям — с полутора лет».
Как вы помните, у Сэлинджера Симор Гласс читал Бу-Бу, чтобы её успокоить, дзэнские притчи — и она успокаивалась. Или «Войну и мир». Точно так же «Войну и мир» Алесь Мороз в «Обелиске» Быкова читал школьникам, которые ничего не понимали, но наслаждались. Читайте им вслух что попало — что-нибудь да уцелеет. Из книжек, которые может ребёнок в полтора года понять, по своему опыту могу сказать — стихи. Читайте им любые стихи. Ну да, правильно перечисляют Барто. Барто — по-моему, лучший детский поэт.
«Иногда вы негативно высказываетесь о шарлатанах, типа Блаватской, Гурджиева, и книг, которые они написали. Может, это предубеждение, что не святые утратили право писать духовно-теологическую литературу?» Нет, почему? Теологическую литературу пусть они пишут сколько угодно, но пусть они в этих книгах не рассуждают о тонких мирах, потому что это уже совершенно явное шарлатанство.
«Не посещала ли вас мысль о том, что «Призрак оперы» — это бродвейское переосмысление «Обыкновенного чуда» Марка Захарова?» Нет, не посещала меня такая мысль. По-моему, ничего общего между ними нет.
«Купил книгу Сартра «Дороги свободы», а она оказалась без четвёртой части. Неужели мы умеем качать только нефть, а книги выпускать не умеем?»
Нет, остроумного ответа я вам не гарантирую. Я не знаю, переведена ли вообще тетралогия целиком, честно вам скажу, потому что я её не читал. И вообще Сартр не принадлежит к числу любимых моих авторов. Может быть, это издательство преследовало цель — научить вас читать по-французски. Вот вам понравились три части, и чтобы прочитать четвёртую, вы выучили язык. Такое бывает иногда. Я помню, что новинки Лема не всегда сразу переводились на русский язык (они были неблагонадёжные). Таким образом многие поклонники Лема во главе с Михаилом Успенским выучили польский, и довольно прилично.
Вопрос про «Малыша»: «Может быть, таинственные жители планеты и были Странниками, уставшими от исследований и замкнувшимися в себе?»
Любопытная тема. Может быть, как-то это сопряжено с квинтянами у Лема, которые тоже прячутся и не показываются. Вообще образ отсутствующих, невидимых, закуклившихся инопланетян, для которых немыслима сама идея контакта, — это в фантастике довольно распространено. Но я не думаю, что это Странники. Ну какие же они Странники, если главная их цель — это не контактёрство, а уход в себя? И не нужно думать (кстати говоря, многие так считают), что главная цель, высшая точка развития всякого живого организма — это отказ от любых коммуникаций.
«Назовите ваших любимых философов и любимые труды». Витгенштейн, «Логико-философский трактат». Я рассказывал много раз об обстоятельствах, при которых его прочёл.
«Достоевский всю свою жизнь мучился вопросом о существовании Бога, как он сам признавался, но решить его для себя так и не смог — всё время колебался. Не потому ли, что для Достоевского главной целью было именно мучение, а не какой-то однозначный ответ? Ответ снял бы его напряжение и поставил бы перед фактом».
Интересная вещь. Я с этим совершенно не согласен. Понимаете, в чём дело? Достоевский вообще искал не Бога. Ему только казалось, что он ищет Бога. Вот таково моё ощущение. Мне кажется, что Достоевский очень часто не видел очевидного, проходил мимо очевидного; договаривался до того, что надо упасть в бездну, чтобы оттуда увидеть Бога, что нужно долго грешить, чтобы что-то понять, что вера должна пройти через горнило. Но может быть и совершенно откровенная, естественная, органическая вера, бывает благодать. Попытки Достоевского изобразить святость всегда приводили к тому, что он изображал болезнь. И Мышкин — это явление болезненное. В общем, я Достоевского не очень люблю (чтобы не сказать — очень не люблю), поэтому поиски святости… Это не отрицает моего отношения к нему, как к великому художнику, но всё-таки я считаю, что он великий публицист прежде всего, замечательный фельетонист, очень сильный газетчик, прекрасный спорщик. А как художник он, по-моему, значительно уступает и Тургеневу, и Толстому, и Чехову, и уж, конечно, Диккенсу, столь им любимому.
«Как вы относитесь к мнению, что основной текст «Как закалялась сталь» написал Серафимович?» Никак не отношусь, и никак образом это не коррелируется с остальными сочинениями Серафимовича. «А основной текст «Двенадцати стульев» и «Золотого телёнка» написал Булгаков». Это совершенно ничего общего не имеет с реальностью. Булгаков, наоборот, довольно вторичен по отношению к Ильфу и Петрову в главном своём романе, и вторичен вполне сознательно.
«Почему одни люди боятся креститься в церкви или чувствуют себя глупо, если им хочется это сделать, и ещё больше боятся, если их в этом заметят?»
Это я могу объяснить. Сам ритуал вызывает вопросы у многих. Хотелось бы сделать это так, чтобы тебя в это время не видел никто, хотелось бы сделать, чтобы это произошло наедине со священником (у многих), потому что сам публичный характер таинства многих отвращает. Я это знаю и могу понять.
«Как вы относитесь к концепции абсурдного человека Камю, который не обманывает себя идеями Бога, смысла жизни и разумной Вселенной, а живёт без смысла и надежды? Логично, что человек, признающий, что над ним нет иной воли, становится равен Богу?»
Нет, это совершенно не логично, потому что, к сожалению, над человеком есть очень много всяких обстоятельств, помимо Бога. Да я вообще и Камю не очень люблю. Мне нравится «Чума», конечно. Я ещё раз говорю: все вопросы о Боге — есть он, нет его, есть свобода, нет свободы — всё это мне представляется сейчас, в нынешней России, такой скучной казуистикой! Понимаете, очень много вопросов просто снялись. Замечательно сказано у Андрея Синявского: «Верить в Бога следует не потому, что это логично, гуманно или красиво, а просто потому, что Бог есть». Вот и всё. Точно так же, когда я смотрю на всё, сегодня происходящее, я думаю: какая там может быть вообще жизнь без смысла и надежды? Ну попробуйте жить без смысла и надежды. Всё-таки мне кажется, что ничем, кроме самоубийства, как в случае Камю, это не кончается.
«О чём рассказ Достоевского «Скверный анекдот»?» О! Он о русской оттепели, о том, как человек попытался быть демократическим начальником, и как смешно и жалко это закончилось. Это, кстати, один из немногих рассказов, где Достоевский художник.
«Люди не смогут значительно продвинуться в своём развитии, пока не откажутся от всех видов самообмана, включая Бога». Послушайте, Бог — это не самообман, а это более тонкое понимание мира, вот и всё.
«Что вы думаете о Станиславе Грофе?»
Я даже его интервьюировал однажды, и мне очень понравилась его твёрдая уверенность, когда я его спросил: «А что бы вы ответили на вопрос о бытии Божием?» Он процитировал Юнга: «Верю» — слабое слово. Я не верю, я знаю». Мне это очень понравилось. Книга Грофа о жизни после смерти и об опыте всяких психоделических веществ в предсмертном исследовании мне кажется неубедительной, потому что доказательств загробной жизни и Божьего бытия хватает и так, и все мы их получим рано или поздно. А что касается Грофа как учёного, как человека, то он очень приятный и интересный человек, и идеи, которым он вдохновляется, гуманистические.
«Является ли поезд, сбивающий Каренину, символом судьбы, детерминизма?»
Даже больше скажу: вся железная дорога является символом предопределённости, детерминированности. Это же роман о России, которая попыталась уйти от закона к любви, от диктатуры к свободе — попыталась сломать свою матрицу. «Анна Каренина» в значительной степени политический роман. У нас всё переворотилось и только ещё укладывается. И опять не получилось! И всё плюхнулось туда же. Поэтому, конечно, железная дорога — символ страшной предопределённости, с которой сталкивается живая человеческая надежда.
Мне прислали, слава тебе господи, Гиббонса, где Гульд его играет. Будем слушать теперь.
«Из-за расхождений в отношении к реинкарнации…» Нет, почему? Я с удовольствием буду и дальше читать ваши вопросы.
«Дмитрий Львович, во мне никогда не была сильна вера в Бога, обряды казались глупыми, но именно сейчас я понимаю, что если зло настолько наглядно, то значит есть и обратная сторона всего этого — настолько же серьёзная и не понятная мне сила добра. Конечно, мне очень приятно приходить к таким мыслям от обратного, но лучше, чем никак. Спасибо!» Спасибо и вам, Паша. Вы высказали ровно то, что собственно собирался и я.
«О предсказаниях в литературе XX века. Говорилось о том, что мало кто предсказал развитие и последующее крушение тоталитаризма коммунистического типа. Я вспомнил о рассказе Пола Андерсона «Последний из могикан». Рассказ я этот не читал, но спасибо, что прислали цитату. Тщательным образом осмыслю.
«Прогрессоры нарушают свободу воли человека — например, ошибаться?»
Нет, прогрессоры не нарушают. Если помните, Лёша, прогрессоры занимаются в основном тем, что они спасают уже обречённых или тех, кого нельзя спасти иначе. Они очень опасаются прямых вмешательств. Прогрессоры делают всё возможное, чтобы не пришлось никого убивать или никому являть чудеса. Они занимаются просвещением, это совсем другая история.
«Зовут меня Александр, хотя в «ЖЖ» указано — Катя». Хорошо, Катя-Александр, я прочту.
Тут совет: «Привет Владивостоку из Рыбного! Ищите единомышленников в себе». Ну, это немножко тоже…
«Когда будет лекция о Жванецком?» Не могу вам сказать этого. Я не думаю, что её надо читать. Мне кажется, что её должен читать человек более пристрастный к Жванецкому.
«Прочитал ещё десять лет назад «Никодима Старшего» Скалдина, — очень правильно сделали, — и вспомнил, слушая ваш «Один», вот какой вопрос. Это Вселенная или какой-то дебильный закон судьбы не даёт текстам сохраниться? Почему что-то живёт, а что-то сжигается в топке?»
Кстати, очень многие тексты Скалдина не сохранились, это вопрос правильно заданный. Понимаете, я всегда рассматривал концепцию Бога как автора, Бога как художника. Я даже, например, считаю, что такие странные книги, как диккенсовский «Эдвин Друд»… Если бы он был закончен, это был бы просто хороший роман, а так это гениальный роман, тайна веков, в которой мы всё время ищем разгадку и вечно будем её искать. То есть мне иногда кажется, что если книга не сохранилась, в этом есть какой-то промысел.
Вот тут мне пишут: «А правда ли, что Гоголь сжёг на самом деле «Мёртвые души» по ошибке? Он хотел сжечь черновики (то, что до нас собственно и дошло), а сжёг беловик».
Гоголь не такой был дурак, чтобы сжечь беловик нечаянно. Для писателя, как это ни ужасно звучит, его рукопись — это, может быть, самое дорогое, что есть в горящем доме; и если у него будет выбор — спасти хозяина или рукопись, — он, конечно, спасёт хозяина, но перед этим он сильно задумается. Так подло устроен писатель. И вот в этом есть какая-то… Конечно, никакой случайности здесь не было. Автор жжёт.
Просят лекцию по Блоку. Обязательно. Ещё вопрос: «Никогда не любил Бунина, поэтому — Бунин». Хорошо, подумаю, ещё время есть. Бунина можно, да.
«Будет ли Максим Шевченко в проекте «Литература про меня»?»
Это от него зависит. Если он захочет, то, конечно, будет. Я Макса очень люблю, Максима Леонардовича. Я считаю его при всех наших несовпадениях человеком умным, субъективно честным и талантливым поэтом, кроме всего прочего. Я просто знаю Максима много лет, поэтому я был бы очень рад.
«Ваше мнение по поводу «Рождественской песни в прозе».
Много раз я говорил, что здесь эстетический критерий, наверное, не совсем применим. Я люблю вообще Диккенса. «Рождественская песнь в прозе» — очень густая, атмосферная, во многих отношениях дурновкусная вещь, но ничего не поделаешь, атмосфера английского Рождества создана историей про этого скрягу, про Скруджа. Это великая история, и она осталась на всю жизнь, она осталась олицетворением рождественской сказки. При том, что вторая и третья повесть рождественского цикла мне уже не нравятся совсем, не нравятся их слащавость, слюнявость, многословие, но всё равно Диккенс создал английское Рождество, поэтому тут уже никакие претензии не уместны.
«Какую роль в «Мастере и Маргарите» играет Гелла?»
Думаю, что чисто декоративную, никакой сознательной, большой роли у неё нет. Ну, может быть, она — такая странная спутница Фриды, как бы тоже раздваивается. Но вообще нет, конечно. Ну просто для красоты. Роман писался для человека, который ценит бульварную эротику. Вот ему было, видимо, приятно на это посмотреть.
«С Рождеством!» И вас с Рождеством!
«Вы часто говорите про Мережковского, но ни разу не упоминали его роман, посвящённый императору Юлиану Отступнику. Почему? Вам не нравится сам роман или Юлиан?»
Миша, я этот роман считаю детским. Это первый роман Мережковского, он ещё очень пафосный. Он хорошо читается. Вот «Леонардо да Винчи» — это уже проза, видно, как он быстро растёт. А «Юлиан» — и период мне не очень интересен, и герой не очень интересен. Хотя сам роман, безусловно, в этой трилогии важен, и, безусловно, Мережковский первопроходец в жанре философского исторического романа, но сказать, чтобы мне это было сильно интересно, к сожалению, не могу.
«Пишу вам из Белоруссии. Я студент. Я начал у себя замечать почти все основные черты психопатии. Есть три варианта. Первое — что это мне хочется иметь модную болезнь. Второе — что я обычный человек с характером немного психопатическим. Третье — что я полноценный психопат, который просто социализировался и был воспитан не психами. Я со своей девушкой, с которой мы уже два года, поговорили, и она тоже думает, что это, скорее всего, третий вариант».
Нет, успокойтесь, Валера, пожалуйста. Вы не психопат. И даже скучно вам об этом говорить. Не надо вам выдумывать себе модные болезни. Вы здоровый и нормальный человек, нет у вас ничего особенного, и всё у вас в порядке. Если вашей девушке кажется, что вы психопат, то вы тоже ей скажите, чтобы она этим не увлекалась. Может быть, вы просто вести себя не умеете. Может быть, всё гораздо прозаичнее. Так и скажите девушке. А то объяснять всё психопатией, как я уже сказал, чересчур комплементарно.
Парочку вопросов ещё я успеваю взять.
«Ваше мнение о книге Новодворской «Карфаген должен быть разрушен»?»
Я люблю Новодворскую как публициста, и мне нравится это чисто как художественный текст. С её мнениями и взглядами на вещи я почти всегда не согласен. Но у Новодворской есть и в автобиографиях, и в «Карфагене», и в её литературных очерках одно безусловно очень важное свойство: Новодворская полно и честно выражает себя, она в своей прозе такая, какая была, и она не боится такой быть. Сейчас очень многие люди выдумывают себя, выдумывают себе, как мы уже слышали, модную психопатию, или выдумывают себе ура-патриотические убеждения, или выдумывают себе ненависть к несуществующим фашистам и так далее. Новодворская себя не выдумывала, и она никогда не боялась, поэтому её так приятно читать. Она — великолепный сам по себе пример литературной наглядности. Я считаю, что писатель должен быть в этом отношении очень честен.
«Чем вы объясняете награждение романа «Дорога» Маккарти литературными премиями? Ведь это ужасно скучно».
Нет, я бы так не сказал. Вообще, как вы знаете, я не фанат Кормака Маккарти (ни «Кровавого меридиана», ни «Дороги»), но он настоящий писатель со своим языком, довольно сложным, если читать по-английски. И «Дорога» — это не примитивный текст. «Дорога» — это текст настроений. Он немножко похож на кинговский «Stand» («Противостояние»), слишком похож, но всё-таки Маккарти — это писатель, безусловно.
«Творчество Фридриха Горенштейна как тема лекции?» Хорошо, сделаю обязательно. И вопрос: «Ваше отношение к драматургии, мемуарам и дневникам Александра Гладкова?»
Александр Гладков — это мейерхольдовский завлит, человек безусловного таланта, автор пьесы «Давным-давно». Хотя Эльдар Рязанов, например, считал, что он как минимум не совсем сам писал, потому что когда нужно было Рязанову несколько поэтических вставок в «Гусарскую балладу», Гладков отказался это сделать, всё время юлил и отказывался. Я думаю, не то чтобы он не сам писал, а просто такую волну вдохновения он вторично пережить не мог. В дневниках его много суждений наивных, а иногда и просто обывательских. Его отношение к «Доктору Живаго» мне не понятно и меня раздражает, он вообще в романе ничего не понял. Но всё-таки он был очень добрый и честный человек. У него был вкус безупречный. Он первым оценил новую прозу Трифонова с её подтекстами. В общем, его дневники — очень поучительное чтение.
Услышимся через три минуты.
РЕКЛАМА
Д. Быков― В студии Дмитрий Быков, и мы с вами начинаем последнюю четверть эфира. Тут ещё только на один вопрос я отвечу
«С какой вашей книги начать вас читать?»
С «Оправдания» попробуйте. Раньше я советовал «Эвакуатора» всегда, но я убедился, что «Эвакуатор» всё-таки на очень своеобразного читателя рассчитан. Попробуйте «Оправдание». Мне тут сейчас для итальянского перевода пришлось его перечитывать, и я многое там нашёл, чего раньше не замечал — видимо, потому, что я изменился, и автор этой книги для меня уже почти незнакомый человек, всё-таки 17 лет прошло. Там есть вещи, которые, на мой взгляд, сегодня заслуживают внимания.
Я, подумавши, решил всё-таки поговорить про Блока, потому что очень много заявок на него. Про Соловьёва я поговорю отдельно, но я не очень понимаю, что собственно про Соловьёва можно говорить. Что касается Блока, то, конечно, 15 минут — это глупость. И ни за 15, ни за 20 минут это нельзя сделать. Я очень хорошо помню, как к нам пришёл Богомолов на семинар… Я слушал семинар Николая Алексеевича Богомолова о поэтах Серебряного века, и он должен был нам читать Блока. Он пришёл и сказал: «Ребята, я понял, что Блока не могу, потому что это всё равно, что про Пушкина рассказывать. Давайте я вам про Сологуба». И мы Блока перескочили. Подвиг, что Владимир Новиков умудрился в довольно тонкой книге в серии «ЖЗЛ» о Блоке так много сказать, потому что «Гамаюн» орловский, 800-страничный, мне кажется неполным.
Поэтому говорить будем об одной только вещи, а именно о поэме, столетний юбилей которой скоро мы уже будем отвечать, будем говорить о «Двенадцати». О той самой поэме, про которую князь Святополк-Мирский когда-то сказал: «Если бы был передо мной выбор — оставить ли в вечности всю русскую литературу или только эту поэму, — я бы, по крайней мере, серьёзно задумался».
Почему «Двенадцать» — главная поэма для русской литературы, и о чём собственно там идёт речь? Ведь очень многие, кто читал Блока и любил Блока, даже видя в ней явное сходство со «Снежной маской», со структурой «Снежной маски», даже помня триолет Сологуба про то, что «стихи Александра Блока — заметённый снег», всё равно замечают очень много неожиданного.
Во-первых, потому, что эта вещь написана на языке улицы, а для Блока вообще принципиально быть транслятором, а не ритором; он воспроизводит тот язык, который слышит и на котором думает. Поэтому поздние свои стихи он сам никогда практически не читал со сцены, во всяком случае не читал «Двенадцать». У него нет голоса, нет голосовых возможностей для этой вещи. Читала Любовь Дмитриевна. Точно так же он не понимал свои ранние стихи и говорил, что очень многие слова в собственных ранних стихах, в ранней прозе и в ранних статьях ему уже просто не понятны.
«Двенадцать» написана человеком, который говорит на совершенно новом языке, и этот уличный язык отражает всю какофонию Петрограда 1918 года. Это и проститутки, которые проводят у себя профсоюзные собрания:
На время — десять, на ночь — двадцать пять…
… И меньше — ни с кого не брать…
Это и писатель Вития, который повторяет: «Предатели! Погибла Россия!» Это и пёс, который здесь же воет. Это и поп. Кстати, вы себе не представляете, с какой новой волной кощунства, увы, придётся ещё столкнуться России, когда она будет избавляться от всего нынешнего фарисейства. Тогда Блок ещё будет казаться почти ангелом.
А вон и долгополый —
Сторонкой — за сугроб…
Что нынче невесёлый,
Товарищ поп?
Помнишь, как бывало
Брюхом шёл вперёд,
И крестом сияло
Брюхо на народ?
— это ещё играми покажется.
Но, конечно, суть «Двенадцати» не в этом. Суть и сюжет поэмы «Двенадцать» в том, что это история апостолов, которые убили Магдалину. Вот так странно звучит этот сюжет в пересказе. Совершенно очевидно, что двенадцать — это революционный патруль, который возглавляется Христом, и не потому возглавляется, что он идёт впереди этого патруля, что они его конвоируют, как пытались думать некоторые (у Вознесенского была такая идея), но на самом деле это не так. На самом деле Христос идёт во главе двенадцати, потому что они несут возмездие, несут гибель страшному миру:
Пальнём-ка пулей в Святую Русь —
В кондовую,
В избяную,
В толстозадую!
Блок это ненавидел искренне. Не нужно думать, что революция была разгулом мятежа, разгулом стихии. Революция была актом конечной невыносимой усталости от всего. Революция была актом уничтожения всего кондового. Это был акт реформаторский, модернизаторский, а вовсе это не разгул и раздолье древней стихии. И Блок видел в этом как раз прорыв к новому, прорыв к чистому воздуху после долгой душной спёртости.
Но ужас-то весь в том, что в результате этой революции в России гибнет то единственное, что было ему дорого. Вот об этом написан его замечательный отрывок «Русский бред», который он пытался сделать поэмой и не довёл до конца, где сказано:
Есть одно, что в ней скончалось
Безвозвратно,
Но нельзя его оплакать
И нельзя его почтить,
Потому что там и тут
В кучу сбившиеся тупо
Толстопузые мещане
Злобно чтут
Дорогую память трупа —
Там и тут,
Там и тут…
Вот это «одно, что в ней скончалось безвозвратно» и есть вечная женственность по Блоку, и есть, может быть, сама душа Блока, он себя хоронит вместе с Россией. Убита Катька, но Катька-Магдалина, блудница — это и есть на самом деле тот символ вечной женственности, который для Блока очень важен.
Мы могли бы провести здесь довольно длинную аналогию, привести целый ряд текстов, в которых проститутка, святая блудница (как в последней неоконченной пьесе Уайльда), выступает новой инкарнацией Магдалины. И вообще русская литература к проституткам относилась всегда как к святым, потому что, как вы помните, по Достоевскому, Сонечке Мармеладовой говорит Раскольников: «Мы оба переступили». Только разница в том, что Раскольников переступил через другого, а она — через себя. И в этом, собственно говоря, суть её святости. Проститутка — это та, которая раздала себя всем. И она гибнет в поэме. Гибнет Катька потому, что её убивает за измену Андрюха. Ну, вы понимаете, что все имена апостолов (Пётр, Андрей) там появляются: Ванюха, Андрюха, Петруха. И как раз Катька гибнет, потому что… Помните:
— Ох, товарищи, родные,
Эту девку я любил…
Ночки черные, хмельные
С этой девкой проводил…
— Из-за удали бедовой
В огневых её очах,
Из-за родинки пунцовой
Возле правого плеча,
Загубил я, бестолковый,
Загубил я сгоряча… ах!
Действительно он её любил. И она погибла собственно потому, что в новой, нынешней России должно погибнуть всё, что в ней Блоку по-настоящему дорого — в том числе и женственность, в том числе и любовь.
Сюжет о том, как апостолы убили Магдалину, странен. Почему на самом деле так происходит? На это некоторый ответ можно получит в достаточно любопытной (для меня, например, просто путеводной во многих отношениях) книге Александра Эткинда «Хлыст». Эткинд — наверное, мой любимый современный мыслитель и историк литературы. Он очень интересно интерпретирует блоковскую «Катилину» и, соответственно, «Двенадцать» и наброски неосуществлённой пьесы о Христе. Для Блока, утверждает Эткинд на основании этих текстов, революция — это отказ от пола. Пол — это то, что тяготит, это то, что делает человека прежним, архаичным, ветхозаветным. В пьесе Блока Христос не мужчина и не женщина. Почему надо убить Катьку? Потому что Катька — это воплощение той самой зависимости, того бремени, того первородного греха, который до революции был. Для революции поэтика тела не существует; для революции существует освобождение от проблемы пола. И в этом смысле не зря Блок в статье о «Катилине» (в замечательной статье!) цитирует последнее, странным ритмом написанное стихотворение Катулла «Аттис». Вот это, помните:
По морям промчался Аттис на летучем, лёгком челне,
Оскопил он острым камнем молодое тело своё.
И почуял лёгкость духа, ощутив безмужнюю плоть…
Он после этого начинает носиться радостно. Вот эта идея скопчества, идея отказа от пола, от любви, от того символа любви, которым является Катька, — вот в этом для Блока истинная революция. Поэтому «Двенадцать» — это поэма о том, что любовь должна быть преодолена, что плотской, человеческой любви больше не будет, а будет другая.
Что касается образа Христа в поэме. Сам Блок много раз говорил и в частности писал первому иллюстратору Юрию Анненкову: «Я сам понимаю, что там должен быть не Христос. Я вижу Христа, ничего не поделаешь…» Он даже писал однажды: «Я сам глубоко ненавижу этот женственный призрак, но вижу Христа — и ничего не могу с собой поделать! Может быть, — он пишет, — во главе их не должен быть Христос». Но в поэтике Блока, в рамках его текстов именно Христос («Несут испуганной России // Весть о сжигающем Христе»). Христос приходит как свобода, как революция и как гибель. «Я люблю гибель», — повторяет Блок всё время. Для него после революции жизни не может быть, он в этом костре должен сгореть. То, что у него была некоторая христологическая идентификация — безусловно, как и у всякого большого поэта. Я помню, как всегда с какой силой Житинский читал это знаменитое стихотворение:
Когда в листве сырой и ржавой
Рябины заалеет гроздь,—
Когда палач рукой костлявой
Вобьёт в ладонь последний гвоздь,—
Когда над рябью рек свинцовой,
В сырой и серой высоте,
Пред ликом родины суровой
Я закачаюсь на кресте…
Конечно, у Блока есть эта христология. Почему? Да потому же, видимо, почему самоубийство Бога является одним из главных сюжетов в мировой литературе (по Борхесу), потому что Христос — это тот идеал, к которому Блок с самого начала стремится. И у Христа нет никакого способа убедить Иудею в своей правоте, кроме как погибнуть у неё на глазах. Конечно, Христос приходит в Россию, принеся не мир, но меч. Это сжигающий Христос, это Бог Возмездия, потому что: «Доигрались? Спасибо». Но, разумеется, Блок не должен это возмездие пережить — он должен погибнуть вместе с той страной, которая так для него мучительна, так для него чудовищна.
Конечно, невозможно не вспомнить строки, которые Катаев называл «может быть, самыми прекрасными во всей мировой поэзии». Я помню их, конечно, наизусть, но почему бы, собственно, не процитировать их, чтобы уж ничего не переврать, с достаточной точностью по оригиналу. Это финал поэмы, 12-я глава:
… Вдаль идут державным шагом…
— Кто ещё там? Выходи!
Это — ветер с красным флагом
Разыгрался впереди…
Впереди — сугроб холодный,
— Кто в сугробе — выходи!..
Только нищий пёс голодный
Ковыляет позади…
— Отвяжись ты, шелудивый,
Я штыком пощекочу!
Старый мир, как пёс паршивый,
Провались — поколочу!
… Скалит зубы — волк голодный —
Хвост поджал — не отстаёт —
Пёс холодный — пёс безродный …
— Эй, откликнись, кто идёт?
— Кто там машет красным флагом?
— Приглядись-ка, эка тьма!
— Кто там ходит беглым шагом,
Хоронясь за все дома?
— Всё равно, тебя добуду,
Лучше сдайся мне живьём!
— Эй, товарищ, будет худо,
Выходи, стрелять начнём!
Трах-тах-тах! — И только эхо
Откликается в домах…
Только вьюга долгим смехом
Заливается в снегах…
… Так идут державным шагом —
Позади — голодный пёс,
Впереди — с кровавым флагом,
И за вьюгой невидим,
И от пули невредим,
Нежной поступью надвьюжной,
Снежной россыпью жемчужной,
В белом венчике из роз —
Впереди — Исус Христос.
Это так прекрасно, что невозможно это просто воспринимать! Хочется над этим как-то поиздеваться, как-то это адаптировать. Поэтому Маяковский и переделывал это бесконечно:
В белом венчике из роз
Впереди Абрам Эфрос.
В белом венчике из роз
Луначарский наркомпрос.
— что тоже довольно забавно и верно. Но можно понять, почему это так действовало. Почему Маяковскому не нравилась эта вещь? Мало того что он понимал, что он так никогда не сможет. Ему же принадлежат эти замечательные слова: «У меня из десяти стихов пять хороших, а у Блока — два. Но таких, как эти два, мне не написать никогда», — это он Льву Никулину говорил.
Но, помимо этой забавной статистики, у него к Блоку была и чисто нравственная, я бы сказал — чисто идеологическая претензия. Он говорил, что революция — это не двенадцать, «революция — это сто пятьдесят миллионов». Поэтому это такая своеобразная битва числительных. Поэма Маяковского «150 000 000» — это ответ на «Двенадцать» Блока. И надо сказать, что ответ абсолютно неудачный. Это хорошая поэма со смешными кусками, но 150 миллионов не видно, а двенадцать видно, и они вошли в эту мифологию. Двенадцать — это революционный патруль, белые солдаты, солдаты, сбежавшие с фронта, которые теперь мобилизованы уже революцией, которые ходят по ночам охранять петроградскую сторону. Ночь, «чёрный ветер, белый снег» — эта картина вошла уже в мировую историю.
Тут меня поправляют, что убил не Андрюха, а Петруха:
И Петруха замедляет
Торопливые шаги…
Он головку вскидавает,
Он опять повеселел…
Ну, Петруха, да. А в чём там, собственно говоря, принципиальная разница между Петрухой, Андрюхой и Ванюхой? Двенадцать абсолютно безликие. Но в любом случае спасибо Андрею за коррективу.
Что мне кажется особенно важным в этой поэме? Что Блок увидел в двенадцати не антицерковную, не антихристианскую, вообще не античеловеческую силу. Двенадцать — это сила преображения, это преображённые люди; люди, для которых революция открыла нечто абсолютно новое. Блок всегда ведь, прямо скажем, презирал жизнь в реальности, и любой побег из реальности — для него счастье. Ведь про что написан «Соловьиный сад»? Про то, что когда герой убежал в соловьиный сад и ему там было хорошо, он глупо, напрасно вернулся к реальности. Реальность всегда пошлая. Реальность прекрасно обошлась бы и без него. Помните:
Пусть укрыла от дольнего горя
Соловьиного сада стена, —
Заглушить рокотание моря
Соловьиная песнь не вольна!
Ну, это очень плохо, это очень напрасно, потому что море там себе рокочет что-то, и там два краба подрались и пропали, и это скучно.
Стал спускаться рабочий с киркою,
Погоняя чужого осла.
Надо было остаться с ней, которую он любит. Надо было остаться в соловьином саду, раз уж его туда пустили. Любой побег из реальности, из быта, из нормы — для Блока это счастье. Поэтому «Двенадцать», поэтому революция — это всё-таки, что ни говорите, торжество восторга.
Мне могут сказать, что в результате революции очень много народу погибло. Да, конечно. И вообще Россия не такая страна, где легко происходят перемены. Но тут ведь вот что важно: умрут-то все, но не все перед этим испытают веяние великого вдохновения. Весь смысл происходящего, весь смысл человеческой жизни в несколько звёздных часах человечества. И вот то, что происходило с Блоком в 1918 году, — это звёздные часы человечества. Блок же записал тогда в дневнике (хотя Блок вообще довольно самоироничен, довольно критичен к себе самому): «Сегодня я гений». Больше того, он пишет: «Я понял Фауста! «Knurre nicht, Pudel» — «Не ворчи, пудель». Почему? Потому что пудель (Мефистофель) ворчанием своим заглушает музыку эпохи!
Вот Бунин пишет: «Как смеет Блок смеет писать про музыку революции, когда убили столько народу?» Но в том-то и ужас, что одно другому не противоречит: отдельно — убили столько народу, а отдельно — музыка революции. Эта музыка всё равно была, всё равно звучала; и сделать вид, что её не было, совершенно невозможно. И сколько бы ни писал Бунин, что «Блок — это автор чудовищных кощунств», но Бунин в качестве духовного цензора — это тоже, знаете, на самом деле очень сомнительная роль. Конечно, Блок в своей собственной, личной, совершенно апостольской святости — фигура бесконечно более христианская и бесконечно более трогательная, чем Бунин, при всём уважении к нему. И «Двенадцать» — это глубоко христианская поэма; поэма о том, как выглядит на самом деле главная, истинная цель и главное содержание этой революции. Я уже не говорю о том, что это просто превосходно сделано по стиху. Она же разноразмерная вся, и вставлена эта замечательная стилизация под городской романс:
Не слышно шуму городского,
Над невской башней тишина,
И больше нет городового —
Гуляй, ребята, без вина!
Стоит буржуй на перекрёстке
И в воротник упрятал нос.
А рядом жмётся шерстью жёсткой
Поджавший хвост паршивый пёс.
Стоит буржуй, как пёс голодный,
Стоит безмолвный, как вопрос.
И старый мир, как пёс безродный,
Стоит за ним, поджавши хвост.
Надо вам сказать, что на самом деле образ пса, который здесь возникает постоянно, — он же не случайный, это не просто старый мир. Блок, который так любил собак, у которого был любимый сеттер Джой, Блок, у которого как раз собака садится на ковёр и говорит: «Пора смириться, со:р», — он так офранцузил английское «сэр». Собака — ещё же символ и любви, и дружбы, и уюта, и души очень часто в русской литературе. И вот то, что душа изгнана на улицу — это прямая рифма к замечательной блоковской прозе, к его новелле «Ни сны, ни явь», где есть эти страшные слова: «Душа мытарствует по России в XX столетии. Бродячая, изгнанная душа». «Уюта — нет. Покоя — нет», ничего не поделаешь. Ему всегда казалось, что гибель близко:
Дикий ветер
Окна гнёт.
Ставни с петель
Дико рвёт.
И когда этот ветер ворвался, глупо прятаться, надо стихии отдаваться! — что собственно и есть главный блоковский урок.
Я хочу сделать одно важное предупреждение. Я в следующий раз программу «Один» устрою в среду, со среды на четверг, если мне удастся подмениться. Если не удастся, то мы пропустим. Но думаю, что удастся, потому что я в четверг улетаю на десять дней. Поэтому я в следующую среду с вами услышусь. В конце концов нам, полуночникам, какая разница, в какое время не спать? Всех с Рождеством Христовым! Услышимся через неделю. Пока!
*****************************************************
14 января 2016
-echo/
Д. Быков― Доброй ночи, дорогие друзья! Сегодня я за Воробьёву. Связано это с тем, что я завтра улетаю на десять дней, будет у меня небольшая гастрольная поездка с совместными с Михаилом Ефремовым концертами. Давно мы вместе с ним не выступали. Хочется показать несколько новых номеров «Гражданина поэта», частью — старых. Подготовили мы с ним (это вниманию тех, кто ещё не решил, идти ли в Штатах на эти выступления) довольно большую программу так называемых «Стихов про меня». Мы делали уже несколько таких выпусков. На этот раз это стихи об Америке, стихи великих русских и советских поэтов — в диапазоне от Блока до Агнии Барто — на американские темы. По-моему, это занятная подборка.
Именно поэтому я сегодня пришёл в майке, которую видят те, кто меня видит, а остальным придётся поверить мне на слово, что это очень эффектная майка. Она куплена в центре Москвы за 600 рублей, продаётся абсолютно свободно. Называется она «Наш ответ на американские санкции», и на ней Владимир Путин в дзюдоистском кимоно пяткой в челюсть бьёт Барака Обаму. Причём Барак Обама выражает на своём лице крайнее недоумение и, я бы даже сказал, какое-то лёгкое неудовольствие по поводу происходящего. Эту майку я надеюсь как раз надевать на наши совместные выступления, чтобы американцы (и русские американцы в том числе) представляли себе ту атмосферу, которая сегодня в России создана. Это тоже ведь очень значимая, очень приятная деталь. И если это не экстремизм, то я уж не знаю что.
Что касается лекции. Поступило очень много заявок на Уайльда и Честертона. Хорошо. На Фолкнера довольно много. Раз у меня сегодня три часа… Я вообще-то обычно на два часа рассчитываю. Не могу сказать, что я две лекции прочту, но, может быть, я больше времени лекции уделю. Есть просьба про Уайльда и Честертона. И по-прежнему все хотят про Леонида Соловьёва. Ну, на третьем часу я Леониду Соловьёву действительно какое-то время уделить постараюсь, потому что феномен уж очень интересный.
Пока я начинаю отвечать на вопросы, которых чрезвычайно много, спасибо, и которые мне представляются тоже достаточно любопытными. Что касается моего присутствия через неделю. Один раз мы пропустим, а в следующий — через четверг — я буду с вами опять.
Очень многие спрашивают, что я думаю о причинах смерти Владимира Прибыловского.
Прежде всего я думаю, что мне очень жалко Владимира Прибыловского. Я этого человека очень любил. Он был одним из очень немногих в России людей, у которых чувство страха совершенно начисто отсутствовало, а присутствовало чувство юмора, которое у него было такой парадоксальной реакцией: его пугали — а он смеялся. И все замечательные политические инициативы Прибыловского (например, его Партия любителей пива или партия «Субтропическая Россия», пародирующие собою политическое устройство, партийное устройство России), и его замечательный сайт «Антикомпромат», где хранилось очень много всего, и его чудесные книги (он делал очень важные систематические своды происходящего в стране) — всё это мне представляется интересным. И у меня с Прибыловским всегда были очень хорошие отношения. Поэтому я, конечно, очень огорчён. Хотя «огорчён» — мало сказано. Я глубоко скорблю о человеке, которому и 60 лет-то не было, в марте ему бы исполнилось. Официальная причина его смерти — инфаркт. Я не склонен везде видеть «кровавую руку» режима, но я абсолютно уверен и в том, что если бы атмосфера последних лет жизни Прибыловского была бы другой, то, наверное, и прожил бы он дольше и иначе.
Просят меня прокомментировать высказывание Рамзана Кадырова о врагах народа.
Очень дельные слова, я бы сказал — золотые, а особенно в той части, где речь идёт о необходимости строго судить за подрывную деятельность. Я двумя руками «за». Мне кажется, что такие высказывания — как раз и есть самая натуральная подрывная деятельность. Они подрывают и авторитет России в мире, и национальный консенсус, и базовые принципы гражданского общества. И строго судить за такие вещи — мне кажется, это правильно. Если здесь не может быть по разным причинам реальной ответственности, то должна быть хотя бы моральная, которую мы-то уж сами для себя можем установить. Мне кажется, что не следует подрывать Россию. Мне кажется, что у неё и так проблем хватает, чтобы сейчас ещё — во время кризиса — вот таким образом увеличивать свой политический капитал.
Спрашивают меня о лучших книгах последнего времени, о лучших текстах, которые я за последнее время прочёл. Роман спрашивает, Игорь, много хороших людей.
Я могу вам пока сказать одно: из того, что я читаю за последнее время… Я не мог бы это назвать, конечно, только литературным событием, потому что это очень важное событие и человеческое. В августе прошлого года стало известно, что рак у Саши Гарроса, замечательного писателя. Эссеистику и стихи публиковал он сам, прозу — в соавторстве с Лёшей Евдокимовым, тоже моим другом замечательным. Я наблюдал за Гарросом в это время, мы дружим давно. Он с поразительным мужеством и хладнокровием это всё принял. Химию он прошёл в Германии, сейчас ему сделали операцию достаточно тяжёлую, и он выходит из неё. Слава богу, конечно, улучшения явные, и cancer free — это вообще уже само по себе огромное облегчение, но он пока ещё очень плохо себя чувствует.
И вот то, что писал до этого он у себя в Facebook, и то, что пишет Аня Старобинец, его жена, которая героически совмещает сейчас заботу о нём и заботу о двух детях, Лёве и Саше, дочери и сыне, с заботой о собственном Facebook, продолжает писать, информировать всех — это подвиг настоящий. Я очень многого не написал бы из того, что пишет она. Не дай бог мне оказаться на её месте, но от очень многого я бы воздержался. Но дело в том, что Старобинец из тех удивительных людей, которые из всего делают литературу, для которых действительно литература — это форма бытования. Как когда-то сказала Кира Муратова: «Мой способ жить — это снимать кино». Вот для Ани Старобинец такой способ — это писать. Для неё что не написано, то не существует. Она абсолютно литературный человек. И то, что она пишет, та сила, та исповедальность, с которой она пишет, — это лучшая литература, которую я читал за последнее время.
То, как эти двое противостоят обстоятельствам на глазах у всех, и как они фактом литературы сделали свою трагедию (из которой, я надеюсь, они выкарабкаются довольно скоро) — это грандиозно. Это не только тех утешит, кто болел, болен, в разное время пережил подобную травму. Нет, у этого текста не только утешительная функция. Вот здесь настоящие большие страсти. Это лишний раз доказывает, что иногда Интернет может порождать специфические жанры. Вот тот дневник, который сейчас Старобинец публично ведёт, — это лучшая проза, которая сегодня написана. Анька, если ты меня слышишь, или будешь слушать, или читать, я тебе передаю ну самое глубокое своё восхищение! Просто я мало кем в жизни так восхищался. Хотя, конечно, к этому восхищению примешивается и ужас, и непонимание, и шок, который всегда бывает от столкновения с крупными явлениями.
У меня же как всегда было? Например, мне стоило почитать Петрушевскую впервые — и она у меня вызвала отторжение просто резчайшее, просто невозможное! Это как ожог всегда. Понимаете, большая литература — всегда ожог. Но если этого ожога нет, то тогда это средний вкус, вот так бы я рискнул сказать. Поэтому лучшее, что сейчас… Ахматова когда-то сказала: «Всего страннее [страшнее], что две дивных книги // Возникнут и расскажут всем о всём». Я думаю, что если из этой трагедии и возникнет книга, то это, по крайней мере, будет хоть каким-то искуплением. И я очень надеюсь… Гаррос, я не знаю, ты меня слышишь, читаешь или тебе передают. Санька, я очень надеюсь, что скоро мы с тобой обнимемся, и ты уже будешь способен по обыкновению наговорить мне своих очаровательных гадостей.
«Дмитрий Львович, вы сочетаете поэзию с публицистической остротой. Эта способность всегда была при вас, или время такое наступает, когда повседневное грозит перейти в «эпохальное»?»
Спасибо, это хороший вопрос. Видите ли, я думаю, что интимная лирика в разное время бывает разной. Иногда это стихи любовные, иногда — стихи пейзажные, а иногда — ничего не поделаешь, стихи гражданские. Неожиданно для меня самого эта сатира перешла в лирическое качество. Ну, так было у Саши Чёрного, так было у Некрасова, моего кумира и идеала поэта. Я думаю, что это нормальное явление. Тут Захар Прилепин дал интервью в Красноярске, где он рассказывает: «Вот Быков собирает, как Билан, полные залы, но он не читает лирику, а читает там свои политические анекдоты». Это не так. Просто он давно не был на моих выступлениях. Это совсем другая история. Я читаю как раз лирику.
И вот, например, последний вечер, который собрал достаточно переполненный ЦДЛ (всем спасибо) — это была вообще сплошная лирика. Люди сейчас по лирике очень истосковались. Другое дело, что эта лирика не может сегодня, к сожалению, если она честна, обходиться без каких-то очень важных (для меня во всяком случае) не скажу политических, но во всяком случае отсылающих к современности реалий. Почему это так? Потому что политика — это концентрированное выражение общества, концентрированное выражение нравственности. Бывают времена, когда социальный, поэтический или лирический аутизм становится просто формой трусости. Уж на что есть герметичные лирические поэты, но и они сегодня пишут очень много гражданственных стихов. Я мог бы их перечислить, но это выбрать — так обидишь. Поэтому политические стихи — это форма лирики сегодня. Лирика — это разговор поэта с самим собой, по гамбургскому счёту. Бывают времена, когда говорить только о природе или только о любви было бы, на мой взгляд, непозволительно. И к тому же у нас ведь и с природой так: скажешь «оттепель» — и сразу возникают какие-то смыслы, потому что наша политика, наша история очень природные, ничего не сделаешь.
Спрашивает takeover: «Многие писатели из тех, кто 60–70-е чувствовали себя элитой контркультуры и при этом неплохо жили по сравнению с обычными работягами (Аксёнов, Довлатов), писали остро и негативно в отношении того, что происходит в СССР, превознося США, а попав наконец заграницу, разочаровались и во многом потеряли в качестве письма. Они заблуждались?»
Тут очень пристрастные формулировки, и что ни слово, то мимо. Ну какое было восхваление США у Довлатова? Прежде чем уехать (а он вообще не предполагал, что уедет), у него были попытки напечататься, и он сам их называл «компромиссом». Многое из того, что он написал здесь, никакого отношения к восхвалению США не имело. Это было вообще написано на русском материале (например, как его книга «Зона» — я думаю, что всё-таки лучшее из им написанного), или это были заметки о работе в таллиннской газете, или записные книжки, где он пересказывал бородатые анекдоты или остроты своих друзей. Потом он уехал.
Я не могу сказать, что Довлатов стал за границей писать хуже. Он стал писать хуже в последние годы, когда ощутил, по-моему, некоторую зависимость от читателя, от читательского спроса. И в результате этой зависимости появилась, например, такая слабая вещь, как «Иностранка», ориентированная на Брайтон. В остальном же, мне кажется, Довлатов уехавший был ничуть не хуже (а может быть, и лучше) Довлатова петербуржского или таллиннского. Во всяком случае и «Филиал», и «Компромисс», и большая часть рассказов (типа «Встретились, поговорили») — они всё-таки были написаны там. Так что никакого восхваления здесь не было, и никакой деградации там не было тоже.
У Аксёнова было восхваление… точнее не восхваление, а у него был довольно точный, во многом пристрастный, но и во многом нелицеприятный портрет Америки — «Круглые сутки нон-стоп». Но когда Аксёнов уехал туда, опять-таки, на мой взгляд, никакой деградации с ним не произошло. Он действительно несколько изменил манеру, он написал «Московскую сагу», вещь гораздо более традиционную. Но такие сочинения Аксёнова, как «Негатив положительного героя» — по-моему, поразительный цикл рассказов невероятной силы… Я попробую, кстати, вам один его маленький рассказик из тех времён зачитать, просто чтобы вы убедились, там строчек двадцать. Или, например, совершенно потрясающее по силе «Кесарево свечение», лучший недооценённый его роман. Или «Новый сладостный стиль», в котором тоже очень много мощных страниц.
Не могу сказать, чтобы Аксёнов сильно испортился. Просто американский Аксёнов, может быть, менее понятен здесь. Он действительно более авангарден. И чтобы читать такой роман, как «Кесарево свечение», нужно, по крайней мере, для начала внимательно прочесть «Поиски жанра». Но в любом случае не могу сказать, что Аксёнов заблуждался, уехав. Да и потом, кстати говоря, Аксёнов не хотел ведь уезжать, Аксёнова выпихнули после истории с «Метрополем». У него было принципиальное желание жить и работать здесь довольно долго. Он очень долго ждал. Естественно, он не имел ни малейшей надежды напечатать здесь «Ожог». Он уехал, потому что писатель, лишённый возможности печататься, писатель травимый попадает далеко не в лучшую, далеко не в самую стимулирующую обстановку. В Штатах я видел Аксёнова счастливым, успешно преподающим, популярным. «Войну и мир»… то есть «Тюрьму и мир» [«Войну и тюрьму»], вторую часть саги, сравнивали с «Войной и миром». И вообще не могу сказать, что его отъезд дурно на нём сказался.
«Прочитал «В круге первом». Не считаете ли вы, — спрашивает Саша Буткевич, — что эта вещь была бы совершенно гениальной, уменьши её Солженицын на 200 страниц?»
Нет, не считаю, конечно. И даже могу объяснить почему. Есть такое правило — секвестировать шедевр. Конечно, наверное, и «Война и мир» была бы гораздо лучше, если бы в ней сократили число персонажей, компактней была бы. Колмогоров уже в старости, когда он больше занимался проблемами литературы, нежели математики (случился такой странный поворот)… Насколько я могу вообще понять одну из его математических теорем, имеющую отношение, по-моему, скорее к математической логике: есть вещи, которые могут быть описаны единственным образом, есть вещи, сложность которых предполагает определённую длину описания, и эту зависимость можно теоретически установить. Если бы «В круге первом» была бы более компактной вещью, может быть, с точки зрения законов литературы она была бы гармоничнее и усвояемее. Но вопрос в том, что, во-первых, роман такого охвата подчёркивает всё-таки масштаб автора и масштаб происходящего, и там должно быть много персонажей. Это классический русский роман идей, многогеройный и прекрасный. А во-вторых, в нём, как в тюрьме, читатель не должен себя чувствовать слишком комфортно и слишком свободно.
Тут меня спрашивают: «Что является залогом успеха книги?» Точное соответствие. Вот то, что Брюсов называл: «Есть тонкие властительные связи // Меж контуром и запахом цветка». Всякая хорошая вещь может быть сделана единственным образом. Вот солженицынский роман построен так, чтобы читатель проходил в нём все круги. Круг первый — это шарашка, но там есть, во-первых, рассказы и о других кругах, и о Лефортовской тюрьме. Помните, там в главе «Улыбка Будды» вот эти издевательские «Мои лефортовские встречи». Там есть описание и сельской жизни, и городской жизни, и дипломатической жизни, и даже заграничной. Это роман действительно гигантского охвата, и не зря о нём Твардовский сказал: «Это велико». Это великое произведение. А в великом произведении автор не должен заботиться о читательском удобстве. Я считаю, что большая, хаотическая страна, в которой действительно в это время много хаоса, много абсолютно неуправляемых процессов, что из солженицынского романа видно, — это не должно быть изложено слишком гармонично.
И вообще мне кажется, что «В круге первом» чисто художественно, безусловно, высшее достижение Солженицына. Хотя в «Раковом корпусе» есть страницы гораздо более сильные, чем в романе «В круге первом» — например, весь финал. Но в целом «Раковый корпус» — гораздо менее ровная вещь. Понимаете, просто Солженицын, как и все большие литераторы, вырастал от масштаба темы: чем масштабнее был его противник, тем лучше получался текст. Когда он пишет о Сталине и сталинизме — это крупный писатель. Но когда он пишет о жизни и смерти — это великий писатель.
И вот тема жизни и смерти в «Раковом корпусе» заявлена, конечно, очень сильно. Когда Костоглотов в финале идёт в зоопарк (я помню, что как-то Вайль назвал это «лучшим бестиарием в русской литературе») — это поразительная сцена! Это возвращение к жизни, к жизни в неволе, к мучению, к этому пыльному зоопарку, но это всё-таки жизнь. Это мощный текст! Вот это возвращение из небытия… Здорово написано! И, конечно, чем масштабнее был противник Солженицына, тем лучше у него получался текст. Когда он говорит о Сталине — в этом есть какие-то фельетонные обертоны. Но когда он говорит о всеобщем предательстве, попустительстве — вот там он велик!
«Могу с удовольствием перечитывать книги Ирины Одоевцевой, где она рассказывает о воскресных вечерах на квартире Мережковских и о «Зелёной лампе». А нравилось ли вам читать, как общались поэты и писатели того времени?»
Видите ли, optimistichen, что касается Одоевцевой. Одоевцева много раз прокламировала, что у неё абсолютно буквальная память, и на ней всё, что оставляет след, опечатывается абсолютно чётко; что она запоминает диалоги с математической точностью, что всё, что говорит Гумилёв, она может печатать просто как исходящее от его имени. Во-первых, когда она цитирует Чуковского, она иногда просто цитирует лекции и статьи. Потом, когда она цитирует Гумилёва, очень много надо делить, конечно, на десять (у меня такое есть ощущение), потому что, во-первых, глаза влюблённой женщины всегда немного лгут. Влюблённой даже не в Гумилёва, а влюблённой в эту эпоху и в этот город. Вы помните: «Такой счастливой, как на берегах Невы, я никогда и нигде больше не буду».
К воспоминаниям Одоевцевой и Георгия Иванова (как его называли иногда — Жоржика) надо относиться с большой осторожностью. Ахматова, как известно, пыталась цензурировать все воспоминания, о ней написанные, но её претензии к Ивано́ву… Ива́нову и Одоевцевой, как вы понимаете… Я не знаю, кстати, как правильно. Я знаю, что Вячеслав Ива́нов. Ну, «Гео́ргий Ива́нов» — Гумилёв это называл примером амфибрахия. Видимо, тоже Ива́нов. Мне представляется, что всё, что писала эта пара — «Китайские тени» Иванова или «На берегах Невы» и «На берегах Сены» Одоевцевой — это очень пристрастно. Во многом из того, что она пишет, например, про Тэффи или про Бунина, я узнаю их собственные впоследствии опубликованные письма и записи. То есть она опирается на их тексты, безусловно. Но то, что они ей это говорили — так сказать, позвольте вам не поверить. Очень много там вещей (из любви иногда, из искренней любви), написанных совершенно поперёк реальности.
Тут немножко неграмотный вопрос, но суть его мне понятна, и он по делу: «Чем отличаются стихи, написанные в виде четверостиший, от стихов, которые пишутся сплошным текстом в один или два абзаца?»
Видите ли, какая штука. Когда-то у Лёши Дидурова, про которого тоже здесь есть вопросы (я отвечу, конечно), была… Господи, скоро десять лет, как Лёши нет. Ужас! У Дидурова была такая строчка — «строфичная боль». Он говорит о том, что боль накатывает периодами (как он мне объяснял эту строку), и поэтому строфическая форма повторяет приливы, пароксизмы боли. Далеко не всякие стихи можно переписать в строку. Это заслуживало бы отдельного и долгого разговора. Писать стихи в строчку в России начал, насколько я помню, Льдов (Розенблюм). Во всяком случае это был такой промежуточный жанр стихотворений в прозе, но уже рифмованных. Первым регулярно и систематически начал это делать Эренбург, и у него целая книга таких стихов была в 1911 году. У Эренбурга была судьба такая — открывать новые формы, а потом их доводили до совершенства другие. Лучше всего это делала Мария Шкапская:
Петербурженке и северянке, мил мне ветер с гривой седой — тот, что узкое горло Фонтанки заливает Невской водой. Знаю, будут любить мои дети Невский седобородый вал, потому что был западный ветер, когда ты меня целовал.
Это гениальные стихи абсолютно! А попробуйте Шкапскую переписать строфой — и она сразу всё потеряет. Она должна идти сплошным потоком, такой прозой накатывающей.
Стихи, переписанные в строку, имеют как минимум два преимущества. Во-первых, они смотрятся менее претенциозно, более непритязательно, почти как проза, поэтому это не декламация, а бормотание. Вот так бы я сказал. И второе — понимаете, в них есть ощущение чуда, подарка. Ты читаешь, как прозу — и вдруг замечаешь внутри какие-то рифмы, закономерности. Это — как жизнь, которая ещё не разбита на строфы, не оформлена, но в ней есть элемент чуда уже, ещё не подчёркнутый, не выявленный.
И могу вам сказать, почему у меня это началось, почему я начал это делать. Потому что меня очень прельщали тексты Катаева. Я вообще любил их, и мне нравилось, что он стихи цитирует в строчку, делая их частью своей прозы (не только чужие, но и собственные). И надо вам сказать, что его стихи в таком виде очень выигрывают — в них появляется прозаическая точность. Я помню, как я с матерью в санатории в Крыму, взяв книжку в библиотеке, читал впервые «Траву забвения» и навсегда запомнил вот это:
Маяк заводит красный глаз, стучит, гудит мотор. Вдоль моря долго спит Кавказ, завёрнут в бурку гор.
Там про магнолию:
Как он красив, цветок больной, и как печален он! [Тяжёлый, смертный вкус во рту]. Каюта — узкий гроб. И смерть последнюю черту кладёт на синий лоб.
Это совершенно гениальные стихи! И они очень проигрывают написанные как стихи, а в прозе они создают действительно какое-то ощущение бормотания. Кстати говоря, уже после Шкапской довольно многие стихи современных российских авторов в строчку (у Али Кудряшевой, например, это было несколько раз очень удачно) сохраняют прозаический напор и прозаическую упрощённость, будничность, скажем так.
Но далеко не каждое стихотворение можно таким образом переписать. Попробуйте так переписать большую часть стихотворений Бродского. При всём их подчёркнутом прозаизме не выйдет, не получается. Всё-таки это декламация, всё-таки там есть патетика. Совершенно этого не выдерживают стихи Пастернака, например, потому что попытки переписать Пастернака прозой всегда приводят к безвкусице и непоняткам. И Георгий Адамович это пытался делать, и Гаспаров — и никогда из этого ничего не получалось. Так что это особый жанр.
«Вы так не любите Дугласа Адамса, или вам просто нечего про него сказать?»
Скорее — нечего сказать. Я честно пытался читать Дугласа Адамса — мне показалось скучно. Его переводили многие мои хорошие друзья. Может быть, это прекрасно. Откуда я знаю? Понимаете, я же человек, всегда признающий субъективную возможность моей неправоты.
«Что вы скажете про Льва Шестова, нашего самого «экзистенциального экзистенциалиста»? Знакомы ли вы с его литературной критикой, «повисшей в воздухе» адогматической философией? Интересно услышать ваши мысли об этом непростом человеке».
Я боюсь, что я вам ничего хорошего о Шестове сказать не могу. Во-первых, весь его догматизм кажущийся. Есть много воспоминаний о Шестове, из которых явствует, что сам-то он стоял очень прочно ногами на опять-таки очень прочной основе. Я не знаю, что это было. Может быть, иудаизм. А может быть, наоборот — экзистенциализм, своеобразно понятый. Но он не был адогматиком совсем. На самом деле если уж адогматическая философия и была в XX веке, то это никак не Шестов, а это, может быть, Витгенштейн, мне кажется, который вообще всё подверг сомнению, кроме языка, и даже язык подвергал сомнению. Помните это: «И дерево — это не дерево»; «Невыносимо, невыносимо! Все лгут!» И вообще мне кажется, что это довольно детские вещи. Хотя, конечно, «На весах Иова» — замечательная книга, но мне кажется, что там всё-таки очень много понтов. И когда автор пишет вначале «Только для не боящихся головокружения» — это всё равно, что Гессе на «Степном волке» пишет «Только для сумасшедших». Это детство.
Вернёмся через три минуты.
РЕКЛАМА
Д. Быков― «Один», в студии Дмитрий Быков. Продолжаем.
«Многие обвиняют Пелевина в том, что его герои — всегда лишь символы или объекты для трансляции идей и что они редко переживают сильные чувства или участвуют в захватывающих приключениях. Но разве не в этом отличие высокой литературы от беллетристики? Ведь Пелевина часто очень интересно читать, хотя, по сути в большинстве своём герои просто общаются, но это захватывает сильнее, чем любые неугомонные приключения».
Да, это так и есть. Пелевин в принципе пользуется довольно архаической техникой, потому что строить повествование, как диалог учителя и ученика… Масса религиозных текстов (и буддистских, и религиозно более поздних, христианских) написана в этой традиции. Собственно говоря, весь Платон так построен. Ничего в этом нового нет. Но если это сделано хорошо, то, конечно, это захватывает сильнее, чем любые приключения. Это действительно довольно авантюрная техника сама по себе, потому что авантюрные приключения авторской мысли.
Но, с другой стороны, к этой архаике же в конце концов прибегал и Леонид Андреев, когда переносил действия в сферу панпсихического театра, то есть когда события, философские диалоги развиваются в одной отдельно взятой голове. И надо сказать, что философские сочинения Андреева, такие как «Мысль» или как «К звёздам», — это пьесы ничуть не менее увлекательные, чем его собственно сюжетные произведения.
Пелевин увлекателен ровно в той степени, в какой он действительно сам пытается что-то найти. Если он занимается казуистикой и софистикой, дурачит читателя или высмеивает его — это тоже бывает мило, но не всегда. И потом, понимаете, Пелевин же поэт всё-таки по преимуществу. И чем поэтичнее его тексты, чем они в хорошем, в непошлом смысле лиричнее, чем более глубоки внутренние проблемы, которые решает автор, чем больший эмоциональный диапазон там присутствует (что для лирики всегда важно), тем это совершеннее.
Но возьмём такие его вещи, как «Вести из Непала», например, или как «Онтологию детства», или «Водонапорную башню» — это на самом деле великолепные стихотворения в прозе. И этого очень много в «Generation П», этого много в цикле «Empire», хотя там, мне кажется, всё-таки больше софистики. В любом случае, мне кажется, когда у Пелевина есть напряжённо работающая мысль и динамичный, немногословный его знаменитый лапидарный стиль, то тогда это прекрасно. А когда исчезает это напряжение — вот тогда, мне кажется, получается инерция. Но лучшие тексты Пелевина — например, такие как сцена доения нефтяной коровы в «Священной книге оборотня» о лисе А Хули — это принадлежит к совершенно алмазным страницам русской прозы, и совершенно неважно, что происходит это на фоне тех или иных провалов.
«Как вы относитесь к последнему произведению Веллера «Наш царь и хан»?»
Моё отношение к этому произведению весьма апологетическое. Я вообще Веллера люблю, и мне всегда его мысли интересны. В общем, вам это отношение станет ясно из нашего с ним интервью, которое в следующий вторник появится в «Собеседнике». Думаю, что там будет много для вас достаточно занятного.
«Ваш коллега по цеху Виктор Ерофеев намедни с абсолютной уверенностью констатировал, что Шолохов не был автором «Тихого Дона», и Нобелевская премия была, мягко говоря, ошибкой».
Всё-таки у нас немножко разные цеха и разные даже не просто взгляды, а очень разные модусы. Поэтому то, что говорит Виктор Ерофеев, как мне кажется, очень часто имеет только одну цель — цель спровоцировать дискуссию. Иногда это хорошо, иногда — нехорошо.
Мне кажется, что случай Шолохова достаточно очевиден. Я готов поверить, что Шолохов был старше своих лет, когда писал роман, но мне очевидно во всяком случае, что от первой до четвёртой книги «Тихого Дона» отчётливо видно, как автор растёт. Я думаю, что он по-настоящему научился писать к концу третьего — началу четвёртого тома. Первые два тома меня не увлекают совершенно, а третий и четвёртый — это высокая трагедия, исполненная с библейской простотой.
Справедливое замечание одной хорошей девочки, совсем молодой студентки о том, что книга написана, скорее всего, автором внешним по отношению к казачеству, потому что слишком отличается речь автора от речи героев. Вот это я могу допустить — что Шолохов на самом деле действительно воспитывался не на Дону (собственно, так оно и было). То, что он использовал чужие мемуары и дневники, для меня тоже несомненно. Но ещё более несомненно для меня то, что я на протяжении романа вижу эволюцию одного человека.
И как совершенно правильно недавно написал Роман Сенчин, я в его романе усматриваю очень многие отсылки к «Донским рассказам». И главное, что я усматриваю у него один и тот же архетип, один и тот же инвариант. Когда в финале мужчина держит на руках ребёнка, и это всё, что у него осталось, — это финал рассказа «Шибалково семя», финал «Тихого Дона» и финал «Судьбы человека». Я считаю, что такие инварианты не могли быть никем организованы.
Более того, я решительно не понимаю, зачем нужно было Сталину организовывать публикацию откровенно… кто-то скажет русофобского, а кто-то — антикоммунистического, но никак не апологетического романа. Если бы кто-то предположил, что «Хождение по мукам» было инспирировано советской властью, которое заканчивается докладом Ленина про ГОЭЛРО, тогда я готов в это поверить. Но если «Тихий Дон» — книга, которая заканчивается абсолютной трагедией мыслящего, единственного по-настоящему мыслящего и борющегося героя, — если эта книга была инспирирована, то возникает вопрос: зачем? К тому же художественный результат отнюдь не был гарантирован. Нет, я продолжаю сохранять уверенность, что роман написал Шолохов, но все обстоятельства его создания мы, вероятно, не узнаем никогда.
«Почему сейчас поэты, музыканты, художники утратили ореол общественного величия? Как растворился этот туман априорного уважения и признания перед литературным или музыкальным талантом? Говорю не об узком круге, а о мире в целом».
Знаете, очень умная девушка Оксана Акиньшина, человек действительно большого ума, мне как-то сказала, что произошёл переход этого уважения, этого общественного внимания к фигуре шоумена, и шоумен начал за это платить жизнью. Она мне это сказала как раз в день, когда один известный радиоведущий погиб в автокатастрофе. Она сказала: «Видимо, теперь он станет культовой фигурой абсолютно, канонизирован будет».
Почему это происходит? Ведь культовой фигурой становится тот, с кем сверяются, с тем, кто на виду. Культовой фигурой XIX века действительно был писатель, он был самой заметной личностью. Ну а с появлением телевизора, с появлением кино такой личностью стала кинозвезда и шоумен, и они стали образцами, кумирами, с ними стали соотносить своё поведение и свою мораль; их высказывания (чаще всего абсолютно идиотские) стали предметом серьёзного обсуждения; «делать жизнь с кого» (как по формуле Маяковского, такой кривоватой) уже стали не с товарища Дзержинского или товарища Менжинского, а с телеведущих и киноактёров. И, наверное, это естественный процесс. Просто в центре внимания оказывается другая сфера искусств. И нагрузка возрастает чрезвычайно. А потом были сетевые гуру — люди, которые просто прославились тем, что они хорошо играют в компьютерные игры или прекрасно взламывают чужие документы. Это будет всегда такой переход.
Другое дело, что поэт в России остался сакральной фигурой, и это очень приятно. Это не потому, что Интернет шествует пока ещё далеко не такими семимильными шагами, а потому, что поэт в России (вот здесь внимание, важную вещь скажу), вообще литератор, художник в России — единственный человек, который заинтересован в том, чтобы у него была чистая совесть, потому что без чистой совести хорошо не напишешь, ну, гниль какая-то пойдёт. И поэтому — да, к мнению художников надо прислушиваться. Если художник заблуждается…
Вот тут мне подробный вопрос про Сергея Лукьяненко: «Наверное, многие из-за него впали в соблазн, в заблуждение. Может быть, даже если сотая доля процента его читателей, даже если два человека из-за него взяли оружие в руки, то ему всё равно прощения нет».
Ну так что ж, ему врать? А если он так думает? Понимаете, писатель — это же не инструмент для выражения правильных мыслей. Писатель — это инструмент для выражения мыслей вообще, своих мыслей, а вы можете с ним соглашаться, не соглашаться. Но говорить об ответственности писателя… Да, вот кто-то пойдёт и возьмёт оружие в руки — ну, хорошо. А кто-то, прочитавши «1984», возьмёт оружие в руки. А кто-то, прочитавши Достоевского, пойдёт мочить старух. Дело в том, что литература — это опасная вещь. Литература потому и сакральна, что она умудряется воздействовать на наше подсознание.
Как-то мне Гор Вербински в интервью объяснял, чем отличается хороший режиссёр от великого: хороший воздействует на сознание, а великий — на подсознание. Джармуш великий, потому что он [Вербински] говорит: «Я вот не знаю, подражаю я Джармушу или нет, потому что у меня в подсознании, конечно, наверное, крутился «Мертвец», когда я делал «Одинокого рейнджера». На подсознание писатель воздействует. Это опасная штука, опасное дело вообще. И не нужно делать вид, что в литературе надо говорить только правильные вещи. Нет, литература существует для говорения неправильных вещей, а вы сами не должны переваливать на писателя моральную ответственность. Это вы взяли топор и пошли убивать старушку (если это произошло).
«Хотелось бы услышать лекцию о творчестве Вадима Шефнера».
Знаете, я Шефнера очень люблю. К лекции сейчас я не готов, это мне надо перечитать главные его романы — такие, как «Лачуга должника», «Чаепитие на жёлтой веранде». Я почти наизусть знаю «Девушку у обрыва», потому что на даче лежал том «Нефантасты в фантастике», и я читал там и Тендрякова, и Иванова, и, конечно, лучшую там напечатанную повесть — «Девушку у обрыва». По-моему, она, во-первых, очень смешная, а во-вторых — очень глубокая.
Шефнер был первоклассным писателем. Понимаете, он всегда был как-то в тени, его не очень было видно. Но вот Ахматова, которая понимала, по первой его книге «Ясный берег» сказала, что это большой писатель. Шефнер — крупное явление в литературе. Я мог бы вам почитать. Я уже читал, кстати, в какой-то программе наизусть его стихи. Я знаю страшное количество стихов Шефнера — стихов штук тридцать, наверное, точно. И уж, конечно, стихи из «Лачуги должника» я считаю образцом. Помните, там:
Кот поклялся не пить молока,
С белым змием бороться решил.
Но задача была нелегка,
И опять он опять согрешил.
Или «Счастливый неудачник», «Облака над дорогой», «Сестра печали», которую, кстати, Аня Родионова только что так прекрасно проиллюстрировала. Для меня Шефнер — это удивительная интонация, насмешливая, едкая по-питерски, но пронзительно печальная. Понимаете, в его стихах был немножко абсурд. Никто почти не учитывает, что Шефнер в какой-то степени вобрал и обэриутский опыт:
Кому-то снятся самовары,
Кому-то — новые штаны,
Кому-то — тёмные кошмары
И стратегические сны.
Нет, конечно, он грандиозный поэт. Я больше люблю его, честно говоря, как поэта, чем как фантаста, но всякие прелестные рассказы, типа «Лилового шара», — это прекрасное чтение для юношества. Он очень питерский.
Дело в том, что питерская школа (вот та самая ленинградская школа, о которой я писал диплом) отличается тремя вещами, которых нет и никогда не было в Москве. Во-первых, это чеканная форма, очень соразмерная, навеянная всегда, мне кажется, петербуржской планировкой и петербуржским пейзажем. Во-вторых, это, конечно, налёт иронии на всём; Москва тошнотворно серьёзна по сравнению с питерцами. Такие фигуры, как Попов, Житинский, Катерли, конечно, и Шефнер, патриарх этого дела, конечно, и ранний Битов — они очень насмешливы. Это очень важная вещь. И третье, что мне представляется важнейшей особенностью петербуржской литературы — она очень культурна, культуроцентрична, культурологична. И это неплохо. Это плохо в стихах уже совсем недавних питерских поэтов, которые просто откровенно вторичны. Но вот у Кушнера это как раз невероятная органика:
Как клён и рябина росли у порога,
Росли за окошком Растрелли и Росси,
И мы отличали ампир от барокко,
Как вы в этом возрасте ели от сосен.
Да, это питерское, это входит в питерскую кровь.
Шефнер — очень культурный писатель, и культурный не просто в том смысле, что у него масса аллюзий прекрасных. Как раз он воспитывался-то петербуржской улицей, и у него если к чему и есть отсылки, то это к петербуржскому городскому романсу, к шарманочной лирике и так далее. Не в этом его сила. Культура его в точном дозировании эмоций, в знании меры, в том, что он никогда не давит на слёзные железы коленом.
Понимаете, скажем, Балабанов… Тут есть вопрос о Балабанове, просьба о лекции о нём. Мы обязательно её сделаем. Когда смотришь фильмы Балабанова, понятно, что он иногда перехлёстывает, иногда передавливает, и у него вообще есть некоторая тяга к садическому обращению со зрителем, тяга к жестокости, его занимает жестокость как феномен. И в этом смысле как раз «Груз 200» — картина очень показательная, потому что иначе этого зрителя не пробьёшь. Но обратите внимание, как культурно всё, что он делает, начиная с экранизации Беккета, со «Счастливых дней», и заканчивая «Мне не больно» — казалось бы, картиной совсем жанровой, но при этом очень аккуратно, точно сделанной. Почерк выдаёт хорошо наработанную, хорошо натренированную руку. Вот это общая черта всего, что делает студия «СТВ».
«В одном из выпусков «Литературы про меня» вы отрицательно высказались относительно творчества Харуки Мураками, назвав его «пустым» и «нудным». Чем вы обосновываете резкое неприятие прозы японского мастера?»
Да какая вам разница? Мне не нравится, вам нравится. Зачем мне чем-то обосновывать мою неприязнь? Мне не нравится! Если хотите, я могу вам объяснить подробно. Я надеюсь, что Харуки Мураками от моего «не нравится» ни жарко, ни холодно. Я считаю, что это абсолютно дутая фигура, потому что проза многословна. И действительно вот здесь я вижу непропорциональность между неважностью и неоригинальностью мысли, неувлекательностью сюжета и массой слов, которые на это потрачены. Может быть, это просто потому, что я джаз не люблю. И обратите внимание, как быстро схлынула в России мода на Мураками. Всё-таки его последняя трилогия прошла здесь, по-моему, не то чтобы незамеченной, но уже замеченной узким кругом фанов. Он повторяется, приёмы его более или менее одинаковы. Уже «Охота на овец» казалась мне жидкой. Понимаете, эта проза напоминает пиво, которого так много пьют его герои. Пиво — вещь хорошая, но она всё-таки не водка. Ну как-то нет у меня большого доверия к этому автору.
И если уж рассматривать японскую литературу — всегда такую экстремальную, всегда зацикленную на предельных вопросах… Понимаете, она может быть занудной несколько, как Оэ Кэндзабуро, но всё-таки, по крайней мере, она никогда не была развлекательна. И вот эти герои, которым нечего делать, которые могут подробно описывать уши возлюбленной или процесс поглощения еды, малейшие свои физиологические реакции — это всё меня просто погружает в полусон. Дай бог ему здоровья, пускай себе пишет. Что я тут?
Вот Наташа спрашивает: «Как ваши слушатели в Америке относятся к современной российской литературе? Кого знают? Что им нравится? Что их удивляет? Чего они не понимают? Что бы им лучше прочитать, чтобы представлять нашу жизнь?»
Здесь вы меня ставите в тупик, потому что такая книга ещё не написана, которую лучше было бы прочитать, чтобы понять сегодняшнюю русскую жизнь. Понимаете, в чём ужас сегодняшней русской жизни? Она очень спокойная, очень безэмоциональная. Я написал как раз в «Профиль» колонку сейчас о том, что кризис есть, а паники нет. Может быть, это терминальное состояние, как правильно полагает Миндадзе, такое тяжелобольное, когда человек думает уже только о выживании и у него нет сил на яркие эмоции. А может быть, это инерция, привычка, потому что для нас же очень естественное состояние кризиса. Когда у нас богатство относительное, мы чувствуем себя неловко, потому что мы же привыкли, что мы не вещистые, а мы духовные, мы бедные — и тут вдруг у нас нефтедоллары. Это, конечно, определённый когнитивный диссонанс. Жирная Россия, сытая Россия — этого не бывает. А так мы сразу вернулись в любимую матрицу: мы в оппозиции всему миру, и весь мир нас ненавидит, потому что мы добрые, а они все прагматические, они жирные. Это очень глупая и характерная эмоция.
Но вот кто бы об этом написал? Я боюсь, что современная российская литература не отражает эту эмоцию. Я очень мечтал бы, чтобы появился культурный писатель, который бы о нынешнем состоянии России написал. Меня спросят, конечно: «А что же вы сами не напишете?» А я уже написал. Я написал это, и тогда все говорили: «Да ну, этого не может быть». А потом случилось «ЖД» — и все стали спрашивать: «Откуда вы знаете?» Но, к счастью, эта книга уже переведена. Я не могу сейчас рекомендовать практически никого.
Мне было бы интересно почитать хороший роман про Новороссию (подчёркиваю — хороший), в котором была бы сложность проблемы. Но Фёдор Березин, который тоже тут про меня давеча дал трогательное интервью, из которого я понял, что он не понимает слова «одиозный»… Ну, хорошее интервью, трогательное. Вот Фёдор Березин вряд ли может написать такой роман. Он хороший человек (Фёдор), как говорил Успенский про него — «не подлый», но, по-моему, его художественные способности для такого романа недостаточны. А чьи достаточны — я не знаю. Тут должно быть нравственное чутьё в сочетании с очень высоким профессиональным дарованием. Понимаете, вот если бы Шолохов обладал циничной иронией Ильфа и Петрова, но такой синтез я пока никогда не встречал.
«Расскажите о своих впечатлениях о романах Голдинга «Воришка Мартин», «Шпиль», «Зримая тьма». Мне кажется, что это глубоко христианские книги. Так ли это для вас?»
Ну, «Хапуга Мартин» — в переводе Миры Абрамовны Шерешевской, как я собственно эту книгу прочёл. «Шпиль» я не люблю, скажу сразу, он для меня слишком умозрителен, и мне не близок герой, я его не полюбил. А вот «Зримая тьма» и, конечно, в особенности «Хапуга Мартин», абсолютно гениальная повесть, — они мне нравятся. Больше всего я, как и Успенский, люблю «Наследников». Мне кажется, это самая интересная и самая глубокая повесть Голдинга. И совершенно прав был он сам, говоря, что эту книгу надо перечитывать не один раз, чтобы её понять.
Что касается «Хапуги Мартина». Там, кстати, довольно простая история, я рекомендую тоже всем эту книгу. Там приём примерно тот же, что и у Бирса в «Случае на мосту через Совиный ручей»: последние секунды умирающего развёрнуты в многодневное повествование. Там хапуга Мартин, который гибнет, даже не успев снять сапог, проживает огромную жизнь, как ему кажется, на необитаемом острове. Почему он назван «хапугой»? Потому что он жадничал всю жизнь, потому что вместо того, чтобы отпустить жизнь и попасть на небо, он за неё цеплялся. Это вообще довольно жестокая и смешная книга.
Ещё мне очень нравится его совершенно пронзительная книга «Чрезвычайный посол», очень смешная — про то, как в Древнем Риме появились великие изобретения, прогресс появился, и император, убоявшись этого прогресса, отослал изобретателя прочь из Рима. У него там есть племянник [внук] Мамиллий, графоман, и он представил себе, что будет, если у этого графомана будут тысячные тиражи. Это вообще интересная вещь о природе прогресса.
Мне в Голдинге не нравится одно… Конечно, лучшая вещь, которую он написал, мне кажется, это всё равно «Повелитель мух». Мне не нравится одно: понимаете, он немножко тяжеловесен. Когда его переводит Суриц, например, то её тяжеловесность и, я бы сказал, пристрастие к экзотическим вариантам, к экзотическим стилистическим крайностям, к очень широкому лексическому диапазону делает эту прозу такой же корявой и такой же нечитаемой, как и у Голдинга. Она, может быть, наиболее адекватно его переводит, потому что Шерешевская к читателю более милосердна, и она весёлая. А Голдинг — сумрачный гений. Он очень поздно начал писать, чуть ли не в 52 года, и поэтому все его тексты имеют несколько мрачный уклон, уклон в смерть, уклон в ригоризм. И потом, они немножко слишком фабульные для меня, то есть слишком притчевые, мне какого-то «мяса» в них не хватает — при том, что Нобеля своего Голдинг заработал честно, конечно. Но обратите внимание, насколько обособленно он стоит в англоязычной, английской и вообще литературе XX века. Понимаете, немножко у него средневековое мировоззрение (я затрудняюсь объяснить, что я имею в виду), такое несколько чёрно-белое.
«Согласны ли вы, что Мережковский в пору написания «Леонардо», бывший под сильным влиянием Ницше, придал своему герою черты ницшеанского сверхчеловека, «по ту сторону добра и зла»?»
А то! Разумеется. По-моему, это совершенно очевидно. Просто у Мережковского к любимому им Ницше было довольно скептическое и настороженное отношение. Он умел понимать… Вот как Томас Масс сказал: «Он умел отделять его величие от его безумия». Конечно, Ницше велик (по-моему, тут сомнений быть не может), но Мережковский к нему достаточно критичен. И к Леонардо достаточно критичен, обратите внимание.
«Будут ли Россия и бывшие республики (кроме Прибалтики) когда-нибудь в составе одного государства? Или из-за нынешней ситуации мы навсегда отпугнули всех? Если будем вместе, то на каких основаниях?»
Ещё три года назад, по-моему, я сказал, что это возможно. Сейчас абсолютно уверен, что нет. Понимаете, будущее — это же такая вещь… Скажем, Римская империя дробилась, дробилась, дробилась — и теперь у нас есть фактически единая Европа. Поэтому на каком-то новом этапе, может, это и произойдёт, но это произойдёт в необозримые времена, когда уже от нынешнего контура мира ничего не останется (может быть, и слава богу).
Вернёмся через три минуты.
НОВОСТИ
Д. Быков― Доброй ночи, дорогие друзья! Продолжаем разговор. У нас с вами три часа сегодня, успеем друг друга умаять. Тут есть вопрос про Ивана Вырыпаева. Помните, у него в одной из пьес (не помню точно сейчас, в какой) главный герой и Бог «умаяли друг друга, как два русских мужика». Вот мы умаем с вами сейчас друг друга примерно таким же образом. Забыл, как пьеса называется, но хорошая.
Тут в связи с «Оскаром», который сейчас будет номинироваться, естественно, что все ждут, получит ли Ди Каприо. Уже проигнорировала Академия [кинематографических искусств и наук] фильм «Выживший». И меня в этой связи очень многие люди спрашивают, что я думаю о картине. Тем более что во всяком случае один из спрашивающих видел меня вчера в «Октябре» на ночном сеансе.
Что вам сказать, ребята? Мне не понравилась эта картина. Мне очень стыдно. Я понимаю, что Ди Каприо ужасно мучился, медведь его умаял тоже, потоптал, и в холодную воду он нырял во всём меховом. Да и вообще жизнь его была не пряник. Но я не люблю Иньярриту. Вот тот случай, когда не люблю избыточность, затянутость. Ну что такое 2:40? Вот эта картина могла бы быть, мне кажется, короче. Не нравится мне и визуальная, монтажная, а особенно звуковая агрессия. Немножко мне этот фильм показался похожим на российскую картину «Территория», где тоже очень много пейзажей и идущего по ним одинокого человека, и при этом к сожалению, очень мало смысла. Последние десять минут там милые, хотя, к сожалению, стопроцентно предсказуемые.
Понимаете, ума мне не хватило в этой картине. Совершенно не понятно, что автор хочет сказать, зачем он это всё рассказывает. Для блокбастера это занудно, а для философской картины как-то чмошно несколько, как-то несерьёзно. Претензий много, а мысли никакой нет. Вот эта реплика: «Ты проделал этот путь для того, чтобы мне отомстить?» Да! А для чего ещё? Конечно, для того, чтобы убить. Замечательная пародия на «Выживший» называлась «Вы же вши». Действительно, «вы все вши, вы так не можете, а вот герой Ди Каприо — Гласс — сумел проделать такой путь». Но даже то, что эта картина основана на реальных событиях, не прибавляет ей смысла.
Сейчас, конечно, все, кто любит Ди Каприо, во главе с матерью моей, которая просто его фанатка… Я думаю, она после Жерара Филипа не любила так ни одного артиста. Ну, Микки Рурка, который тоже у неё «под стеклом». Пусть все каприоманы во главе с матерью сейчас обрушат на меня гнев, но он просто плохо играет. Да, там он совершил очень много физических подвигов. Он залез в брюхо лошади. Кстати, это единственный кусок, в котором что-то человеческое есть, потому что это такая нежная сцена, жалко коня. При этом, ничего не поделаешь, я не сумел этого героя полюбить, я не почувствовал в нём живого человека. Ди Каприо гениально играл, будучи совсем молодым, у Агнешки Холланд в «Полном затмении». Он был великолепен у Кэмерона в «Титанике». И я очень люблю «Титаник». Мне кажется, что это милая картина, действительно милая по-человечески.
Но «Выживший» — это какая-то демонстрация возможностей Иньярриту, и больше ничего. Мне кажется, у Иньярриту какая-то серьёзная внутренняя проблема с адаптацией в Америке. Всё-таки он мексиканский человек, поэтому мексиканские страсти, которые его борют, в Голливуде… Единственный случай, когда он снял голливудское кино, — это «Бёрдмэн». И вчера, когда я это обсуждал (естественно, с чрезвычайно умными, на мой взгляд, людьми), я даже не поверил, что «Бёрдмэн» — его картина. Я забыл это совершенно. Я помню, что его сценарий, а в то, что он это снял, мне трудно поверить. Ну, Любецки — конечно, очень хороший оператор, что там говорить, замечательный. Просто это тот случай, когда прекрасная техника и масса потраченных средств не дали настоящего художественного прорыва. Хотя если Ди Каприо получит «Оскара», я буду ужасно рад. Мне кажется, ему пора сыграть Ленина.
«Как вы относитесь к роману Фолкнера «Свет в августе»? И несколько слов о Фолкнере как о новеллисте».
Понимаете, antoninewone, какая тут штука? Фолкнер не новеллист. Он совершенно не силён как новеллист, хотя «Засушливый сентябрь» — очень хороший рассказ. Или «Медведь». Ну, «Медведь» не рассказ, а это повесть, новелла, как это называется. Конечно, в этих вещах он силён. Но, в принципе, Фолкнер романист, и вот с этим ничего не сделаешь, у него романный темперамент. Не все его романы одинаково полезны, как йогурты, и не все они хороши. Например, я при всём желании не могу читать «Притчу». Я очень люблю «Свет в августе», о котором вы меня спросили, но мне совершенно безразлично, что там происходит. Он абсолютно гениальный стилист, он замечательный строитель фразы, он великолепно передаёт настроения. Пейзажиста лучше Фолкнера просто не было в американской литературе. «Absalom, Absalom!» («Авессалом, Авессалом!»), этот знаменитый роман, в котором всё хорошо, но я совершенно не помню, что там происходит. Но описание глицинии, сухих её цветков, вот этих свернувшихся от жары кусков лиловой краски на доме, описание жаркого лета на веранде в южном доме — это я помню до сих пор, и это в меня в крови просто. Он гениальный изобразитель! Он великолепный нагнетатель, но его все сюжеты — это какие-то больные истории. Я помню, что в «Свете августа» есть убийство, есть кастрация, есть девушка Лина, которая ищет отца своего внебрачного ребёнка, но атмосфера лесопилки и запахи её мне всё равно помнятся гораздо лучше, чем фабулы.
Я помню, как Светлана Леонидовна Юрченко, преподававшая нам на журфаке английский язык (которая собственно и научила меня, как мне кажется, языку, духу языка), очень точно говорила, что понять прозу Фолкнера невозможно, пока не посмотришь его рисунки. Рисунки Фолкнера мало того, что очень драматичны и очень сюжетны, но они глубочайшим образом простроены, продуманы. И точно так же архитектоника его романов, которая кажется произвольной, случайной, иногда хаотичной, продумана строжайшим образом — для того, чтобы у читателя возникла именно та эмоция, а не другая. И какие бы ужасы, какие кошмары ни происходили, скажем, в романе «Святилище» или в «Осквернителе праха», всё равно итоговая эмоция, которая происходит, — это не ужас, а это какого-то особого рода примирение, благоговение перед жизнью. Вот это то, что он испытывал, выходя из запоя. Фолкнер же перед каждым большим романом уходил в запой. И то чувство блаженного облегчения, которое он испытывал, выходя из этого штопора, каким-то образом пронизывало романы.
Кстати, я очень люблю «As I Lay Dying» («Когда я умирала»), блистательный роман, из которого ещё более блистательный спектакль сделал Карбаускис. Если вы меня сейчас, Миндаугас, слушаете, то хочу вам сказать, что лучшего спектакля я, наверное, так и не видел в Москве. Вот только Някрошюса я могу с этим сравнить. Сделать смешной, весёлый, жизнеутверждающий спектакль (там Германова играет, конечно, потрясающе) из этого дикого романа, в котором столько накручено, который такой мрачный, такой физиологичный и такой при этом прелестный… Там они главную героиню везут хоронить на протяжении всего романа. Там наводнение унесло этот гроб, и вода туда протекла, и главному герою зацементировали переломанную ногу, отец купил патефон — дикое нагромождение абсурда, смешного, трагического! И там ещё, как всегда, бегает у него душевнобольной мальчик. Вот это ощущение никогда не сводится к ужасу и брезгливости, а всегда сводится к какому-то благодарению.
Нет, я Фолкнера очень люблю. Я разделяю ахматовское к нему отношение. Она его читала тоже довольно много в оригинале и говорила: «Да, это страшная густота, но, видимо, современного читателя иначе не пробьёшь». И вот эта густопись, которой так много особенно в ранних романах… Ну, естественно, «The Sound and the Fury» — это просто лучший роман, который можно об этом написать, написать вообще лучший роман о XX веке.
Знаете, меня очень привлекает жанр романа «наваждение». Есть такой жанр, когда ты бесконечно пытаешься что-то выразить тебя волнующее и понимаешь, что все средства недостаточны, не можешь. Рассказываешь историю один раз, потом — другой, третий. И наконец уже не от чьего-то лица, а ты пытаешься её пересказать объективно.
У него было вот это наваждение: бабушка умирает, детей выгнали из дома, и они проводят день где-то в лесу, играя у ручья. При этом один мальчик влюблён в собственную сестру (Кэдди), а другой мальчик — душевнобольной, ну, идиот (Бенджи). И вот ему хочется эту картину запечатлеть, и он пытается и так, и сяк, и эдак её описать, и всё это под безумный запах вербены, всё пронизывающий, — и у него не получается! Потому что с какой стороны на историю ни взгляни, все её смыслы не выходят наружу. Он-то хочет рассказать о распаде, о деградации, об уничтожении этого патриархального мира — и всякий раз это не выходит. Потому что ему нужен этот контраст между богатой, цветущей природой, между полнотой жизни, полнотой этой противозаконной любви и духом умирания и распада, который на всём лежит.
Знаете, на кого Фолкнер больше всего похож? Он — такой американский Золя. И он очень много набрался у «Ругон-Маккаров», потому что и этот гигантский масштаб творчества, и страшная романная плодовитость, и продуманность, просчитанность каждой детали, и одинаковое внимание к деталям распада, и секса, и эроса… В общем, такой роман, как «Нана», Фолкнер вполне мог бы написать. Золя не был уж таким авангардистом, но если почитать «Добычу», так тоже это вполне авангардная книга (во всяком случае по приёмам, к которым он прибегает). Фолкнер — это действительно такой Золя американского Юга. И Йокнапатофа, придуманная им («Тихо течёт река по равнине»), — это совершенно прелестный округ. Я там с удовольствием бы пожил.
Вот тут задан мне вопрос. Я однажды сказал, что индейская трагедия проникает в американское подсознание. Каким образом это происходит? Это происходит на примере Фолкнера, потому что Фолкнер доказывает ведь очень простую вещь. Понимаете, если спросить о главном пафосе Фолкнера…
Вот я уже начал неожиданно читать лекцию по нему. Ну, ничего не поделаешь. Я вообще люблю этого писателя. Я его люблю какой-то такой почти родственной любовью. И люблю его за многое: и за его алкоголизм, и за его трагическую, мужественную, сдержанную страсть (такую же, как и страсть Золя), и за его физиологизм, и за его напряжённую эротику, и за его милосердно-брезгливое отношение к человеческой природе. Ну я люблю его! Ничего не поделаешь, он мне близок, как родной. Это потому, что я «Шум и ярость» прочёл, когда мне было 14 лет. Вот тогда надо читать эту книжку. Я тогда обалдел совершенно от первой части, и до сих пор считаю, что это величайшая проза.
Так вот, что касается Фолкнера, что касается главной проблемы Фолкнера. Литература XX века, когда она обрела должную оптику для этого, должное техническое совершенство, она смогла описать удивительный феномен: человек является не просто суммой своего прошлого (а это безусловно так), но он является ещё и суммой своих генов, своей генной памяти, своих предков; вся Земля изрыта вот этими шрамами, ямами, окопами, следами прошлых войн. То, что происходит в Йокнапатофе, — это след как минимум трёх величайших трагедий. Это Первая мировая война, недавняя по времени. Это Гражданская война, которую Юг проиграл, и эту травму никто из южан не может забыть до сих пор. (И, кстати говоря, Трамп — это такой странный реванш тех самых сил, которые проиграли Северу.) И, конечно, главная трагедия — это трагедия индейская, ну, отчасти трагедия негритянская, трагедия рабства, трагедия порабощения.
Откуда в романах Фолкнера все эти инцесты, всё это страшное напряжение, такое количество вырожденцев? Дело в том, что вся жизнь — это расплата за прошлые грехи (за негритянское рабство, за индейское истребление). Это всё сидит в подсознании. А особенно наглядно это, конечно, в трилогии «Деревушка», «Город», «Особняк». Вся эта линия о Сноупсах — тоже линия вырождения, конечно. Но надо понимать, что ни один герой Фолкнера (вот это очень важная фолкнеровская мысль) по-настоящему не виноват, потому что он всегда несёт в себе расплату за чужие грехи, за грехи предков. В «Сарторисе» это видно, в «Осквернителе праха», в «Медведе» даже. Это страшная сумма насилия и злодейства, которые вы носите в себе. И самое ужасное, что вы эту сумму не контролируете; вы не знаете, когда и в какой момент у вас в мозгу сработает этот детонатор. И в этом смысле, конечно, фолкнеровское творчество — это страшный крик о лютой беспомощности. Вот у Золя, например, есть доктор Паскаль, который наводит всё-таки какой-то порядок во внутреннем мире героев и в собственном. А у Фолкнера нет человека, который бы рационально подошёл к проблеме. Все южане у Фолкнера — это заложники своей истории. И человек — действительно заложник своей истории.
Почему сейчас так трагически понятен Фолкнер? Потому что посмотрите на сегодняшнюю Россию. Все люди в России (ну, 90 процентов) всё понимают, а живут по-прежнему. И матрица воспроизводит прежнее, потому что они заложники, они — сумма предыдущей истории. Это фолкнеровская проблема, очень мучительная. Вот мы, пожалуйста, с вами одну лекцию уже прочли.
«Играл недавно в игру Soma. В будущем на Землю упал астероид, уничтоживший всё живое. Осталась лишь кучка людей, которая решила перенести слепок мозга, сознание в механических роботов. Главный герой пытается выяснить, является ли он человеком. Можно ли это называть человеком и человеческой жизнью?»
Понимаете, вы задаёте вопрос, который станет одной из главных проблем будущего, вот так бы я сказал. В будущем эта проблема будет очень напряжённо осмысливаться, потому что конфликт из области человеческой переходит постепенно в область машинную. Есть несколько текстов в литературе XX века, которые задаются проблемами века XIX. Это, естественно, все робототехнические, роботские, азимовские идеи. Это, конечно, «Кукушки Мидвича» Уиндэма, потому что это люди будущего. Отчасти это и кинговский «Мобильник». Люди будущего, связанные телепатией, условно говоря, связанные Интернетом, потому что очень скоро носимые технологии сделают эту шефнеровскую мыслепередачу практически реальной уже сегодня (точнее — уже завтра). Поэтому мораль здесь: в какой степени человек, став машиной, остаётся человеком? И что собственно делает человека?
Вопрос, который, кстати, в «Дне гнева» задаёт Север Гансовский: а что собственно делает отарка не человеком? Почему отарк, то есть интеллектуальный медведь, не является человеком? Что собственно делает журналиста или лесника людьми, а отарков не людьми? У Гансовского нет ответа на этот вопрос. Вернее, он есть, но это такой ответ, который меня совершенно не устраивает. Грубо говоря, в конце рассказа, когда люди массово берутся за ружья, становится понятно, что человеком делает человека именно способность к осмысленному поступку, к осмысленному преодолению страха. Но отарки ведь вообще этого страха не знают, они вообще совести не имеют. Что же, они более совершенны? Там же эти отарки терроризируют всю округу. И люди становятся людьми, когда берут ружья и начинают их отстреливать. Но, простите, поверить в то, что только это делает человека, я никак не могу. Хотя рефлексия в таких ситуациях тоже не помогает.
В какой степени человек, сращённый с машиной, остаётся человеком? Думаю, что он перестаёт им быть постепенно, потому что человек в огромной степени зависит от биологического носителя. Робот не мыслит всем телом, робот не имеет телесности, и это довольно мучительная проблема.
Я думаю (по-моему, рассказывал вам об этом) о программе, которая бы позволяла скачать человека к себе на мобильный телефон, скачать другого человека, о программе, с которой мог бы быть эмоциональный контакт. Ну, она бы была хороша, например, для аутичных детей, которым трудно общаться с реальными людьми, а они могут общаться, например, со скачанной программой; или для одиноких стариков (он скачал себе человека и может в любой момент с ним поговорить). Что делает такого человека психологически привлекательным? Что делает вообще эту свободную личность? Я думаю, что эта программа могла бы быть привлекательной, если бы она умела говорить умные гадости — такие, что всё время хотелось бы добиться её одобрения (это довольно распространённая женская тактика). Но что вообще может сделать робота человеком — над этой проблемой билась вся литература во второй половине XX века. И ничего дельного она не предложила. Поэтому я считаю, что утрата физического тела или замена физического тела, конечно, приведёт к появлению новой сущности. Это не будет человек.
Что я думаю о бессмертии души в этом смысле? Конечно, наша бессмертная душа очень сильно от нас отличается. И, может быть, один из главных конфликтов в мировой литературе — это именно конфликт души и Я. Как замечательно сформулировал Битов: «Я — это мозоль от трения души о внешний мир». Гениальная формула! Тем более приятно, что он это сделал как-то в разговоре со мной. И мне очень нравится эта мысль, что Я и душа — это разные сущности. Вспомните: «Бедная пани Катерина! Она многого не знает из того, что знает душа её» [Гоголь]. Может быть, робот — это и душа, но представить её человеком — извините, никак.
«В творчестве Стругацких красной нитью проходит идея Учителя с большой буквы. Особенно ярко она выражена в романе «Отягощённые злом». Как вы её понимаете? Не соотносите ли вы себя с таким Учителем? Я вижу два сценария дальнейшего развития: появление Учителей как результат Человека воспитанного; появление новых людей с более мощным умом и открытым восприятием, о чём свидетельствует пример ваших студентов. Требуется лишь некий Виктор Банев для взаимодействия прежнего человека с новым?»
Спасибо, Антон. Это сложный, богатый вопрос. Я сегодня как раз с Аней Кочаровской, которая работает тоже в МПГУ, довольно мучительно думал, пытался сформулировать для студентов педагогического университета, зачем нужен учитель. У меня есть ощущение, что учитель — это единственный способ, единственный инструмент передачи суммы знаний… даже не суммы знаний, а передачи суммы опыта следующему поколению. Эта задача лежит на учителях, не на родителях. Потому что у родителя по отношению к ребёнку масса побочных задач (сделать его безопасным, «поступить его в институт», сделать его похожим или не похожим на себя), но задача передачи наследия в его случае не стоит.
Учитель должен научить, на мой взгляд, двум вещам. С одной стороны, он должен суммировать (хотя бы для себя), отрефлексировать опыт поколения и его передать — это первое. Второе гораздо более странно и трудно. Мне сейчас придётся думать вслух и ходить по очень тонкому льду. Вот какая штука. Стругацкие никак не сформулировали Теорию воспитания, но они близко к этому подошли. У них первым этапом воспитания становится способность человека смириться с непонятным. Когда павианы приходят в град обреченный, когда эти странные кули приходят в Малую Пешу, когда фловеры приходят в Ташлинск… Вот мне Борис Стругацкий говорил: «Вопрос не в том, как вы примиряетесь с приятным, а вопрос в том, как вы можете не расправиться с неприятным и непонятным. Вот это важно». Человек проверяется непонятным. Учитель должен, как мне представляется, поставить ребёнка, школьника, студента перед загадкой, перед тайной и посмотреть, как он будет на эту тайну реагировать. Надо уметь эту тайну сформулировать.
У меня сейчас с 5-го по 8-е были три двухчасовых занятия (потому что они не отпускали) с теми, кому было от 12 до 16 лет. И я был поражён! Я почти не могу сформулировать вопрос, на который они не могут сразу же ответить — иногда парадоксально, иногда неверно, но мгновенно. Мне почти не удавалось вызвать тот очень мною любимый скрип мозга, который я слышу у аудитории, когда я физически слышу, как вращаются шарики и ролики, как трещат извилины, пытаясь нащупать ответ. А они мгновенно его нащупывают! И боюсь, что сегодня уже я не могу задать им правильные вопросы. Это для меня тоже мучительная ситуация. Но то, что задача учителя — озадачить (простите за каламбур), для меня совершенно очевидно.
Теперь что касается Банева. Известно, что сцена разговора Банева с лицеистами появилась после посещения физматшколы в Новосибирске, где Стругацкие почувствовали, что перед ними очень умные, но духовно безграмотные дети. Вот эта тема есть в «Гадких лебедях»: они же просто дети, они не понимают, что ирония и жалость необходимы. Они просто дети. И зачем тогда их вся новизна? Понимаете, в чём беда? Сегодняшние «гадкие лебеди», сегодняшнее поколение этих чёрных, гадких, новых, непредсказуемых лебедей — они как раз наделены и иронией, и жалостью. У них скорее нет, может быть, бойцовских качеств, но у них есть и солидарность, и доброта, и удивительная способность к взаимопониманию. То есть сегодня Банев, оказавшись перед ними, был бы полностью безоружен, он не мог бы наговорить им даже гадостей.
В чём их недостаток — я пока не понял. Я пытаюсь найти в них какую-то уязвимость. В чём была уязвимость этих детей в «Гадких лебедях»? В чём уязвимость мокрецов? Они бесчеловечны. Помните, там: «Прошлое бесчеловечно по отношению к будущему. Будущее тоже не очень щадит, не очень считается с нашими интересами. Мы готовимся не к тому будущему, которое настанет, — это любимая мысль Стругацких. — Оно нас не пощадит, оно на нас наступит с хрустом». Поэтому такой ужас у него вызывает правильный, справедливый мир в «Гадких лебедях»: «Всё это очень хорошо, но не забыть бы мне вернуться». Эти новые дети — сегодняшние — они гораздо более милосердны. И я пока не понял, в чём их фишка, в чём их слабость. Я пытаюсь это понять.
Смотрите, во-первых, у них потрясающее взаимопонимание, которого не было у нас. Мои студенты из разных институтов, встречаясь иногда… Ну, я устраиваю какие-то коллективные встречи им. Вот только что на лекции Лизы Верещагиной, например, пришли. Очень хорошая была лекция по Флоренскому, удивившая меня во многом. Приходят дети из МГУ, приходят совсем молодые с «Прямой речи», приходят из педа, приходят из МГИМО, приходят из Creative Writing School Майи Кучерской — и они мгновенно устанавливают контакт и сидят, как будто между ними нет никакого барьера, они немедленно коммуницируют. Как это делается — я не знаю. У них нет даже периода принюхивания какого-то настороженного, у них сразу появляются общие слова. Они доброжелательны, в них мало зависти, они радуются успехам друг друга. И у них довольно высокая резистентность, они очень резистентные к пропаганде, они осторожно окружают холодом неприятного им человека. То есть, грубо говоря, на чём их можно подсечь, я пока не понял. Поэтому я довольно уверен в их будущем и думаю, что их не постигнет судьба «гадких лебедей».
«Как вы относитесь к творчеству Альдо Нове и его роману «Супервубинда»?» Я совсем не знаю итальянскую литературу. Ребята, простите меня все! Это потому, что я по-итальянски не читаю. Я знаю, что есть такой писатель, но эту «Супервубинду» я не читал.
«Как написать хороший рассказ/повесть/роман? Пять (три или одно, но — главное!) правил от вас».
Ну, знаете, для романа одни правила, для рассказа — другие. Повесть — самый трудный жанр, потому что промежуточный. Как написать хорошую повесть, я вообще не понимаю. У меня повестей-то нет ни одной. Ну, «Икс», наверное, формально повесть (хотя, по-моему, всё-таки это роман). Нет, не знаю. Как написать хороший рассказ — это понятно. Рассказ должен быть похож на сон. Как написать хороший роман? Я могу это объяснить, но всё равно надо талант иметь к этому.
Роман — это такое дело, которое требует очень чётко музыкального восприятия мира. Должны работать лейтмотивы. Всякий хороший роман — это система лейтмотивов. Понимаете, для того чтобы научиться писать романы (если это в принципе возможно), достаточно прочесть любую из «симфоний» Андрея Белого. Ну, проще всего, наверное, вторую — она считается самой простой, «Кубок метелей» (написана она была, по-моему, первой). Короче, там же у Белого как? Это такой опыт «стихопрозы» (термин Инны Кабыш). Фактически это проза, но эти рефренативные чередования — неравные, непериодические, когда возникает одна и та же строчка, одна и та же деталь, — задают почти поэтический ритм. Ритм — в прозе первое дело. Вот если вы это прочтёте и научитесь это дыхание передавать, то тогда вы можете писать.
И знаете, что, по-моему, сейчас нужно для хорошего романа? Один очень хороший роман, который я прочёл за последнее время, — это роман ленинградского писателя Сергея Уткина «История болезни». Книга настолько оригинальная, что вообще никто не берётся её издавать. Все хвалят, а никто не берётся. Это человек, который описал свою жизнь с невероятной степенью откровенности (примерно с той же, как у Зощенко в «Возвращённой молодости»), свою жизнь как историю болезни. Это сильный жанр и сильные описания. Мне кажется, что на синтезе авангардных техник и глубокой небывалой исповедальности, небывалой откровенности может родиться новый роман. Сейчас все боятся писать о себе. А всё остальное уже было, понимаете. Всё, кроме вас, уже было. Попробуйте написать роман о себе — и, может быть, это будет интересно.
Кстати, когда я у Матвеевой не так давно был в гостях… У меня были сильные сомнения по «Маяковскому», и я говорю: «Вот я боюсь написать про Русскую революцию, потому что обязательно кому-то не угодишь». И она мне дала совет, который мне очень понравился. Она сказала: «Попробуйте написать то, что вы на самом деле думаете, ведь вы всё равно этого не спрячете, это всё равно вылезет, попытка от этого уйти всё равно будет торчать». Вот и я хочу дать такой детский, дурацкий совет: попробуйте написать о том, что вы на самом деле есть — и тогда у вас получится роман. Но оформлено это должно быть, как литература.
Увидимся через три минуты.
РЕКЛАМА
Д. Быков― Продолжаем разговор. «Один», в студии Дмитрий Быков. То есть совсем не один, нас много. И чем больше я читаю интересных и увлекательных вопросов, тем мне веселее.
«Когда можно будет прочитать книгу о Маяковском?»
Книгу о Маяковском в марте можно будет прочитать. Но, если кому интересно действительно, приходите 28 января — будет у нас лекция… ну, не лекция, а это «Быков вслух», такая есть серия, и там я буду читать Маяковского и буду читать три главы из этой книжки. Я ещё пока не очень знаю какие. Наверное, я прочту главу про Ходасевича, она мне кажется такой весёлой. Наверное, главу про Брюсова, потому что мне кажется, что я там допёр до очень важной мысли: я понял, почему Маяковскому так безумно не понравилась брюсовская версия «Египетских ночей» — он просто там узнал себя и свою ситуацию. Конечно, Брюсов ничего-то не знал, но Маяковский увидел в этом грязный намёк.
Что касается самой книги. Понимаете, она тоже приобрела для меня в какой-то момент характер наваждения, и я хочу туда вписать и то, и сё. Я не могу от неё совершенно оторваться. Силком у меня её вырвали, и теперь уже, хочешь не хочешь, ничего с ней не сделаешь — только править опечатки. Я боюсь, что она многих разочарует, потому что там почти совсем нет ничего про связи Бриков и ГПУ. Это мне неинтересно. И я, честно говоря, думаю, что и связи эти сильно преувеличены. Осип там поработал какое-то время. Ну что? Чекисты ходили вообще в салоны всегда. Блюмкин ходил в «Кафе поэтов», Агранов ходил к Лиле. Чекисты тянулись к прекрасному — отчасти потому, что хотели это контролировать, а отчасти потому, что им было просто интересно. Это же были такие провинциальные люди, дотянувшиеся до возможности общаться с первыми людьми государства, лучшими людьми государства.
И потом, я боюсь, что там все будут разочарованы ещё тем, что там нет ничего плохого про Лилю. Мне кажется, что Лиля — это такой сложный гибрид. В сущности, в ней все любили Осю, любили Осины черты. Как Пунин сказал: «Муж оставил на ней сухую самоуверенность». И не просто самоуверенность, а он научил её выглядеть умной. Сам-то он был умным, а её научил казаться. Поэтому как бы сухой парадоксальный мужской ум в сочетании с такой женской притягательностью — это и делало её кумиром. Но она была женщина неглупая. И, в общем, она Маяка всё-таки любила, и любила по-настоящему, как видно из посмертных её записей о нём (то, что она писала в 1930–1931 годах). Конечно, она не принадлежит к числу приятных людей, но и он не принадлежал. Модернисты не бывают приятными людьми, это авангард. Ну, обо всём этом поговорим.
Вот очень хороший вопрос, мне очень нравится: «А для Зильбертруда (Быкова) служба этим кровавым мировым людоедам, пендосикам — это хобби извращенца, или вы просто банально не доедаете, а пендосики своих холопов хорошо содержат? Да ещё вон и всякие «литературные» премии выдают в виде бонусов. А, может, вами, Зильбертруд, движут всякие ценности вечные? Обалдеть!»
Виктор, подписавшийся victor_x, дорогой аноним, конечно, мною движут вечные ценности! И то, что действительно «обалдеть» — это вас мучает. Поэтому вы хамите, поэтому вы слушаете ночью эту передачу вместо того, чтобы спать. Вас это мучает! А вы не мучайтесь, попробуйте расслабиться. Ну? Попробуйте заиметь сами какие-нибудь ценности, кроме оголтелой ненависти ко всем. Ваша жизнь сначала, может быть, усложнится, потому что, знаете ли, мучителен этот процесс преодоления своего несовершенства, но потом вы начнёте наконец спать по ночам и перестанете писать гадости. Я совершенно искренне сострадаю вам, потому что — ну каково вам на меня смотреть и осознать, что у меня есть эти ценности? И главное — каково вам думать, что у вас их нет и что вы поэтому хуже! Ну, ничего не поделаешь — да, вы хуже. Не потому, что я служу пендосикам. Я получаю рублёвую зарплату, работаю в России, и пендосики здесь совершенно ни при чём. Да и выдумали вы этих пендосиков, собственно говоря. Они зачем-то вам нужны для объяснения ваших трагедий, неудач и вашей, может быть, болезни? Ну, ничего не поделаешь, это ваш фантом.
Просто я вам хочу предложить способ излечиться от этой муки: ну попробуйте стать чем-нибудь! Тогда и люди к вам потянутся, и, может быть, у вас появится смысл. Потому что пока при виде этого страдания, этой муки… Ну, я пытаюсь с вами что-то сделать, а вы не хотите! Более того, вы приходите в сообщество приличных людей и начинаете вонять. Зачем вы это делаете?! Можно же жить совершенно иначе, можно распространять другие запахи.
«Хочу продолжить дискуссию по вопросу поиска Бога через падение. Такого мнения придерживался далеко не один Достоевский, — да, увы. Разве у Лескова в «Очарованном страннике» по-другому? — да, по-другому. — Или в фильме «Остров» Павла Лунгина. Вообще это общепринятая точка зрения для православия, — нет, не общепринятая. — Неспроста только у нас, православных, было распространено юродство. Что это как не падение в поисках Бога? Ваша же точка зрения ближе к католицизму».
Может быть, и ближе. Я много раз слышал, что любой поиск смысла — это католицизм; что и Бердяев — это католицизм, что и Чаадаев — это католицизм, а Гоголь так вообще чуть не перешёл в католицизм, потому что ему в православии, как мы знаем, многое не нравилось, и православие обрушилось страшно на «Выбранные места».
Ребята, что я вам хочу сказать (и вам конкретно, дорогой akrivcov)? Юродство — это не падение. Юродство — это самоуничижение, это фиглярство. Но поиска святости через грех в юродстве нет — вот это важно помнить. Это первое. Это всеобщее поругание. А во-вторых, как раз вот это и не устраивает меня вообще-то в очень хорошем фильме «Остров», что там в герое слишком много юродства, и это юродство злое, как мне кажется. Я в этом герое вижу очень много измывательства над людьми (как и в Мамонове самом). Они, может быть, этого и заслуживают, но юродивые не издеваются, юродивые занимаются самопоруганием, а это немножко другое. А в этом герое я вижу очень много, к сожалению, и спеси, и гордыни, и насмешки. Не очень приятный это герой. Хотя фильм хороший, какое-то чудо есть в этом фильме. Но, к сожалению, он немножко плосковат.
Вопрос от malgorzata, которую я нежно люблю: «Сложный «новогодний» вопрос: как вы трактуете «Ёлку у Ивановых»? Во второй части я вижу прямую типологическую связь с «Вальпургиевой ночью».
Понимаете, «Ёлка у Ивановых» тем и хороша, что там можно увидеть абсолютно всё. Там можно увидеть при желании, наверное, и связь с «Вальпургиевой ночью» Ерофеева. Там можно увидеть Беккета. Можно увидеть замечательную догадку о фильме Паркера, где все взрослые роли играют дети. Забыл, как называется… «Багси Мэлоун»! Наверное, можно это увидеть. Помните, когда в прологе перечисляются действующие лица, там четырнадцатилетний мальчик, двенадцатилетний мальчик, семидесятидвухлетний мальчик и так далее. Всё можно увидеть. И в этом смысле огромное преимущество обэриутства. Эта пьеса очень открытая для трактовок любых. Мне в ней видится, могу вам сказать честно, грозное предупреждение о нарастающем абсурде. И если я с чем и усматриваю связи, то скорее с рассказом Сорокина «Настя». Невинное застолье, перерастающее в кровавую оргию — вот это я вижу. Я не думаю, что здесь есть связь с Ерофеевым, с «Шагами Командора», но интонационная близость безусловное есть, здесь вы совершенно правы.
Кстати, я сейчас просматриваю просто эту пьесу, вот она тут передо мной. Ужасно мне нравятся все эти монологи городового, такие традиционные, это очень хорошо. Вот когда в няньке просыпается жертва (эта убитая девочка), и она начинает её голосом говорить:
Служанка: Я стучу руками. Я стучу ногами. Её голова у меня в голове. Я Соня Острова — меня нянька зарезала. Федя-Фёдор, спаси меня.
Прекрасный такой чёрный юмор! «Ёлка у Ивановых» — это и есть вся картина русской жизни XX века — страшное Рождество, превратившееся в оргию; всё казалось Рождеством, а оказалось кровавым буйством. Ну, то, что здесь есть врачи и санитары, не делает вещь ещё похожей на Ерофеева. Но ещё раз говорю: интонационно все эти абсурдные штуки прочно завязаны.
Служанка: Твоя невеста убила девочку. Ты видел убитую девочку? Твоя невеста отрубила ей голову.
Фёдор (квакает).
Прекрасно! И вообще Введенский талантливый был человек.
«Вы как-то говорили, что для нравственности Бог не нужен». Ну, я говорил не это. Я говорил, что Бог не связан напрямую с моралью, вера не связана с моралью. «А нужен ли Бог для существования после смерти? Будут ли там такие вещи, как любовь и творчество, похожие на земные? И обязательно ли человеку иметь преставление о загробной жизни?»
Человек не может иметь представления о загробной жизни. Мне очень нравится замечательная реплика Хармса: «Ваше положение в настоящую минуту таково, что понять вам его невозможно». Есть вещи, которые невозможно понять. И вы не можете иметь представление о загробной жизни. Вы можете иметь пожелания. Возможно, они будут услышаны. Возможно — нет. Но знать совершенно необязательно. А нужен ли Бог для существования после смерти? Нет. Он нужен для того, чтобы при жизни не совсем отчаяться. Я в последнее время замечаю, что как-то Бога вокруг всё больше. Людей всё меньше, а Бога всё больше.
«Не припомню ваших оценок по поводу Фаулза».
Что я могу сказать? Больше всего из написанного Фаулзом я люблю два тома его «Дневников», изданных по-английски (по-моему, выходили и по-русски, какие-то куски). Это самая напряжённая, самая для меня важная, самая исповедальная часть его прозы. Может быть, это моя вечная тоска, как уже было сказано, по прозе исповедальной. А что касается его романов. Вы сейчас будете, конечно, тоже меня все топтать. Я больше всего люблю «The Collector» («Коллекционера»), потому что в нём самый неразрешимый конфликт. Я не очень люблю «Волхва». То есть я с наслаждением его перечитываю, это хорошая книга, но мне не очень понятен общий его замысел, и я не очень понимаю, что такое Кончис, какую «гностическую мясорубку» он имеет в виду. Его представление о Боге мне не совсем понятно, довольно банальным кажется вывод оттуда. Мне кажется, сама вещь интереснее, чем её смысл. Хотя там прекрасные эротические эпизоды. А вот «The Collector» («Коллекционер») мне нравится безумно, потому что там два неприятных человек: она неприятная со своим снобизмом, и он просто маньяк. И, естественно, что ни он не может её спасти, ни она его. Это жестоко. Я люблю неразрешимые конфликты.
«Что вы думаете о «Стране вина» писателя Мо Янь?» Ничего не думаю. Не понравилась книга абсолютно, чужой мир совершенно.
«Глядя на бутылки, я понял, что вы разбираетесь в выпивке, — ну, я же не пил, пили-то другие, да и не покупал я. — Ваше отношение к виски? Есть ли предпочтения?»
Я из всего спиртного пью только абсент (очень редко и в очень незначительных дозах), потому что это единственное спиртное, которое мне представляется абсолютно чистым и не даёт похмелья никакого. А вообще-то я, к сожалению, совсем с этим делом завязал, вот завязал совсем. И знаете, почему? Потому что стал как-то очень плохо себя чувствовать на утро, и плохо не физически, а морально — муки совести и все дела. И мне Аксёнов объяснил, что не надо этого делать — и я с тех пор не делаю.
«Иисус Христос — суперзвезда» — это постмодернизм или это некая интерпретация Евангелия (может быть, инфантильная)?»
В моей концепции — безусловно постмодернизм. Потому что для меня постмодернизм — это когда массовое искусство овладевает техниками, мыслями и идеями высокого. Это нормально — «идея, брошенная в массы», как у Губермана. Мне нравится это. Это иногда хорошо. Понимаете, «И корабль плывёт…» Феллини — это модернизм, а «Титаник» Кэмерона — это постмодернизм; это «И корабль плывёт…», поставленный на широкую ногу с большими спецэффектами, с гораздо более примитивным смыслом и без носорога. Вот так и здесь. Антониони — модернизм, Вендерс — постмодернизм. Было очень интересно, когда Вендерс работал вместе с Антониони в фильме «За облаками». Мне интересно было, что́ победит. Победил Антониони, безусловно — получилась загадочная, мрачная, аутичная картина. Вендерс был просто его руками, отчасти его голосом, а придумал и мизансцены построил Антониони. Это очень видно. Особенно, помните, когда там качели в пустыне — вот это ну таким Антониони повеяло! Я его не люблю, но я при этом так им восхищаюсь! Вот это — да, модерн.
«Каково, на ваш взгляд, будущее русской поэзии? Будут преобладать верлибры, нарративная поэзия и стихи, написанные дольником, или классическая метрика?»
Будет всё. Русские верлибры должны быть немного другими. Понимаете, в них должны быть всё-таки какие-то созвучия. Это то, что писал Иван Киуру, на мой взгляд, Царствие ему небесное. Ну, такие верлибрические вещи, чтобы там всё-таки сохранялись приметы классического стиха — рифмы, созвучия, лейтмотивы те же и так далее.
«Многие современные поэты критикуют стихи Блока за недостаточную техничность».
Знаете, дай бог всем современным поэтам такую техничность, как у Блока. Блок просто очень хорошо писал стихи. И то, что у него кажется наивностью…
Не могу тебя не звать,
Счастие моё!
Имя нежное твоё
Сладко повторять!
Вы сначала добейтесь такой простоты. Некрасов, которому тоже говорили: «Как у вас вообще всё просто и недостаточно технично», — всегда отвечал: «Будет просто, как сделаешь раз со сто». Некрасов как раз свою простоту обрёл в результате колоссального тренинга. Посмотрите, «Мечты и звуки», 18 лет автору — уже очень совершенная по стиху книга. А уж «Мороз, Красный нос» — это просто запредельное мастерство! Я когда на него смотрю и смотрю на нынешних — ну, это просто канатоходец над клоунами. Блок настолько техничный поэт, что куда там нам…
«Что вы думаете о творчестве Софьи Парнок?»
Я сейчас поеду смотреть савиновский архив. Слава богу, получил я разрешение от Южнокаролинского университета [Университета Северной Каролины] в Чапел-Хилле. Там лежит архив Савина, и там лежит достаточно большая часть цветаевского архива, и там лежат некоторые стихи Софьи Парнок, которых, как мне кажется, я не знаю (и вообще мало кто знает). Вот там я собираюсь посмотреть. В принципе, то, что я знаю пока, производит впечатление крайней неровности. Это и понятно, потому что там некоторая неопределённость гендерная, как мне кажется, неопределённость стилистическая. Очень бродящий поэт, очень разный. Но были у неё и замечательные стихи, конечно, а особенно последние, вот эти все посвящения её седой розе. Это прекрасные тексты, трагические, глубокие. И она вообще человек большой и очень печальной судьбы.
«Доброй ночи и хорошей передачи! — вам тоже. Как вы относитесь к зарубежным сериалам? Смотрели ли вы «Страну ОЗ»?»
«Страну ОЗ» смотрел — она мне не понравилась. Могу подробно объяснить почему, но Василий Сигарев и так меня очень не любит. Зачем мне доставлять ему отрицательные эмоции? Мне показалось, что несмотря на отдельные чрезвычайно смешные куски… Там по крайней мере два смешных куска в этом фильме есть, пересказывать их не буду. Понимаете, они смешны в основном за счёт лексики обсценной. Сама по себе она довольно смешная, весёлая, но как бы это не Сигарев придумал. В остальном кино Сигарева мне представляется, к сожалению, довольно однообразным. Какой-то прорыв был, по-моему, в фильме «Жить» — и то всё ушло в быт. Прорывы были фантастические. Я же ценю всё-таки в искусстве то, чего не бывает. В общем, мне не очень понравилось. Что касается зарубежных сериалов, то я ничего в этом не понимаю. Ребята, правда, я их не смотрю, у меня нет времени их смотреть. Это не тот род искусства, который на меня рассчитан. Я лучше почитаю какую-нибудь толстую зарубежную книжку.
«Прочитал я недавно «S.N.U.F.F.» Пелевина, пожал плечами и забыл. А потом посмотрел: это написано в 2011 году! Уж больно точные факты: Уркаина, Оркская Слава (то есть Славянск), даже имя главного героя — Грым. И вот я подумал: или Пелевин гениальный предсказатель, или всё настолько предсказуемо, а я тупой».
Нет, вы не тупой, но ничего особенно предсказуемого там нет. Грым — это же не Крым. А каламбур на тему Украины, Уркаины, Окраины и так далее — тоже ничего нового в этом нет. «S.N.U.F.F.» написал про другое. «S.N.U.F.F.» — это как раз роман об искусственных женщинах, искусственном интеллекте, технологиях, о том, как искусственная жизнь будет вытеснять реальную. А намёки на Украину, которые там есть… Ну, может быть, какие-то волшебные интуиции посещают иногда Пелевина. Очень умные люди предсказывают всё, но, вообще-то, крымскую войну не предсказывал в последние пять лет только ленивый.
«Можно ли продолжить вашу теорию реинкарнации поэтов на деятелей русского рока?»
Наверное, но трудно очень, я не настолько знаю русский рок. То, что БГ — какая-то инкарнация Вертинского — может быть, но он гораздо талантливее Вертинского, гораздо интереснее. Ну, такой Пьеро. И Вертинский был Пьеро, и БГ — безусловно, такой трагический, насмешливый Пьеро русского авангарда. Но думаю, что у Бориса Борисовича более глубокие корни (и далеко не только русские).
Проблема в том, что русский рок — это явление в огромной степени западное, то есть под западным влиянием он находится. И какие там русские инкарнации, и как они устроены — представить очень трудно. Их нельзя рассматривать только как поэтов. Совершенно правильная мысль Александра Зотикова, что они наследуют футуристам, наследуют многим футуристическим практикам. Грех сказать, у меня в книжке про Маяковского есть такое определение: «русский футуризм — это искусство хамить публике за её деньги». В этом смысле, наверное, русский рок немножко похож.
«Вы не ответили на вопрос о Юрии Слепухине. Если вы знакомы с его творчеством, то как к нему относитесь?»
Юрий Слепухин был выдающимся прозаиком очень трагической судьбы. Он успел побывать в плену, успел пожить в Аргентине, успел вернуться в Россию. «Южный Крест» — замечательный роман. Нет, он очень хороший писатель, действительно настоящий. Говорят, у него были прекрасные стихи. Упомянутый мною Сергей Уткин, хороший ленинградский… петербуржский писатель, он о нём знает больше. Насколько я знаю, скоро он будет о нём лекцию читать.
«Ваше мнение о стихах Екатерины Горбовской?» Я очень любил ранние стихи Екатерины Горбовской. Например:
Медленно ползёт
Лифт меж этажей.
Очень мне везёт
На чужих мужей.
Прислонюсь к стене
И кусаю рот,
Потому что мне
Вообще везёт.
Помню, как Олег Хлебников (тогда двадцати с лишним лет) восклицал: «Как дан жест прикуса!» И действительно «вообще везёт» — видно, что рот прикушен. Или эти замечательные стихи дрессировщицы:
Пока я молодая,
Я слишком уж худая.
Когда я разбабею —
Они меня съедят.
В общем, вернёмся через три минуты.
НОВОСТИ
Д. Быков― «Оди́н», «Оди́н», а не «О́дин». «О́дин» — это всё остальные, а мы ребята поскромнее. Ну, поотвечаем ещё, а в последние полчаса к лекции перейдём.
«Дмитрий Львович, в отличие от вас, я не только допускаю, но и предполагаю в ближайшем будущем начало нового периода репрессий. Мне кажется, что наши Троцкий, Промпартия, Бухарин, Зиновьев, Рыков — все уже определены. И Берия наш на месте, и Ежов с Ягодой. Только с деятелями культуры имеются трудности. Кто будет Мейерхольдом, а кто Толстым? Кому трёшечку, а кому — госпремию? Как вы думаете сами? Кто будет доносики писать, кто — табуретки вышибать, а кто — на собраниях председательствовать? Неужели вы честно-честно, совсем честно этого не допускаете?»
Да допускаю-то я всё. Россия — страна неограниченных возможностей. Просто мне кажется, что всё это уже было — во-первых. А во-вторых, век нечётный, а нечётные века у нас традиционно менее зверские. И в-третьих, понимаете, мне кажется, что сейчас не 30-е годы на нашем календаре, а сейчас 40-е. Репрессий это не отменяет, конечно. Они будут, они возможны. А кого они коснутся — не знаю. Доносики уже пишут вовсю. Отдельные литераторы уже пишут: «Что это вы моих соратников, собратьев и прототипов сажаете? Вы же «пятая колонна»! Вы что, забыли, где они? Вам показать?»
Конечно, полно желающих. Просто я к тому, что такие вещи не делаются спустя рукава. К сожалению, все роли играются очень плохо, с подмигиванием — и вот это мне не нравится. Нет серьёзности должной, не чувствую я серьёзности. Да и потом, тогда же всё-таки… Понимаете, настоящий страх возможен в герметической стране и с определёнными целями. Нужна масштабная утопия, чтобы был масштабный страх. А сейчас никто в это не верит. Конечно, можно всех пересажать. Можно всех убить, можно всех изнасиловать. Это легко. Я просто хочу сказать, что это удовольствие вообще для немногих. Не очень многие люди получают от этого наслаждение.
Конечно, многое сделал Владимир Путин для деградации населения страны, это его персональная заслуга. И пусть никто не надеется, это не будет забыто. Но при этом и страна сама много сделала тоже — и для его деградации, и для своей. Но всё равно даже среди этой деградации я не вижу людей, которым бы зверство доставляло наслаждение. Их немного. Может быть, каким-то каналом для них послужила Новороссия, но тоже не так много пассионариев туда поехало. Сегодня Россия тем и ужасна (тем и прекрасна, с другой стороны), что в ней по-настоящему масштабные страсти, предполагающие масштабные зверства, невозможны. Именно поэтому я так серьёзно боюсь, что никто не сумеет её вытащить из этого болота достаточно долго, потому что тут нужны сознательные усилия. И нет готовности ни к зверству, ни к труду, ни к мерзким эмоциям, ни к благим.
«Если вы понимаете Платонова, как вы можете идеализировать коммунизм? Это немыслимо».
Какое отношение Платонов имеет к коммунизму? При чём здесь это? Платонов описывает коллективное русское тело. Если угодно, это писатель, рассказывающий о соборности. Есть коллективное русское тело, которое всё время стремится испытать состояние плазмы, ионизироваться, слиться, перейти в другое состояние, и оно использует для этого любой предлог. Иногда возникает ситуации насильственные, ситуации насилия, но насиловать эту русскую стихию нельзя (об этом написан «Котлован», об этом «Епифанские шлюзы»). Силой сделать ничего нельзя. Может быть своя утопия («Чевенгур»). Это переход в другое состояние, в котором причинно-следственные связи отсутствуют, в котором природа, мир другой. К коммунизму это всё не имеет отношения.
«Как вы справляетесь с планированием времени?» Не трачу его на ерунду всякую.
«Читаю вашу книгу об Окуджаве, и вот какая мысль меня посетила, — спасибо. — Перегруженность филологическими терминами имеет ли под собой определённую цель? Может быть, это способ заставить читателя больше узнавать в процессе?»
Клянусь вам, что это не нарочно. Ну просто я так думаю, я так говорю. Моя бы воля — я писал бы проще. У меня есть вещи, написанные проще. В книге об Окуджаве я разбирался не с читателем, а с собой. Я в значительной степени состою из цитат из Окуджавы, его мыслей, его прозы, не только песен. Я пытался отдать себе отчёт, почему это так на меня действует. Это книга о своём, а о читателе я, к сожалению, мало думал.
«Как вы понимаете «Нос» Гоголя? Это так хулиганят/оттягиваются/шутят? Как «Нос» соотносится с «серьёзными» произведениями автора?»
«Нос» — очень серьёзное произведение. О соотношении носа и пениса у Гоголя написаны тома, в частности очень хорошо Набоковым. Есть замечательный спектакль Някрошюса, где как раз они местами поменялись. Там ещё этот сбежавший орган был на Ленина очень похож. Ну, смешной такой капустник.
Но если говорить серьёзно, то это вообще серьёзный текст. Этот текст о том, что нос может получить гораздо больше прав, чем конкретный человеком, и быть носом лучше, чем быть человеком. Целое всегда уязвимо, а сбежавшая часть всегда… Вот Ковалёву того только и не хватало для счастья, чтобы он стал носом. Понимаете, носу легче дослужиться до чинов, чем человеку. Это такая довольно весёлая история. Сравните это с «Носом» Акутагавы, который идею вывернул наизнанку. Вот есть две таких книги… не книги, а два рассказа у Акутагавы, которые являются своеобразным оммажем Гоголю и выворачиванием его наизнанку. Первый — это «Нос», любимый мой рассказ Акутагавы, в гениальном переводе Аркадия Стругацкого. А второй — «Бататовая каша», очень забавный вариант «Шинели». Почитайте, это забавно.
Опять хотят о Вадиме Шефнере. Будет потом, как-нибудь.
«В воскресной передаче на «Эхе» Веллер «наехал» на Умберто Эко, объявив, что автор «14 признаков ур-фашизма», — ну, имеется в виду эссе «Вечный фашизм», — называет всех консерваторов и традиционалистов фашистами, так как два признака ур-фашизма — это консерватизм и традиционализм. Не кажется ли вам, что Веллер перегнул палку?»
Да нет. Я думаю, что просто Веллер действительно не совсем то имел в виду. У Умберто Эко два главных признака фашизма: архаизм — с одной стороны, и эклектизм — с другой. И вот это очень важно, не всякий архаизм туда попадает. Хотя, на мой взгляд, главный признак ур-фашизма (ещё раз говорю, Эко не назвал) — это греховное наслаждение, sinful pleasure, нарушение конвенции при полном сознании происходящего. Но это всё неинтересно, это слишком очевидно. Веллер прав в одном: действительно консерватизм слишком часто отождествляют с фашизмом, поскольку иногда это ценности здравого смысла. Такое бывает, да. И Честертона называли фашистом. Эзра Паунд говорил, что Честертон — это и есть толпа, это олицетворение толпы. Честертон как раз этой проблеме (мы будем потом говорить об Уайльде и Честертоне) посвятил жизнь: каким образом отделить консервативные ценности, традиционные ценности от ценностей агрессивного невежества и садизма? Каким образом защитить то, что он называет «добрым порядком», например, от аналогии с Муссолини? Которого, кстати говоря, он поначалу даже поддерживал, чего уж там говорить, были свои грехи и свои ошибки. Поэтому то, о чём вы сказали, — это болезненная проблема, но, к сожалению, пока ещё никто её не разрешил.
«В декабре 2015 года начал свою жизнедеятельность фонд поддержки Каравайчука, — я начинаю отвечать на письма. — Фонд создан по просьбе друзей Олега Николаевича. Мы будем рады подарить вам пластинку, — спасибо! — Мы решили воспользоваться вашей благожелательностью и попросить вас написать текст о Каравайчуке и рассказать о Каравайчуке в вашей программе».
Понимаете, Настя, я не музыковед, и мне трудно вам обещать, что это будет адекватно. Я не знаю, в какой традиции работает Каравайчук. Каравайчук не просто гениальный пианист, знаменитый вундеркинд, но это ещё и великий композитор, действительно великий, мой самый любимый. Почему я его люблю? Многие говорят, что Каравайчук похож на минимализм, и его любят люди, которые любят и Филипа Гласса тоже. Нет, я бы так не сказал.
Каравайчук — это необычайно чистый и необычайно трогательный звук, я бы сказал. Если кто-то знает его киномузыку (кстати, достаточно серьёзную), то это и весь «Монолог», вообще все фильмы Авербаха, это гениальная тема из «Чужих писем», это две знаменитые баллады, финальная баллада из «Коротких встреч» (помните, с апельсинами) и две небольших баллады из «Долгих проводов». Трудно сказать. Гениальная трагическая фортепианная музыка, очень виртуозная.
Понимаете, он на меня произвёл такое же впечатление (но с поправкой на его и на мой масштаб), как Шопен и особенно Скрябин на Пастернака. Почему Пастернак так любит Скрябина? Ведь невозможно же понять из «Охранной грамоты», что такое Скрябин. Новый пианизм, да. А вот что это за новый пианизм? У Каравайчука всегда есть сочетание изумительно мелодичной, хрустальной основной темы и довольно хаотичного, мрачного фона, который эту тему преследует и теснит. И это отражение того, что всегда во мне происходит, поэтому я очень люблю его слушать.
И потом, некоторые темы Каравайчука такой невероятной красоты! Просто это красота невероятная! Ему сколько сейчас? Кажется, 87 лет. Он продолжает активно гастролировать, концертировать. Вот именно чистота, он не переносит фальши никакой, он абсолютно чист. Хотя Наталия Рязанцева очень точно определила его как гениального безумца, гениально имитирующего безумца, хитрого безумца (на самом деле он человек, конечно, абсолютно нормальный). Конечно, в нём есть и богемность, и старательная имитация сумасшествия (просто чтобы от дураков отделаться), но музыка его — это музыка изумительно чистой души, погружённой в этот хаос XX века.
Я очень люблю всю его музыку, а особенно (вот вышел его диск «Вальсы и антракты») «Вальс Николая II», «Вальс Екатерины с фаворитами», композиции на тему «Сулико». Понимаете, у него фортепиано звучит действительно с какой-то хрустальной чистотой невероятной. И кроме того, конечно, вот эти навязчивые повторяющиеся (тоже минималистские, конечно), циклические мотивы, как «Марш оловянных солдатиков» в «Монологе», когда он положил металлическую линейку на струны рояля и добился этого жестяного звука, вот эти страшные монотонные повторы жизни, которая бьётся где-то за окнами, — это тоже мне очень близко. Вы знаете, Каравайчук похож на Блока. Страшный мир, а в этом страшном мире то, что Ахматова назвала «трагический тенор эпохи», а я назвал бы «хрустальные верхние ля эпохи» — вот это Каравайчук. Послушайте, его довольно много лежит в Сети. Это то, что я могу о нём сказать.
«Ваше отношение к фильму «Иди и смотри». Стоит ли показывать его детям?»
Видите ли, смотря каким детям. Мне говорили об этом фильме, что это попытка Климова доказать «а я могу сильнее», по сравнению с фильмом Шепитько «Восхождение». Я не думаю, что такие мотивы им двигали и что у него была (он же был мужем её, вдовцом) какая-то ревность к её славе. Я считаю Климова, честно говоря, гениальным режиссёром. Я считаю, что он сделал великий фильм «Агония» и ещё гораздо более великий фильм «Прощание», который просто я пересматриваю бесконечно и нахожу в нём новые и новые глубины. Великая роль Петренко, в обоих фильмах он сыграл.
Что касается «Иди и смотри». На некоторых детей, духовно зажиревших и не понимающих вообще страданий, не понимающих, что такое война, это действует, как ледяной душ, как порез. Однажды я видел пьяную компанию подростков, которые зашли посмотреть этот фильм. И я видел, какие они вышли с него. А уйти не могли они, досидели до конца, потому что это цепляет. И видел я совершенно другую реакцию. Вот мать моя, например, говорит, что это находится за гранью искусства. На меня этот фильм так подействовал, что я просто проехал свою остановку, возвращаясь из кинотеатра «Звёздный», потому что я был в трансе абсолютном.
Это, конечно, не для слабых нервов. Если ребёнок может это выдержать, если вы уверены, что он после этого не будет орать по ночам, и если ему зачем-то нужно вот такой шок пережить — посмотрите. Я думаю, что это самый страшный фильм в истории кинематографа. Сравнить его я могу только с китайской картиной «Человек за солнцем» (она же — «Отряд 731»), которую я запретил своим студентам смотреть. Естественно, все они её после этого посмотрели. И надо сказать, что это на них подействовало очень нехорошо. Я не советую вам это смотреть, честно скажу.
«Прочёл биографию Алистера Кроули из серии «Жизнь запрещённых людей» и до сих пор не понимаю, почему Голливуд не снимет о нём фильм, ведь это же было бы шедевром».
Видите ли, какая штука. Мне кажется, что про Кроули есть фильм. Но дело не в этом. Алистер Кроули и его биография мне менее интересны, чем его проза. Понимаете, вот он был великий писатель, и я в этом абсолютно убеждён. Я прочёл сборник его рассказов, сравнительно недавно вышедший в Англии (они не переведены), и понял: всё, что он вытворял в своей жизни, было таким способом писания прозы; он так организовывал свою жизнь, чтобы это становилось литературой. Он абсолютно великий писатель. Некоторые его рассказы и смешные, и страшные, и очень парадоксальные. Ну, это великие тексты. И романы у него, знаете, неплохие. Вот эта исповедь наркомана… Забыл, как называется роман. Там про курильщика опиума. Да практически всё. У него три романа, по-моему, и они все очень неплохие. Но я предпочитаю рассказы. Вот эта книга рассказов Кроули, которая недавно вышла.
Понимаете, большинство знает о Кроули то, что он дал какому-то из своих учеников выпить чашку кошачьей крови — и после этого ученик умер. А кто-то знает о нём ещё то, что он был шарлатаном. Наверное, он был шарлатаном, да. Но интересно в нём не это, а интересно, что он замечательный мастер сюжета, мастер атмосферы, что у него прекрасный сардонический юмор. Он, наверное, сравним с Менкеном, по интонации это довольно очевидно, но при всём при этом мы любим его не за это. Все разговоры, что он чёрный маг и сатанист — клянусь вам, что это всё исключительно его собственная мифология. Ну нет в нём этого всего! Я просто в этом убеждён. Потому что такой талантливый человек не мог бы быть злодеем.
Говорят (я посмотрел в Сети), что он действует в фильме «Наследие Вальдемара», что он действует в сериале «Сверхъестественное». Что касается его книг о магии — по-моему, этому всему верить совершенно невозможно, потому что это всё опять-таки часть авторской мифологии. Роман «Лунное дитя» хороший (он, кстати, переведённый). Он бывал в России, тоже небезынтересная страница его жизни. А что касается его отношения к картам Таро и к масонству, то это всё опять-таки, мне кажется… Как совершенно правильно написано: «Он проводил большую часть своего времени, старательно зарабатывая имидж аморального человека». А вот рассказы я вам очень рекомендую. По-моему, это действительно великий автор, хотя и не лишённый, конечно, некоторой вредности.
Далее следуем.
«Что вы можете сказать о стихах и песнях Лаэртского? Вроде так просто, а при этом и не спародируешь». Лаэртский — это как раз замечательное продолжение обэриутской традиции, смешной и страшной, детской. Вот ужас детства, как он дан в «Ёлке у Ивановых» (помните, «Дети хоронят коня»). Лаэртский — типичный обэриут.
«Вы обмолвились о возможности лекции про Ленина. Будет ли она?» Я сейчас с огромным нетерпением жду книгу Льва Данилкина о Ленине. Я всю жизнь сам мечтал это сделать, но очень рад, что это делает он. Давайте сделаем лекцию про Ленина, если вам интересно. А вообще почитайте наш с Максим Чертановым роман «Правда», там всё написано.
«Купил книгу «Сто имён Серебряного века» и не обнаружил там Елизаветы Кузьминой-Караваевой. По каким критериям она не подходит?»
Я думаю, что Кузьмина-Караваева (она же мать Мария) проходит в антологиях как представитель русского Серебряного века, но зарубежья, как представитель русской эмигрантской поэзии. В самом Серебряном веке, то есть до 1929 года, как я отмечаю, она не так много выпустила. И книга «Скифские черепки» не самая характерная. Лучшие свои стихи она написала в 30-е годы. Вот это:
Сопряжены во мне два духа, —
Один спокойно счёт ведёт:
Сегодня горечь, завтра мёд,
Всему есть мера, есть и счёт…
И стукают костяшки глухо…
Другой, — несчётный и бродяга,
Слепых и нищих поводырь.
Ну что ж Пустырь, так чрез пустырь,
Сегодня в даль, а завтра в ширь,
А послезавтра в небо тяга.
Лучшее она написала в эмиграции. И вообще я прочёл недавно — говорят, что мать Мария вовсе не перешивала свой номер на робу другой заключённой, не пошла за неё в газовую камеру, а умерла от дизентерии. Так ведь неважно, как было на самом деле. Важно, что про мать Марию — про русскую святую — такую легенду сложили, а про другого не сложили. Важна та легенда, которую про вас сложили. Вот это, по-моему, очень величественно.
«Литературное рок-кабаре «Кардиограмма» Алексея Дидурова — что значило оно для вас?» — спрашивает Даша Рубанова.
Как вам сказать? Так сразу и не скажешь. Вообще настоящий культ литобъединений существует в Петербурге. В Москве сколько-нибудь значимых литобъединений было три: «Зелёная лампа» в «Юности» Ковальджи, дай бог ему здоровья; Левин с «Магистралью» при ДК железнодорожников; и Волгин с «Лучом» при МГУ. В основном Москва не город ЛИТО, литобъединений. Вот Дидуров создал московский жанр — синтез концерта, литобъединения, рока, тусовки. У нас и рок-клуба ведь не было. Понимаете, почему-то Москва — это город, в котором люди не очень охотно слепляются друг с другом, в котором трудно создаются среды. В Новосибирске клуб «Под интегралом» — запросто. В Петербурге — рок-клуб. Сколько бы ни говорили, что рок-клуб на Рубинштейна был комсомольским, гэбэшным, нет, это была великолепная среда. А в Москве только одну такую среду я могу вспомнить, и это Дидуров, его рок-кабаре. Что это было?
Туда мог прийти любой. И если Дидурову или его худсовету, нескольким доверенным ему людям, доверившим ему людям, нравилось то, что человек пишет (как правило, мнения Лёши было достаточно), он получал трибуну. У него заводились поклонники, у него появлялась среда, он начинал читать, петь, постепенно становился звездой. Все сколько-нибудь заметные московские поэты 60-х годов рождения через это прошли: и Степанцов; и Добрынин, особенно мною любимый, и я считаю, что это просто поэт грандиозный; и Инна Кабыш, тоже поэт замечательный; и Владимир Вишневский, который, кстати, и в совете «Ровесников» тоже успел побывать; и Владимир Алексеев; и Виктор Коркия, которого я тоже считаю одним из крупнейших поэтов поколения, многие его стихи я просто наизусть знаю. Кстати, Виктор Платонович, если ты меня сейчас слышишь, я передаю тебе горячий привет и мою любовь!
Синяя роза, роза ветров!
Холод наркоза, железо в крови.
Бледные тени больничных костров,
в Летнем саду поцелуй без любви.
Пива навалом, а водки — вдвойне.
Деньги не пахнут, как розовый сад.
Кто не погиб на афганской войне,
пьёт за троих неизвестных солдат.
Дмитрий зарезан. Шлагбаум закрыт.
Хмурое утро Юрьева дня.
Русский народ у разбитых корыт
насмерть стоит, проклиная меня.
Ну, это невероятно! Это же 1979 год, ребята!
Вот меня тут спрашивают, что я думаю о Мальгине. Я очень люблю Мальгина. Но начинал он не как журналист, а как великолепный литературный критик, как один из открывателей в частности Коркии. Ведь когда Коркия написал поэму «Сорок сороков» или поэму «Свободное время», это было огромное событие. Найдите, попробуйте поискать в Интернете поэму «Сорок сороков» — ребята, вы будете потрясены, какая это поэзия! А это всё прошло через кабаре Дидурова.
Сам Дидуров был блистательным поэтом. И мы довольно много его читали, кстати, в новогоднюю ночь. Он был не просто литератором, а он был человеком, который умел восхищаться чужой удачей и создавать вокруг себя среду. Иногда он был совершенно невыносим. Вот Филатов, который гостил здесь в новогоднюю ночь и которого так любят читатели, весёлый и прелестный поэт, он с Дидуровым на моих глазах ну просто ссорился чуть ли не до драки, а особенно во время футбола (оба были заядлыми футболистами). И действительно, Дидуров играл только на себя, возможность отдать пас человеку, находящемуся в более выгодной позиции, была для него немыслима. Дидуров был очень спортивный. Он был каратист, он плавал великолепно. Его летний кабинет, его пляж в Серебряном бору… Все знали, где лежит Дидуров. Каждый день он там пролёживал и загорал. И туда приходили к нему молодые поэты читать стихи. И меня к нему когда-то туда привели, и мы с ним там довольно много проплавали.
Дидуров был страшно заряжен энергией, невысокий, очень красивый, очаровательный, в бабочке неизменной, как он точно он себе сказал, «гибрид кота и соловья», с такой хитрой кошачьей мордой, совершенно прелестный человек, замечательный драчун, великолепный поэт. Сейчас мало таких. Но вот посмертно вышедшая книга стихов просто развеяла последние сомнения. Дидуров — это был поэт того же класса, что и Сергей Чудаков, например, что и Вадим Антонов, ныне совершенно забытый, автор гениальных стихотворений, рассказов в стихах. У Дидурова очень плотные, насыщенные стихи, лексически плотные, фабульные всегда. Ну и песни, конечно, замечательные. Я до сих пор его все «Райские песни» помню наизусть:
Опять я трогаю рукой
Твой неостывший цоколь,
А сердце, полное тоской,
Как сокол мчит за «Сокол».
На окнах шторы темноты,
Цветно мерцает Кремль лишь,
Ты, как и я, и я как, как ты,
Не сплю — и ты не дремлешь, город мой!
Господи, это невероятно! Я сейчас петь начну!
Так вот, Лёша был действительно центром московской литературной поэтической жизни, и все в диапазоне от Кублановского до Чухонцева ходили в это рок-кабаре читать. Эти концерты продолжались по пять-шесть часов — начинали в шесть, а заканчивали далеко за полночь. Это была наша главная отдушина, когда ещё не печатали очень многих. Это была, конечно, такая подпольная жизнь, но солнечное подполье (не зря называлась антология «Солнечное подполье»), потому что не было подпольных комплексов, это было солнечное, радостное явление. Поэтому так Лёши не хватает мучительно. И никто после него не мог с такой силой всех примирять, все эти противоречия наши, никто нас больше так не любил. Да и мы никого больше так не любили. Почему я думаю, что загробная жизнь есть? Потому что Дидуров не мог исчезнуть целиком. Ну и многие не могут, я думаю.
Очень просят всех поздравить со Старым Новым годом. Да, ребята, совершенно забыл. Поздравляю! Очень приятно.
У нас остаётся ещё три минуты до начала лекций. Немножко будет про Соловьёва, немножко — про Честертона.
«Как вы думаете, действительно ли эти строки принадлежат Гумилёву: «Я сам над собой насмеялся, // И сам я себя обманул, // Когда мог подумать, что в мире // Есть что-нибудь кроме тебя». Конечно Гумилёву. А кому ещё? Вторая канцона. Это последнее стихотворение, посвящение Нине Берберовой. Прекрасные стихи.
Елена благодарит. И вам, Елена, спасибо, и вас с праздниками.
«Что вы думаете о творчестве Рубена Гальего?»
Мне кажется, это писатель одной книги, но сама биография этого человека и сама его личность настолько значимы, и то, с чем он столкнулся, то, что он пережил, так масштабно, что говорить здесь просто о художественном таланте невозможно. Это подвиг, сопоставимый с подвигом Островского, — книга, написанная человеком почти полностью парализованным, выжившим в нечеловеческих условиях. «Белое на чёрном» — великая книга. Но в ней ещё прекрасно то, что в ней испанская такая готическая строгость. Он об очень многом мог бы рассказать, но он не рассказывает, многое в его молчании. Это такой новый Шаламов. Это о сверхчеловеке, который получился из инвалида. Да, по-моему, абсолютно грандиозный текст.
«Расскажите о фильме Миндадзе «Милый Ханс, дорогой Пётр». Есть ли у вас своя концепция этой беспросветной картины?»
Она не беспросветная. Понимаете, Миндадзе (во всяком случае в своих режиссёрских фильмах) исследует то состояние, которое наступает у людей в момент катастрофы или перед катастрофой, когда человек одинаково готов и к подвигу, и к самопожертвованию, и к убийству, готов бежать куда угодно, как в «Отрыве», по первому следу — спонтанные, непредсказуемые реакции. Я считаю, что «Милый Ханс, дорогой Пётр» — это фильм о предвоенном состоянии, самый точный фильм. А попытка, как-то немножко отсылающая, на мой взгляд, к жертвоприношению Тарковского, попытка спровоцировать катастрофу до катастрофы… Почему там инженер устраивает этот взрыв? Он надеется отделаться им. Предчувствие катастрофы витает в воздухе, поэтому он надеется обойтись вот этим.
И вообще там много всего накручено. Это сложная картина, очень авангардная, не на всех, конечно, а на любителя. Но атмосфера предвоенности, атмосфера предвоенного невроза и истерики, разлитой в мире, там поразительно воплощена. И вообще это лучший фильм Миндадзе, конечно, просто очень глубокий. Он так точно совпадал с какими-то моими внутренними колебаниями. Я такое совпадение чувствовал только на «Трудно быть богом» Германа, который просто вызвал у меня счастье, счастье вскрытого нарыва. Репликами оттуда я долго ещё разговаривал. Я раз восемь его смотрел, если не больше. А что касается «Милого Ханса», то тут я ограничился двумя разами. Но это, конечно, великое кино.
«Ваше мнение о статьях кинокритика Игоря Манцова?» Я не люблю статьи Игоря Манцова, хотя глубоко уважаю его.
Вернёмся через три минуты.
РЕКЛАМА
Д. Быков― Ну, поехали! Полчаса нам осталось друг друга умаивать. Я сначала поговорю о Соловьёве, а потом — о Честертоне и Уайльде.
Что касается Леонида Соловьёва. Это очень интересный извод русской литературы. Он вырос в Средней Азии и провёл там много времени, скажем так, хотя он по происхождению своему русак из русаков. Он сумел написать несколько недурных ранних очерковых книг, но, конечно, первая слава пришла к нему с «Возмутителем спокойствия». Почему Ходжа Насреддин оказался в это время главным, самым обаятельным героем русской литературы? Вот тут пишут мне, что в городе был один экземпляр этой книги, и на неё стояла в библиотеке трёхмесячная очередь, но удалось нашему герою всё-таки её прочитать. Спасибо, это меня очень радует.
Что я могу сказать относительно книг, текстов Соловьёва? Это очень интересное, очень нестандартное продолжение линии Остапа Бендера, странствий плута, странствий хитреца. Почему это перенесено в Среднюю Азию, объяснить очень просто — потому что всё более азиатской и всё более среднеазиатской становится в это время русская жизнь, жизнь при Сталине. И, конечно, Бендер уже невозможен, а возможен Ходжа Насреддин.
Кто такой в сущности Ходжа Насреддин? Хитрец восточного типа, хитрец-приспособленец, который внутри этого мира «Тысячи и одной ночи» — мира жестокого, кровавого, пряного, острого, страшно авантюрного и при этом абсолютно насквозь прозрачного, мира, в котором никуда не укрыться, — выбирает новый modus vivendi. Конечно, Ходжа Насреддин не борец, а он гениальный приспособленец. Он мастер басни, мастер эзоповой речи (хотя никакого Эзопа там, конечно, не знают). Он имитирует народный, фольклорный стиль, но на самом деле это, конечно, стиль глубоко авторский. Он великолепно сочетает сладкоречивость и многословие восточной аллегории и вот эту фольклорную остроту, фольклорную соль. Юмор Ходжи Насреддина у Соловьёва, конечно, грубоват. Да и сама эта книга грубовата, но она очень точно имитирует витиеватый слог сталинской эпохи, она абсолютно точно отражает эту страшную жару тоталитаризма, — жару, от которой нельзя укрыться в тени, потому что она везде. И единственный способ среди этой жары и среди этого палящего, страшного тоталитарного солнца создать хотя бы иллюзию тени — это вот так гениально приспособиться.
Вторая книга была написана при обстоятельствах уже совершенно невыносимых, потому что Соловьёв сел. Он всю жизнь говорил, что это ему божья месть, божье наказание за то, что он очень плохо обошёлся со второй женой. Я не знаю, насколько это всё правда, почему он сел. Ну, там ложный донос какой-то имел место. Но вообще в то время, как вы понимаете, человеку сколько-то остроумному и сколько-то понимающему ситуацию крайне трудно было уцелеть. Он сел уже после войны, насколько я помню — в 1951 году, если я ничего не путаю. Ну, надо будет заглянуть в «Википедию». И на тверской пересылке (из Ленинграда, по-моему, его везли) его узнал начальник какой-то и дал ему возможность писать книгу, писать вторую повесть о Насреддине. Он сказал: «Вы можете написать ещё одну повесть про Насреддина? Я вас тогда освобожу от работ, оставлю здесь. Пишите». И он писал её — точно так же, как Штильмарк, так казать, по разрешению Василевского и по его заказу писал «Наследника из Калькутты». Это особая тема — лагерные писатели. О ней можно было бы много рассказывать. И хорошая книга могла бы быть.
Соловьёв за полтора года написал «Очарованного принца», продолжение о Ходже Насреддине. Там кое-то где проглядывают откровенные признания о том, в какой обстановке он эту книгу пишет. Он там говорит: «За базар моей жизни ухожу я почти нищим, без приобретений. Но день не кончился. И хотя он клонится к закату, может быть, ещё есть какая-то надежда, может быть, мы успеем как-то ещё улучшить свои результаты».
И действительно «Очарованный принц» — это гораздо более авантюрная вещь, гораздо более горькая при этом. И в ней страшно чувствуется усилившаяся, ещё более гнетущая несвобода, с одной стороны. И, конечно, чтобы угодить вот этому первому читателю, который, как маньяк в «Мизери», удерживает его у себя… Это несколько большая авантюрность, налёт такой приключенческой литературы. Но обе книги друг другу совершенно не уступают. Интересно, что третья часть трилогии, как и в случае с Бендером, тоже не была написана. Боюсь, потому, что некуда героя привести. Конечно, есть ещё замечательная версия Леонида Филатова, который из «Возмутителя спокойствия» сделал прекрасную пьесу в стихах.
В чём особенность Соловьёва? Во-первых, он великолепно воспроизводит среднеазиатский колорит, колорит «Тысячи и одной ночи»: азиатского коварства, азиатской медлительности, иезуитского остроумия, сахарной, похожей на халву, медоточивой речи. Весь домусульманский, доисламский Восток, чистый восторг, вся атмосфера «Тысячи и одной ночи» воспроизведена у него очень грамотно и с великолепным знанием предмета. Кроме того, конечно, страшно обаятелен сам главный персонаж, этот наследник Одиссея, на чьих странствиях всё строится. Почему всегда странствия хитреца? Потому что бесхитростного все эти бесчисленные опасности поглотят, конечно. И его Ходжа Насреддин — это не просто народный герой, вроде Уленшпигеля (а книжка немножко похожа, конечно, на «Уленшпигеля», прямое влияние де Костера там чувствуется), а это именно человек, который задаёт географию этого мира, странствуя по нему, он его описывает.
Два главных центра, два главных топоса — это дворец и базар. Во дворце господствует интрига, пытка, казнь, слухи, трусость, предательство. Базар — напротив, это любимая сцена Ходжи Насреддина; это место богатства, торговли. Но богатства не казны, которая так похожа на «казнь». Это не богатство денежное, а это разнообразие, бесконечная пестрота (пёстрые старые халаты, специи, пряности, мясо, рис, мёд), это страшное богатство Востока, его цветущая природа. И вот на этом сочетании нищеты и богатства, на этом контрапункте, на сочетании сладкоречия и хитрости, роскоши и зверства очень сильно всё построено. Это сильный контраст. Топосы придуманы замечательные.
И сверх того, что здесь важно. Ходжа Насреддин не просто остряк, не просто неунывающий борец с ханжеством, пошлостью, не просто неутомимый хитрец. Ходжа Насреддин — это неубиваемый дух народа, о чём очень важно было напомнить в кошмарные 40-е годы. 1938 год — первая книга, 1952 год — вторая, а издана она была в 1956-м (кстати, как и «Наследник из Калькутты»). Это на самом деле удивительная история о том, что народный дух, казалось бы, среди тотальной пассивности, среди гнили, он неубиваем. И поэтому этот двухтомник Соловьёва до сих пор нас так утешает. Эта книга, казалось бы, о рабстве, все рабы, но в душе все всё понимают, и насмешничают, и верят в сохранение этого не молкнущего насмешливого голоса, поэтому Соловьёв умудрился написать среди тоталитаризма сталинского, наверное, самую жизнеутверждающую книгу.
Он выжил, вернулся, шедевров уже после этого не написал, а пожинал лавры и славу всякую после выхода дилогии о Насреддине. Наверное, потому не мог написать, что исчезли те напряжения, потому что Россия стала менее азиатской. Да и что там добавлять? Всё сделано. Но сама имитация слога на высочайшем уровне! Такого достигала, мне кажется, только Далия Трускиновская в «Шайтан-звезде».
Теперь под занавес (осталось нам десять минут) хочется мне немножко поговорить на тему об Уайльде и Честертоне, потому что меня эта тема всегда очень занимала. Тут многие говорят: «Хотя Уайльд и написал, что Достоевский — писатель хуже Тургенева, а Тургенев более мастер, всё-таки английская литература пошла за Достоевским».
Это не совсем так. Английская литература прежде всего пошла за Диккенсом, конечно. И Диккенс, который и для Достоевского служил образцом, писатель бесконечно более сказочный, разнообразный, наивный, но при этом зоркий, гораздо более человечный и так далее. Из Диккенса получилось шесть великих англичан: это Уайльд, Честертон, Стивенсон, Шоу, Киплинг и Моэм. Ну, некоторые ещё назовут Голсуорси. Вот эта великая шестёрка или, если хотите, семёрка (Кроули я не беру в расчёт, он совершенно особо) — это всё «дети» Диккенса.
И вот странных два извода Диккенса — это, с одной стороны, конечно, Уайльд, а с другой — Честертон. И кто из них лучший христианин? У меня нет прямого ответа на этот вопрос. С одной стороны, меня иногда ужасно бесит Честертон, о котором писал Борхес так точно, что он всё время притворяется здоровым, хотя внутри он невротик, всё время притворяется оптимистом, хотя внутри он глубочайший пессимист. Это в нём есть, конечно. Это притворство в нём существует.
Но, с другой стороны, нельзя не вспомнить и о том, что Честертон действительно отстаивает христианские ценности здравого смысла. Он утверждает, что радикалу, фашисту противостоит обыватель, что обыватель и фашист — это две большие разницы, и надо эту разницу всё подчёркивать, что называть обывателя «фашистом» — это клевета. Потому что обыватель на самом деле отстаивает простые ценности доброго порядка, а вот из радикалов, из экспериментаторов как раз и получаются фашисты; модернизм — это кратчайший путь к фашизму. Прав ли в этом Честертон? Наверное, да. Потому что судьба Эзры Паунда в этом смысле очень показательна. Того самого Эзры Паунда, который говорил: «Честертон и есть толпа».
Конечно, фашизм очень часто получается из авангарда, из модерна. Маринетти был авангардистом. Тот самый Маринетти, который дважды посетил Россию: первый раз как гость в 1914 году, а второй раз как итальянский офицер, простудившийся под Сталинградом и от этого погибший в 1943-м. Маринетти — это вообще как раз фигура из тех, что Честертону наиболее ненавистны. Да, фашизм получился не из протестов против авангарда, а из самого авангарда. Фашизм — это очень часто, кстати говоря, авангард в его предельном развитии, сколько бы мы ни говорили о том, что фашизм — это всегда консерватизм, архаика. Нет, очень часто из культа вседозволенности тоже фашизм образуется. Он корней не выбирает; из чего хочет — из того и растёт.
Но иногда я думаю о том, что Уайльд при всей его извращённости был, наверное, всё-таки большим христианином, чем Честертон. Почему? Во-первых, потому что он больше пострадал, он бо́льшим пожертвовал. Христианство — это «не детское Господа Бога», как писал кто-то из современников о Честертоне, это не плюшевый мир. Христианство — это авангардный эксперимент, это мировой авангард, оно всегда на передовой.
И в этом смысле Уайльд, пожалуй, действительно гораздо больший жертвователь, если угодно, он больше отдал, он гораздо более свят. Хотя были на нём, конечно, грехи, и грехи достаточно серьёзные. Не зря он говорит: «Парадокс в области мысли стал для меня тем же, чем в области страсти было для меня извращение». Много извращений было в его жизни, гомосексуализмом это не ограничивалось: и болезненная любовь к роскоши, и несколько болезненное отвращение к добронравию, к традиции, к английскому здравому смыслу. Конечно, épater le bourgeois там было в огромное степени. Но давайте не будем забывать, что в лучших пьесах Уайльда торжествует как раз доброта. Например, в «Идеальном муже» главный положительный герой, который собственно и есть идеальный муж, прежде всего добрый и уж только потом беспутный. И в Уайльде вообще преобладал гуманизм, которого в Честертоне я очень часто не наблюдаю.
Честертон — великий фантазёр, замечательный ясновидец, прекрасный выдумщик. У него есть один хороший роман, но это очень хороший роман — «Человек, который был Четвергом». Это история о том, как провокатор проникает в кружок революционеров и вдруг постепенно замечает, что все они провокаторы. Это прекрасная метафора поисков Бога, когда Воскресенье, которое олицетворяет Бога (вот этот огромный и прекрасный толстяк), улетает на воздушном шаре, а все они бегут за этим воздушным шаром, и он сбрасывает оттуда абсурдные записочки: «Тайна ваших подтяжек раскрыта», «Если рыбка побежит, Понедельник задрожит», — и так далее. Такой милый абсурд, в котором проявляется Бог.
Но вот именно честертоновские доброта, добродушие и, я бы сказал, здравомыслие на фоне уайльдовской жертвенности так часто меня смущают и раздражают каким-то дурновкусием. Уайльд прекрасен прежде всего своей сентиментальностью, своей изобразительной мощью. Конечно, он безумно раздражает, когда он начинает описывать бесконечные драгоценности или, скажем, одиннадцатую главу «Портрета Дориана Грея» превращает в эссе об украшении жилищ. Конечно, Уайльд, который любит Гюисманса, который наслаждается упадком, который впадает тоже в очень дурной вкус постоянно, не может не раздражать. Но иногда я думаю, что он и раздражает сознательно, потому что ведь он понимает, что на фоне утверждения о тотальной мужественности, столь характерного для викторианского времени, он всё-таки отстаивает какую-то нежность, какое-то право быть не похожим на всех этих брутальных полковников или маркиза Куинсберри, который собственно его и погубил (папу Бози, папу его любовника).
Я думаю, что в Уайльде гораздо больше сентиментальности, чистоты и, если угодно, глубины, потому что великая сказка «Рыбак и его душа» (очень странная сказка, очень парадоксальная), пожалуй, утверждает более серьёзные ценности, чем все ценности Честертона. Ну как сказать? Она утверждает, что христианство не сводится к морали, что оно выше морали, потому что оно всё-таки в жертве, в готовности пожертвовать собой. И Уайльд, который, зная о приговоре, не уехал во Францию, хотя это могло его спасти, и дал себя арестовать, и два года провёл в Редингской тюрьме, превратившись в другого человека, прекратив писать, написав последнее своё завещание «De profundis» («Из глубины взываю…»), эту исповедь, и больше ни строки — это, конечно, подвиг и трагедия христологического плана. Не христологического масштаба, но христологического плана.
Что касается Честертона. Его главный герой и говорит: «Какое страдание чрезмерно, если оно даёт нам право сказать «и мы страдали». Там есть такая фраза. Но дело в том, что сказать «и мы страдали» — это немножко всё равно, что сказать «и мы пахали». Страдание не орден, который следует носить. Добрый порядок — это не та цель, к которой следует стремиться. Мне могут припомнить: «А как же ваше эссе о консерватизме, о Честертоне, о либералах, которые кончились?» Да, действительно, в 90-х годах было очень много всякой погани, и всплыло очень много всякой пены. Всегда поверху плавает что-то ужасное. И, по правде вам сказать, я не люблю 90-е годы до сих пор. Но дело в том, что наступившее после них было гораздо хуже — вместо доброго порядка опять, в очередной раз восторжествовала злая тупость. И это мне очень не нравится.
Понимаете, грань между отстаиваемой Честертоном добродетелью и фашизмом действительно ну очень тонка, потому что оттуда один шаг до отрицания всего нового, всего непохожего. А уж ценности традиций, его пресловутый демократизм, его баллада «Где тут поблизости пивная?»… Он всегда, когда видит сноба, хочет воскликнуть: «Где тут поблизости пивная?» Конечно, снобизм — это страшная сила. Но есть силы более страшные. По крайней мере, снобу (вот Уайльду) не всё равно, как умирать. Он не сделает подлости, потому что на него устремлено много глаз, потому что он хочет хорошо выглядеть. А желание хорошо выглядеть — оно вообще не последнее для человека. И если он из-за желания хорошо выглядеть делает добрые дела, то пусть лучше так.
Уайльд ведь вообще, кстати, очень добрый был, он был совершенно не жесток. А вот о Честертоне мы этого сказать не можем, потому что Честертон всю жизнь только писал, а кого он сделал счастливым, кроме своих читателей? Что-то я подозреваю, что я этого вспомнить не могу. Поэтому сейчас, с годами, я думаю, что в добром снобе, в добром эксцентрике больше христианского начала, чем во всей плюшевой прозе Честертона.
Конечно, в огромной степени обаяние Честертона определяется тем, что его на русский язык переводила Наталья Леонидовна Трауберг, Царствие ей небесное, человек изумительного таланта и обаяния. Поэтому я думаю, что очень часто то, что Честертон говорит с нами её насмешливым и милым голосом, очень добрым голосом — это, конечно, нечеловеческое везение. Почитайте его в оригинале. Она довольно точно имитирует его манеру. По большому счёту Честертон, конечно, и сам по себе — это фигура обаятельная. Просто я с годами начал понимать, что обаяние детства приходящее, что есть гораздо большее обаяние взрослости, обаяние риска, которое в Уайльде есть.
И под занавес надо, конечно, сказать собственно о художественных достоинствах. Поэзию Уайльда с поэзией Честертона нельзя даже сравнивать. Стишки Честертон — это абсолютные поделки, а Уайльд — великий поэт, и не только благодаря «Балладе Редингской тюрьмы», но и благодаря гениальным ранним сонетам, благодаря великому стихотворению «To L. L.», адекватный перевод которого на русский, по-моему, так никто ещё и не сделал, кроме уже упоминавшейся Поли Репринцевой. Даже Слепакова, по-моему, с ним не сладила, потому что там очень сложный рисунок строфы.
Что касается рассказов о патере Брауне, буду откровенен: мне кажется, что детектив не может быть ни ясновидческим, ни абсурдным. Это забавные хохмы, но это совершенно не воспринимается в качестве детектива. Честертон умел быть пугающим, умел быть страшным, но быть логичным, быть детективным он не умел. Патер Браун, конечно, очаровательная фигура, очаровательная личность, маленький священник в коричневой рясе, весь соответствующий своей фамилии, но почему-то он у меня ассоциируется ещё и с коричневым цветом фашизма, потому что его здравомыслие слишком близко от этого. Прости Господи, я знаю, что Честертон был святой.
Ну что? Мы прощаемся с вами на две недели. Надеюсь, что вы не успеете соскучиться. Спасибо. До скорого! С Новым годом! Пока!
*****************************************************
22 января 2016>
-echo/
Д. Быков― Алло! Добрый вечер, дорогие друзья! Хорошо ли меня слышно? Если кто-то в студии мне может сейчас сказать, что они слышат меня, пусть вторгнутся и скажут. Алло! Не слышу… Ну, ничего, попробуем. «Всё хорошо», — сказали мне. Слава богу.
С вами Дмитрий Быков. Как всегда в это время программа «Один», на этот раз она ведётся по Skype. Разговариваем мы с вами из Америки, где у нас с Михаилом Ефремовым цикл поездок со стихами, частично — лекций. Он читает стихи российских и советских поэтов об Америке, а я частично их комментирую. И плюс по старой граджанин-поэтовской памяти мы пишем какие-то стихи и тут же их читаем, какие-то стихи по заказу местной публики — в основном гуманитарной, которая приходит послушать про литературу. Но это не мешает нам мысленно пребывать с вами, и довольно скоро мы вернёмся. Я надеюсь, что следующую программу буду вести непосредственно из студии живьём. А пока передаю вам привет от Михаила Ефремова, который сейчас осваивает, как раз репетирует разные костюмы на американской сцене. А у меня, как у человека простого, не вовлечённого в репетиционный процесс, есть время поговорить.
Заявок на лекцию очень много, на разных и достаточно интересных для меня тоже авторов. Я волевым решением выбрал Мандельштама, потому что, во-первых, всё-таки 125 лет, и этот юбилей достаточно широко отмечается. Хотя он не ахти какой круглый, но он имеет сейчас, как сказал бы Хармс, какое-то «особое сверхлогическое значение». Поэтому я, конечно, о Мандельштаме поговорю.
И в случае с Мандельштамом есть некоторый парадокс: самый трудный для понимания, возможно самый элитарный (в лучшем смысле слова), ориентированный на узкий круг ценителей поэт обрёл абсолютное гражданское звучание, и более того — стал символом поэтического сопротивления. Мандельштам, который по определению Гумилёва, был представителем редчайшей породы легкомысленных трусов; Мандельштам, который вырвал, конечно, у Блюмкина расстрельные ордера, но потом год скрывался по Закавказью и по друзьям прятался; Мандельштам, который дал пощёчину графу Алексею Толстому, но при этом всю жизнь прожил, как в лихорадке, трясясь в ожидании то ареста, то нищеты, — вот этот Мандельштам сделался символом абсолютно неубиваемой, абсолютно несгибаемой поэтической честности. И его замечательные слова «Я больше не ребёнок! // Ты, могила, // Не смей учить горбатого — молчи!» сегодня миллионы могли бы повторить (и повторяют). Вот это удивительно. Поэтому, конечно, Мандельштам с его парадоксальным общественным звучанием и парадоксальным сегодняшним символическим значением, камернейший из поэтов и, тем не менее, самый гражданственный из них — этот парадокс заслуживает освещения.
Я поотвечаю сначала на вопросы, которые пришли на форум. Большинство этих вопросов касается ситуации с Рамзаном Кадыровым: чем ему грозит завершение расследования по убийству Немцова? И главный вопрос, часто задаваемый: может ли он стать президентом России?
Конечно может. Почему же нет? Президентом России может стать любой гражданин России, насколько я знаю, после 35 лет, не судимый, родившийся в ней; хотя, по-моему, у нас это не так строго соблюдается, как в Штатах, но тоже желателен факт проживания на данной территории и отсутствие каких-то законодательных препятствий. Никаких препятствий к этому нет. Я вообще полагаю, что, конечно, говорить о возможном преемничестве Рамзана Кадырова не совсем справедливо. Хотя стихотворение «Преемническое», где высказывалась и такая версия, было у меня напечатано год назад в «Новой газете», и многие тогда почему крутили пальцем у виска и делали большие глаза. Но мне не привыкать к такой реакции на очевидные вещи. Сейчас об этом уже заговорили многие.
Возможно ли это? Не знаю. Мне кажется, что здесь более очевидна другая аналогия. Я сейчас написал для «Профиля» колонку, где речь идёт о поиске какой-то аналогичной силы в российском раскладе столетней давности. У нас очень многое совпадает с ситуацией 1915–1916 годов. У нас были подавлены протесты, был довольно долгий период реакции, есть война, есть абсолютная маргинализация протеста. И при этом где место Кадырова? Какова его параллель?
Я полагаю, что тогда очень многие питали надежды на другое воплощение, если угодно, радикально-консервативной, архаической идеи; тогда очень многие возлагали надежды на казачьих генералов. И вот среди казачества, которое тоже несколько снисходительно, несколько высокомерно относилось к подавляющему российскому населению, многие видели и идеологов новых расправ, и возможных теоретических преемников — во всяком случае ту силу, которая смирит Российскую революцию. В результате, собственно, и состоялся Корниловский мятеж, в котором сам Керенский, сначала подталкивая Корнилова к этому мятежу, очень быстро понял, что это будет не просто концом его личной свободы, но и концом России как таковой. И в какой-то момент он от этого дистанцировался — и путч Корнилова не удался.
Мне кажется, что здесь аналогия скорее с идеей казачьего реванша, потому что мало кто из студентов тогда не встречался во время митингов с казачьей нагаечкой. Но это же чревато страшной трагедией, — трагедией расказачивания, которая потом, по сути дела, опустошила Дон. До сих пор об этом вспоминают с ужасом. И те ряженые полки, которые сегодня претендуют на имя идеологов казачества, конечно, не имеют никакой легитимности. Вот об этом грустном парадоксе приходится подумать; о том, что желание быть святее папы и залезть поперёд него в пекло, желание защитить традицию и государственность как бы поперёд самой московской власти (тогда просто центральной) — это может оказаться довольно опасной стратегией. Аналогию я вижу вот такую.
«Дмитрий! Когда человек утверждает, что в мире есть место тайне и чуду, означает ли это, что он не хочет раскрывать тайну, предпочитая неведение; а его вера в чудо не означает ли иммиграцию в сказку с колдунами и добрыми гномами? Ведь когда-то Земля считалась плоской, молния казалась гневом Зевса, — дальше развивается некоторое время эта нехитрая мысль. — Стало быть, прав учитель Самгина, сказав, что люди ищут не истину, а успокоения?»
Спасибо, Саша, за вопрос. На самом деле учитель Самгина должен был бы, мне кажется (особенно внимательно глядя на Самгина), сказать другое: люди жаждут не утешения, не успокоения, а люди жаждут самоуважения. Вот это, кстати, одна из причин, по которой Лавр Корнилов, никогда не щадивший казаков в атаке, был у них тем не менее очень популярен — потому что он им давал очень высокую самоидентификацию. И это же, кстати, объясняет популярность большинства унитарных властей, унитарных и, просто говоря, авторитарных вождей, которые дают высокое самоощущение. Человек больше всего стремится всё-таки к самоуважению. Поэтому религия для него скорее как раз нетипична. Поэтому триумф религии мне представляется парадоксальным.
Человек хотел бы поставить себя в центр мира, построить такую антропоцентричную вселенную, где он всё может объяснить, но почему-то идея Бога чрезвычайно живуча, она ему нужна. Наверное, потому (так я могу во всяком случае экстраполировать свои ощущения), что человеку недостаточно всегда видимого мира; он хочет, чтобы существовало что-то ещё. Вот у Веры Хитиловой был замечательный фильм «О чём-то ещё». И когда я её спросил, о чём собственно картина, она сказала: «Вот именно о чём-то ещё». То есть мир не сводится к его видимой, очевидной части, мир не сводится к материальному интересу; он всегда как-то больше. И я вовсе не думаю, что мне хотелось бы сохранить какие-то вечные тайны. Мне, наоборот, ужасно хотелось бы добраться до таких глубин познания… Мне хотелось бы познать, что там под антарктическими льдами, что там в моей собственной голове, почему моё подсознание не контролируется сознанием. Ужасно хочется всё это узнать! Но всё знать не будешь. Поэтому отношение к миру смиренное, отношение к миру, как к тайне, и кажется мне религиозным, религиозно-почтительным, скажем так.
«Как вы относитесь к творчеству Шолом-Алейхема?»
К сожалению, никак особенно не отношусь. Мне совершенно не близок этот автор, потому что единственное, на мой взгляд, его сочинение, которое стоит действительно в ряду классических романов XX века, — это «Тевье-молочник». А всё остальное — на мой взгляд, это крепкий третий ряд, а особенно на фоне русской литературы XX века. Но, безусловно, я со всем уважением…
«Знакомы ли вы с книгой Яна Карского «История подпольного государства»? Как вы к ней относитесь?»
Насколько я помню, она называлась не «История подпольного государства». Я уточню. Собственно, и Карский — не настоящая его фамилия. Это псевдоним, под которым он стал известен. У него какая-то более длинная фамилия, польская. Это праведник, почётный гражданин Израиля, автор уникального свидетельства о польских гетто и о лагерях уничтожения; человек, которого сумели переправить в Лондон, чтобы он там рассказал правду об уничтожении европейских евреев. Никто не верил! Больше того, когда с ним встретился Рузвельт, то и то не поверил. Он был призван свидетельствовать. И он рассказал об ужасах этих гетто, о лагере Собибор, откуда никто не возвращался, об Освенциме, о масштабах уничтожения в котором мы знаем только благодаря свидетельствам уцелевших участников похоронной команды (в том числе, кстати говоря, великого Тадеуша Боровского, великого польского писателя, автора книги «У нас в Аушвице»). В том-то весь и ужас, что никто не верил, никто не знал. Масштаб происходившего с европейским еврейством был феноменален.
И когда Карского отправляли свидетельствовать, то его предупредили: «Потребуете от американцев и англичан немедленно каких угодно мер, потому что иначе, пока откроется второй фронт, в Польше может просто не остаться евреев. Любые требования, любые формы давления — всё что угодно, лишь бы только уцелел хоть кто-то в Европе», — потому что люди гибли ежедневно в страшных количествах. Вот то, что Карский сумел добраться и рассказать об этом странном недоверии и равнодушии, с которым встречали его рассказ, — это превращает его книгу, конечно, в выдающееся свидетельство.
И тут дело, строго говоря, не в еврействе даже; тут дело в страшной глухоте человечества к очевидностям. Понимаете, когда на глазах, казалось бы, происходят очевидные мерзости, люди не хотят этого признавать. Они говорят: «Да ну, это всё преувеличение», «У страха глаза велики», «Всё это панические настроения», — потому что иначе им придётся шевелиться.
Ведь, в сущности, ну вот что вы такого нового узнали о политическом устройстве Чечни или России, или российского общества в последние три дня? Что принципиально нового вы узнали о политической позиции Бондарчука, Баскова или Верника? Что такого уж сногсшибательного? Неужели нельзя было о многом догадаться раньше? И неужели многое не было очевидным? Точно так же неужели не понятна была конфигурация крымской истории и крымского конфликта ещё задолго до крымских событий? Почему-то люди предпочитают не видеть очевидных вещей. Конечно, масштаб их несопоставим, но просто способность человека надевать шоры, пожалуй, сопоставима только с его же способностью к мимикрии, к полному перерождению и так далее. Человек — очень гибкое существо.
«Читали ли вы бессовестную книгу Солженицына «Двести лет вместе»? Почему это жуткое антисемитское произведение свободно продаётся в книжных магазинах Москвы?»
Простите меня, но это глупость. Это глупость и оскорбление для Солженицына, потому что это не антисемитская книга. Я её не просто читал, я даже её рецензировал, и у меня есть довольно старая статья, которая называется «Двести лет вместо». На мой вкус опять-таки, в этой книге главная тема — не еврейский вопрос, а русский. И там задан главный вопрос: почему у евреев так развита солидарность, а мы, русские (цитирую дословно), «хуже собак друг другу». Солженицын пытается ответить на этот вопрос: почему еврейство всегда играет такую роль в российской политической истории? Потому что большинство российского населения, русского населения, видимо, почему-то воздерживается от того, чтобы участвовать в собственной политике. Вот как устроена эта схема, Солженицын как раз и рассказывает это в книге, и рассказывает, по-моему, довольно интересно. Хотя многое в ней мне показалось наивным, но как к ней ни относись, во-первых, это не повод называть её антисемитской.
И вообще я много раз уже, к сожалению, был свидетелем тому… Вот как писала Нона Слепакова: «На корточках…» Нет, не «на корточках», простите. «На сто частей антисемита евреи делят, разыскав». Это тоже естественное явление. Видите ли, я совершенно не склонен преуменьшать опасность антисемитизма, но я множество раз видел, как этот ярлык навешивали на любого, кто что-то не так скажет об Израиле, о том или ином представителе еврейской литературы или кинематографа, или кто вообще недостаточно восторженно отзывается о тех или иных исторических событиях или деятелях. Если мне не нравится Жаботинский, то это не делает меня антисемитом (что вообще в моём положении было бы затруднительно).
Я не говорю и о том, что книга Солженицына по большому счёту (вот что для меня в ней важно) продиктована желанием не навесить ярлыки, а разобраться в раскалённом, накалённом вопросе, как он пишет. И обратите внимание, что всегда, когда Солженицын выбирает себе масштабного противника, увеличивается и его собственный писательский масштаб. Очень трудно понять, как это происходит. Вот когда Солженицын, например, противник смерти, как в «Раковом корпусе», он пишет лучше, чем когда он пишет о Сталине, потому что это делает его сильнее. Надо выбирать себе противника по росту, по масштабу. И это, мне кажется, определяет масштаб его книги. Ведь в этой книге он не еврейство выбрал своим противником; в этой книге он борется как раз с людьми, которые предпочитают простые решения, потому что простые решения, к сожалению, никогда не ведут к улучшению, а всегда только к гибелям.
«Вопрос от мазохиста. Хочу агонии [режима]. Сможете предсказать временные рамки?»
Никакой агонии не будет. Наивно было бы думать, что рубль способен обрушить страну — низкий рубль или высокий рубль. Это будет действительно сложное время (это очевидно), это будет переходный период, но агонии мы с вами не дождёмся. Мы её и не должны ждать. Понимаете, это странно — гильотина как лучший способ лечить головную боль. Мы же сами с вами станем первыми жертвами этой агонии.
Я абсолютно уверен в том, что вся нынешняя российская ситуация разрешится без радикальных ухудшений государства: без радикального сокращения, без распада в частности. Почему я так думаю? Потому что мне вообще очень забавны все эти разговоры о том, что экономический кризис способен погубить страну. Большинство людей в России вообще не замечают этого кризиса, потому что они и не жили хорошо. Люди, которые привыкли выживать на 10 тысяч в месяц, и то ещё это большой праздник (а вы знаете, что в значительном количестве российских регионов 40–50% населения живёт именно так), этого кризиса просто не почувствуют.
Да и потом, тоже я уже писал несколько раз, что это живому страшно, а замерзающему уже тепло. И у меня есть ощущение, что значительная часть российского населения прошла уже ту стадию отупения, ту стадию полного безразличия, после которой кризис, не кризис — неважно. И мне поэтому собственно и очень грустно, что какие-то очередные российские перемены грядут вследствие абсолютно внешних причин (экономических в частности), а не вследствие внутренних прозрений. Я поэтому очень надеюсь, что люди хоть что-то начнут делать сами, а не будут тотально зависимы от погоды на улице или в экономике. Я верю во внутреннее прозрение. А экономика ещё никого уму-разуму не научила.
Смотрите, в России были периоды настоящего голода, когда солому с крыш ели. Это когда в 1895 году Лев Толстой, вы помните, боролся с голодом и делал совершенно чудовищные журналистские репортажи о том, как с голоду вымирают целые губернии. Но и тогда страшный голод 1895 года… И книга Чехова «Остров Сахалин» о чудовищной тамошней нищете и о чудовищных русских тюрьмах, и все книги, которые рассказывали о чудовищности армии и службы в ней — всё это ничего не сдвинуло. Понимаете, не тогда в России происходят перемены, когда низы не хотят, а верхи не могут, когда экономика в развале — не от материальных причин происходят. Это происходит, как правило, от внутренних трудноуловимых перемен настроения. И вот это мне кажется очень важным.
«Прокомментируйте слова Акунина: «Нашёлся ещё один принцип разделения на два лагеря — на первый взгляд, дурацкий, а, если подумать, правильный. В зависимости от того, кто для тебя Кадыров — патриот России или совсем наоборот, — становится совершенно ясно, какую Россию любишь и поддерживаешь ты». Почему водораздел по Кадырову для Акунина важен?»
Это вопрос достаточно нетривиальный. Я думаю, он важен для него потому, что для Акунина одно из ключевых разделений — это модернизм и архаика. Модернизаторам и архаизаторам, сторонникам архаических практик, это, по-моему, совершенно очевидно. Я не знаю, как в Чечне, но думаю, что в России в целом модернизация (причём модернизация достаточно радикальная, касающаяся и науки, и образования, и человеческих отношений) — вещь достаточно необходимая. И вообще ориентация на архаику мне кажется приметой реакции, а не приметой прогресса. Можно прочесть «Вечный фашизм» Умберто Эко, где он говорит об опасности архаических практик.
Кстати говоря, многие спрашивают меня, за кого я… ну, не буду, а голосовал бы, случись мне участвовать в опросах по американским президентам (само голосование, как вы понимаете, для не-граждан исключено). Я разделяю точку зрения одного довольно известного российского аналитика, который просил его не называть. Он сказал, что Америка не прошла искушение Трампом. Наверное, оно нужно для некоторой национальной зрелости. Понимаете, чудовищная поддержка Трампа (чудовищная по масштабам поддержка, огромная) связана не с какими-то его особенными талантами, хотя он талантливый политик. Он играет на тех самых базовых инстинктах, которые бессмертны. Его книга «Вновь сделать Америку великой» (правда, она уже продаётся по абсолютно трешевым ценам, на 75% она уценена в большинстве магазинов) довольно забавна, но она отражает как раз всё ту же самую абсолютно реакционную и абсолютно наивную болтологию. Она пытается, во-первых, найти великие идеалы в прошлом, а во-вторых — постоянное желание весь мир пугать и сделать опять сильную армию, уничтожить политкорректность, закрыть границы. Это именно реакционная, реактивная, довольно вторичная повестка. И всё это, конечно, выражено приподнятым и несколько истерическим тоном. При том, что Трамп и ироничен, и умеет себя вести, и некоторые его высказывания в защиту ньюйоркцев, например, были совершенно прелестны, но — ничего не поделаешь, Америка не прошла этого искушения.
Стивен Кинг (все знают мою любовь к этому автору, кто вообще знает о моём существовании) когда-то сказал, что именно Грег Стилсон из всех его героев кажется ему самым актуальным, самым тревожащим. На большинство своих вызовов, на большинство вопросов, которые он задал, он уже получил ответ. Даже смерть его уже не так пугает. А вот Грег Стилсон, описанный в «Мёртвой зоне», оказался бессмертен. Вот сейчас у нас такой Грег Стилсон, такой Трамп. И при всём его обаянии… Он, конечно, далеко не клоун, но он представляет опасность, серьёзную опасность. Естественно, я не вижу ему, как и все американцы, никакой серьёзной альтернативы. И, может быть, мне интересно было бы даже посмотреть, как американский здравый смысл будет бороться с закидонами этого человека. Правда, есть, как всегда, и скучная точка зрения — став президентом, он немедленно откажется от большинства закидонов и будет очень традиционен.
«Как бы вы прокомментировали заявление Путина о Ленине?»
Он, видимо, действительно политик интуитивный, не совсем рефлексирующий, не совсем понимающий, почему его так в данный момент встревожил Ленин. Но мне-то это как раз понятно. С чего бы вдруг резко высказываться о Ленине? Да потому, что он примерно понимает, откуда может прийти опасность. Ведь Ленин — это не вождь, сколько бы о нём этого ни говорили. Ленин — это замечательный генератор масс, замечательный катализатор их активности, их саморегулирования.
Очень точно было сказано у Горького в «Самгине», что когда Ленин вошёл в толпу, она словно выросла, она стала более грозной от этого, от его присутствия. Он не над толпой, он не на трибуне, а он вошёл в эту толпу — и толпа стала грозной. «Грозная» здесь очень характерное слово именно потому, что Горький сразу увидел в Ленине угрозу. Примерно до августа 1918 года он был с ним фактически в ссоре, и только покушение Каплан заставило его резко переменить своё отношение к нему (и вполне искренне, я думаю). Но Горький был безусловно прав, говоря о том, что Ленин — это грозная сила. Другое дело, что это сила не над толпой, а она часть толпы. И вот то, что Ленин есть катализатор самоорганизации масс — это в нём ненавистно всем революционерам.
Кстати говоря, когда я понял (и понял совершенно отчётливо), что, по-видимому, в Украине всё-таки революции не произошло? Когда они стали сбрасывать памятники Ленину. Потому что для любого настоящего революционера (хорошего, плохого — неважно) Ленин — это символ победившей революции. А у них всё-таки не революция, у них всё-таки что-то другое. Ленин — один из очень немногих людей, у кого получилось. Конечно, он был разрушителем России, но он был и разрушителем того, что губило Россию тоже. Он действительно искренне желал модернизации этого общества, вертикальной мобильности в нём. Конечно, он этого добивался через беспрерывные репрессии, и это отвратительно; и представления о ценности человеческой жизни у него не было априори. Но революционер не будет сбрасывать памятники Ленину именно потому, что победивших революций в мире было не так уж и много. Поэтому — да, совершенно верно, что отношение сегодняшнего государства к Ленину примерно такое, какое было у казачества к студенчеству.
«Есть ли полноценные научные литературоведческие исследования творчества Габриэля Гарсиа Маркеса?»
Господи, да сколько угодно! Но лучше всех о Маркесе писал сам Маркес. И я рекомендую вам от души блистательную первую (к сожалению, остальные не написаны) часть его трилогии «Жить, чтобы рассказывать о жизни». Вот там он о себе написал с той мерой сказочности, как если бы действительно речь шла о Макондо.
Тут всякие добрые слова от психолога из Славянска, из Донецкой области. Спасибо. «20 лет назад вышли «Старые песни о главном». Знаю ваше неоднозначное отношение к этому проекту. Недавно Кирилл Серебренников гневался на «Эхе» по этому поводу, обвиняя этот проект в общем упадке российской культуры. Но всё-таки это был прорыв, оглушительный успех, причём практически во всех слоях благодарного ТВ-населения. Такого не было со времён новогодних «огоньков». Народ задыхался от «рыночных ценностей», а тут — воздух. Прошло 20 лет. Может быть, пора создать новый проект «Новые песни о главном»?»
Спасибо вам, Александр. Тут есть о чём поговорить. Моё отношение к этому проекту достаточно негативное, хотя я прекрасно понимал, что это прекрасно сделано. Оно [отношение] более сложно, чем я могу рассказать об этом за оставшиеся мне до перерыва полторы минуты. Это было очень профессионально. Мне показалось только, что в этом содержалось некое подмигивание: «Мы для вас, наших родных, сделаем, а вы зацените. Мы как бы понимаем, что это всё советский масскульт, но вместе с тем это и замечательный пример настоящего русского душевного искусства». Почему мне это не понравилось — мы с вами об этом поговорим, видимо, через три минуты.
РЕКЛАМА
Д. Быков― Если я правильно понимаю, мы продолжаем. Это «Один», в студии Дмитрий Быков. Правда, не в студии (но тоже один), а в такой маленькой комнате в гостеприимном американском доме. И через полтора-два часа мы выйдем с Михаилом Ефремовым на сцену (ещё раз он тоже вас всех приветствует) и будем читать русские и американские стихи и прозу о России, и наоборот — рассказывать о взаимном восприятии двух литератур. А пока я продолжаю отвечать на ваши вопросы.
Саша из Славянска, отвечаю на ваш вопрос. Почему я негативно отнёсся к «Старым песням о главном?» Видите ли, я могу понять ностальгию, но ведь ностальгия должна быть хоть немножко осознанной, отрефлексированной. Надо понимать, по чему, по каким вещам мы тоскуем. Мне кажется, что здесь иногда стоило бы прислушиваться к некоторым моим мнениям. Потому что сейчас, когда я получаю массу писем (спасибо большое!): «Откуда вы всё знали, когда писали «ЖД»?»… Я хорошо помню, как то же самое «ЖД» 10–11 лет назад воспринималось очень многими — мало кто всерьёз тогда верил в изложенные там прогнозы и причины. Точно так же и сейчас: очень многие не хотят понимать (на мой взгляд, сознательно), в чём всё-таки суть нашей ностальгии по советскому проекту.
Вот когда идут бесконечные дискуссии о России после Путина, многие люди тоже не понимают элементарного: хуже будет в любом случае. Или при Путине, или без Путина будет хуже, потому что сейчас страна находится в этом долгом тренде на понижение. Это такая закономерность её развития. Она была, безусловно, в лучшие свои времена впереди планеты всей, тут и спорить нечего. Потом, когда эта политическая система умирала, она получила очень сильный гальванический удар во время революций — и ещё 70 лет страна притягивала к себе все взоры. Но дальше, в 90-е годы, она не столько модернизировалась (она вообще не модернизировалась), сколько деградировала, распадалась. Ну, это совершенно очевидно. Понимаете, был труп, он ходил под гальваническими ударами разной силы, а потом он начал разлагаться. Конечно, 90-е годы по отношению к 80-м были свободнее, но хуже, примитивнее, потому что, в конце концов, степень свободы каждой системы — это степень её сложности: количества щёлок, нор, внутренних коммуникаций, которые позволяют ей предоставлять каждому проживать собственную жизнь. А Россия 90-х предлагала, пожалуй, только варианта: или тебя убивают в братковских войнах, или ты выживаешь (не живёшь, а выживаешь).
Точно так же и нынешняя система хуже и проще, чем были 90-е годы. Но хуже не только потому, что в ней ещё меньше свободы, а потому что она ещё примитивнее, потому что каждый год этого упрощения выбивает ещё нескольких людей. А программы, курса на усложнение, к сожалению, нет. Прекращение деградации может быть только результатом сознательного усилия. Это очень просто: в какой-то момент людям надоедает деградировать — и они совершают прорыв. На мой взгляд, нечто подобное произошло в Китае, нечто подобное много раз происходило в Европе, в Штатах такое было в 30-е годы прошлого века. Ну, надоедает жить в умирающем, падающем тренде, а хочется переломить вектор. Это можно сделать. В конце концов, это же не Бог решает. Бог нам дал тут полную свободу.
Но то, что «Старые песни о главном» — это ностальгия по довольно паршивым, довольно второсортным вещам, — вот это меня задевало, и это было очевидно. Это не была ностальгия по советской сложности; это была ностальгия по советской уютности, по комфортности. Я вообще не очень люблю культ прошлого — именно потому, что он неплодотворен, непродуктивен.
«Ценю ваше мнение, — спасибо. — Скажите, является ли Солженицын моральным авторитетом для вас?»
Ну а то! А как собственно Солженицын может не являться моральным авторитетом? Это великий писатель, безусловно. Такие рассказы, как «Случай на станции Кочетовка» (именно Кочетовка, а не Кречетовка, как было в первом варианте), или такие рассказы, как «Правая кисть» (я уж не говорю про «Один день Ивана Денисовича»), такие романы, как «Раковый корпус», «В круге первом», такие фрагменты, как «Ленин в Цюрихе» (я уж не говорю про подвиг «ГУЛАГа» и человеческий, и творческий, потому что это совершенно небывалый жанр художественного исследования) — это явления выдающегося масштаба. Но главное, за что я люблю Солженицына, — это даже не за его изобразительную силу, потому что она ему изменяла, что говорить («часто не в форме», как говорил в таких случаях Шкловский). Я люблю его за образ героя.
Вот Иван Денисович при всём уважении и любви к нему — это всё-таки терпила, это герой большинства и представитель большинства. И Солженицын как математик очень чётко чувствует это понятие, поэтому он взялся именно за среднестатистического героя. Но настоящий-то герой там — это, конечно, кавторанг или Алёшка. Там есть и представитель интеллигенции, которого он не жалует именно за конформизм (режиссёр Цезарь Маркович). Он не жалует и Ивана Денисовича за то, что тот наслаждается как-то мельчайшими наслаждениями — вот он счастлив, что уцелел, и рабский труд его веселит. Он не делает Ивана Денисовича положительным героем, а он сочувствует ему бесконечно. Его герои — это Костоглотов, это Нержин; это люди, которые сопротивляются. И этот культ сопротивления…
Солженицын же пишет в «Архипелаге ГУЛАГе»: «Если бы нам хоть несколько таких женщин, как вот эта, которая сопротивлялась при аресте и вообще всю жизнь сопротивлялась, а не просто пряталась, другая была бы история России!» Вот это замечательная фраза — «другая была бы история России». Она выдаёт его потаённую, постоянную мечту о народе сопротивляющемся, о народе борющемся. И поэтому сектант Алёшка — настоящий герой. И поэтому диалог Ивана с Алёшей (как замечательно и очень точно заметил Локшин), как и диалог Ивана с Алёшей в «Братьях Карамазовых», — это сердце, стержень произведения. Солженицын, конечно (для меня во всяком случае), нравственный авторитет очень высокой прозы.
«Многие вокруг меня ощущают, насколько испортились времена — хуже стало жить, беспросветно и серо. На прежде милых лицах не вижу улыбок, глаза потухшие (не говорю о походке). Сама пытаюсь не поддаваться и не унывать, но всё же… Груз прожитого и настоящего — всё это какое-то зацикленное. Не хватает нам ни силы духа, ни воздуха, ни возможностей. Посоветуйте, как справиться самой и помочь другим. Марина Николаевна».
Марина Николаевна, друг мой милый, я не советчик в этих вещах. И я сам замечаю с гораздо большей силой не то чтобы меньше улыбок… Понимаете, улыбки-то есть. Я всё-таки окружён молодыми (студентами главным образом), и тут улыбок даже слишком много. Я замечаю, что я деградирую. И это не возрастная деградация, не те ещё мои годы. Но я всё больше вещей делаю с оглядкой, всё больше формул произношу, разбавляя их какими-то лишними словами и отвлекая на другие слова-сигналы. Как говорил Михаил Мишин (которому я, кстати, передаю горячий привет): «Не хочу, чтобы поняли правильно». Понимаете, вот это часто приходится делать.
Как с этим бороться? На мой взгляд, двумя способами. Во-первых, всё-таки найти себе дело, которое позволит вам не сойти с ума. Я понимаю, что большинство дел сейчас очень ориентировано на текущее положение. Ну, что делать? Нельзя жить вне общества. Но попытайтесь найти. Честно слово, такие возможности есть. Я, конечно, не к вышиванию вас призываю, а к чему-то более интерактивному. Это первое.
А второе — постарайтесь окружить себя энергичными людьми, людьми, которые не опустили рук. Такие есть. Знаете, как в Штатах здесь… Ну, просто чтобы далеко не ходить за примером. Я сейчас в Кливленде, и мне проще видеть очень многих моих прекрасных здешних друзей, которые действуют именно по этому сценарию. Как многие больные здесь выживают? Они становятся волонтёрами — и у них появляется работа. Конечно, российское волонтёрство очень испорчено некоторыми представителями этого рода, которые впали, на мой взгляд, в совершенно неприличное самодовольство. Но таких людей не очень много. А очень много людей нормальных. Вот движение «БаДе» («Бабушки и Дедушки»), которые тоже вызывают у меня, конечно, может быть, какие-то вопросы, но, с другой стороны, они и дело делают полезное — они связывают поколения как-то, они заплетают эту поколенческую пропасть.
Попытайтесь кому-нибудь помогать. Это довольно сильный стимул жить. Не то что вы увидите, что вот кому-то плохо, а вам ещё сравнительно хорошо. Нет. Просто есть такой вид обмена энергией, когда на ваших глазах вашими стараниями, может быть, человеку становится лучше. Попробуйте каким-то образом себя так утешить, не уронить.
«В начале 60-х годов писатель Анатолий Кузнецов написал и с купюрами напечатал в «Юности» «Бабий Яр». Книга в СССР всегда печаталась с купюрами. Два вопроса. Была ли в России напечатана полная, без изъятий версия? И когда?»
Была, если я ничего не путаю, в 1991 году. Там все изъятия были выделены курсивом (тогда же и Аксёнов так печатал «Рандеву», тоже с курсивными выделениями), потому что действительно примерно треть из книги была вышвырнута.
«Книга необыкновенная по фактическому материалу и может служить готовым сценарием для выдающегося фильма в руках талантливого режиссёра. Не могли бы вы призвать к этому русских и зарубежных режиссёров?»
Нет, не могу. И я вам скажу почему. Да, я рискну. Вот я призываю всех к прямоте. Прямо вам отвечу: невозможен сейчас хороший фильм на эту тему (по крайней мере, в России), слишком много вещей надо назвать своими именами. Дело ведь не только в том, что немцы истребляли евреев. Дело в том, что в Киеве — по воспоминаниям, по дневниковым записям, ныне опубликованным — оказалось очень много людей, которые, когда евреев сгоняли в гетто, радовались этому, которые кричали: «Меньше стало пахнуть чесноком в Киеве!» Вот без рассказа об этих людях фильм не снимешь. Точно так же его не снимешь без рассказа о том, как отдельные и довольно многочисленные люди прятали евреев, еврейских детей, еврейских подростков; о том, как они прятали их, как помогали им бежать из гетто. Вот без рассказа об этих героях тоже не снимешь картину. Это должен быть фильм не о немцах и не о евреях, а это должен быть фильм о том, что можно сделать с человеком и почему это можно с ним сделать. Ведь роман Кузнецова — это именно хроника. А такую высоту взгляда, я боюсь, сейчас многие ну просто не потянут физически.
«Не хотели бы вы прочесть лекцию по книге Манна «Иосиф и его братья»?»
Нет, не хотел бы. Я люблю эту книгу (а в особенности вторую часть тетралогии), но она мне кажется дико многословной. Как говорил Пастернак: «Там, где надо выбрать одно слово из десяти, Манн пишет все десять». В общем, у меня нет такого восторженного отношения к этому четырёхчастному роману, скажем, как к «Волшебной горе». Я допускаю, что это вещи возрастные.
Спасибо, Лёша, вам за вопрос. Я рад вас приветствовать. Это Алексей Евсеев, один из моих замечательных заочных друзей. «Какая судьба двух глав из «Квартала»? Переписали ли вы их?» Да, переписал. Когда будет переиздание, мы включим их, конечно.
«Почему лекция о Бунине на «Дожде» оказалась так коротка и, по ощущению, оборвана?» Нет, она не оборвана. Она коротка просто потому, что я как-то вдруг понял, что мне об этом рассказе дольше 15 минут не о чём говорить. Вот если бы я взял из Бунина какое-то другое сочинение — «Тёмные аллеи», например, «Жизнь Арсеньева»… А вот «Господин из Сан-Франциско» почему-то не потянул дольше, чем на 15 минут. Ничего не поделаешь, 1915 год.
«Журнал «Послезавтра» — как его здоровье?» Нормально его здоровье. Я собираю тексты. Просто, сами понимаете, кризис — не то время, когда можно запускать новые издания. Мы ищем для него финансирование.
«Филолог Алексей Татаринов утверждает, что западным писателям прежде всего интересны психологические состояния людей, а русские в основном уделяют внимание бытовухе и всякой повседневности. Русские книги в основном историософичны. Так ли это?»
Я ознакомился с этим интервью Алексея Татаринова. У меня вообще к нему много вопросов. У него, по-моему, какая-то своя позиция, своя концепция истории литературы — замкнутая, цельная, и её можно критиковать только в целом. Да и не знаю, имеет ли смысл критиковать столь цельное мировоззрение. Мне как-то это не кажется интересным. И вот это сопоставление «западным писателям интересно психологическое, а русским — историософия» — да нет!
Видите ли, мне приходилось уже писать, когда я сравнивал Некрасова с Бодлером, практически его ровесником и двойником, что для русских вообще более значимы были даже не историософские, а социальные аспекты. И Бодлер, и Некрасов много внимания уделяли ужасному в жизни, но Некрасова всё как-то отвлекает самодержавие, а Бодлер видит этот ужас не опосредованно. Ну, как было сказано у Александра Аронова: «Когда нас Сталин отвлекал от ужаса существования». Сталин действительно отвлекает от ужаса, который наступает без Сталина и вне Сталина. В России такова политическая реальность, таковы условия, таков гнёт всегда, что от ужаса существования, от экзистенциальных проблем отвлекают социальные. Может быть, в этом наше счастье, не знаю. А может быть, и наша трагедия. Просто невозможно это игнорировать! Понимаете, когда всё время у тебя на плечах кто-то сидит, да ещё тебя погоняет кнутиком, ну невозможно уж целиком сосредоточиться на том, что жизнь вообще трагична.
«Впечатления от книг Надежды Мандельштам у меня сильные, подробнее не пишу. Но я прочла, что Надежда Мандельштам оклеветала многих достойных людей. Хочу узнать ваше мнение».
Видите ли, Надежда Яковлевна, в отличие от Лидии Корнеевны Чуковской, не ставила себе задачей написать книгу о своей нравственной безупречности. Она не Немезида-Чуковская, она не такой столп истины. Она, если угодно, раздавленный человек, который осознаёт свою раздавленность и решил написать о своей раздавленности всю правду, который не делает тайны из последствий этой психологической обработки. Из XX века — из ГУЛАГа, из ожиданий вестей из ГУЛАГа, из вдовства, из страха, из постоянного ужаса наушничества вокруг — не мог выйти здоровый человек. Надежда Яковлевна пишет о себе, безусловно, так же пристрастно и так же жестоко. Её книги не претендуют на объективность. Да, там многим сёстрам роздано по серьгам, и достаточно субъективно. Это субъективная книга вообще, но это вопль. И ценность этого вопля для меня бо́льшая, чем вся герценовская пылающая ярость, чем вся зеркальная сталь герценовской интонации в книгах Лидии Корнеевны. Для меня права Надежда Яковлевна. Я понимаю её правоту именно потому, что она мне ближе. Она совершенно правильно говорит: «Спрашивать надо не с тех, кто ломался, а с тех, кто ломал». Да, это апология раздавленного человека. В конце концов, с окровавленными кишками наружу человек не может сохранять объективность. И поэтому её свидетельство, как и абсолютно тоже субъективное свидетельство Шаламова, как и страшно субъективная «Четвёртая проза» Мандельштама, — они для меня важнейшее свидетельство о человечестве.
«Как вы думаете, почему Столпер не закончил съёмку фильма «Живые и мёртвые»? Что помешало?» Ничего об этом не знаю. На мой взгляд, он его закончил и даже снял продолжение под названием «Возмездие».
«Добрый вечер, Дмитрий! Почему делить эфир с Познером для вас не комильфо, а, например, с юным фарисеем Шаргуновым — нормально? Где эта граница разборчивости?»
Ну, я бы не стал называть Шаргунова таким уж юным. О слове «фарисей» можно спорить. Видите ли, в авторскую программу к Шаргунову, может быть, не пошёл бы и я, потому что у нас слишком серьёзные расхождения (что не отменяет моей симпатии ко многому из того, что говорит и делает Шаргунов). Но программа Познера именно авторская — вот в этом разница. Я могу прийти на программу «Дилетанты», где кроме меня участвует и Шаргунов, но прийти на программу Познера мне бы не хотелось. Я не хочу собою ни укреплять, ни компрометировать программу Познера и позицию Познера. Мне его позиция неприятна.
«Посоветуйте, в каком ключе читать Мандельштама, в частности «Разговор о Данте».
Знаете, это не такая уж сложная книга. Её сложность, по-моему, сильно преувеличена. «Поэтическая речь есть скрещённый процесс»: она одновременно рапортует о собственном развитии, о развитии изобразительных средств языка, и одновременно несёт информацию. Что здесь непонятного? Точно так же дальше всё, что сказано о кристаллической структуре комедии (о том, что это огромный кристалл с бесконечным количеством граней), о научной поэзии, о концепции Бога у Данте и о его геометрическом рае — это не сложные вещи. Но, конечно, для того чтобы их читать, лучше всё-таки прочитать не только первую часть «Божественной комедии», но и две другие тоже — тогда мысль Мандельштама становится понятной.
Я вообще не думаю, что «Разговор о Данте» (особенно как его впервые издали с предисловием Пинского) являет собой сложную книгу. Я не скажу, конечно, как Сарнов [Рассадин] в своей книге — «Такой простой Мандельштам». Мандельштам очень непрост. Это касается и Мандельштама сравнительного раннего периода («Tristia»), и воронежского. Я не вижу принципиальных различий в самом механизме строительства поэтического образа. Но Мандельштам, конечно, не сложен, а быстр; быстра его речь, стремительна его реакция. «Я мыслью опущенными звеньями», — сказал он сам о себе. Это именно от скорости. И для современного ребёнка Мандельштам уже действительно прост.
Страшно подумать, что когда-то стихотворение Мандельштама «Ламарк», например, Маковскому (который Мандельштама первым благословил, а потом в эмиграции прочёл «Ламарка») показалось чудовищно сложным, непонятным. Что в «Ламарке» непонятного? Ну, такая простая вещь. Вот это:
И от нас природа отступила —
Так, как будто мы ей не нужны,
И продольный мозг она вложила,
Словно шпагу, в узкие ножны.
И подъёмный мост она забыла,
Позабыла опустить для тех,
У кого зелёная могила,
Красное дыханье, гибкий смех…
Неужели непонятно, о чём собственно идёт речь? Хотя эти последние строчки расшифровываются всеми бесконечно, но ясно же, что «зелёная могила» — это ряски, вот это страшное зелёное кишение микроорганизмов, которым нет возврата в более высокий и более сложный мир. Отсюда же и «гибкий смех», и «красное дыханье», страшное роение бесчисленного количества микроскопических примитивных существ. Каждый может думать своё о конкретной расшифровке, но общий вектор деградации, описанный у Мандельштама, по-моему, совершенно очевиден. Так что просто прислушивайтесь к себе — и Мандельштам покажется вам очень простым.
Дальше очень долгий и очень пространный вопрос. Я не успею, к сожалению, на него ответить.
«Я никогда не думал, что буду поддерживать чеченского лидера. Но вот сейчас это, к сожалению, происходит, — поздравляю вас, вы в тренде! — Отчего ваши коллеги — условные Яшин, Шендерович, Альбац — так отвратили от себя российский народ?»
Да ну что же вы, дорогой Сергей Анатольевич, так явственно, так без всяких сомнений высказываетесь от имени российского народа? Судя по количеству людей, которые ко мне подходят на улицах, как-то мы не отвратили от себя российский народ. Совсем другие люди отвратили его от себя. И напрасно вы от имени российского народа высказываетесь. Вы никакого отношения к нему не имеете, если вы так много времени проводите на форуме «Эха Москвы».
«А дело ведь не в зомбировании. Те, кто смотрит Первый канал или НТВ, про Шендеровича и Альбац и не слышали. Разве с таким отношением они помогут России, даже если бы и хотели?»
Конечно помогут, Сергей Анатольевич. Они же любят Россию. Они не уезжают отсюда. Она им не безразлична. Они, рискуя (и рискуя довольно серьёзно), высказывают своё мнение. Вот вы поддерживаете чеченского лидера — и вам ничем рисковать не приходится (разве что в каком-то совершенно необозримом будущем). Вы не рискуете, вы в тренде. А эти люди, вопреки собственному благу, собственному благополучию, почему-то продолжают высказывать своё мнение. Ведь им никто за это не платит. Вы прекрасно всё знаете про эти госдеповские печеньки, и прекрасно знаете, что никак оппозиционная деятельность в России не оплачивается. Наоборот, она оплачивается беспрерывными уголовными делами, задержаниями, увольнениями с работы — масса неприятных вещей! А люди продолжают что-то делать: выходить на какие-то протесты, что-то там писать, говорить. Вы задумайтесь, Сергей Анатольевич, зачем они это делают. Наверное, у них есть довольно сильная мотивация. А сводить её всю к презрению к народу? Ну что вы, какое же это презрение, если они продолжают с этим народом, вопреки всему, разговаривать. Гораздо спокойнее и комфортнее было бы сказать: «Да вы самые духовные! Вы самые богоносные! Вы лучшие! У вас процент богоносности гораздо выше, чем у всех соседей! Ура! Продолжайте в том же духе!» Это было бы очень комфортно. И всем — чистые «Старые песни о главном». Но почему-то люди продолжают делать своё дело. Попробуйте задуматься, почему — и вам откроются удивительные перспективы.
«Ваше мнение: о каком еврейском счастье говорит Познер в многосерийном фильме?»
Мне кажется, что этот фильм как-то вызвал совершенно неадекватную реакцию. Действительно постоянные поиски антисемитов, в том числе поисков антисемитизма в Познере (что, по-моему, само по себе смешно). Ребята, попробуйте вы спокойнее немножко относиться и к этому фильму, и к Познеру, и к еврейскому вопросу. Что за раздувание? Почему израильским евреям кажется, что их оскорбили? А кому-то, наоборот, кажется, что русских оскорбили (хотя фильм, вообще-то, не про русских). Почему этот фильм вызвал такой интерес? Это что, ваш способ отвлекаться от реальности? Тут вообще непонятно, что в стране делается, а вы всё обсуждается фильм «Еврейское счастье» — на мой взгляд, довольно посредственный по всем параметрам, хотя там есть и любопытные диалоги.
«Премию «Большая книга» получил роман Яхиной «Зулейха открывает глаза». Ваше мнение о нём?»
Я сказал уже о том, что это довольно вторичная книга по отношению к советской литературе 70-х годов, она напоминает мне Айтматова немного. Она хорошо и профессионально сделана, там довольно милая героиня, но это тоже терпила, к сожалению. И я не увидел там героя, который бы меня захватил. Понимаете, это всё хорошо, это всё по правилам, это всё с соблюдением литературного канона, но в этом нет прорыва, — того прорыва, за которым хотелось бы идти и литературно, и по-человечески. Но, безусловно, для тридцатилетнего автора это выдающийся успех. И я уверен, что Яхина ещё нас не раз приятно удивит.
А сейчас я должен опять сделать перерыва на три минуты.
НОВОСТИ
Д. Быков― Дорогие друзья, продолжаем разговор. Это программа «Один», Дмитрий Быков в студии. Я немножко поотвечаю на вопросы уже не форумные, а пришедшие в письмах. Они, мне кажется, как-то интимнее, что ли.
Костя спрашивает: «Дмитрий Львович, доброй ночи! — и вам также. — Разделяете ли вы понятия «любовь» и «влюблённость» или считаете их равнозначными?»
Разделяю, конечно. И вообще, если в языке есть для этого два разных слова, то естественно, что и понятия эти не тождественны. Но я влюблённость люблю больше, честно вам скажу. Одна очень умная русская актриса, очень сильный и умный человек (не буду её называть), мне когда-то в интервью сказала: «Я всегда к состоянию любви относилась с ненавистью. Это мучительная зависимость, страшная зацикленность на другом. И я считала это всегда слабостью, недостойной себя. И мне тяжело об этом вспоминать, больно. Два раза в жизни была влюблена [любила] — и оба раза была страшно несчастна. При том, что была полная взаимность, но это меня парализовало. А влюблённость — это всегда так прекрасно!» И неслучайно у Блока сказано: «О, Влюблённость! Ты повелительней звуков военной трубы!»… «О, Влюблённость! Ты слаще любви!» — по-моему, даже так там сказано. Конечно слаще. Влюблённость — это такой вечный конфетно-букетный период.
Знаете, Костя, что я даже рискну вам сказать? Состояние влюблённости всегда было и остаётся для меня очень творческим. Когда ты влюблён, ты пишешь легко, ты как-то хорошо к себе относишься. А особенно возникает повышенное самоуважение, когда после первого раза (как правило, удачного всё-таки) возвращаешься домой вечером или ночью. Вот идёшь такой счастливый! Даже не ещё одна победа одержана, а просто ещё раз ты подтвердил, что ты кому-то нужен. А любовь приводит к совершенно другому ощущению. Грех себя цитировать, но:
И после затянувшейся беседы
Выходит в ночь, в московские сады,
С неясным ощущением победы
И ясным ощущением беды.
У некоторых женщин очень честных, когда я видел в их глазах (случалось) любовь, я видел и состояние испуга и беспомощности, потому что — вот теперь это случилось, и мы теперь связаны. И как жить? Помните, как у Толстого: «Ещё один крючок всажен в плоть, ещё одна болезненная дёргается нитка». Вот так и здесь: влюблённость — это весело и приятно, а любовь — это тяжело и страшно. Это [любовь] тоже очень хорошо, конечно, но это состояние ответственности и мучения.
«У Иванова в «Сердце Пармы» есть слова: «Что такое грех? Человек идёт по судьбе, как по дороге. С одной стороны — стена, с другой — обрыв; свернуть нельзя. Можно идти быстрее или медленнее, но нельзя не идти. Что же тогда это такое — грех?»
Видите ли, здесь изложена абсолютно фаталистская, я бы даже сказал — языческая концепция. Потому что жизнь христианина — это как раз серпантин… даже не серпантин, а цепочка бесконечных развилок, ведь ты всё время выбираешь. Это не дорога над обрывом, а это путь в Саду расходящихся тропок. Так что здесь нет никакой предопределённости. И, к сожалению, понятие греха есть. Было бы слишком легко, если бы человек ни за что не отвечал.
«Помогла ли вам специально приготовленная для выступлений майка, купленная за 600 рублей в центре Москвы? Какое отношение русскоязычной публики в Америке к происходящему у нас? Как вы почувствовали? И настало ли время, когда уже надо мыслить и говорить притчами?» — спрашивает Ирина.
Майка, которую я широко анонсировал, где Путин бьёт Обаму ногой в челюсть пяткой, и Обама так недоумённо отшатывается, «Наш ответ на санкции», — большим успехом пользуется эта майка, в особенности, когда просто ходишь по улицам. Все почему-то улыбаются. Видимо, им нравится. А может быть, они просто в душе сами так ненавидят Обаму, что хотели бы с ним так поступить. Ну, на самом деле сколько можно? Уже восемь лет у власти человек!
А что касается отношения к нашим проблемам. Отсюда всё выглядит страшнее. Собственно, как я пишу в материале о Платонове, который выходит сейчас в очередном «Дилетанте», у Платонова в «Епифанских шлюзах» есть ключевая фраза: «Жизнь вокруг была ужасна, а в общем — ничего». Когда человек присмотрелся, принюхался, когда он как-то уже привык в России под этой коркой жить… Там же под этой коркой свои цветущие сады, и не нужно думать, что сплошные кровь и гной. Нет, у российского человека масса удовольствий. И вообще российская жизнь даёт сильное ощущение своей правоты на фоне почти постоянной неправоты государства; она как-то полна самоутешений, какие-то «клейкие зелёные листочки». И вообще у нас не так ужасно, как это выглядит со стороны (я-то знаю изнутри это).
«Слышали ли вы историю, как в русской глубинке геймер убил одноклассника из обреза в живот из-за какой-то ерунды? Что вы думаете по поводу детей, которые увлекаются играми и отдаляются от родителей? Является ли это последствием недостаточного внимания к ним? Стоит ли запрещать детям пользоваться Интернетом?»
Екатерина, понимаете, если мы дальше пойдём дальше по вашей логике, то давайте им запретим читать. Они прочтут, как студент убил старуху — и им тоже захочется. Если мальчик ударил сверстника ножом — в этом менее всего виноваты компьютерные игры. В этом виноваты родители, которые его таким воспитали, и школа, которая недосмотрела. Имеет место очевидная патология, вот и всё.
«Интересно было бы узнать ваше мнение о сериалах «Симпсоны» и «Футурама».
«Симпсонов» я смотрел три серии. Это смешно, но я не понимаю, как можно к этому относиться всерьёз. «Футурама» — это мило, смешно, но как-то никогда меня тоже не занимало. И «South Park» я не смотрю. Понимаете, есть люди рождённые смотреть американские мультфильмы, а есть — не рождённые. Я вот совершенно не рождён.
«Прочитали ли вы роман Иванова «Ненастье»? Что вы думаете об этой книге?»
Я уже говорил много раз, что я об этой книге думаю. Она мне представляется самым значительным романом прошлого года — при том, что как роман она, на мой взгляд, не состоялась. Если бы Алексей Иванов более внимательно прочёл «Обыкновенное убийство» Трумена Капоте, он бы увидел, как пишется документальный роман, и, может быть, что-то больше бы усвоил про его композицию. Но в этой книге (в целом очень неровной) есть гениальные куски.
Во-первых, совершенно гениальный образ Тани, этой девушки, вечной невесты, которая не успевает расцвести, которая, даже будучи наложницей бандита, остаётся девственницей внутри. И девственна она потому, что какие-то ключи, какие-то главные тайны в ней не раскрыты. Это блестящая догадка. Очень много таких женщин я знаю. Второе — это всё, что касается Индии. Потому что там, когда герой попадает в Индию… Герой довольно безликий, кстати, стёртый. Но когда Алексей Иванов описывает Индию, видно, что это первоклассный фантаст (и начинавший как фантаст). Это цветистая, густая, пряная, совершенно сказочная жизнь. И вообще с великолепной силой это написано!
Понимаете, даже неоднородный, может быть, неровный роман Алексея Иванова — это всё равно лучше, чем десять хорошо написанных книг хорошо всё просчитывающих, но посредственных авторов, потому что Иванов (хорош он или плох в отдельный момент) осваивает новые территории, новые жанры. Вот он, даже когда пишет о прошлом, не архаичен, потому что он именно осваивает новые для себя жанровые возможности. Он философ, он пытается задавать и задаёт действительно серьёзные и не имеющие часто однозначных ответов вопросы. То, что написано в «Ненастье» о 90-х годах, где сама эпоха интерпретирована как ненастье, неуют, отсутствие опор, — там со многим можно спорить, но ощущение уловлено безупречно. Поэтому, что бы Иванов ни делал, он интересен всегда.
Вот хороший вопрос от Алексея. Привет вам, Алексей! «Можно ли считать у Стругацких инвариантом землянина, влюбляющегося в туземку?»
Да нет, конечно. Это не инвариант у Стругацких. Это «Аэлита». Так или иначе на это произведение кивали все последователи и все русские фантасты — необязательно ученики Алексея Толстого (например, как Ефремов), но вообще все. Это естественная история: наш парень прилетает туда, там влюбляется. У Стругацких это не такой уж и инвариант. Кроме «Обитаемого острова» так ничего и не вспомнишь ведь. Кстати говоря, в «Граде обреченном» он совсем не в туземку влюбляется. А интересная была бы параллель между «Обитаемым островом» и «Градом обреченным». Тут очень большая разница, на мой взгляд.
«Нет ли в этом союзе чего-то, вроде лужинского? Взять девушку честную, но без приданого, и непременно такую, которая испытала бедственное положение».
Нет, наоборот. Конечно, хорошая цитата, но Аэлита — она же марсианская принцесса. У Стругацких Рада Гаал красавица, в неё все влюблены, она там официантка. И я не стал бы, кстати, думать, что вот землянин обязательно уж так облагодетельствовал её своей любовью. Тут скорее наоборот. Тут скорее такая веллеровская тяга к максимальной удалённости, к максимальному диапазону чувств: что может быть более грандиозного и более вызывающего, чем полюбить инопланетянку?
«В лекции о Синявском вы говорите о трудности принятия мысли, что Бог постоянно смотрит на человека. Оруэлл проговаривается о своих отношениях с Богом: постоянно наблюдающий, вечно карающий, всё запрещающий, которого можно полюбить, только если всё потеряешь и предашь то, что ты любишь».
Интересная точка зрения. «Только размер потери и делает смертного равным Богу» [Бродский]. Но я не верю в то, что можно Бога полюбит из-за отчаяния, что, только всё потеряв, можно полюбить. Это какая-то такая эмоция садомазохистская, какая-то любовь к наслаждению самому греховному и самому противоестественному. Нет, любовь к Богу, по-моему, естественна, но просто как любовь к автору, когда книга интересная. Когда вы видите мир как текст, вы же всё равно предполагаете авторство. Когда я вижу мир, я чувствую почерк, и мне этому создателю хочется сказать «спасибо». Мне многие интенции этого творца близки. Вот в этом основа собственно и диалога.
«В чём, как вы думаете, загадка мировидения Фридриха Горенштейна?»
Прежде всего в том, что это мировидение трагическое, в котором нет снятых конфликтов и нет возможностей их разрешить. Мир по Горенштейну (собственно, как и мир по Леониду Леонову) — это неудача творца, это неудача творения. Человек не совершенен. И главная его книга, на мой взгляд, самая удачная — повесть «Искупление» — она как раз о том, что человек должен искупить своими страданиями как-то это несовершенство, эту изначальную ошибку в замысле; он должен дорасти до чего-то. Человек — это полуфабрикат. Вот, если угодно, так.
Ну и потом, у Горенштейна чрезвычайно жестоковыйный взгляд на еврейский вопрос. Для него конформизм, приспособленчество, постоянная попытка стать своим — это то, что он больше всего ненавидит. Об этом написан потрясающий роман «Место» — о том, как человек (вот этот Гоша Цвибышев) выгрызает зубами это место среди живущих. Для Горенштейна самое отвратительное — это побираться, приспосабливаться, добывать себе по-молчалински удачу, поэтому он человек очень радикальных мнений. Для него еврей, в отличие от иудея, — это довольно позорная кличка; еврей — это тот, кто опять-таки недотянул себя до настоящего и полноценного избранника Божьего. При этом ведь можно не обращать внимания на его мировоззрение, а просто наслаждаться теми текстами, которые он с помощью этого мировоззрения написал, — конечно, прежде всего пьесой «Бердичев», пьесой «Детоубийца» (из которой, как я помню, Фоменко сделал гениальный спектакль «Государь ты наш, батюшка…»). Горенштейн открывает много возможностей им наслаждаться.
«Дорогой Дмитрий, как Каину вернуть веру в Бога?»
Хороший вопрос. У Каина всегда была вера. Не в вере вопрос. Он даже, наоборот, слишком верил. Он думал, что у него есть право убить Авеля и что это право дал ему Бог. Как ему научиться понимать Бога? — вот в чём вопрос. Каин же искренне верит, что Бог на его стороне. Он понимает, конечно, что Бог отклонил его жертву, но вместе с тем он понимает, что раз Бог дал ему возможность убить, то как же не воспользоваться? В этом-то весь и ужас, что он в Бога-то верит, но он просто не очень хорошо его понимает (почему его жертва и неугодна).
«С чем связано то, что в Америке и в Западной Европе толерантнее, чем в России, относятся к людям с синдромом Дауна или к людям, страдающим аутизмом? Откуда это неприятие не таких, как мы?»
Я думаю, что всё это, к сожалению, в России связано ещё просто с недостатком времени, не успела сформироваться культура отношения к другому. Между тем, в России вообще, в настоящей России, в коренной России отношение к больным, калекам, юродивым, убогим всегда было уважительным и в каком-то смысле даже суеверным, поэтому не стал бы я здесь уж так выделять американскую гуманность. Я знаю множество волонтёров в России, которые с детьми-аутистами работают прекрасно. Да и дочь моя, кстати говоря, тоже специалист по этому же самому. Поэтому я не стал бы говорить, что в Америке толерантнее это отношение.
Даже больше я вам рискну сказать. Понимаете, здесь должно быть очень много какого-то целомудрия в отношении к этой проблеме. Когда детей с синдромом Дауна или взрослых людей с синдромом Дауна размещают в фотопроекте «Тайная вечеря» — мне в этом видится какое-то кощунство ужасное. Я ничего не могу с собой сделать, простите меня! Я не могу этого даже объяснить, но мне кажется это кощунством двойным — и по отношению к ним, и по отношению к тайной вечере. Хотя для многих это прекрасных художественный проект, а для меня — нет. Но вы же меня спросили. Я готов на себя принять упрёки в ретроградстве. Я просто считаю, что в России (может быть, с гораздо меньшим шумом, с гораздо меньшим пиаром) работа с больными детьми идёт. И те, кто её ведёт без награды и без надежды, по-моему, более трогательны, чем любые заграничные их коллеги.
«Когда вы находитесь в Израиле, вы себя ощущаете русским или евреем?»
Да я не нахожусь в Израиле. Я один раз посетил Израиль во время книжной ярмарки — и больше не хочу совершенно (и то я сделал это по приглашению). Я постоянно читаю о себе какие-то дикие сплетни, рассказываемые правыми израильтянами, что я приехал туда выступать (чего не было), что меня там во время выступления выгнали из зала (чего и быть не могло никогда по определению, потому что попробовал бы кто меня во время выступления откуда-то выгонять). Нет, там ничего подобного не было. Дискуссий у меня там было много, это верно, но отзывы о встречах со зрителями были самые доброжелательные от тех людей, которые на этих встречах были. А дураки, которые распространяют сплетни, — кому это интересно? Но ездить туда мне действительно совершенно не интересно. Мне интересно ездить туда, где я могу себя ощущать не русским и не евреем, а говорить и думать о будущем, а не о каких-то архаических идентичностях, которые для меня совершенно не интересны: ни возраст, ни пол… Ну, пол бывает интересен. Как говорил Сергей Вольф: «Насладимся разницей наших полов». Это да, конечно. Но исходить из половых или гендерных, или расовых, или национальных предпочтений — по-моему, это совершенно смешно.
Кстати, отвечаю на вопрос: что я думаю о демарше артистов, которые бойкотируют «Оскар»? Ну, не нашлось действительно в этом году такого чернокожего исполнителя, чтобы его номинировать. Что, процентную норму, что ли, вводить, как для евреев? Не понимаю я этого. И вообще мне как-то смешны эти идентичности.
«Бродский неоднократно говорил, что главное в стихах — композиция. Как вы это понимаете? И согласны ли вы с ним?»
Георгий, он говорил вообще-то, что главное — просодия. Насчёт композиции там всё сложно. Я считаю со своей стороны, что композиция в русском стихотворении — чисто на прикладном уровне (если мы сейчас говорим с вами как профессионалы) очень важная вещь. Пожалуй, здесь самое верное интуитивное озарение принадлежит Гумилёву, говорившему, что в стихах должно быть нечётное количество строф, а лучше бы пять/семь. Почему нечётное? Потому что стихотворение ставит ряд вопросов, в чётных строфах их закрывает, а в конце всё-таки остаётся с вопросом не отвеченным. Как бы идёт такая диалектика: «А — Б; А — Б; А — Б…», и потом всё-таки — А (разомкнутое, открытое). Ну, это на каком-то самом прикладном уровне, на уровне, что ли, конструктивном.
Вообще-то, в стихотворении, конечно, главное не композиция, а главное — это чтобы оно, проведя тебя через какие-то ходы на плоскости, вдруг тебя с этой плоскости как-то вырвало, показало тебе высоту, поставило тебя в точку над плоскостью, заставило тебя соединять девять точек, как в известной математической загадке, через десятую. Вот стихотворение должно делать это. Композиционная ли это проблема — не знаю. Мне кажется, в значительной степени — просодическая.
«Как вы относитесь к творчеству Дос Пассоса? Прочитал его американскую трилогию. Метод кажется весьма ограниченным. Забавно — человек симпатизировал СССР, а в итоге воспел американский капитализм».
Ну, симпатизировал он ему достаточно ограниченно, но он симпатизировал так называемой «литературе факта», которую активно продвигал ЛЕФ. Дос Пассосу интересно было сочетание журналистских и литературных методов. На мой взгляд, он в этом смысле очень был убедителен. Мне интересен метод коллажа документов, который он применил. Это в России делали, кстати говоря, многие — в частности Всеволод Вишневский, который тоже призывал учиться у Запада и тоже был скрытым модернистом. Я не думаю, что Дос Пассос симпатизировал Советскому Союзу. Он симпатизировал советскому журнализму, у которого многому научился. Кроме того, я не думаю, что Дос Пассос воспел американский капитализм.
Вот мне пишет Лёша, что «Трудно быть богом» — это тоже влюблённость в туземку. Понимаете, там немножко другая история. Там эта Кира… Как бы сформулировать, в чём разница. Он же её полюбил не так, как Максим Каммерер полюбил красавицу Раду. Вот как раз разница между любовью и влюблённостью! Каммерер в Раду влюблён, как влюблён конкистадор, завоеватель, а Кира (или Ари у Германа) в романе Стругацких «Трудно быть богом» — это скорее именно любовь-жалость, любовь-сострадание, это его единственное утешение; это даже, в общем, и не любовь, а какая-то странная форма родства. И думать, что он за счёт этой туземки самовозвышается, невозможно никак.
«В своё время вы включили стихотворение Михаила Щербакова «Русалка, цыганка, цикада…» в число 100 лучших стихов русской поэзии, — включил. — Как вы понимаете это стихотворение? Кто такой мизерабль грандиозный, о котором говорится в последней строфе? Может быть, Иисус?»
Нет, я не думаю, что это Иисус. Я могу вам объяснить, почему я его включил. Видите ли, вот это тот самый случай, когда великолепно решена именно композиция. Там есть два типа, два несложившихся героя, две несовершенные биографии — он и она. Ох, как сейчас, наверное, сообщество Михаила Щербакова готовится объявить всё это наивным, неправильным! Они одни всё правильно понимают. Но я надеюсь, что они просто проигнорируют мою скромную попытку признаться в бесконечном уважении к их любимому автору. Они так его ревнуют, что готовы, кажется, задушить в объятиях. Пусть это будет таким моим скромным, я бы сказал, вкладом в рост их бесконечного самоуважения.
Как я это понимаю? Две несложившиеся судьбы. И тем не менее есть надежда, что после упоминания о своей и о чужой личной катастрофе есть кто-то третий всегда, — кто-то, кому удастся неожиданно из этих двух судеб извлечь урок. Это довольно частая фигура у Щербакова — кто-то невзрачный, незаметный, кто тем не менее собой оправдает нашу жизнь. Это есть у него и в замечательной песне «Природа не терпит пустоты», где вот это: «Изгнав меня, натура выполнит кульбит». Помните, где как раз об этом будущем герое говорится:
Кто мог подумать — неказист,
непривередлив, ни в одном
глазу безумия с серьгой —
ну совершенно не цыган!
И вот этот голос:
Ну и ну!
Да он умеет! Я не знал!
Этот неожиданный мизерабль — такой неуклюжий, такой непрезентабельный, — который своим присутствием в мире, своей частной трагедией оказывается, оправдывает всю тщету наших жизней. Мне кажется, что это просто композиционно очень хорошо решено, не говоря уже о том, что прекрасная широта лексики, замечательная энергия изложения, прекрасно выбранный амфибрахий, очень хороший. Нет, это очень сильное стихотворение, и музыка там, по-моему, превосходная.
«Нашёл такую строфу у Шаламова:
Зови, зови глухую тьму
И тьма придёт.
Завидуй брату своему.
И брат умрёт.
И она мне показалась самой страшной в русской поэзии. А какой стих в вашей памяти, от которого веет холодом?»
Я не могу сказать, от какого веет холодом. Хотя, на мой взгляд, уж если от чего и веет холодом — холодом бессмертия, холодом абсолютной гениальности, — так это от песни Председателя в «Пире во время чумы». Вот там просто какой-то звёздный ветер шевелит волосы! Это страшные стихи. Но если говорить о стихах действительно страшных, таких безвыходных, то, пожалуй, всё-таки пушкинское «Заклинание»:
О, если правда, что в ночи,
Когда покоятся живые…
Вот это, по-моему, самое страшное стихотворение. Георгий Ива́нов вспоминал, как он слышал это в исполнении, кажется, Шилейко — и просто волосы шевелились у него на голове от страха! Да, это очень страшное стихотворение, конечно. Кстати, и «Бесы» тоже, чего уж там говорить…
Вот прислали мне опять материалы для «Послезавтра». Спасибо. Всё продолжается.
«В лекции про БГ приятно, что из наиболее ярких альбомов самый приятный — это «Русский», самобытный и неподражаемый». Да, я тоже так согласен, хотя я вообще считаю, что БГ всегда был не похож на Боба Дилана, и здесь я с вами не согласен.
«Язык политкорректности задуман, насколько я могу понять, для расширения возможностей общения антагонистов, чтобы не называть друг друга обидными словами, а спорящим оставаться в одной комнате, условно, продолжая разговор. Но со временем метод зашёл слишком далеко и теперь не расширяет, а сужает возможности самовыражения и называния вещей своими именами. Политкорректность сама стала центром споров, вытесняя другие темы, и позволяет переводить дискуссию с существа дела на детали и придираться к словам».
Я совершенно с вами согласен. Но, видите ли, любая попытка выработать общий язык сужает возможности языка — точно так же, как попытка прийти к некоему компромиссу всегда унижает обе крайности и делает их менее эстетически выразительными. Ничего не поделаешь, политкорректность — это такой вынужденный язык, который мы применяем, чтобы договариваться. Это не значит, что художественные тексты должны быть политкорректные или что социологические тексты должны быть политкорректные. Нет, политкорректность — это именно язык общения, ничего не поделаешь.
Вот очень хороший вопрос: «Готовлюсь к экзамену по истории зарубежной литературы. Прочёл в числе прочего «Карьеру Ругонов» Золя»… Ну, тут о том, что роман показался бесконечно вторичным, что Сильвер и Мьетта — это классические романтические влюблённые.
Правильно вы всё пишете, но дело в том, что Сильвер и Мьетта — это на самом деле не столько романтические влюблённые, сколько отчасти, как я уже говорил, в жанре высокой пародии, это попытка рассмотреть буколическую идиллию среди революционного процесса. Идёт революция, наступают кровавые события… Насколько я помню, там 1848 год, если я не путаю ничего. Сильвер и Мьетта — это идиллически влюблённые дети, которые помещены в эту среду. И помните, Мьетта с бессознательным неведением юности, понимая недостаточность его ласк, пытается его склонить к более решительным действиям, она пытается ему отдаться. А Сильверу семнадцать, и он ещё не готов овладеть этой пятнадцатилетней крестьяночкой, которая — ещё немного, и просто начнёт перед ним раздеваться. Вот здесь это очень точно поставлено. Понимаете, у Золя это аналогия между грехопадением и кровью, первыми кровавыми событиями. И то, что для Сильвера смерть совпадает с пробуждением чувственности в нём — это очень точная метафора самого Золя, его собственного мировоззрения.
«Волошин в 1915 году писал: «Единственное желание, которое у меня есть в этой войне, — это чтобы Константинополь стал русским». И Ива́нов писал об этом же. Наивно ли это?» — и так далее.
Вполне естественное для русской литературы (точно так же, как и для русской философии) желание, чтобы Константинополь стал русским, чтобы Севастополь стал русским. Это естественная вещь, потому что литература должна всегда тянуться к объединению или к возвращению прежних ценностей. Как только это из литературы уходит в политику — вот здесь-то и наступает кошмар. Каждый мечтает, чтобы на Айя-Софии опять возвышался православный крест. Но как только эти мечты из литературы превращаются в практику — сразу же, по-моему, они теряют очень сильно в обаянии.
«Прочёл роман Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея». Книга показалась несовершенной, рыхлой, слабой. За что вы её так любите? Может быть, Уайльд нарочно написал слабую книгу?»
Последнее отчасти верно. Конечно, это слабая, назидательная во многих отношениях книга, но она сильная, во-первых, художественно, изобразительно. А во-вторых, понимаете, по-моему, у вас та же проблема, что и с доктором Живаго — вы в сказке ищете художественную достоверность, от сказки просите реализма, а этого не надо, этого не бывает. Она наивная? Да. Но без сказки, наверное, без этой простоты, без этого примитива не были бы разрешены художественные задачи, которые Уайльд перед собой ставит в «Портрете Дориана Грея». А эти художественные задачи только в сказке и возможны. Обозначить связь между этикой и эстетикой — это столь фундаментальная проблема, что только в сказке она может решаться.
А нам с вами надо опять, к сожалению (в последний уже раз теперь), прерваться на три минуты.
РЕКЛАМА
Д. Быков― Ну, доброй ночи ещё раз! Мы с вами переходим в программе «Один» к самому сладостному для меня и для многих, самому бесконфликтному периоду, а именно — к лекции. Мы сегодня решили поговорить о Мандельштаме. Как вы понимаете, тема необъятная. Люди жизнь тратят на то, чтобы разобраться в каком-нибудь одном мандельштамовском восьмистишии — но, ещё раз говорю, не потому что это так трудно, а потому что это так быстро, потому что так много вложено, такой широкий ассоциативный ряд.
Понимаете, я не могу воздержаться от того, чтобы не прочесть лучшее, на мой взгляд, одно из лучших стихотворений в русской поэзии, даже не особенно его комментируя. Если бы в русской поэзии XX века ничего не было, кроме вот этого стихотворения и «Рождественской звезды» Пастернака, я думаю, всё было бы оправдано, очень многое было бы оправдано — конечно, не в социальном смысле, а просто все остальные современники могли бы ничего не делать.
Золотистого мёда струя из бутылки текла
Так тягуче и долго, что молвить хозяйка успела:
— Здесь, в печальной Тавриде, куда нас судьба занесла,
Мы совсем не скучаем, — и через плечо поглядела.
Всюду Бахуса службы, как будто на свете одни
Сторожа и собаки, — идёшь, никого не заметишь.
Как тяжёлые бочки, спокойные катятся дни.
Далеко в шалаше голоса — не поймёшь, не ответишь.
После чаю мы вышли в огромный коричневый сад,
Как ресницы, на окнах опущены тёмные шторы.
Мимо белых колонн мы пошли посмотреть виноград,
Где воздушным стеклом обливаются сонные горы.
Я сказал: виноград, как старинная битва, живёт,
Где курчавые всадники бьются в кудрявом порядке;
В каменистой Тавриде наука Эллады — и вот
Золотых десятин благородные, ржавые грядки.
Ну, а в комнате белой, как прялка, стоит тишина,
Пахнет уксусом, краской и свежим вином из подвала.
Помнишь, в греческом доме: любимая всеми жена, —
Не Елена — другая, — как долго она вышивала?
Золотое руно, где же ты, золотое руно?
Всю дорогу шумели морские тяжёлые волны,
И, покинув корабль, натрудивший в морях полотно,
Одиссей возвратился, пространством и временем полный.
Невозможно объяснить, почему это так хорошо! Невозможно объяснить, почему горло перехватывает, хотя, надо вам сказать, тут ничего трагического в этих стихах нет. Ну, если знать, конечно, что это Крым первых послереволюционных дней, это Крым, зависший в межвременьи. Даже если знать это и представлять себе всё, что потом там будет, всё равно чувства трагедии не возникает, а наоборот — есть чувство какого-то выпадения из времени и попадания в Элладу, в какой-то счастливый божественный мир, который существует независимо от внешних обстоятельств; в мир, в котором «виноград до сих пор, как старинная битва, живёт», и в нём «курчавые всадники бьются в кудрявом порядке». Но при всём при этом упоение кроткой, почти античной бедностью («Пахнет уксусом, краской и свежим вином из подвала»), аскетической жизнью («Мы совсем не скучаем»). Ясно, что судьба занесла в бегство, и это тоже попытка выпасть из истории. «Золотых десятин благородные, ржавые грядки» — вот это сочетание внутреннего тайного золота и внешней ржавчины, точно так же, как скудного быта и его содержания.
Это только очень приблизительный, очень робкий перечень тем, на которых стоит это стихотворение, потому что в основном, конечно, это замечательная торжественная мелодия. Обратите внимание, что каждая строфа отдельно. Как говорил когда-то о Мандельштаме Шкловский: «Каждая строка отдельно». Действительно стихи Мандельштама отличаются такой насыщенностью, что каждое двустишье можно было бы растянуть в отдельную поэму. И он вскользь бросает свои замечания. Страшная плотность речи!
Но при всём при этом, конечно, главное — это необычайно высокое гармоническое звучание, это уверенность в изначальной гармонии мира, которая есть у Мандельштама всегда, даже в хаотических, безумных воронежских стихах, в которых действительно мир срывается, летит в бездну, ничто не остаётся на месте. Но мы потому и ощущаем этот хаос, что изначально Мандельштам — поэт классической благодарной гармонии, гармонии с миром, понимания и приятия его.
Тем не менее, я хотел бы сегодня больше говорить не о Мандельштаме раннем, не о классическом, не о «Камне» и не о «Tristia», в которых эта гармония ещё есть, а прежде всего о его знаменитой оратории, как он сам это называл, так её странно жанрово определяя, — о «Стихах о неизвестном солдате», которые интерпретированы множество раз. Последняя интерпретация — попытка быстрого чтения таких ассоциативных, мгновенных ходов — есть в довольно любопытной статье Олега Лекманова, в которой я ни с чем не согласен, кроме именно самого метода; метод мне чрезвычайно приятен и интересен. Есть фундаментальные работы Лидии Гинзбург о Мандельштаме. Есть очень интересные статьи Ирины Сурат, внимательно, тщательно, с привлечением огромных контекстов читающей эти стихи.
Но для меня «Стихи о неизвестном солдате» прежде всего встраиваются в ряд главных русских поэм XX века, которые написали главные русские авторы: это «Про это» Маяковского, это «Спекторский» Пастернака, это «Поэма без героя» Ахматовой и отчасти, я бы сказал, всё-таки, наверное, «Поэма конца» Цветаевой. Вот в этом ряду для меня «Стихи о неизвестном солдате». Это пять классических русских поэм 20–30 годов, которые рассматривают апокалиптическую ситуацию, ситуацию после конца времён. И у Маяковского в поэме «Про это», где кончается жизнь, кончается любовь, кончается личная утопия и начинается всеобщая, потому что личность кончилась, и у неё ничего не получилось. Так же собственно и в «Спекторском». Так же и в «Поэме без героя» (правда, в «Поэме без героя» дан ещё выход через войну). Все эти поэмы об одном — они о крахе прежнего века и о начале века нового, который уничтожает человека, и начинается что-то принципиально другое.
Вот здесь я хотел бы обратить внимание на то, что все эти поэмы писались как наваждение. Я рискнул бы сказать, что есть такой жанр «наваждение». Леонид Леонов свою «Пирамиду» называл тоже «роман-наваждение». Почему? Потому что, во-первых, это вещь, от которой нельзя оторваться, которую нельзя закончить. Мандельштам не мог закончить «Стихи о неизвестном солдате» почти полгода. Он создавал новые варианты, иначе располагал эти куски, «кусты», как он их называл. Ахматова 20 лет писала «Поэму без героя». Пастернак 10 лет мучился со «Спекторским» и с «Повестью», из которого она выросла («Повесть» — это название прозаической части). Маяковский задумал «Про это» очень давно, но написал её, заставив себя и поставив себе искусственные рамки, в течение первых двух месяцев 1923 года, уйдя в своеобразное домашнее затворничество. Все эти вещи имеют характер бреда, наваждения. Вот Мандельштам всё говорил жене: «Передо мной всё какие-то бугры голов, когда я думаю о Сталине. Он передо мной вещает всё время над какими-то буграми, холмами. О чём он с ними говорит?»
Тема мандельштамовской поэмы та же, что и в «Поэме без героя», — это то, как не сложившаяся, не получившаяся утопия разрешается самоубийственной войной. Война у Ахматовой — это личная и всеобщая расплата за частные грехи. Все грешили – и вот пришло время расплачиваться. И вот наша расплата — мы гибнем. И гибнем, наверное, не по грехам. Слишком суровым, слишком страшным оказалось наказание за все эти игрища.
У Мандельштама тема точно та же — утопия просвещения.
Для того ль должен череп развиться
Во весь лоб — от виска до виска,
Чтоб в его дорогие глазницы
Не могли не вливаться войска?
Утопия вот этого бесконечно развивающегося мозга, утопия познания разрешается чудовищной оргией самоуничтожения:
Наливаются кровью аорты
И звучит по рядам шепотком:
Я рождён в девяносто четвёртом
Я рождён в девяносто втором.
Люди вот этого поколения — люди конца XIX века — несут расплату за всю предыдущую человеческую историю. И это эра конца личности. И неслучайно главная тема этой поэмы — это именно конец личности. Это стихи о неизвестном солдате, о превращении главного героя в мертвеца без имени, в мертвеца без памяти.
И в кулак зажимая истёртый
Год рожденья с гурьбой и гуртом…
(Вот именно превращение в эту гурьбу, в эту толпу.)
Я шепчу обескровленным ртом:
Я рождён в ночь с второго на третье
Января в девяносто одном
Ненадёжном году — и столетья
Окружают меня огнём…
Алло! Простите, со звуком проблема, отклонился я от микрофона. Ничего не поделаешь, связь накладывает свои ограничения. Теперь слышнее.
Так вот, главная тема поэмы Мандельштама — это исчезновение личности, её растворение в бесконечных рядах голов и в этом бесконечном земляном, сыплющемся потоке, потому что там физически передана… Мандельштам стремился физически передавать ощущение куска золота или ощущение лазури, или ощущение огня. Физически передана вот эта сыпучая, страшная, чернозёмная, абсолютно воронежская стихия разламывающейся, размывающейся почвы:
…Пасмурный, оспенный
И приниженный гений могил…
Количество ассоциаций в этом стихотворении, ассоциативных точек… Ассоциативная клавиатура исключительно богата. Заставляет она вспоминать то стихотворение Случевского о миллионах солдат, которые приближали окарины империй, завоёвывали эти окраины. Заставляет она вспоминать меня, например. Для меня ближайшая ассоциация — это марш «Прощание славянки» агапкинский. Мне кажется, что именно на этот марш, на эту музыку и написаны эти слова:
Аравийское месиво, крошево…
Миллионы убитых задёшево,
Протоптали тропу в темноте.
Доброй ночи! Всего им хорошего…
Мне кажется, что это ритм «Прощания славянки», русский военный ритм — вот этот страшный, загробный анапест с добавочной стопой, который вообще обнимает собой всю ассоциативную клавиатуру русской военной поэзии.
Но при этом, конечно, «Стихи о неизвестном солдате», на мой взгляд, не нуждаются в дословной расшифровке. Во всяком случае, для современного школьника они не нуждаются. Я не устаю цитировать догадку одного из своих замечательных школьников. Как только ни интерпретировали вот эти слова:
Ясность ясеневая и зоркость яворовая,
Чуть-чуть красная мчится в свой дом,
В полуобмороке затоваривая
Оба неба с их тусклым огнём.
О чём идёт речь? Я встречал, по-моему, у Павла Нерлера, блестящего исследователя Мандельштама, даже мысль о том, что, возможно, имеется в виду красное смещение — разлетание галактик. Но я не думаю, что Мандельштам что-нибудь слышал о доплеровском смещении. Я думаю просто, что, как правильно сказал этот школьник, «Ясность ясеневая и зоркость яворовая, // Чуть-чуть красная мчится в свой дом» — это листопад, это просто листья падают. И неслучайно же в этой поэме возникает образ падающей, сыплющейся листвы — так же осыпаются бесчисленные человеческие жизни. И неслучайно в «Поэме без героя» у Ахматовой мы читаем почти тем же размером:
Как в минувшем грядущее зреет,
Так в грядущем прошлое тлеет
Страшный праздник мёртвой листвы.
«Страшный праздник мёртвой листвы» — вот где самые страшные строчки в русской поэзии. Это бесконечное опадание листьев, опадание новых и новых жертв.
Мандельштам в «Стихах о неизвестном солдате», конечно, живописал не только свой ужас перед растворением личности в этих бесконечных исчезающих рядах. Он, конечно, рассказал здесь о чисто физическом, тоже ассоциативно переданном (не буквально) ощущении накрывающей всех, засыпающей всех земли. Это взрывы, это окопы, это холмы могил. Это уход всего в почву, вот это страшное ощущение ухода истории куда-то в органику, в глину, в почву, ощущение кончившихся рельсов. Потому что здесь действительно заканчивается внятная и разумная история просвещения, здесь заканчивается логика — и начинается страшная жизнь толпы, начинается алогичная, лишённая смысла, лишённая стержня страшная жизнь почвы, в которую всё уходит.
Я могу понять отчаяние человека, который это написал, потому что ведь Мандельштам на самом деле предвидел мировую войну. И он понимал, что мировая война — это неизбежная (страшно сказать, естественная, но скажем просто — неизбежная) расплата за несостоявшийся новый мир. Ясно, что нового мира не будет, и поэтому на смену ему приходит эта чудовищная оргия взаимного уничтожения.
Нельзя не сказать несколько слов о том, почему Мандельштам оказался в России самым популярным и самым элитарным поэтом. Конечно, не только потому, что он написал гениальные стихи «Мы живём, под собою не чуя страны». Даже цитировать сейчас уже страшно:
А где хватит на полразговорца,
Там помянут кремлёвского горца.
Это звучит сегодня уже так, что страшно просто тиражировать. Но Мандельштам здесь силён, конечно, не этим.
Мандельштам в 1933 году сказал Ахматовой: «Поэзия сегодня должна быть гражданской». Вдумайтесь! Тот самый Мандельштам, который сказал когда-то: «Поэзия никому ничего не должна», — вдруг в 1933 году говорит: «Поэзия должны быть гражданской». Почему именно Мандельштам — эстет, поэт утончённый, чрезвычайно сложный, владеющий опять-таки огромным полем культурных ассоциаций, свободно вплетающий в стихи и газетную цитату, и Леконта де Лиля, и множество своих современников, — каким образом Мандельштам стал таким народным? Ответ на этот вопрос довольно парадоксальный.
Дело в том, что пресловутая трусость Мандельштама (она ничего общего не имеет, конечно, с реальной трусостью) — это обострённая чувствительность; это то, что Ходасевич называл «через меня всю ночь летели колючих радио лучи». Это сверхчувствительность поэта, которая была у Маяковского, Ахматовой, Пастернака. Конечно, Мандельштам чувствовал всё то, о чём другие боялись даже подумать. Мандельштам это формулировал. Поэтому его «вечный трепет», который называли иногда «иудейским трепетом» (хотя, конечно, к иудаизму никакого отношения это не имело), его вечный трепет невротика, его постоянный страх, его ощущение великих перемен — именно это позволило ему написать «Четвёртую прозу», именно это позволило ему в самом начале, в первый год ужасного десятилетия, 30-х годов, сказать, что «страх стучит на машинках», страх заставляет всех прорываться в какую-то чудовищную необъяснимую жестокость. «Обвесила кассирша — убей его! Перепутал цифру — убей его!» — вот это ощущение страшной жестокости и страшного постоянного взаимного преследования.
Разумеется, Мандельштам здесь угадал то, о чём другие боялись и думать. Пока они себе внушали, что, может быть, до самого-то страшного не дойдёт, и «жить стало лучше, жить стало веселее», он первым своей гениальной интуицией физически почувствовал, что наступает время кошмара, время сплошного и мрачного террора, и что сопровождаться этот террор будет сначала, конечно, тщательно организованной деградаций.
Я склонен согласиться с очень точной, на мой взгляд, статьёй Юрия Карякина, где он интерпретировал мандельштамовского «Ламарка», именно как стихотворение не просто о лестнице революции, но о спуске по ней, о том, как отказывает зрение, слух, как расчеловечивается толпа. Это именно о том, как природа забыла опустить «подъёмный мост». Это о том, как люди сами добровольно по подвижной лестнице революции сходят в ад, в ад безликости. Это та же расчеловеченность, которая есть в «Стихах о неизвестном солдате», те же расчеловечивание и распад, но угаданные ещё за четыре года до того. Кстати сказать, я-то думаю, что стихотворение Мандельштама «Ламарк» восходит не только к «Выхожу один я на дорогу…», как замечательно показал Жолковский, но и к стихотворению Брюсова:
Вскрою двери ржавые столетий,
Вслед за Данте семь кругов пройду,
Воззову сонм призраков к суду!
Эта идея спуска в ад, написанная тем же размером, мне кажется, у Брюсова выражена. И, конечно, Мандельштам отсылается к нему. Но то, что расплата за утопию приходит именно через расчеловечивание, через спуск по подвижной лестнице революции, у него угадано абсолютно точно. Вот с нами такими — «И от нас природа отступила // Так, как будто мы ей не нужны», — с нами, лишёнными зрения и слуха («Наступает глухота паучья, // Здесь провал сильнее наших сил»), можно делать уже всё что угодно. Эта летопись, хроника деградации Мандельштаму удалась гениально.
Но, видите ли, тем сильнее, тем ослепительнее сияют в совершенно безвоздушном пространстве написанные его воронежские стихи. Я, честно говоря, больше всего люблю «За Паганини длиннопалым»:
Утешь меня Шопеном чалым,
Серьёзным Брамсом, нет, постой:
Парижем мощно-одичалым,
Мучным и потным карнавалом
Иль брагой Вены молодой —
И вальс из гроба в колыбель
Переливающей, как хмель…
Вот этот вечный хмель истории, пусть кошмар, пусть ужас, но её опьянение. У Пинчона в моём любимом романе «Against the Day» есть такая сцена путешествия во времени, где герои, когда путешествуют сквозь время, слышат мощный трубный рёв, в котором уже чуть-чуть — и можно будет различать голоса, но всё ещё их не слышно; и страшный запах экскрементов и рвоты. Вот это путешествие сквозь историю. Это убедительно и здорово сделано. А вот у Мандельштама, когда он путешествует сквозь историю, слышен только звон скрипки и запах хмеля:
И вальс из гроба в колыбель
Переливающей, как хмель
Играй же на разрыв аорты
С кошачьей головой во рту,
Три чорта было — ты четвёртый,
Последний чудный чорт в цвету.
Почему три чёрта? Это знаменитый мультфильм «Четыре чёрта», в 1913 году вышедший, где пьяница вытряхивает чертей из бутылки. И последний чертёнок, которого он вытряхивает — скрипач. И этот скрипач ему играет песенку. Вот отсюда собственно и идёт эта ассоциация Мандельштама. Всё просто, всё из мультяшки. Но то, что Мандельштам слышит скрип, то, что его обоняет вот этот хмельной запах там, где все остальные уже видят только распад и ужас, — это величайшее жизнеутверждение! И поэтому Мандельштам — это для меня вечное торжество человеческого духа.
А мы с вами услышимся через неделю.
*****************************************************
29 января 2016
-echo/
Д. Быков― Добрый вечер, дорогие друзья. В студии один, а точнее вместе со всеми вами, Дмитрий Быков. Привет полуночникам! Я сейчас попробую во всяком случае ответить в течение часа на форумные вопросы.
А что касается лекции, то заявок много, но они взаимоисключающие. Очень многие просят поговорить о романе Бориса Натановича Стругацкого «Бессильные мира сего». Почему-то сейчас он вызывает некоторые бурления, хотя прошло уже 15 лет с тех пор, как он написан. Есть просьбы прочитать о Бродском, но напоминаю, что о Бродском лекция уже была, и даже не одна. Есть много просьб поговорить о Маяковском в связи со скорым выходом книжки. Если хотите — пожалуйста. Хотя я всё больше боюсь. Понимаете, чем больше смотришь на только что написанную книгу, тем больше испытываешь своего рода шок роженицы: всегда кажется, что получилось не совсем то. Но если хотите, то можно о Маяковском какие-то вещи. И очень много вопросов о книжке про Ахматову, которую мы собираемся делать (почему я не говорю «писать» — это отдельная тема) вместе с Максимом Чертановым. Если хотите, возможны и такие варианты. У вас есть два часа, точнее полтора, для того чтобы сделать окончательный выбор.
А пока я начинаю отвечать на вопросы.
«Как вы относитесь к книгам и статьям покойного Георгия Мирского? Разделяете ли вы его взгляды на проблемы Ближнего Востока? Можете ли рекомендовать изучение его наследия?»
Георгия Мирского, Царствие ему небесное, я даже немного знал, делал с ним интервью, разговаривал с ним, был с ним в переписке. У меня всегда было ощущение, что этот человек знает колоссально много, причём знает в той области, которая для меня абсолютно темна, поэтому естественно, что никаких дискуссий между нами быть не могло. Но знал он очень много и в разных других областях. Последняя наша с ним переписка, последнее его письмо было по поводу перевода одной фразы Изгоя (Misfit) из Фланнери О’Коннор. То есть он продолжал живо интересоваться огромным количеством вещей. Я не могу сказать, что я солидарен или не солидарен с его концепциями (я не настолько знаю вопрос), но я его мнению доверяю, безусловно. Мирский был человек, прошедший очень большую школу жизни, и хороший человек, поэтому его мнениям я склонен верить.
«Был Международный день памяти жертв Холокоста. Что бы вы могли порекомендовать подрастающему поколению читать из научной или художественной литературы?»
В первую очередь — подготовленную Павлом Нерлером книгу, где содержатся, где впервые опубликованы чудом сохранившиеся записи (буквально из-под пепла извлечённые) людей, которые работали в похоронных командах. Я не помню точно сейчас название. По-моему, «Книга пепла» [«Свитки из пепла»] называется эта книга. В любом случае по публикатору, по Павлу Нерлеру вы легко найдёте, что вышла, кажется, в прошлом году такая книга — свод этих чудом откопанных, чудом реставрированных свидетельств.
«Дневник Анны Франк» — безусловно (здесь я не оригинален). «Чёрную книгу», составленную Гроссманом и Эренбургом. Это я называю только те свидетельства, которые первыми приходят на ум, а на самом деле это огромная литература. Наверное, из художественной литературы я бы вам порекомендовал один рассказ Ромена Гари — «Самая старая история» (конечно, в переводе Серёжи Козицкого, друга моего), рассказ, который меня так потряс лет двадцать тому назад, что я так в себя и не пришёл.
Понимаете, дело в том, что Холокост — одна из тех проблем, которые не осмыслены. Известно, что литература прибегает к журналистике, к приёмам и методам журналистики, когда сталкивается с вещами, которые в художественном тексте не осмыслимы. Вот поэтому собственно к такой полудокументальной стилистике прибегнул Рыбаков в романе «Тяжёлый песок». Холокост — это та драма, та трагедия (драмой это называть невозможно) человечества, которая не осмысляема ни в каких терминах, собственно, как ни один геноцид. Это невозможно вместить, поэтому только документалистика может справиться с этой темой. Я не знаю, какого класса и какого мировоззрения должен быть художник, чтобы без должного цинизма это исследовать. Это касается любых геноцидов. Холокост тут просто потому, что он наиболее масштабен, и потому, что он происходил среди цивилизованной Европы. Но, безусловно, из документальных свидетельств, мне кажется, «Дневник Анны Франк» — это наиболее наглядная вещь.
«В одной из передач вы высказали мысль, что атеизм как мировоззрение представляется вам неинтересным. Не могли бы вы пояснить, что вы имели в виду?»
Ну а что тут пояснять? Что видимый мир и есть предел, видимый мир и есть то, на что мы можем рассчитывать по максимуму? Что в мире нет тайны, всё может быть научно разъяснено? Понимаете, это может вызвать научное любопытство, но это не вызывает у меня тот высокий, трансцендентный, тот мистический интерес, который вызывает у меня всё-таки гипотеза Бога. Поэтому мне просто кажется, что атеизм — это более плоская картина мира, вот и всё, а религия — это такое 3D. Многим кажется наоборот. Я не заставляю их думать по-своему. Пусть и они (простите за грубое слово) замолкнут.
«Вопрос к вам как к педагогу. Каково ваше отношение к мыслителю и учителю Корчаку? Актуальны ли его идеи сегодня? Является ли его концепция любви к ребёнку реалистичной в жестокий век?»
Видите ли, Корчак гораздо шире своей книги «Как любить ребёнка». Ну, прежде всего Корчак — гениальный писатель. Одной из самых сильных книг моего детства, которые меня потрясли по-настоящему… То есть я помню свои ощущения от того, что книга недостоверно хороша, что книга не может быть так хороша. А что мы называем точным? Точное совпадение с нашими мыслями, с какими-то потайными чувствами. Очень многие, кстати, признавались, что книга Корчака «Король Матиуш Первый» (и её продолжение) подействовала на них, как их тайный подслушанный дневник, как их собственные мысли. Я очень любил эту книгу. До сих пор помню эту большую красную квадратную мину.
Что касается «Как любить ребёнка». Понимаете, вокруг Корчака очень много наболтано демагогии. Да, ребёнка надо любить, да, ребёнку надо доверять, но это всё же, в общем, слова. Корчак — это величайший практик педагогики. Педагогика должна быть в руке, это инструментальная вещь. Очень любят говорить: «Вот происходит небесное озарение». На самом деле всё очень чётко: выбрал правильный размер — получилось; не выбрал — не получилось. Точно так же и здесь. Это вопрос техники, вопрос приёма. Приёмы Корчака, описанные им, практически универсальны.
В чём основа методики Корчака, как я её понимаю? Хотя есть, конечно, замечательные статьи Александра Шарова о нём. И я думаю, что когда Шаров, один из любимых моих прозаиков, в «Новом мире» публиковал эти статьи, Корчак пришёл к русскому читателю, до этого о нём же знали очень мало. Понимаете, какая вещь получилась? Подвиг Корчака, его отказ покинуть детей, хотя ему и предлагали спастись, и уход с ними в газовые камеры — это подвиг такого масштаба, что он абсолютно заслонил его великое учение. И в результате мы обсуждаем Корчака-героя, иногда — Корчака-писателя, но совершенно не помним его как педагога. Между тем, идеи Корчака на самом деле близки идеям Макаренко, но они сводятся прежде всего к тому, что школа должна быть государством в государстве, что в школе должна быть своя газета, свои мастерские, в идеале должна ходить своя валюта — дети должны быть заняты делом.
Во-первых, он относится к ребёнку, как к взрослому. Как любить ребёнка? Это не должно заслоняться демагогией о том, что с ребёнком надо сюсюкаться и утипусичнисять, ничего подобного не нужно. К ребёнку нужно относиться, как ко взрослому, потому что масштабы его переживаний гораздо больше наших, у него всё впервые. С него надо спрашивать, как со взрослого. Ему надо поручать серьёзные дела. В его школе дети могли всерьёз голосовать «за» или «против» учителя. И его уход из «Панкраца» в конце концов (насколько я помню, из этой школы его), и его довольно мучительные отношения с коллегами — во многом это определялось тем, что Корчак разрешал детям определять собственную судьбу. И в конце концов его уход диктовался тем, что он почувствовал тайно падение своего авторитета. Точно то же почувствовал он, кстати, в отношении многих своих коллег. Он разрешал детям самим определять и учебную программу, и многие другие особенности своего поведения. Он доверял ребёнку больше, чем кто-либо…
Пардон, сейчас, подождите. Я просто пытаюсь найти название этого Дома сирот, потому что «Панкрац» — это название тюрьмы. А вот как Дом сирот корчаковский назывался? Я сейчас ищу тщетно в Google. Но я найду потом, безусловно, потому что всё помнить невозможно.
Его уход из этого дома был, конечно, его личной трагедией, понятное дело. И он даже воспринимал это, как своё педагогическое поражение. На самом деле это была его самая большая победа, потому что он дал детям большую самостоятельность. Ну, как Хрущёв говорил: «То, что вы меня снимаете — моя победа, потому что иначе бы в другое время или меня бы придушили, или я бы вас передушил. А вот то, что у нас происходит демократическая процедура — это значит, что я победил». И, конечно, то, что Корчак вырастил из них взрослых независимых людей, имевших собственное мнение, собственное право руководства этим интернатом, то, что старшие опекали младших и по сути играли роль сержантскую, поэтому там не было дедовщины, а там была демократия, — вот это как раз и представляется мне его величайшей заслугой.
Всё, что написал Корчак как педагог, дышит пониманием трагедии детства. Детство — это ответственейший, серьёзнейший возраст, и относиться к нему надо с огромным уважением, не скажу, что с огромным трепетом, но с придыханием, с серьёзностью. И вот это — основа его педагогики. Кроме того то, что дети у него постоянно заняты, то, что они ни секунды не попекаемые, а всё время решают какие-то серьёзные вопросы. Ну, как у Макаренко дети делали лучшие в мире фотоаппараты. Так что моё отношение к нему восторженное и глубоко уважительное. Он из тех педагогов и писателей величайших, кстати, которые меня не угнетают, с которыми я могу вступать в свободный диалог. Корчак же совершенно не императивен, и мне поэтому очень приятно рядом с ним находиться как с писателем.
«Почему в России резко негативное отношение к творчеству Ремарка? Неприятие его произведений является, видимо, следствием ментальных особенностей?»
Нет. Конечно, это неправда. Россияне (уж точно советские читатели) безумно любили Ремарка, любили его больше и раньше, чем Хемингуэя. Хемингуэй пришёл потом, и был гораздо более элитарен — он висел не во всех домах, а только, что называется, у продвинутой молодёжи. И Ремарка любили гораздо массовее, потому что он проще, нет подтекстов всяких. Вообще Ремарк — один из самых… Помните, как у Кушнера было сказано: «Как нравился Хемингуэй на фоне ленинских идей». Так вот, сначала начал нравиться Ремарк с его свободой, с его эросом, с его алкоголем. И, конечно, он был здесь одним из культовых персонажей. Правда, у нас любили больше всего не «На Западном фронте без перемен» (у нас жестокого реализма хватало своего), а любили, конечно, «Трёх товарищей», в некоторой степени — «Триумфальную арку». Я вот больше всего люблю «Ночь в Лиссабоне».
«Прав ли был Мирский, когда утверждал, что мирное решение арабо-израильского конфликта возможно?»
Я не настолько знаю проблему, чтобы оценивать здесь правоту или неправоту Мирского. Думаю, что мирное решение здесь рано или поздно произойдёт, но это случится не при нашей жизни и не в этом веке.
«Пробовали ли вы смотреть новый западный сериал «Война и мир» по Толстому? Многим русским зрителям это нравится».
Я посмотрел пока одну серию. Мне нравится. То есть он мне нравится в любом случае больше, чем «Анна Каренина» Джо Райта, потому что там была попытка иронически-постмодернистского отношения к тексту, а здесь наоборот — есть попытка его предельно реалистического прочтения. И хотя это не совпадает с толстовской призмой, через которую мы привыкли видеть мир, но это своя призма, и столь же интересная. Пьер мне нравится там очень. Обаятельный Пьер!
«Почему многие популярные радиоведущие увлекаются чёрным юмором в эфире? Нежелательно шутить на тему смерти».
Видите ли, я таких радиоведущих не знаю. Я во всяком случае на эту тему не шучу. Может быть, я даже слишком серьёзно к ней отношусь. Но вообще-то, слушайте, а почему надо к смерти относиться так серьёзно, а особенно к своей? К чужой, наверное, надо. Мне очень нравится набоковская цитата, приписанная им выдуманному мыслителю Пьеру Делаланду. Когда на похоронах Делаланд не обнажил голову, его спросили: «Почему вы не снимаете шляпу?» А он сказал: «Пусть смерть снимет шляпу первой перед человеком!» Мне кажется, это верно. Не надо уж так насчёт смерти париться. Конечно, Синявский называл её «главным событием нашей жизни», но для меня это (в моём представлении) всё-таки только портал, как хотите, это только порог.
А во-вторых, если всё время думать о смерти, так и жить не захочется, и не сделаешь ничего. Смерть, конечно, позволяет нам реализоваться на крошечном пятачке; она создаёт напряжение жизни. Может быть, в основе творческого процесса лежит как раз мысль о смерти, страх не успеть. Но эта мысль именно о пределе, о форме, а не о смерти как таковой. Каждое утро, как самураи, представлять себе разные способы самоубийства — это, простите, совершенно не моя практика.
«Мне нравится, как обаятельно ведёт своё радиошоу Сергей Доренко, хотя я не согласен с его политическими взглядами. Как вы сейчас относитесь к Доренко? Раньше вы вроде бы пересекались в эфирах».
В эфирах мы пересекались очень редко. Иногда он мне звонил — думаю, что по заданию сверху, чтобы тем или иным способом меня подловить. Хотя думаю, что он всегда хорошо ко мне относился и эти задания реализовывал максимально мягко. Это во-первых.
Во-вторых, мне вообще кажется, что Доренко — очень талантливый человек. Я с ним бываю часто не согласен, но он действительно выбрал абсолютно правильный ник. Он — расстрига. Он, как тот колобок: у всех побывал и ото всех ушёл, потому что нигде не вписался, как нигде не вписывается талант. Я его люблю. При том, что я люблю его за какие-то неочевидные вещи: за его знание испанского и Испании… Он меня всегда, кстати, консультировал по литературе, по географии испанской, он действительно хорошо и подробно её знает. И даже всю классику мировую он прочёл сначала по-испански, потому что на русский она не была переведена, а по-испански была. Вот он Фромма по-испански прочёл, я помню, он рассказывал.
Он умный. Он, безусловно, смелый. Мне нравилась его позиция по Лужкову в 2000 году. Я и продолжаю думать, что приди тогда Лужков к власти, его клан, то это было бы для России катастрофичнее. И вообще я как-то люблю людей талантливых. Он притягивает шишки, он умеет подставляться. Иногда он говорит и пишет вещи несовместимые с моими представлениями о порядочности. А почему он обязан быть с ними совместим? Всё равно он ярок. И всё равно он не впишется ни в одну страту ни при какой власти. Мне нравится, кроме того, его этот роман-антиутопия.
«Однажды Дмитрий Нагиев грубо выгнал с эфира семейную пару… Как получается, что люди не могут даже осознать, что поступают плохо?»
Нет, они могут осознать, и они прекрасно это осознают. Я говорил уже много раз об этом и не вижу смысла повторять. Дело в том, что настоящий грех — это грех осознанный. Люди получают иногда наслаждение от того, что переступают моральные нормы. Достоевский это подробно описал в «Записках из подполья». Самый сладкий сок, самое сладкое наслаждение — это сознательная, сознающая себя мерзость. Вот это и есть подпольные типы, это основа фашизма. Люди очень любят сознавать, что они плохо поступили, потому что без этого настоящий оргазм не наступает.
«Кого вы любите из античных авторов, кроме Гомера и Овидия?»
Видите ли, я люблю по-настоящему Вергилия, и прежде всего потому, что «Энеида» — это действительно поэма, адекватный перевод которой, как показал Брюсов, практически невозможен; язык приходится напрягать совершенно по-платоновски. Есть замечательная статья Гаспарова о Брюсове-переводчике, и там показано, как он нарочито корявит речь, чтобы достичь верлигиевской выразительности, силы и напряжения. Это первое.
Ну, Вергилий — это поэт, до которого весь мир не дорос. «Прочь отойдите, писатели римские, прочь вы и греки: // Нечто творится важней здесь «Илиады» самой», — с этим я согласен. То есть «Энеида» не то чтобы лучше «Илиады» («Илиада» первее, что там говорить), но она плотнее, величественнее, и там плотность мысли в каждой строке невероятная, поэтому он иногда и ограничивался одним полустишием в день, да и то на следующий день вычёркивал.
Я больше всего люблю Горация, честно сказать; «милее мне Гораций», как говорила Ахматова. Знаете, грех в этом признаваться, но я люблю Горация даже больше, чем Катулла. Считается, что Катулл (я не помню, кто это писал — кажется, тот же Брюсов) — самый непосредственный из римских лириков. Пуришев Борис Иванович в своих хрестоматиях всегда тоже подчёркивал, что из всей античной поэзии самый человечный, самый близкий нам — это Катулл. И я Катулла очень люблю. Как не любить его? А особенно в этих старых переводах, первую его книжку замечательную. Но мне безумно нравился Гораций. И нравится, знаете, чем? Человечностью своей тоже, умением подставиться, непосредственностью, музыкальностью. Я даже по-латыни пробовал читать его, до того мне это нравилось.
Смотри: глубоким снегом засыпанный,
Сократ белеет, и отягчённые
Леса кругом стоят, а реки
Скованы прочно морозом лютым.
Всё это жутко мне нравилось в то время — лет в 14–15. Ну, латынь я, конечно, не выучил, но для меня Гораций — это какой-то идеал поэта. Может быть, это потому, что… Как писал Август: «Лучше бы книга была толстая, как твоё брюшко». Мне как-то симпатичнее его брюшко. Но при всём при этом, если говорить серьёзно, то самый человечный, гармоничный, самый античный лирик (потому что античное мировоззрение в «Левконое» явлено с поразительной силой) — да, пожалуй, всё-таки Гораций.
«Не достоин ли Майкл Науменко отдельной лекции»? Он достоин, конечно. Я не достоин. Я не настолько его знаю.
«Если немного поизвращаться, можно ли подыскать аналог Сэму Пекинпа в советском кинематографе?»
Нет конечно. Ну, может быть, Хамраев благодаря «Седьмой пуле», но в целом — нет. Пекинпа — это блестящий профессионал, очень жестокий, жестокий просто до цинизма. И, конечно, его самый последовательный ученик — это Тарантино. А в России такого нет режиссёра. Даже Балабанов по жестокости своей гораздо сентиментальнее всё-таки, он не дотягивает до Пекинпа абсолютно. Такие фильмы, как «Соломенные псы» (конечно, прелестная картина, очень сильная) с Хоффманом или как «Конвой», — это и мировоззренчески очень глубоко. Мне всегда больше всего нравился «Принесите мне голову Альфреда Гарсиа», потому что это такая классическая схема мести, наложенная на пыльную прозаичную мексиканскую пустыню, вот эту равнину. И когда уже приносят голову, она уже сгнила, она уже не нужна никому. В общем, хорошая картина, мне нравится она. Но при этом я никакого аналога увидеть не могу.
Знаете, кто мог бы быть режиссёром такого класса по сочетанию цинизма, жестокости, какой-то иронии? Климов. В «Иди и смотри» некоторые куски мог бы снять Пекинпа, мне так кажется. И если бы, скажем, Климов снимал гангстерскую драму, он был бы режиссёром такого класса. Но Климов — гораздо более отважный экспериментатор. Пекинпа — всё-таки нормальный такой реалист, а Климов — конечно, фантаст, пародист.
«Дмитрий Львович, когда я читаю и перечитываю повесть «Тарас Бульба», меня не покидает чувство симпатии к полякам и глубокого отвращения к запорожцам. Это мои мозги неправильные, или у Гоголя был необычный замысел?»
Знаете, есть разные трактовки. Была замечательная статья (ну, как замечательная — очень спорная, но по-своему замечательная, конечно) Бориса Кузьминского «Памяти А́ндрия», в которой он доказывал, что А́ндрий — главный положительный герой. Остап как раз совсем не то (грубый, брутальный), а вот А́ндрий — как бы такое оправдание всей повести и уж во всяком случае идеальный пример для подражания, потому что он гибнет за любовь. Хотя там есть момент предательства, но иногда, может быть, и надо предать, когда твои вырезают всех кругом. Там интересная провокативная статья, очень давняя, двадцатилетней давности, но так живо помнится.
Мне кажется, что действительно запорожцы там для самого Гоголя недостаточно привлекательные. В известной степени он насилует себя — он делает усилия для того, чтобы всю эту грубость и брутальность воспеть. Маменькин сынок Гоголь — человек абсолютно не склонный ни к боевым искусствам, ни алкоголю — просто пытается полюбить этих кентавров, этих гигантов. А это немножко бабелевская вещь. Знаете, она по духу немножко похожа на «Конармию». Бабель думал, что воспевает конармейцев, а Будённый почему-то возмутился и рецензию назвал «Бабизм Бабеля». Я думаю, что Тарасу Бульбе тоже не понравился бы «Тарас Бульба». Кстати говоря, Гоголь и Бабель созвучны во многом. Действительно получилась такая реинкарнация. Интересная была бы мысль — сопоставить «Закат» и «Марию», как «Ревизора» и «Женитьбу». Интересно было бы сопоставить ненаписанные «Мёртвые души» — «Великую Криницу». Конечно, Гоголь по-бабелевски или Бабель по-гоголевски — они пытаются полюбить Сечь, эту вольницу. «Тарас Бульба», в котором кровавые убийства следуют одно за другим, — это такая же романтизация насилия, как и «Конармия»; это в обоих случаях попытка интеллигента влюбиться в зверство. Но, конечно, вы правы, эта попытка даётся с большим трудом.
«Как вы относитесь к творчеству Анатолия Приставкина?»
«Ночевала тучка золотая» — замечательная повесть. «Кукушата» неплохо написаны. Больше всего мне нравился его роман «Долина смертной тени». Это документальная книга о работе в Комиссии по помилованию, она на очень сильном материале написана. И вообще он молодец.
«Заметил, что у Маклина (как и у «Стража») до сих пор нет страницы в англоязычной Википедии. Чем это объясняется? Неужели он малоизвестный писатель?»
Дорогой radostnov, тут для меня тоже есть некий парадокс. Я ведь Маклина знаю, даже лично. Я его видел, когда он приезжал в Киев десять лет назад открывать там бутик виски. И я с ним встретился в Эдинбурге, я ему позвонил. Нашли мне его телефон в Эдинбурге друзья, и я ему позвонил и сказал: «Я тот сумасшедший читатель, который бегал вокруг вас в Киеве с криком: «Вы гений! Вы гений!». И мне кажется, я очень сильно его напугал, потому что он-то приехал со своей книгой о виски. И он гораздо более известен как историк и теоретик виски («Liquid History» — «Жидкая история). Не то чтобы он неизвестен, но он многими не воспринимаем как романист. Почему? Ответ у меня есть.
Потому что «Страж» — это великая книга, это книга исключительно высокого класса. Прав Стивен Кинг, говоря, что это, наверное, лучший триллер, написанный… Ну, он не может сказать «после меня» или «при мне», но он написанный одновременно с ним, это понятно. Конечно, Кинг — это величайший автор. Но Маклин в своих текстах — таких, как «Молчание», совершенно виртуозно построенное, или как «Домой до темноты», или «Волчьи дети» (великолепное исследование о детях Маугли, пойманных волками), или «Остров на грани» (такое краеведческое, замечательно увлекательное повествование), — он гений увлекательной прозы. Но просто очень хорошая литература — символичная, с гениально подобранными лейтмотивами — не всеми воспринимается. Спросите, многие ли читали роман Маклина «Страж». Не многие. Путают его даже с Алистером, хотя он Чарльз. А Алистер, конечно, писатель гораздо меньшего класса. Зато нам какое огромное удовольствие. Мы друг друга мгновенно опознаём, потому что мы, которые любим Маклина, — ценители прекрасного.
Вернёмся через три минуты.
РЕКЛАМА
Д.Быков― Продолжаем передачу «Один».
«Что вы можете сказать о теодицеи?»
Всё, что я могу сказать о теодицеи, я попытаюсь сказать в воскресенье в лекции о Блаженном Августине. У меня будет лекция на Никитской, 47, «Августин — Божий человек». Я попытаюсь рассмотреть Августина именно как писателя. Вообще в число моих пяти любимых книг всегда входила «Исповедь» — и не потому, что Гуссерль называет её главной книгой, которую надо читать всем, кто думает о природе времени. Нет, «Исповедь» правильно готовит человека к принятию христианства, как бы размягчает душу — она может после этого вместить. Теодицея — это чрезвычайно сложная концепция; богооправдание, как Бог терпит зло. Очень трудно к этому прийти.
Однажды один хороший поп (кстати, физик в прошлом и замечательный боксёр, успешно отмахавшийся от нескольких напавших на него сектантов; огромный мужик, косая сажень в плечах) пришёл ко мне когда-то в «Собеседник» с замечательной бутылкой перцовки. Я говорю: «Петя, а неужели тебе Господь не запрещает?» — на что он мощно ответил: «И поощряет!» Петя этот чрезвычайно мне нравился тем, что на вечный вопрос «А как же Господь терпит зло?» он простодушно отвечал: «А ты на что? А мы на что?» Мы действительно скорее такие пальцы на его руке. Как же это — Господь терпит зло? Почему вы об этом спрашиваете его? Вы себя об этом спрашивайте. Он вас сделал для того, чтобы с ним бороться, а вы почему негодуете? Это ваши же проблемы.
Давайте я прочту. У меня был старый стишок на эту тему. Грех себя читать, но я прочту, потому что ничего лучшего я на эту тему всё равно не скажу. Если у вас останутся вопросы — пожалуйста, приходите в Еврейский культурный центр. Он даёт нам по-прежнему прекрасную площадку. Не знаю, проданы ли там билеты. Ну, скажете волшебное слово «один» — и как-нибудь я проведу, особенно если вы будете один. А если не один — тем более. Никитская, 47. Это будет в семь. Приходите, попробуем. А пока я вам прочту стишок, насколько могу. Там эпиграф из Веллера:
— На,— сказал генерал, снимая «Командирские». — Хочешь — носи, хочешь — пропей.
Не всемощный, в силе и славе, творец миров,
Что избрал евреев и сам еврей,
Не глухой к раскаяньям пастырь своих коров,
Кучевых и перистых,— а скорей
Полевой командир, небрит или бородат,
Перевязан наспех и полусед.
Мне приятно думать, что я не раб его, а солдат.
Может быть, сержант, почему бы нет.
О, не тот, что нашими трупами путь мостит
И в окоп, естественно, ни ногой,
Держиморда, фанат муштры, позабывший стыд
И врага не видевший, — а другой,
Командир, давно понимающий всю тщету
Гекатомб, но сражающийся вотще,
У которого и больные все на счёту,
Потому что много ли нас вообще?
Я не вижу его верховным, как ни крути.
Генеральный штаб не настолько прост.
Полагаю, над ним не менее десяти
Командиров, от чьих генеральских звёзд
Тяжелеет небо, глядящее на Москву
Как на свой испытательный полигон.
До победы нашей я точно не доживу —
И боюсь сказать, доживёт ли он.
Вот тебе и ответ, как он терпит язвы земли,
Не спасает детей, не мстит палачу.
Авиации нет, снаряды не подвезли,
А про связь и снабжение я молчу.
Наши танки быстры, поём, и крепка броня,
Отче наш, который на небесех!
В общем, чудо и то, что с бойцами вроде меня
Потеряли ещё не всё и не всех.
Всемогущий?— о нет. Орудья — на смех врагу.
Спим в окопах — в окрестностях нет жилья.
Всемогущий может не больше, чем я могу.
«Где он был?» — Да, собственно, где и я.
Позабыл сказать: поощрений опять же нет.
Ни чинов, ни медалей он не даёт.
Иногда подарит — кому огниво, кому кисет.
Например, мне достались часы «Полёт».
А чего, хорошая вещь, обижаться грех.
Двадцать пять камней, музыкальный звон.
Оттого я и чувствую время острее всех —
Иногда, похоже, острей, чем он.
Незаметные в шуме, слышные в тишине,
Отбивают в полночь и будят в шесть,
Днём и ночью напоминая мне:
Времени мало, но время есть.
Я люблю этот стих, хотя сейчас я его прочёл и, как Светлов в известном анекдоте, понял, что стихотворение затянуто. Оно действительно многословно. Я раньше писал довольно длинно, новые стихи гораздо короче (хотя, может быть, не лучше). Но мне этот стишок нравится, потому что он снимает больную для меня проблему.
«Как вы оцениваете творчество Бориса Зайцева? Его привыкли ставить в один ряд со Шмелёвым и не выше. Справедливо ли это?»
Видите ли, я и Шмелёва, грех сказать, ставлю не очень высоко — в такой крепкий ряд, — потому что он не показывает, а рассказывает. И ужасно меня раздражают в «Лете Господнем» все эти уменьшительно-ласкательные суффиксы. Лучшее, что он написал, — это, конечно, «Солнце мёртвых». Я помню, как мне на журфаке наш преподаватель в 1986 году, когда я начал на экзаменах ругать «Богомолье» или «Лето Господне», говоря, что это сусальная проза, что там слишком много умилений и слишком мало пластики (хотя это очень трогательные книги), он мне сказал: «А вы читали «Солнце мёртвых»?» Я говорю: «Нет». — «Ну, зайдите, я вам дам». Я тогда его в каком-то ещё французском издании прочёл — и на меня очень сильно эта книга подействовала, невзирая на её совершенно откровенный антисемитизм, бог с ним. Можно понять состояние Шмелёва, который потерял сына. Но это вообще сильная книга.
Что касается Зайцева, то мне кажется, что кроме хорошей биографии Тургенева, он по большому счёту ничего хорошего не написал. Его «Старая Москва» умилительна, но тоже блекловата. Мне кажется, что если бы Зайцев прожил не так долго, если бы не его девяносто с лишним лет праведнической жизни, если бы не то, что он дожил до переписки с Олегом Михайловым, до фактического возвращения его текстов на Родину (в начале 70-х он уже легально упоминался), мне кажется, что сам по себе он и не заслуживал бы большого читательского внимания. Мне кажется, что это литература тоже такого прочного третьего ряда, совершенно не сравнимая с Буниным. И меня немножко коробит постоянное кроткое старческое умиление, которым дышит эта проза. Это мне кажется тепловатым чаем. Конечно, на меня это не действует совсем. Хотя я понимаю, что Борис Зайцев был, наверное, очень хороший человек, ну очень хороший. Правильно сказал когда-то Чехов о Короленко: «Если бы он хоть раз жене изменил, совсем другой был бы писатель».
«Почему Ленин тяжко ненавидел Достоевского, а Толстой, чувствуется, был ему внутренне близок?»
Я думаю, что внутренне ближе всех ему был Чехов всё-таки — с тем же отвращением к жизни, к быту. Что касается Толстого, то он ценил его художественную мощь. Понимаете, Ленин… У нас сегодня как раз был с Дуней Смирновой на «Русском пионере» диалог, и там мы о Ленине довольно сильно заспорили: есть ли в этой фигуре хоть что-то очаровательное, что-то, привлекающее сердца? Для меня — есть, для неё — нет. Мне кажется, что он был во всяком случае неплохой литературный критик. Его статья о Толстом, конечно, демонстрирует полное непонимание Толстого-философа, но какие-то тайные мотивировки Толстого, его внутренние мотивации она вскрывает достаточно точно. И очень многое в толстовской философии продиктовано страхом, а не силой. Вот это точно там, по-моему, написано. «Памяти Герцена» — хорошая статья, кстати, что там говорить.
Но если брать его отношение к Достоевскому, то я здесь… Я почти ни в чём не разделяю ленинских воззрений, а особенно, конечно, в его материализме, в его марксизме, в его довольно плоской историософии. Историософией можно же называть любое мнение о характере и целях истории. Смысл истории по Ленину — это что-то ужасно плоское и пошлое (ещё площе, чем у Маркса). Но я разделяю его отношение к Достоевскому в том смысле, что смакование мерзости, культ патологии — это было ему невыносимо. А в Достоевском есть этот культ, потому что без греха, без падения для него нет и взлёта. Я этого не разделяю совсем.
«Согласны ли вы, что в середине ХХ столетия произошёл ренессанс христианской, точнее католической литературы? — а почему только католической? Православной тоже. — Бёлль, Грэм Грин, Мориак, О’Коннор. С чем, по-вашему, это связано? И, если можно, несколько слов о прозе Мориака».
Вот несколько слов о прозе Мориака я, к сожалению, сказать не могу, потому что я знаю его очень мало, это совершенно не мой писатель. Моруа знаю, Мориака — плохо.
Что касается причин возрождения христианской прозы. Появление движения апологетов, в частности в Англии: Клайва Льюиса, в огромной степени Толкина, который тоже, безусловно, христианский писатель (думаю, в большей степени, чем Льюис, в котором всё-таки есть какая-то оккультятина), ещё раньше Честертона, который всё это предвидел. Этот ренессанс не только католической, а вообще религиозной прозы, в том числе, кстати, и оккультной, как у Даниила Андреева… хорошо, назовём «антропософской», чтобы не употреблять ужасного слова «оккультной», — это очень простая вещь. Это появление тех принципиально новых сущностей — нового строя, новых империй, — которые невозможно объяснить рационально.
Мой любимый пример: почему в 1938 году в Москве одновременно пишется «Мастер и Маргарита», «Пирамида» и «Старик Хоттабыч»? В Москву прилетают одновременно ангел, дьявол и джин, причём ангел и дьявол улетают, а джина принимают в почётные пионеры (потому что он такой дохристианский). Об этом тоже есть хороший вопрос, я сейчас на него буду отвечать подробнее. Почему это так? Потому что рациональными, прагматическими, материалистическими соображениями нельзя объяснить то, что происходит в мире в 30-е годы.
Кстати говоря, русскую Победу в 40-е годы тоже объяснить нельзя. Что произошло с нацией? Виктор Некрасов написал целый роман «В окопах Сталинграда», чтобы понять, как из обычных людей получаются сверхлюди: как получается из бухгалтера потрясающий разведчик, как из Валеги, его ординарца, получается гениально ловкий, как Летика при Грее, совершенно всё умеющий матрос, как люди, которые два года отступали, на третий год войны побеждают? Упёрлись в Волгу — и оттолкнулись от неё! Как это вышло? Это, к сожалению, не интерпретируется ни в каких терминах, кроме сказочных или кроме религиозных, если хотите. Я вообще думаю, что иррациональность человеческой природы не может быть описана без этой десятой точки. Помните, надо не отрывая карандаша от бумаги соединить девять? Без десятой точки это невозможно. Без Бога задача не решается. Поэтому и огромный взлёт католической литературы.
Я могу отвечать только по поводу Фланнери О’Коннор достаточно детально, потому что вот только что о её случае я писал. Рассказ «Хорошего человека найти нелегко» — это как раз попытка ответить: что делать при столкновении с абсолютным злом? Уж конечно не говорить ему: «Ты один из моих детей! — как бабушка там. — Ты сын мой!» Уж конечно не это. После этого тебя убьют сразу. Последнее, что можно попытаться сделать, — это до последнего сопротивляться. Христианское умиление абсолютному злу и разговоры о том, что «ты брат мой» — это кончилось, ребята! Там же говорит Misfit (Изгой): «Христос нарушил равновесие». И действительно он нарушил его. В мир пришло абсолютное добро — значит, из него выхлестнулось абсолютное зло. Хватит с ним заигрывать! Заигрывать с ним больше нельзя! И ответ Фланнери О’Коннор типично католический, ответ очень жёсткий: нужно стать сверх-чем-то, чтобы противостоять такому сверхзлу.
«Оправдано ли противопоставление «Белой гвардии» «Тихому Дону» как христианского романа о гражданской войне антихристианскому?»
Нет конечно. Я не думаю, что «Белая гвардия» — христианский роман. «Белая гвардия» — фаталистический роман, если на то пошло. Э То роман о том, что никто не виноват, что нет виновных, а есть история; и в условиях этой истории единственное, что возможно, — это соблюдать долг. Это такой самурайский роман, скорее роман радикально-экзистенциальный, немножко в духе Камю. Можно назвать это христианством? Конечно. Но мне так не кажется. Я не думаю, что в этом смысле «Тихий Дон» так уж радикально отличается от «Белой гвардии».
«Тихий Дон» — это роман о том, как после падения всех скреп (идейных, дружеских, семейственных) остаются биологические, о расчеловечивании человека до биологии, о том, что всё, что остаётся, — это тёмная стихия рода. «Держит на руках сына» — важный инвариант Шолохова. Это роман о том, как все идеологические, внеидеологические, человеческие скрепы оказались иллюзорными. Традиция — это уже абсолютно голый фетиш, и внутри там гниль, труха (всё какие-то старики с позеленевшими бородами). Это роман о том, как брат пошёл на брата, как случилась магнитная буря, взбунтовалась эта стихия. А потом, когда пали все скрепы и все символы, все идеи, единственное, что осталось, — это тоска по земле, жажда работы, как у Дуняшки с Мишкой, и вот эта страшная стихия рода. А всё остальное скомпрометировано. В этом смысле я не вижу принципиальной разницу между Турбиными, которых удерживает тоже только родство от падения (традиция, семья), и Мелеховым. Другое дело, что роман Булгакова — это интеллигентский роман. Но суть его совершенно одинакова, и тема его та же самая — расчеловечивание.
«Только что прочитал «Жестяной барабан» Гюнтера Грасса. Роман дался тяжело и не сильно впечатлил. Каково ваше мнение об этом произведении? Это лучшее произведение Грасса, или есть другие получше?»
Конечно, есть другие получше. Я не люблю «Жестяной барабан». Даже скажу вам больше: я терпеть его не могу! Эта книга меня до рвоты доводит! Главное моё впечатление — это всё равно, как будто я всё вспоминаю, как героя напоили супом из тёртого кирпича, мочи и лягушек. Просто скрипит на зубах у меня этот суп и этот роман! Фильм Шлёндорфа неплохой («The Tin Drum»), он забавный даже местами, но я, честно говоря, совершенно не понимаю, про что книга. Мне подсказывают всегда, что эта книга об инфантилизме фашизма, об инфантильном фашизме. Не знаю. Мне кажется, что она натуралистична, она не смешная. «Собачьи годы» гораздо лучше.
Если вас интересует, что есть хорошего у Грасса, то, на мой вкус, лучшее его произведение — это «Ходом краба». Мне очень нравится «Моё столетие» — 100 двухстраничных рассказов, на год по каждому. Написать 100 пёстрых, маленьких, коротких рассказов о ХХ веке — надо быть умным малым. Он прекрасный писатель, своего Нобеля заработал. В общем, я неплохо отношусь к «Местной анестезии». Понимаете, когда подростком читаешь это в «Новом мире», то там всё производит впечатление, но ничего особенного там, конечно, нет. Мне нравится «Ходом краба» — анализ истории «Вильгельма Густлоффа», потопленного транспорта, главный подвиг Маринеско, который, как выясняется, затопил при этом всё-таки значительное количество раненых и мирных жителей. Вопрос о морали на войне надо, видимо, трансформировать очень сильно, но вообще подход к теме у Грасса замечательно объективный и очень интересный. Это хорошая книга.
«Что вы думаете о новой книге Глуховского «Метро 2035»? Мне кажется, автор растёт. И поделитесь вашим мнением о романе Рубанова «Хлорофилия».
Глуховский, безусловно, вырос по сравнению с ранними «Метро», потому что там есть уже гораздо больше и экспрессии, и языка. Что касается романа Рубанова, то как раз именно недостаток какой-то языковой работы меня там и смущает. У Рубанова есть хорошие книги, но, к сожалению, его очень часто губит беллетризм. «Хлорофилия» не показалась мне интересной, там как бы довольно стандартная стартовая задумка. Хотя она интересная, может быть, но исполнение показалось мне слишком тривиальным. И вообще мне кажется, что Рубанову лучше писать не фантастику, а жёсткую мужскую прозу — необязательно про тюрьму, необязательно про личный опыт, необязательно про бизнес. Может быть, это могло бы быть что-то такое экзистенциальное в духе Трифонова. Понимаете, фантастика требует чуда. Если чуда нет, то нет и фантастики.
«Смотрели ли вы фильм Ли Тамахори «Когда-то они были воинами»?» Посмотрю. Много слышал об этом фильме, но пока не видел его.
«Яма» Куприна — это школьная программа? Можно ли лекцию про Куприна?»
Давайте хоть сегодня. Видите ли, maximvictorich, «Яма» Куприна — по определению книга для молодёжи. Если вы помните, она посвящена матерям и юношеству. И это правильное решение, потому что роман о публичном доме стоит посвятить матерям и юношеству, чтобы люди знали об уродливых крайностях жизни. И, может быть, матерям и юношеству именно потому, что это в общем чистая книга, бесконечно трогательная. Но я не считаю Куприна автором ровным. Я его считаю автором великим, но великое редко бывает ровно.
Толстой о «Яме», в 1908 году прочитав первую часть, выразился так, он сказал: «Конечно, он негодует, но на деле, описывая, всю эту гадость, он наслаждается, и от человека со вкусом этого скрыть нельзя». Я не думаю, что Куприн наслаждался, описывая публичный дом. Тут немножко другое. Просто Куприн вообще наслаждается профессионалами, когда они говорят о своём профессиональном: листригонами, вот этими рыбаками из Балаклавы, циркачами, ворами даже! В рассказе «Обида» он восхищается профессионализмом воров, которые пришли к адвокатам на собрание, подписавшись под письмом против погрома, но не сдержались и их ограбили, потому что у них руку так устроены: «Сейчас мы вам покажем наше мастерство!» Он профессионал, и он любит профессионалов. И проститутки ему с этой стороны тоже интересны.
Самое интересное в «Яме» — это история Лихонина, который попытался взять проститутку из публичного дома, а в результате кончил тем, что начал с ней спать каждую ночь, потому что она была ему нужна не как сестра, а как женщина; и ему приходится в этом признаться. Это смешная, такая занятная история. Это не лучшая вещь Куприна, конечно, но я совершенно не против того, чтобы она была в школьной программе, потому что страшное отношение к женщине, как к прислуге, паразитическое отношение к женщине и неуважение к ней — это не кануло никуда, а это есть по-прежнему. Просто чтобы люди увидели себя со стороны, увидели, во что они втаптывают святыню. Это довольно полезное чтение.
«Стругацкие и Ефремов примеряли совестливое сознание советского интеллигента с несправедливостями советского строя, давая надежду, что человек может преодолеть безнравственность с помощью глобальных и общих целей. Насколько честны такие фантазии?»
Вы говорите об утопии частного выхода, с одной стороны. Это не у Ефремова, а это было где-то у Стругацких (в наибольшей степени, конечно, «За миллиард лет до конца света»). Мне вообще близка эта веллеровская мысль, что Стругацкие писали всё более и более мрачные и не просто антиутопичные, а автоэпитафические вещи. Это автоэпитафии всё — и «За миллиард лет до конца света», и в особенности «Жук в муравейнике». Но Стругацкие были безусловно правы в том, что можно в безнадёжном обществе пытаться хотя бы, как они любили повторять, «всё видеть, всё слышать, всё понимать», оставаться хронистами этого общества, чтобы противостоять ему. У них была идея безнадёжного сопротивления. Это не Теория малых дел. Кандид в «Улитке на склоне» не занят Теорией малых дел, давайте вспомним. Кандид уничтожает мертвяков, хотя это понятно. Саул Репнин стреляет в машины, хотя понимает, что машины не исчезнут никогда. Стоять на пути прогресса — в этом заключается утопия у Стругацких. Если прогресс бесчеловечен, то надо ему противостоять, нужно продолжать одинокое обречённое сопротивление. Это совсем не сказка (или очень мрачная сказка, очень страшная).
«Вам нечего сказать о Терри Пратчетте, или вы его не любите?»
Я не очень его люблю. Он совершенно не мой писатель. Я понимаю, что он очень талантлив, конечно, но это мне не интересно. Понимаете, я не верю в юмористическую фантастику. Это же касается и Дугласа Адамса с его «Автостопом по галактике». Почему? Знаете, есть хорошая чья-то фраза: «Женский детектив — это как морская свинка, которая и не морская, и не свинка». Так же и здесь. Мне кажется, что сатиристическая фантастика не дотягивает до полноценной сатиры (кроме таких случаев, как в «Сказке о Тройке» или в «Девушке у обрыва» у Шефнера), и она не является полноценной фантастикой, потому что фантастика — это когда страшно, это чудо. А где смешно, там чуда нет. Юмористическую фантастику я не люблю. Она всегда такая многословная! Поэтому я всегда радостно замечаю, что когда Житинский писал свои фантастические вещи, он был серьёзен каменно, хотя он был вообще человек очень иронический. И, например, по-моему единственная его литературная… не скажу, что неудача (у него не было неудач), но полу-удача — это его повесть «Хеопс и Нефертити», потому что это попытка написать юмористическую фантастику, а фантастика юмористической не бывает, она бывает трагической, бывает страшной.
«В таких отличных произведениях, как «Незнайка на Луне», «Пиноккио» и даже «Хищные вещи века», людям предлагали бесплатные развлечения и отдых, где они либо тихонько помирали в ваннах, либо оскотинивались в обмен на отказ от права мыслить и рефлексировать. Может быть, пора написать книжку о россиянах времён сытых нулевых? С той только разницей, что у нас развлечения, по всей видимости закончились, но свобод и прав никто возвращать не планирует?»
Я написал уже такую книжку, она называется «Списанные», и там вся ситуация предсказана абсолютно точно, предсказана за восемь лет до происходящего, это роман 2008 года. Почитайте. По-моему, вам будет забавно. Во всяком случае этот роман мне как-то нравится.
«Смотрели ли вы фильм «Лига выдающихся джентльменов»?» К сожалению, нет.
«Вопрос к вам как к почитателю «творчества» Балабанова, Шендеровича и других «чернушников». Я ещё понимаю, когда вокруг себя видит грязь и гадости урод от рождения, никому не нужный, но что заставляет выискивать дерьмо и демонстрировать его крупным планом людей физически здоровых, известных, благополучных и финансово успешных? Это, по-моему, психическое расстройство».
Отвечу вам через три минуты.
НОВОСТИ
Д. Быков― Мы продолжаем с вами довольно интересный разговор.
Во всяком случае вопрос здесь поставлен достаточно радикальным образом: так что же заставляет здоровых людей, типа всяких шендеровичей или балабановых (люблю вообще, когда перечисляют талантливых авторов через запятую с маленькой буквы), что же всех их заставляет фиксироваться на «чернухе»? И не душевная ли это болезнь?
«Мерещится мне всюду драма», — сказал Некрасов Николай Алексеевич. И это как раз душевное здоровье. Душевная болезнь — это когда на твоих глазах насилуют ребёнка, а ты говоришь: «Ну, слушайте, во-первых, очень выросло всё-таки благосостояние наших людей, мы стали более лучше одеваться. Я уже не говорю о том, что сегодня прекрасная погода! И всё время видеть везде дрянь… Замолчи, маленький! Он, может быть, добра тебе хочет. Желание во всём видеть дрянь — это как раз и есть неблагодарность Господу. Я уже не говорю о том, что это неблагодарность правительству. Ведь люди стараются, работают, ночами не спят… Простите, нельзя ли вас попросить отойти немного подальше, а то всё-таки он очень кричит, и пахнет не очень хорошо. Так вот, я продолжаю. Мне кажется, что это неблагодарно по отношению к людям, которые целыми днями работают, чтобы мы были сытые, здоровые и одетые…»
Во-первых, начнём с того, что наше благосостояние — это результат наших, а всё-таки не чужих усилий. Во-вторых, по-моему, совершенно нормально, когда в атмосфере сероводорода у тебя лично всё хорошо, но ты всё-таки отмечаешь, что в стране царит атмосфера сероводорода или вокруг тебя атмосфера сероводорода. Не нужно думать, что вот эта вонь исходит от социальных критиков. Нет, она исходит из объективной реальности. И мне кажется, было бы неправильно, будучи Балабановым (всё-таки крупным художником), фиксироваться на благе, на выгоде, на том, что хорошо. У художника всегда всё болит. Ну, ничего не поделаешь, так устроен художник. Поэтому мне кажется, что выискивать везде дерьмо — это естественно, гораздо естественнее, чем выискивать везде нектар или деньги.
«Нравится ли вам «Великий Гэтсби»?» На днях перечитала — и он меня заворожил. А в первый раз не произвёл впечатления».
Да, меня тоже, Наташа. Понимаете, какая там штука? Почему он завораживает только при позднем чтении? Это очень мастеровитый роман действительно, зрелый, поздний. При том, что это всего лишь, по-моему, третий роман Фицджеральда, но он удивительно зрелый действительно. Это такая литература, которая воздействует не с помощью фабулы, не с помощью даже ярких характеров, а с помощью точно организованной системы лейтмотивов. Вот это там самое сильное. Это как у Чехова. Про что Чехов — сказать невозможно. Он про состояние. И вот это состояние он умеет вызвать.
«Великий Гэтсби» — это очень точная книга о конце «эпохи джаза», об её обречённости, о гибели её людей, о гибельности этого пути. Это книга о том, как подходит Великая депрессия. И написана она за три года до того, как по-настоящему всё стало рушиться. Это, по-моему, великое предвидение. И образ этого Гэтсби, которого так чудесно сыграл ДиКаприо, в этом идиотском розовом костюме, с его неумением жить, неумением тратить деньги, с его вечеринками, морями шампанского и с его невозможностью добиться простой человеческой любви. Это атмосферный роман, поэтому читать, ценить его начинаешь тогда, когда научишься считывать скрытые коды.
«Второй вопрос о любви. Я согласна с вашими словами о влюблённости. Как вы восстанавливались после краха любви (если у вас такое, конечно, было)?»
Ну, у кого же такого не было? Было. Как восстанавливался? Работой. Труд — это самый сильный самогипноз. Ничего не остаётся человеку, кроме как в какой-то момент заставить себя сесть — тогда за машинку, потому что в эпохе всякого краха любви ещё были машинки. А потом, когда уже появились компьютеры, я научился не влюбляться в плохих. Но у меня были плохие иногда.
Вот тут спрашивают, как на меня подействовал роман Моэма «Бремя страстей человеческих». Я прочитал его почти сразу после армии, как раз после того, как меня не дождалась оттуда тогдашняя моя девушка… Но мы с ней потом всё равно помирились. Мы с ней, по-моему, три раза подавали заявление в загс, это был мой рекорд. Девушка довольно трезвая была, и она сама трезво считала, что она немножко похожа на Милдред. Моэм замечательно заклеймил этот тип. Что можно с таким типом сделать? Только научиться от него не зависеть. Хорошо, что этот опыт был у меня одним из первых. Я на нём сильно обжёгся и с тех пор уже женщинами-вамп никогда не увлекался. Хотя, конечно, я за многое ей благодарен, но прежде всего это благодарность именно за опыт. С тех пор уже я это гениально разоблачал во всех. Но надо сказать, что были минуты большого счастья тоже.
Я всегда в таких случаях, в минуты краха любви утешался, вероятно, только тем, что всё-таки я что-то из этого сделал, что-то я с этого стряс, какие-то стихи. Я в любом случае не в накладе. Тексты из этого были сделаны, и они от этого остались. А крах… Я очень поздно научился любить действительно хороших людей. Но научился. Перестал увлекаться вот этой мишурой всей, перестал попадаться на дешёвые примочки. Но зато перестал уж теперь точно. И теперь стоит девушке начать какие-то дурновкусные атаки или начать играть во что-то роковое — как сразу, простите, включаются фильтры.
Пропускаю ряд вопросов…
«Посмотрела представление Барышникова по поэзии Бродского. Мне показалось, что главный там страх перед старостью/немощью/смертью, что это именно гибель всерьёз. Можно ли сказать, что такие темы — доминирующие в поэзии Бродского?»
Вы правы, Света. Вы довольно глубоко проникли в тему. Попытки Бродского противопоставить собственную мраморность, холодность, неуязвимость смерти, как бы выиграть у смерти за счёт такого личного… не скажу, что даже мужества, а личного окостенения, оледенения — это одна из тем, действительно. Не могу сказать, что меня это всегда привлекает. Мне больше нравится тот Бродский, в котором есть как бы живой трепет и живая борьба — такие стихи, как «Колыбельная», отчасти, может быть, такие стихи, как «Меня упрекали во всем, окромя погоды…». Если вы заметили, в «Теодицее» есть полемическая отсылка к этому стихотворению. Бродский вообще работал на передовых рубежах, и, конечно, проблема смерти для него была очень важной. Но мне кажется, что тот способ защиты, который он избрал (то есть как бы стать мёртвым уже при жизни), не универсален. Очень хорошо когда-то сказал один крупный поэт: «Безусловно, внутри персика находится косточка. Но рассматривать только косточку — это как-то обедняет ситуацию».
«Что если речь не о разделении человечества, а о каких-то изменениях в человеческой природе, постепенное накопление которых обусловило переход от античной культуры вины в христианскую культуру стыда? — не вижу принципиальной разницы. — В этом смысле исход Дымкова в «Пирамиде» — это как весть Фаммузу — «Пан умер!»; это конец эпохи христианства, шире вообще эпохи монотеистических религий знакомого нам образца».
Нет! Это хороший вопрос, Андрей, но я никогда с этим не соглашусь. Я не верю в то, что крах христианства возможен (по крайней мере сейчас). Понимаете, христианство пока ещё не прошло даже фазу зрелости. А какое уж старение? Оно ещё не победило. Оно ещё по-настоящему не понято. Оно многажды по-детски извращено, но не понято. Вот Аркадий Арканов, например, говорил, что Библия — это не стартовая книги истории человечества, а итоговая книга предыдущего человечества. Во всяком случае, до мудрости и свободы, которые есть в Евангелии, человечество до сих пор ещё просто не доросло. Это экзотическая версия, но любопытная. Он интересный был фантаст. И вот я думаю, что христианство не только ещё не стареет, не только оно ещё не переживает упадок, но оно ещё и триумфа настоящего не видело. Его первый триумф по большому счёту — это только победа во Второй мировой войне над фашизмом, вот тут оно победило. А цепь триумфов у него ещё впереди.
«Осознавали ли последователи знаменитых мастеров, что являются литературными реинкарнациями оных? — нет, конечно, не осознавали. — Может ли талантливый эпигон — осознанно — «сделать» себя воплощением предшественника?»
Не знаю такого случая пока. Если ниша есть, то, конечно, она втягивает, но сознательно в неё попасть, примериться к ней невозможно. Я знаю только один случай, когда человек понял, чью нишу он продолжает, и пытался встроиться. Это, простите, классическое стихотворение Пастернака, которое часто называют «Стансы»:
Столетье с лишним — не вчера,
А сила прежняя в соблазне
В надежде славы и добра
Глядеть на вещи без боязни.
Вот это, где он осознаёт пушкинскую нишу, вакансию поэта и понимает, что пушкинская ниша втягивает его. Я не готов сказать, что Пастернак — реинкарнация Пушкина, но он близко к этому подошёл. Во всяком случае, он ставили себе такую задачу.
«Ницше говорил об оправдании вины и греха — мол, человек не выбирает условия, в которых рождаться, так что либо все виноваты, либо никто не виноват. Но как это сочетается с его идеей о сверхчеловеке, который и умён, и силён? Наверное, такой сверхчеловек мог бы подняться над социальной обусловленностью и сам выбирать, как жить».
Я думаю, что сверхчеловек (вы совершенно правы) — это как раз ответ на детерминированность. Человек вырвался из условностей, вырвался из условий. Я не помню, кому принадлежит эта фраза — по-моему, Штирнеру, одному из предшественников Ницше, а может быть, ещё кому-то, «Единственный и его собственность» (я не уверен, оттуда ли это): «Перед тобой лежит чудовище, на котором написано «надо». Перешагни через него и скажи «я хочу». Или это у самого Ницше… Но у Ницше я этой фразы не помню. Это, мне кажется, прямой выход как раз из ситуации детерминизма. И сверхчеловек — да, конечно, не детерминирован ничем, ему не довлеет никакое происхождение.
«Ницше говорит о том, что добро от слабости — плохо, а зло от справедливости — хорошо; и вообще добро должно быть с кулаками и т.д., обвиняя религиозную нравственность в закоснелости. Но ведь многие писания исповедуют те же идеи «добра с кулаками», «своего пути» — тот же индуизм к примеру. Неужели Ницше был так плохо знаком с религией в целом? И как плохо, что его потом понесло в крайности — мол, любое добро плохо, любое зло оправдано».
Нет, его не несло в эти крайности, так он не формулировал. Но, безусловно, некоторая брезгливость к добру, к слабости, к умилению и некоторое демоническое обаяние зла и обожание зла — это у Ницше было, ничего не поделаешь. Это происходило как раз, я думаю, от компенсации, от физической слабости, от постоянной болезни. Когда я узнаю, что четвёртая книга «Заратустры» написана была, когда он задыхался в соплях буквально, страдал от influenza, мне многое становится понятно. А особенно когда читаю там все эти песни-пляски и представляю вот такого тяжеловесного немца, который задыхается от насморка и пляшет. Хотя Ницше — как раз такой экстатический, такой подвижный. Ну, это становится скорее смешно. Я говорю, у Ницше очень много вещей, как правильно говорил Роберт Шекли, которые можно всерьёз воспринимать только в 14 лет. У него есть замечательные догадки, но вообще, когда при мне начинают ругать добро за пошлость и за косность и обожествляют зло за демонизм, я всегда хорошо помню, чем закончил Ницше. Об этом подробно написал Томас Манн в «Докторе Фаустусе». Такие обожествления зла, такая романтизация Мефистофеля чаще всего случается от сифилиса или к нему ведёт.
«Спасибо за лекцию». Спасибо вам тоже.
«Каково ваше отношение к литературным школам («инкубаторам», как называл Мандельштам), какова была, скажем, у Самуила Маршака? О ней в широком доступе нет информации».
Нет, есть информация. Это не была литературная школа, а это была детская редакция Детгиза, в которой Маршак растил писателей. Он пытался заставить Бронштейна (и заставил) писать книги по физике для детей, «Солнечное вещество». Своего брата, известного под псевдонимом Ильин, он заставил писать о технике, о машинах. Житкова заставил написать «Что я видел», и они потом насмерть рассорились. Он из всех пытался делать детских писателей, и довольно успешно.
К литературным школам как я отношусь? Понимаете, я всегда очень положительно отношусь к среде. Вот мы вчера собирались с моими ребятами из Creative Writing School, где я вёл мастерскую поэзии. Они все стали писать гораздо сильнее, но не из-за меня (я себе таких интенций не приписываю). Просто когда много талантливых людей общаются вместе, они умнее, чем просто сумма своих интеллектов, они способны высечь друг из друга искры, они способны породить какие-то замечательные новые смыслы. У нас там есть девочка совсем молодая, ей лет 14, Соня Лямина — тоже из неё растёт поэт замечательный. И она как-то выросла на голову — пока не физически, но духовно уж точно. То есть, попадая в среду, человек очень меняется.
Можно сколько угодно ругать, скажем, Глеба Семёнова и его ленинградское ЛИТО горняков (много их было там), или ЛИТО Кушнера в Лесном при Доме учёных, или ЛИТО Кушнера при политехе, или ЛИТО Мочалова замечательное, или ЛИТО Слепаковой, куда я сам ходил. Это всё — необходимые среды. В этих средах формируются новые характеры. Людям нужно место, где собираться, где читать друг другу, где друг друга чихвостить. Я плохо отношусь к обсуждениям лирики, но к творческому общению (пусть даже за бутылкой вина) я отношусь позитивно. Хотя сам я давно уже не пью и давно уже скорее мне в тягость общение, но я очень люблю общение с этими студентами. Вот завтра буду, например, встречаться со своим прошлогодним курсом в МПГУ. И мне очень приятно, что они меня, старого дурака, помнят.
«Лоцман, упомянутый в «ЖД», — это Юрий Михайлович Лотман? Если да, разделяете ли вы чувство Волохова? И за что вы его так?»
Во-первых, Волохов — герой «ЖД», который имеет со мной одно сходство: он тоже родился 20 декабря. В остальном ничего общего. Он мне нравится, я люблю этого героя. То, что он там говорит о Лоцмане, — это он говорит со зла, потому что он попал в компанию людей-снобов, людей, которые презирают его, снобируют, которые кичатся своей принадлежностью к самой передовой научной школе.
«Вы состояли в рядах маньеристов? Продолжаете ли вы общение со Степанцовым?» Когда вижусь — здороваюсь. По-моему, он хороший. И даже когда он обо мне пишет какие-то гадости, я всегда умиляюсь этому.
«Дочитываю «Свечку» Валерия Залотухи, — молодец! — Не припомню, когда ещё книга у меня вызывала такой смех и слёзы. И как легко она читается! Какое произведение можно посоветовать и сравнить с уровнем «Свечки»?»
Я уже рекомендовал Житинского, «Потерянный дом, или Разговоры с милордом», если брать эпические большие романы. И ещё раз вам говорю: роман Александра Фурмана «Книга присутствия» [«Книга Фурмана. История одного присутствия»]. Пока напечатаны четыре книги из шести, но если вы найдёте где-то эту книгу, это будет того же уровня. И потом, сейчас пишет и издаёт очень интересный роман «Мягкая ткань» Боря Минаев. Это один из моих любимых журналистов и авторов, приятель Фурмана, кстати; прозаик того поколения, к которому принадлежат и Фурман, и Денис Драгунский, бесконечно мною любимый новеллист, по-моему, просто великий. И вот Боря Минаев из тех же людей. Это люди, которым в 1985 году было 25 лет примерно (ну, может быть, 22), вот чья биография так интересно переломилась.
«Есть ли в литературе явления, сходные с сериалом «Школа» Гай Германики?»
В трудное положение вы меня поставили. Нет. Пожалуй, нет. Одно время какие-то тексты Анны Козловой напоминали мне это. Может быть, «Гопники» Козлова (другого). Пока я не могу назвать таких людей, которые бы в этой стилистике работали. Понимаете, ведь Гай Германика — очень изощрённый, очень хороший повествователь. У неё действительно камера в глазу — она умеет так кадр построить, что её отвращение, её ненависть, иногда её любовь передаются читателю, слушателю, зрителю. Я очень мало могу назвать таких людей. Не знаю. Это нужно, чтобы в руке было мастерство.
«Ребёнку десять лет. Читает много и очень быстро, но складывается впечатление, что он не понимает прочитанного (а может, и понимает, но не может объяснить). Сужу по урокам и по чтению обычных книг. Как научить ребёнка понимать то, что он читает?»
Не вздумайте учить! Он вообще перестанет тогда читать. Это дело перестанет его восхищать и увлекать. Пусть он читает, если ему нравится, а понимает он или не понимает — по-моему, вопрос двадцать пятый.
Поотвечаю на письма, простите уж, всё-таки чрезвычайно интересно, много очень хороших в этот раз.
«Вы много читаете. Как вам удаётся быть в курсе всего?» Очень мало читаю. И читаю то, что мне интересно.
Вот очень хороший вопрос от постоянного слушателя Октавиана Трясиноболотного. Привет, Октавиан! «Интересно ваше мнение о романе Алексея Иванова «Общага-на-Крови». Я в своё время учился очно, жил в общаге, но не выдержал там царившей полукриминальной атмосферы, перешёл на заочное отделение и считаю себя неудачником. По большому счёту я проиграл. Что, на ваш взгляд, общага — добро или зло?»
Однозначно зло. Помните, как говорил о лагере Шаламов? «Никакого добра там нет». Это зло. Если это кампус в американском университете — это добро. А если это то, что описано у Иванова… Там же не случайно главный герой кончает с собой. Это, конечно, детский, незрелый роман, и зря он его напечатал, но там есть очень хорошие и сильные куски. Да, «Общага-на-Крови» — это ужасно. И ужасен мир, который там описан. Это дебютная книга. Для дебюта она, может, и неплохая. Настоящий Иванов начинается, конечно, с «Географа», на мой взгляд (даже не с «Сердца Пармы», а именно с романа «Географ глобус пропил»). Просто в «Общаге-на-Крови» очень точно пойман вот этот пафос общежития, вынужденного совместного жития, вынужденности, обречённости на других людей. Мучительное состояние! И, конечно, Октавиан, всё вы сделали правильно, что переехали.
«Читали ли вы «11/22/63» Кинга? Если да, то поделитесь мнением. Будете ли смотреть сериал?»
Нет, сериал смотреть не буду, времени нет. Книга хорошая. Но, понимаете, она написана бледнее, чем ранний Кинг, и написана хуже, на мой взгляд, чем самый поздний, чем «Revival». Вообще машина времени — это та тема, которая почти ни у кого, кроме Уэллса, хорошо не получилась. Ну, может, у Житинского в «Часах с вариантами». А в принципе это тема довольно-таки сложная. И идея у него та же самая, что в «Часах с вариантами»: он каждый раз, путешествуя во времени, пытаясь что-то улучшить, в глобальном смысле ухудшает. Это не ново, не оригинально. Но Кинг — вот как говорил Белинский про Пушкина: «Бывают люди, которые ничего не могут сделать плохо».
«Посмотрел «Новейший Завет». Не считаете ли вы, что главная мысль этого фильма может положительно сказаться на восприятии мира вокруг?»
Вы знаете, мне не понравился этот фильм. Он местами забавный, даже просто смешной, но кощунство его недостаточно радикально. В этом смысле «Догма», по-моему, лучше и веселее. А в целом не понравился мне этот фильм. Понимаете, мягкий юмор вместо того, чтобы действительно… Ну, проблема Бога — это проблема, взыскующая к высокому масштабу. И вот тут масштаб художника показался мне недостаточным, чтобы за неё браться.
«В прошлой речи вы сказали, что не пошли бы на передачу к Познеру, потому что не разделяете его взглядов. Можете пояснить, каких именно?»
Не то чтобы взгляды. Мне не очень нравится этот modus operandi, который он выбрал, вот этот образ действия, эта ниша, — ниша либерала, которого терпят, или главного либерала среди черносотенцев, не знаю. В общем, мне кажется, что оставаться сейчас на Первом канале — значит, своей репутацией жертвовать.
Вот блестящий вопрос! Если бы я мог поощрить автора лучшего вопроса, я бы поощрил Кристину Кузину. Кристина, если захотите, то приходите — я подарю вам книжку с автографом. «Как вы думаете, могла ли Миранда из «Коллекционера» Фаулза выбраться из плена? А если могла, то что надо было делать? Можно ли назвать чувства Клегга к Миранде любовью? Вы высказывали предположение, что безответной любви не бывает, но ведь «Коллекционер» — пример обратного».
Кристина, вы абсолютно правы. Эти чувства нельзя назвать любовью, никакой любви там нет. Это комплексы, это жажда обладания, это злоба, иногда это ненависть. Он же коллекционер, понимаете. Коллекционер любит бабочку, он ею восхищается, но она ему нужна для коллекции. Кроме того, Миранда… Понимаете, о чём роман? Это роман о том, как два человека в принципе не могут понять друг друга. Это одна из главных тем Фаулза. Миранда тоже ведь не очень приятная. Она его не похищала, но в остальном они похожи. Они не могут понять друг друга. Был ли у неё шанс? Ну, был, наверное. С помощью каких-то очень тонких, терапевтических технологий. Но она же попыталась ему отдаться, а он её за это возненавидел только больше, потому что у него ничего не получилось (и не могло получиться при таких-то чувствах, при таких страхах, при таком жизненном опыте и так далее). Я думаю, она могла (вот здесь внимание!) внушить ему более лестную самоидентификацию, более лестное представление о себе — и тогда он начал бы, может быть, вести себя как хороший. Это трудная работа, но это осуществимо.
Понимаете, когда у вас глупый класс, у вас есть только один шанс его перековать — внушить ему, что это класс самый умный. И тогда, конечно, вы выиграете в силе и потеряете в расстоянии, но вы выиграете в самомнении, в их самомнении — они начнут думать о себе страшно завышенно. Но при этом они, безусловно, начнут улучшаться, начнут становиться немножко людьми, более людьми.
«Если вы считаете, что власть исповедует философию Розанова, то что нужно сделать населению России, чтобы помочь им перейти на философию Мережковского?»
Ничего нельзя сделать. Нельзя из Розанова сделать Мережковского. Розанов очень гибок, он очень пластичен, он может быть всем, но быть Мережковским он не может, потому что он другой, и приоритеты у него в жизни другие. Розанов любит «свинью-матушку». Почитайте — «та свинья, которая сидит под скульптурой Трубецкого Александр III»; «широкий толстый зад», «мы любим толстый зад». Что можно говорить? Розанов никогда бы не поверил в тот завет культуры, который предлагает Мережковский, новый завет, он никогда бы не поверил собственно в теократическую утопию Мережковского, потому что для Розанова Мережковский слишком книжный, он для него маменькин сынок. Он думает, что он знает реальность, а на деле он знает одну грязь.
«В творчестве Стругацких людены могут сбежать. Как пример — Тойво Глумов в «Волны гасят ветер». Есть ли у современных люденов пути отступления?»
Да, конечно. Я говорил уже много раз об этом. Современный человек, скажем, новый эволюционный продукт — он умеет делаться невидимым, он может выйти из поля вашего зрения, вы перестанете его замечать. Люди достаточно высокой организации это всегда умели. Ну, вот взять Осипа Брика. Все видели Маяковского, все видели Лилю, а Осипа никто не замечал. Он как-то сумел так сделать, спрятаться за словами, за людьми. А ведь на самом деле идеологом этого союза был Осип, главным человеком там был Осип, все решения принимал он, литературную стратегию определял он. Маяковский именно из-за него не сошёл с ума, потому что он мог объяснить Маяковскому его собственный путь, выполняя классическую задачу критика, и был при этом абсолютно незаметен. Быть незаметным — это очень высокий творческий навык.
Вопрос лингвистический об истоках фразеологизма «ничего себе». Нет у меня ответа на этот вопрос. Ещё один вопрос о «Теодицее»…
Вопрос о Трумене Капоте: «Я недавно прочла «Answered Prayers» и растерялась. Что это было? Вот эта третья часть, где он сплетничает».
Видите ли, во-первых, третья часть… третья глава опубликованная из «Answered Prayers»… Я не помню, где это вышло. В Нью-Йорке? Не помню. Короче, это гениальная попытка со всеми рассориться, попытка начать жизнь заново. Мне кажется, нечто подобное сделал Захар Прилепин, опубликовав своё письмо о сталинизме — разрушить репутацию, уничтожить её и начать вторую жизнь. Капоте вполне сознательно, конечно, на это шёл. Ему надоела жизнь, которую он вёл — достаточно праздная, достаточно светская, паразитарная, жизнь среди полулюдей. Когда у него появилась финансовая независимость, когда он после феноменального успеха книги (а потом и фильма) «In Cold Blood» оказался самым успешным американским автором и даже стал основоположником нового журнализма (наряду с Вулфом и, может быть, Апдайком отчасти), у него появилась другая жизнь, и ему захотелось эту праздную, нелепую и самодовольную жизнь закончить. Поэтому отсюда и третья часть «Answered Prayers» — разрушить, разругаться со всеми. Кстати, первые две части там — прекрасная поэтическая проза.
«Вы вскользь упомянули о Ромене Гари и сказали, что Ромен Гари нравится вам больше, чем Эмиль Ажар. Но ведь это писатели одной и той же кричащей души, и разницы между ними нет, что легко увидеть на примере романов «Псевдо» и «Голубчик».
Нет, они разные, и разные интонационно прежде всего, потому что Эмиль Ажар — это человек молодой, действительно только что начавший жить, и страшно злой, а Ромен Гари в это время уже увенчанный профессионалами, увенчанный читательской любовью и тоже желающий резко начать с нуля. Вот он и начал (и, как мне кажется, довольно успешно).
«Стоит ли смотреть «Страну ОЗ»?» Вам, может быть, и стоит. Не знаю.
Вопрос про Данилевского, про «Familiar». Понимаете, я пока изучил (а это надо именно изучать) только первый том. Второй — просто не было времени. Я его откладываю. Думал, что придётся в новогодние каникулы этим заниматься, но в новогодние каникулы обнаружилась масса других заданий не переделанных, поэтому я до сих пор ещё пока второй том «Familiar» не прочёл. Но я, безусловно, этим займусь — и тогда вам отвечу.
«Мне 23 года. У меня было много интересов, увлечений, профессий. Каждый раз в какой-то момент я понимала, что делаю вещь занятную, но не настолько, чтобы отдавать ей 100% своих сил. Подскажите, стоит ли наконец взять себя в руки или стоит пробовать, пока не напробую дело по вкусу?»
Видите ли, это, к сожалению, вопрос сугубо индивидуальный. Максим Горький беспрерывно менял работы, хотя, задержавшись на одной из них, он мог бы чего-то добиться. Но пока он не нарыл, не нанюхал себе писательскую профессию, пока в сентябре 1892 года не вышел «Макар Чудра» (кажется, в «Тифлисской газете»), ничего у него не получалось. Пробовал, менял, работал то на приисках, то бродяжничал, то копал, то в булочной хлеб месил, а потом носил по заказчикам — всё перепробовал, кроме военной службы, слава богу. Даже пробовал стреляться. А потом дожил до писательства. Мне кажется, вам надо продолжать пробовать, пока вы не воскликнете: «Э! Вот это моё!»
А мы вернёмся через три минуты.
РЕКЛАМА
Д. Быков― Ещё парочка-троечка вопросов — и всё-таки к Куприну. Многие за него проголосовали.
«Почему у талантливых людей часто не бывает семьи?»
Ну как? У них бывает скорее, знаете, такая половинчатая семья или тройственная семья, как у Зощенко. Дело в том, что они действительно относятся к людям, грех сказать… ну, не скажу, что паразитарно, но немножко высокомерно, потому что для них главное — работа, творческая реализация. Не своя! Это не эгоцентризм. Понимаете, как в замечательной метафоре в фильме «Андрей Рублёв»: творческий человек несёт очень горячий камень, и несёт не щипцами, а обеими руками. Ему надо этот камень донести. Огромен соблазн его выронить, потому что камень всё тяжелее и всё горячее. Но никто не может помочь ему в несении этого камня, только он один может выполнить это странное предназначение. Донёс — хорошо. Не донёс — забыли. Ну, канул. Поэтому мне кажется, что когда он несёт этот горячий камень, всё более тяжёлый (как в «Сказке…» Гайдара), когда он несёт этот чудовищный кирпич, ему немножко не до людей. Помните, как Батюшков про себя говорил: «Я нёс на своей голове сосуд с драгоценной влагой. Сосуд этот я разбил, и поди пойми сейчас, что в нём было». Они все несут на голове драгоценный сосуд, и поди пойми, что там на самом деле. Поэтому часто нет семьи. Или как в фильме «Дневник его жены» — совершенно паразитическое отношение к женщине, когда жена и любовница живут в одном доме. И трагической расплатой за это становится уход любовницы к другой женщине, даже не к мужчине. Все знают эту историю Галины Кузнецовой и Магды Степун, трагедию несчастного Бунина, который всё это пережил.
«Мой метод чтения в детстве: Мэлори, «Старшая Эдда», Гомер, «Песнь о Нибелунгах», Данте и вообще литература Средневековья и Античности. Язык прекрасен, сюжеты героические — словом, помогает. А что вы думаете о литературе Средневековья и читаете ли её?»
Я, конечно, читал «Песнь о Роланде». «Песнь о Нибелунгах» никогда мне не была интересной. «Старшая Эдда» казалась мне дико смешной, читал я её только на втором курсе. Саги всякие — как ирландские, так и исландские — тоже пленят своим абсурдизмом. Но мне больше нравились не оригинальные вот эти средневековые тексты, а вариации (вот де Костер написал «Фламандские рассказы», «Брабантские рассказы», «Уленшпигеля»), то есть культурное освоение всего этого эпоса.
«Один. Совсем один. И давно…»
Милый, не отчаивайтесь. Может быть, ваше одиночество — такая же иллюзия, как и моё одиночество в этой студии. Во-первых, я не один, а со мной звукооператор всегда. Но ещё при этом я не один, потому что все ваши ответные токи я чувствую. Может быть, и вы тоже не один. Может быть, на вас тоже устремлены чьи-то взгляды. Попробуйте думать так — и будете утешены. А там и люди подтянутся.
«Знакомы ли вы с творчеством Александра О’Шеннона?»
Не просто знаком. На моей свадьбе пел Александр О’Шеннон. Слепакова там, правда, сациви готовила (это вообще свадьба, на которой много было великих людей), а О’Шеннон пел. Александр О’Шеннон — замечательный художник, работал он в журнале «Столица». Тогда никто из нас не знал, что он поёт. А потом я услышал его песни, и они меня потрясли — такие песни, как «Ангел на белом козле». Я хотел, кстати, его позвать на Новый год к нам сюда как ещё одного птенца из гнезда Дидурова, из кабаре, но не дозвонился. Саша, если ты меня слышишь, то привет тебе горячий! Очень люблю О’Шеннона, вот это:
Бегу, убежав от попоек,
С посыпанным на голове
Пеплом сгоревших помоек,
И взорванных «БМВ».
Это такой образ Москвы:
Московское дно все выше,
Как глина, асфальт дрожит,
Без денег здесь можно выжить,
Но хочется ведь и пожить.
Обожаю!
И гордый, как честный хиппи,
Я прячу от ветра в горстях
Сигарный окурок и «Зиппо»,
Украденные в гостях.
О, как я люблю этот город,
Как я от него торчу!
И если он даст мне фору,
То я соглашусь на ничью.
И какая песня «Стамбул»! Нет, О’Шеннон — это чудо.
«Астафьев сказал, что русская нация надорвалась в ХХ веке, — да, мне в интервью он тоже это сказал. — Выражение, конечно, выношенное, но чересчур эмоциональное. Можно ли его рационально экстраполировать? В своё время Астафьев не очень корректно высказался об Эйдельмане (чего я не принимаю, но могу понять). Рациональное мышление противостоит этике и морали, которые всё-таки, видимо, являются мифами?»
Нет, Вера, они не являются мифами совсем. И ХХ век как раз показал, что и национальное самосознание, и культура, и мораль — всё это не мифы, а очень часто… Да и сейчас мы с вами видим. Господи, почему сейчас так легко верить в Бога? Потому что почти ничего, кроме Бога, в мире не осталось (я об этом уже писал), почти всё уничтожено, все человеческие ухищрения уничтожены. Мы видим, как работает Бог. Видно, как одни превращаются в законченных подонков, другие — почти в святых. Господь поляризует мир, и это очень наглядно видно. Астафьев сказал, конечно, что русская нация надорвалась, но мне кажется, что он всё-таки переоценил степень её усталости. Мне кажется, что лучше меньше, да лучше. Сейчас выковывается эта нация только по-настоящему. И люди, которые могут сейчас противостоять безумию, — это и есть настоящие, самые настоящие.
«Ходите ли вы в музеи или в галереи? Вы правда считаете, что люди, стоящие в большой очереди в музей или в галерею, не знают, для чего они стоят и чего ждут?»
Это ответ на иронические стихи о Серове. Меня вообще удивило, что многие почему-то обиделись, им показалось, что это неуважение. На самом деле там же рассматриваются разные версии, почему люди стоят в этой очереди. Одна — потому что они привыкли стоять в очередях. Другая — потому что Серов становится такой же святыней, как пояс Богородицы, которому поклоняются, не думая. Третья — что люди хотят увидеть настоящие человеческие лица (эта гипотеза многажды высказывалась). И заканчивается это тем, что люди действительно стоят как бы в очереди за прозрением, за новым пониманием. Потому что если даже на Владимира Путина эта выставка так подействовала, что он заговорил о ленинских ошибках, может быть, когда-то кто-то, посмотрев эту выставку, заговорит о путинских. Вот что сказано в этих стихах, если их перевести на человеческий язык: люди стоят в очереди за достоинством. А вы почему-то обижаетесь на это. Понимаете, не надо в стихах всё воспринимать буквально. Это такая ироническая вещь.
Правда, люди, которые безумно гордятся тем, что они посетили художественную выставку, как выдающийся мыслитель нашего времени Николай Троицкий в своём блоге и другие разные люди… Я не понимаю, чем там особенно гордиться. Я не люблю публику, которая любит «эскусство» и посещает «музэи», и ещё всегда при этом отставляет пальчик, когда берёт стаканчик или чашечку. Я не хочу сказать, что крупнейший мыслитель нашего времени Троицкий так себя ведёт, но его дискурс, безусловно, этого же ряда. Нечего особенно гордиться знакомством с материальной стороной культуры. Посещение выставки не есть добродетель. Вы не сделались культурнее, прочитав такую-то книгу, посмотрев такой-то фильм или посетив такую-то выставку. Это количественный критерий. А качественные перемены происходят внутри, и не оттого, что вы отстояли три часа на «Джоконду», например, или пять часов на шедевры Дрезденской галереи. Это ваша способность сопротивляться мерзости — вот что такое культура.
«Не могу понять, что хорошего в заунывно-назидательно-морализаторских текстах Маршака. Может, со мной что-то не так?» Да, наверное, что-то не так, потому что они не морализаторские.
«Кто был прототипом Аньки в романе «ЖД»?» Не скажу.
«Когда начнётся процедура возврата Крыма?» Я не думаю, что это будет процедура возврата Крыма. Мне почему-то рисуется такой остров Крым, независимый Крым, но это очень долгая история.
«Что вы можете сказать о концепции мониппеи, — видимо, имеется в виду мениппея, — и «теории литературы» Альфреда Баркова?» Про мениппею уже говорил, про Альфреда Баркова тоже.
«По каким причинам на «Эхе» я вас давно не слышу в программе «Особе мнение»?» Потому что вы меня слушаете два часа каждую неделю в программе «Один». Как можно так собой перекармливать?
«Знакомы ли вы с «Сараевской трилогией» Момо Капора? Кого можете выделить из балканских авторов?» Не знаком почти ни с кем, кроме Иво Андрича. Надо, видимо, познакомиться.
И наконец последнее: «Смотрели ли вы новый фильм Тарантино? Оставил ли он у вас такие же восторженные чувства, как у меня?» Нет, я очень редко испытываю восторг. Мне понравилась эта картина. Понравилась, пожалуй, всё-таки чуть меньше, чем «Джанго освобождённый».
Вот Володя Воронов дозвонился и передаёт привет. И я тебе, Володя, тоже передаю привет.
Просят поговорить про смерть Немцова. Ближе к концу февраля поговорим об этом, безусловно. Хотя тут важен не календарный повод.
А теперь поговорим о Куприне. У нас как раз остаётся 12 минут. А много-то рассусоливать и не надо.
Понимаете, по крайней мере, три великих заслуги в литературе у Куприна есть.
Первая и самая очевидная — лучший портрет Ленина оставлен им (им и Толстым в «Гиперболоиде инженера Гарина»). Вот эти глаза цвета ягод зрелого осеннего шиповника, красно-бурые, эта энергия падающего камня, который давит не потому, что он так морально плох или хорош, а потому что у камня нет морали, это падающая история, падающий камень истории. И вот это замечательное воспоминание, как Ленин первым вопросом припечатал: «Куприн? Не помню, вы какой же партии?» Для писателя Куприна это было шоком реальным. Лучший портрет Ленина в очерке.
Вторая, более серьёзная заслуга — Куприн всегда числился наряду с Грином по разряду беллетристов, например. Только сейчас, мне кажется, мы начинаем понимать, писателем какого масштаба он был на самом деле. Беллетристами обзывали в разное время и Алексея Толстого, и упомянутого уже Грина, и практически всех российских юмористов, таких как Тэффи, хотя это писатель глубочайшего духовного, религиозного опыта. Беллетристика только на том основании, что они хорошо пишут и их интересно читать. Вот Андрей Белый — да, это не беллетрист, там поди продерись через роман «Петербург». Но я уверяю, что такие беллетристы, как Грин, приближают человека к чуду, дарят ему чувство чудесного, прекрасного гораздо в большей степени, чем кондовые реалисты, социальные критики и вообще серьёзные писатели, говорящие всегда как бы с полным ртом бороды, чавкающие сквозь бороду. При всём уважении к социальным реалистам, при всём почтении к таланту Горького, у таких писателей, как Куприн, как Леонид Андреев, в их прозе больше кислорода, чуда, фантастических допущений — того, что Петрушевская называет «садами других возможностей». Мне кажется, что Куприн с его невероятным обаянием, с его миром, залитым солнцем, с его предельным эмоциональным напряжением, с его сильными (хотя, может быть, иногда несколько фельетонными) сюжетами — он, конечно, из тех мастеров, которые внушают саму возможность жизни, делают жизнь возможной.
И третья черта Куприна, которая мне, помимо его увлекательности, его беллетризма, его яркости, очень дорога, — это его сентиментальность, немножко такая пасхальная и рождественская. Он сам ненавидел необходимость писать рождественские и пасхальные календарные рассказы, выискивать для них темы. Но надо заметить, что некоторые сентиментальные рассказы Куприна — такие как, например, «Святая ложь» или «Королевский парк», — ох, как я в детстве плакал над ними! Я и сейчас их, наверное, буду перечитывать со щипанием в носу, а «Королевский парк» особенно.
Сентиментальность сильных людей — это совсем особенная сказочность. Куприн был действительно сказочник. При том, что человек это был совершенно медвежьей силы, великолепный борец, летал с Уточкиным, работал в цирке, погружался на дно. Ну, он весь мировой опыт использовал, ему доступный. Он с тоской только говорил, что не может никогда правильно описать роды, потому что не может, к сожалению, родить, а вот как бы это почувствовать. Страшно чуткий к запахам, вкусам, к малейшим движениям воздуха — тактильная чувствительность невероятная! Вот эта пластическая жадность Куприна, жадность к жизни — это страшно меня в нём привлекает. И привлекает на фоне этой силы его совершенно детская сострадательность, сентиментальность. Помните, как плачет маленький кадетик в повести «На перевале» [«На переломе»], когда у него оторвали пуговицу с курточки, которую пришила мать дома любимыми руками, — это так здорово сделано! Понимаете, без этих шрамов на сердце не было бы Куприна.
Ещё я его люблю вот за какую вещь. Я считаю, что лучшая книга Куприна — при всём уважении, конечно, и к «Поединку», гениальному и запрещаемому до сих пор в воинских частях, и при всём почтении к «Листригонам» или к его изумительным рассказам 1910-х годов, — это «Каждое желание», которое печатается сейчас чаще всего под названием «Звезда Соломона». Это прелестная фантастическая повесть, такая сказочная, в которой очень нестандартная мораль. Школьникам или особенно студентам, когда я даю Куприна, я люблю рассказать начало сюжета, а потом оборвать. Но я вам честно могу сказать: ребята, если вы сейчас, например, откроете Куприна в Сети или книжкой в пятом томе синего толстого шеститомника, если откроете «Звезду Соломона», вы не оторвётесь! Но помимо фантастической увлекательности… Ох, я помню, как мне мать сначала тоже её рассказала, а потом сказала: «Ну, дальше сам». И я, конечно, вцепился в эту книгу, просто не отрываясь! Причём я умный был, я сразу догадался, кто такой Мефодий Исаевич Тоффель. И Куприн специально так делает, чтобы мы догадались.
Знаете, одна из самых страшных сцен в мировой литературе, когда Тоффель неожиданно перед Цветом (главным героем) падает на колени и говорит: «Вы узнали имя? Имя! Скажите мне имя — и я ваш раб навеки!» — и тычется колючим бородатым лицом ему в руку. И тот говорит брезгливо: «Уйдите от меня! Что это?» Тот встаёт и говорит: «Простите-с, забылся. Я пьян, как фортепьян». Это совершенно волшебная вещь!
В чём же там суть? Это не спойлер, я эту мораль могу сказать. Куприн вообще ненавидел в людях добропорядочность и половинчатость. При всей своей любви к настоящей доброте, к сентиментальности он ненавидел в людях умеренность, тихость. Главный герой получает волшебную способность вмешиваться в судьбы мира капитально, а ограничивается мелочами. И Тоффель ему потом говорит в конце… Это потрясающая сцена, когда Цвет там сидит, и словно позвоночник из него вынули. Он только что был богом — а стал ничем! И Тоффель ему говорит: «Дорогой мой, я одного не понимаю. Ведь вы могли мир залить кровью! Вы могли привести его к невероятному процветанию, к просвещению, к чудесам героизма! Вы могли превратить его в кровавое месиво! А что же вы сделали? Вы несколько раз показали фокус. Как же можно быть такой мелочью?» И действительно эта страшная тоска по масштабу, по страсти, по напряжению — вот это есть в Куприне. Это не то что «будь или ангел, или демон», нет. Будь даже плотник, но сверхплотник! Такой плотник, которым все залюбуются.
Куприн — вообще первый в русской литературе настоящий поэт профессионализма. Он обожает профессионалов во всём: военных… Помните, когда Бек-Агамалов рубит эту глиняную фигуру, остаётся гладкий, как бы отлакированный срез от плеча до паха. И маленький Ромашов, который только умеет кожицу на руке содрать у себя шпагой, выставив руку вперёд, он любуется этой рубкой. И Бек действительно один из самых обаятельных героев этой повести. Он даже Сашенькой любуется. Казалось бы, какая сволочь Сашенька в «Поединке», убийца (она убила Ромашова де-факто), но как он любуется её «крепким и свежим молодым телом», как он любуется её целеустремлённостью, её ладностью («Ромочка, какой вы смешной»). Это всё-таки, наверное, самый обаятельный женский образ у Куприна, хотя и самый противный.
Куприну нравятся люди, которые что-то умеют, мастера дела. И о литературе он говорил крайне сдержанно и неохотно. Он говорил: «Для писателя первое дело — верстак», — имея в виду большой стол. Он редко говорил о профессиональном, но он чувствовал писательскую профессию. И он обладал такими профессиональными навыками! Даже в старости, даже в поздних текстах, даже в «Жанете, принцессе четырёх улиц» он всё равно добивается того эффекта, которого хочет.
Мне безумно жалко старого Куприна, больного, ничего не осознающего, который приехал в Россию, почти ничего не понимая. Но он даже тут умудрялся ехидно острить в ответах интервьюерам. Я люблю его за неубиваемость, за вечный купринский дух. Невозможно себе представить, что этот почти квадратный, страшной физической силы татарин, который издевался над городовыми, который на спор поднимал гирю рекордное число раз, превратился в шатаемого ветром старичка, который в советском консульстве мог только спросить: «А кошечку можно с собой взять?» Это невероятно! Но при этом для меня важно, что Куприн остался Куприным, что он не сломился.
И даже его алкоголизм мне как-то симпатичен, потому что и в этой области он профессионален. «Если истина в вине, то сколько истин в Куприне», «Водочка откупорена, плещется в графине. Не позвать ли Ку́прина по этой причине?» У Куприна есть замечательная одна его пьяная выходка. Он очень дружил с репортёром Манычем. И вот однажды, когда они в Вене по обыкновению страшно упились, он пьяному Манычу в задницу вставил розу. Понимаете, вот в этом весь творческий метод Куприна — в любую задницу вставлять розу. Это какое-то удивительное, восторженное, нежное, благодарное отношение к миру.
И, конечно, рассказ Куприна «Слон» — это одно из глубочайших произведений о религиозном опыте. Девочку, которой не хочется жить, может спасти только чудо. Чудо можно сделать только одним образом — надо привести в дом слона. Я вам скажу, что как Воскресенье, толстяк, летит на воздушном шаре в «Человеке, которым был Четвергом», так вот этот огромный слон, под которым ломаются ступеньки, входит в дом — и девочке хочется жить. Потому что Бог входит в жизнь, как слон — иногда страшный, а иногда добрый. А слон довольно страшный. Помните, как у Пинчона в «Against the Day» в Африке бродят двое (один коммивояжёр, а второй ищет место для еврейского государства в начале века), и вдруг на них бежит дикий слон! И еврей в ужасе кричит: «И здесь антисемиты!» Да, слон бывает очень страшным. Но слон — это чудо божье. И вот этот рассказ о божьем чуде — это великий урок нам всем.
Услышимся через неделю.
*****************************************************
05 февраля 2016
-echo/
Д. Быков― Добрый вечер, дорогие друзья! Точнее — доброй ночи! «Один», в студии Дмитрий Быков при вашей, насколько я могу судить, многотысячной поддержке и интересе. Это мне приятно.
Я отвечаю для начала, как всегда, на вопросы форума, потом — на вопросы, пришедшие в почту. Ну а потом мы, вероятно, сделаем лекцию. У вас есть время выбрать варианты. Просят Марию Шкапскую, о ней я поговорю с особенным удовольствием. Просят Мандельштама, но не вижу особого смысла, потому что большая статья выходит в следующем «Дилетанте», да и вообще это не та тема, которую можно осветить за полчаса. И есть много просьб по Горенштейну. Кто чего хочет — то, соответственно, и предлагает.
Но начать мне приходится с рецензии на совершенно другой текст, который к литературе, по-моему, прямого отношения не имеет. Очень многие меня спрашивают, как я отношусь к посту Игоря Клямкина, который называется «О методе Быкова». Я его с удовольствием зачитаю (он короткий):
«Прислоняться к власти можно по-разному. В том числе, и посредством её критики. Например, поставив её жертвы в моральном и прочих отношениях ниже неё или сделав её виновность производной от виновности самих жертв.
Можно обвинять власть в убийстве Литвиненко, но при этом представлять последнего лжецом, повторявшим «идиотские сплетни».
Можно оценивать поведение России в Украине, как «глупость и зверство», но при этом не забыв добавить, что глупость Украины была первичной.
То есть вина своей власти признаётся и даже обличается, но смягчается изначальной виновностью, приписываемой другим. Как якобы очевидной и доказательств не требующей.
Это я о критическом методе Дмитрия Быкова, если кто не понял».
Я не очень понимаю, какое мнение здесь можно иметь и что на это возражать. Это откровенная передержка, потому что я нигде не говорил, что глупость Украина первична. Более того, я никогда не говорил, что Украина стоит в моральном отношении ниже России, и никогда к этой власти не прислонялся. Здесь был бы какой-то повод для разговора, если бы я видел Игоря Моисеевича Клямкина на трибунах оппозиционных митингов или в качестве их заявителя. Пока я не видел его там и видеть в нём более бескомпромиссного борца я никак не могу, к сожалению. Если ему кажется, что я прислоняюсь к власти, то это классическая схема, когда человек в состоянии раздражения лупит не реальных своих врагов, а тех, до кого может дотянуться.
Что касается собственно предмета полемики. Да, я считаю, что Литвиненко повторял глупости. Да, я считаю, что он не представлял той опасности, которая рисовалась здесь. Да, я считаю, что убивать его не следовало. И более того, мне представляется, что очень многое в действиях Украины тоже заслуживает вполне объективной и часто негативной оценки. И я никогда не буду в числе людей, которые умеют считать только до двух, которые полагают, что глупости и зверства одной стороны полностью искупают любые действия другой стороны. Я никогда и нигде не говорил, что Украина спровоцировала такие действия в России (это, ещё раз подчёркиваю, передержка), но я никогда не откажусь оценивать объективно те или иные действия Литвиненко или те или иные действия Украины — в частности? внезапный отказ ввозить русские книги. Гипотетический пока, насколько я знаю, но чем чёрт не шутит?
Ещё раз говорю: пока мы будем считать до двух, пока мы будем мыслить в пределах парадигмы «свой — чужой», пока мы будем категорически отрицать любую попытку объективного мышления и дружно сплачиваться «ату» при виде врага, мы, к сожалению, никуда не выйдем из нынешней ситуации. Именно поэтому я с такой тоской думаю о том, что все разговоры о люстрации, все разговоры о будущем устройстве России, как только речь идёт о сведении счётов, тут же выходят за грань здравого смысла. Мне представляется, что менять одну тоталитарную идеологию на другую совершенно бессмысленно. А всё время проводить чистку рядов и видеть в своих рядах тех, кто пытается прислониться к власти, — это недальновидно, это глупо, это не достойно серьёзного аналитика, мне так кажется.
А всё остальное я оставляю без комментариев. Ну хочется Игорю Моисеевичу Клямкину спозиционировать себя в качестве бескомпромиссного борца с режимом. Зачем-то ему это нужно, наверное. Я ему в этом мешать не могу.
Вот несколько вопросов, которые на форуме.
«Как вы относитесь к произведениям таких писателей, как Стогов и Минаев? И в чём популярность их книжек про жизнь и субкультуру девяностых и нулевых? Василий».
Василий, я не стал бы всё-таки Стогова и Минаева рассматривать в одном ряду. Мне представляется, что у Стогова больше таланта, больше фактографии. Стогов никогда не претендовал быть писателем фикшна, он скорее мастер нон-фикшна (либо документальной прозы, либо журналистских расследований). И мне, в общем, Стогов скорее симпатичен. От характеристики Минаева я воздержусь, потому что, как вы знаете, я в этой программе стараюсь не говорить плохого, стараюсь не говорить о тех людях (разве что они уж совсем нападают первыми), которые не достойны этого. Если я о ком-то умалчиваю — значит, я не хочу просто засорять эфир теми или иными фактами или именами.
«В чём разница между писателем и ремесленником? В массовом сознании Донцова — ремесленник, а Акунин — писатель, хотя оба пишут много и практически на любую заказанную тему».
Ну, что значит «заказанная тема»? Никакой заказанной темы в случае Акунина нет, если не говорить о предложении ему написать историю России. Но в трактовке этой истории он был абсолютно свободен. В чём разница между Донцовой и Акуниным? Давайте начнём с того, что всё-таки многописание Акунина — это абсолютное ничто по сравнению с продуктивностью Дарьи Донцовой. Во-вторых, любой человек, у которого не совершенно ещё отшибло вкус, при сравнении самой фактуры текстов Донцовой и, кстати говоря, Марининой тоже (потому что Маринина для меня всё-таки серьёзный писатель, как ни странно, в своём жанре), и уж тем более при сравнении прозы Донцовой и Акунина, увидит совершенно очевидную разницу, — разницу между сукном и тканью значительно более благородной. Я никогда не мог затолкать в себя ни одну книгу Донцовой до конца. При этом я, заметьте, не вхожу в обсуждение вопроса, сама ли Донцова как некий завод непрерывного цикла сочиняет эти бесконечные ежемесячные тексты, или их пишет за неё кто-то другой, или это делает авторский коллектив. Это мне не интересно. Я готов допустить, что она всё это делает сама, но причины этой производительности мне не понятны. Это литература, лишённая сверхзадачи.
И вот здесь, наверное, пролегает грань между литературой и ремеслом, потому что литература Акунина сверхзадачей продиктована, в ней есть чрезвычайно сильный, чрезвычайно постоянный, я бы сказал, на редкость константный мотив, заявленный с самого начала, — мотив человеческого достоинства. Акунин всё время рассматривает один и тот же вопрос, заданный впервые в «Тайном советнике»: почему российская государственность постоянно предпочитает опираться на мерзавцев, а оппозиция — на благородных людей, и в результате и те, и другие оказываются вовлечены в воронку взаимного истребления и деградации? Потому что при таком положении не может быть не только диалога, при таком положении не может быть развития. И мне Акунин как писатель, безусловно, интереснее. Есть у него вещи, которые совершенно прошли мимо меня, не задев, — такие, как «Сокол и Ласточка». Есть такие, как «Аристономия», которые вызвали у меня серьёзный интерес, где-то — желание спорить, а где-то — восторг. Но в любом случае Акунин — это человек, который отвечает на собственные внутренние вопросы. И в этом, как мне кажется, его достоинство и правота.
«Давно меня заинтересовал герой книги «Алмазный мой венец» — Колченогий. Узнал, что это Нарбут — поэт, трагически погибший в лагере. Знакомо ли вам его творчество? И в чём его оригинальность?»
Можно сколько угодно ругать Катаева, как это делают многие добровольные охотники. Я-то на самом деле считаю, что Катаев — замечательный писатель, а «Алмазный мой венец» — замечательная книга. Вы знаете, что в долгом споре об этом романе, который шёл между Давидом Самойловым и Лидией Чуковской, Чуковская занимала, как всегда, позицию более бескомпромиссную. К сожалению, у неё тоже было иногда (почему её и называли Немезида-Чуковская) вот это чёрно-белое видение мира, умение считать до двух. Ну, ничего не поделаешь. Люди, которые борются всю жизнь, и люди с такой трагической биографией, как у неё, — они, наверное, имеют право на такую чёрно-белость.
Так вот, Самойлов понимал некоторые достоинства книги, но говорил, что всё равно есть чувство, будто у Катаева «в душе мышь сдохла». У меня есть несколько иной подход к этой книге. Я считаю, что Катаев был вправе на равных говорить об этих героях, и, в общем, невзирая на ряд поступков достаточно двусмысленных, по большому счёту он свою молодость не предал. Я знаю, что он на коленях просил прощения у Зощенко. Знаю, что он помогал Мандельштаму. Знаю, что он пытался спасать семью Багрицкого, которая много бедствовала после его смерти, пытался спасать его арестованную жену. В общем, он вёл себя, как человек.
Что касается Нарбута. Нарбут был одним из акмеистов. Ахматова, которая очень строго относилась к перечислению участников «цеха», всегда его включала в это число и относилась к нему вполне доброжелательно. В качестве редактора издательства «Земля и фабрика» Нарбут подкармливал многих. Это именно из-за него, кстати, из-за его небрежности случилась с Мандельштамом вся история, которая была потом описана в «Четвёртой прозе» — история с редактированием «Уленшпигеля». Я не буду сейчас вдаваться в конфликт Мандельштама и Горнфельда, но очевидно, что Нарбут мог бы в этой ситуации, пожалуй, бережнее отнестись к корректуре книги, добиться, чтобы там с самого начала было написано «перевод Горнфельда в обработке Мандельштама», — и скандала бы не было. Издатель он был талантливый и конъюнктурный, хватавшийся за переводные новинки и наводнившие во второй половине 1920-х Россию всякие дешёвки в бумажных обложках, что давало неплохой шанс выжить так называемым «дамам-переводчицам» — людям, которые не могли устроиться в «Новой жизни», но зато владели языками.
Что касается собственно его поэзии. Катаев её довольно точно характеризует: это поэзия кровавая, жестокая, чрезвычайно натуралистичная. Все помнят (и помнят благодаря Катаеву) стихи из страшной книги «Плоть», которую он там цитирует в изобилии. Вот это:
И кабану, уж вялому от сала,
забронированному тяжко им,
ужель весна так ясно подсказала,
что ждёт его холодный нож и дым?..
И вот это замечательно:
Ну, застрелюсь. И это очень просто:
нажать курок — и выстрел прогремит.
И пуля виноградиной-наростом
застрянет там, где позвонок торчит.
Нарбута все помнят благодаря Катаеву, хотя «Плоть» некоторые прочли в спецхране «Ленинки» потом по собственной инициативе. До нас дошла из поздней лирики Нарбута одна строфа, которую он прислал жене в письме уже из лагеря, арестованный в 1938 году:
И тебе не надоело, муза,
Лодырничать, клянчить, поводырничать,
Ждать, когда сутулый поднимусь я,
Как тому назад годов четырнадцать…
Потрясающее четверостишье и потрясающая судьба. Мне особенно мучительно то, что он (у меня стихи об этом были) с женой ругался в ночь перед арестом. Действительно, перед тем, как его должны были взять, он страшно скандалил с женой. Знаете, когда люди живут в обстановке страха, в постоянном предощущении, что за ними придут, они всё время ругаются, всё время выясняют отношения и вымещают ненависть друг на друге. А потом она, естественно, оказалась его единственной надеждой, передачи ему таскала. Вот это ужасно. Так что не знаю, что делать, но надо, видимо, как-то в обстановке давящей пытаться уберечь друг друга.
Что касается посмертной судьбы Нарбута, то думаю, что его настоящее возвращение, настоящая слава ещё впереди, потому что когда возвращались, воскресали поэтические имена в 80–90-е, он оказался затемнён более яркими персонажами. Но тем не менее вышла его замечательная книга — большое «Избранное». Думаю, что его ещё будут читать, потому что те рубежи, на которых он искал — рубежи прозаизации поэзии, освоения новых территорий, новой лексики — это, конечно, замечательно. И я очень рад, что в ближайшее время, я думаю, мы все будем это наблюдать.
«Нравится ли вам барон Унгерн как исторический деятель? Случаен ли взлёт его страшной карьеры в Монголии? Закономерен ли крах?»
Понимаете, о бароне Унгерне мы все знаем благодаря замечательным книгам, многократно переиздававшимся, начиная с «Самодержца пустыни», и благодаря Юзефовичу (только что сейчас вышел новый вариант в серии «Жизнь замечательных людей»). По чести вам скажу, барон Унгерн как исторический персонаж мне очень не нравится. Я не люблю романтизации этого человека. Я понимаю, почему его романтизируют. Он выглядит таким белым рыцарем. По-моему, он обыкновенный самолюбующийся садист, каких было довольно много, и садическое в нём первично, а убеждения вторичны, садическое просто на уровне физиологии. Мне кажется, что тот же Горенштейн, который написал о нём замечательный сценарий (может быть, полный фактических неточностей, но очень точный психологически), понимал его лучше многих. Это не значит, что я предпочитаю книгу Горенштейна — достаточно вторичную по фактам и уж никак не исследовательскую — дотошной биографической работе Юзефовича. Я Юзефовича вообще очень люблю и высоко его ценю. Просто мне кажется, что отношение Горенштейна к Унгерну было трезвее.
Мне кажется, что Унгерн был безумец. И на фотографиях видны эти белые, совершенно безумные глаза. И в его попытках организовать собственную империю, конечно, видны амбиции сумасшедшего — талантливого сумасшедшего, может быть, и даже, может быть, убеждённого. Но искренняя убеждённость в своём мессианстве мне представляется ничуть не оправдывающей, ничуть не реабилитирующей чертой. Да, таких людей, кстати говоря, в Серебряном веке было довольно много. Я думаю, кстати говоря, что такие же мессианские амбиции, но гораздо более скромные, были у Блюмкина, были у Рериха, как ни странно. То есть это всё — увлечения или оккультными, или квазинаучными теориями имперского свойства. У Унгерна действительно была мечта возрождения России, которая придёт с Востока, но его мечты с его садической практикой, по-моему, соотносятся настолько очевидно, что умиляться тут решительно нечему.
Просят, чтобы лекции были по отдельным текстам, а не по писателям в целом. Хорошо, попробуем.
«Что вы думаете о творчестве Серджо Леоне? Он смотрел на жизнь с широко открытыми глазами. Беспощадными глазами…»
Я не настолько знаю его творчество. Мне упомянутый Пекинпа из прошлой программы несколько ближе, но, конечно, Серджо Леоне — замечательный режиссёр, мастер эпического повествования. Слово «спагетти-вестерн» представляется мне несколько унизительным, но эпические характеры там действительно есть. Другое дело, что у Серджо Леоне всегда было глубоко ироническое отношение к бандитской мифологии, и за это я его люблю отдельно.
«Читали ли вы книги Ильи Бояшова — например, «Танкист»? Ваше мнение о них?»
Я очень хорошо отношусь к творчеству Ильи Бояшова. И «Путь Мури» мне когда-то очень понравился. Вообще Илья Бояшов мне нравится тем, что он пишет совершенно не в русле современной российской литературы. У него совершенно нет водянистости, нет рыхлости, проза его очень компактна. Он пишет короткие и оригинальные вещи, пытаясь нащупать новые формы. Последний его роман «Джаз» — хроника одного дня — мне временами, может быть, и скучно было читать, потому что меня этот день не интересует, но сам метод замечательный. Книга «День мира», придуманная в своё время Горьким — хроника одного дня, написанная разными международными журналистами, — это прекрасная затея. Это даёт очень хороший срез, портрет истории человечества. И Бояшов, конечно, гигантскую работу проделал, очень хорошо и компактно всё это изложил. Нравится мне, конечно, и «Танкист» («Белый тигр»). Надо сказать, что фильм нравится тоже, как ни странно. Я умею объективно относиться к творчеству людей, которые, как Карен Шахназаров, со мной совершенно идеологически не совместимы, но я уважаю их талант.
«Вера Глаголева отпраздновала свой юбилей. Какие её актёрские и режиссёрские работы вам нравились? Мне вспоминаются «В четверг и больше никогда», «Сошедшие с небес», «Выйти замуж за капитана», — и так далее.
Дорогой optimistichen, дорогой друг, вы попали в больное место, вы прямо с размаху ударили в грудь, потому что я Веру Глаголеву не просто люблю. Когда я увидел «Выйти замуж за капитана» первый раз, потому что там есть полуголые кадры, и я ходил его смотреть раз семь, наверное, хотя моё отношение к этому фильму никогда не было восторженным… А увидел я её впервые в фильме «Искренне Ваш…», где она очень достойно подыгрывала Соломину — и в результате, мне кажется, переиграла его, просто съела, как и съела её героиня.
Она мне всегда представлялась идеалом женской красоты, вот ничего не поделаешь. Конечно, надо бы здесь говорить о её замечательном режиссёрском даре (экранизация «Месяца в деревне» мне очень нравится), надо бы, наверное, говорить о её замечательной актёрской биографии (действительно в «Четверг и больше никогда» она прекрасно сыграла в одном ряду с Далем, Смоктуновским, Добржанской; это прекрасная картина — всё-таки Эфрос). Но как бы мы об этом ни говорили, первичным в нашем восприятии актрисы всегда остаётся вот этот отзыв души на совершенно удивительную, небывалую внешность, на такую нестандартную, такую вызывающую красоту. Ведь действительно по всем канонам красоты Вера Глаголева красива не канонически, не классически, но она настолько обаятельна, что не влюбиться невозможно. Для меня, когда мне было лет двадцать, случайное путешествие с ней в лифте на «Белорусской» в одном доме просто было ярчайшим жизненным событием!
Я не знаю, какой юбилей она празднует, я не слежу за её возрастом, внешне она не меняется. Мы с тех пор успели познакомиться, успели перейти на «ты», успели сделать несколько больших печатных разговоров, но для меня Вера Глаголева остаётся чудом. А если у неё юбилей, то я её поздравляю! Советую не обращать на него внимания. А вообще это просто одна из тех немногих актрис, которая одним своим появлением придаёт смысл всему происходящему. Как замечательно когда-то сформулировал Сергей Соловьёв (правда, применительно к Тане Друбич): «Её тема — это путешествие идеального сквозь реальное». Вера Глаголева — тоже актриса этой темы.
«В нашей школе лет тридцать назад старшеклассники взбунтовались из-за того, что учительница истории предъявляла к ним заниженные требования, а ученики тянулись к бо́льшим знаниям. Написали коллективное письмо с просьбой сменить учителя — и их просьбу удовлетворили. Как вы думаете, по какому поводу сегодня могли бы взбунтоваться ученики?»
Вы знаете, меня не очень вдохновляет эта история, потому что когда тридцать человек пишут письмо с просьбой сменить учителя — это тоже попахивает травлей, немножко. И мне кажется, что ученик не способен судить о компетенции учителя. Вот они говорят: «Нам занижают требования, мы хотим учителя получше». А вы, собственно говоря, на основании чего судите? Вы кто такие? Если дети коллективно ненавидят учителя или просят его заменить, то это может быть следствием того, что учитель не справляется с классом (такая проблема бывает, это безусловно так), а может быть и следствием того, что дети просто не умеют себя вести, и это тоже бывает. Поэтому я не могу никак оценивать эту историю.
А что касается того, по какому поводу сегодня могли бы взбунтоваться ученики. Я думаю, они могли бы взбунтоваться (и они бунтуют — во всяком случае студенты), когда их пытаются кормить «идеологической жвачкой», когда им пытаются «вставить чужие глаза», когда вместо преподавания предмета им дают идеологически ориентированный, идеологически выхолощенный материал. Я знаю, что многие лидеры движения «Антимайдан» (Стариков в частности) сталкивались с бойкотом студентов, когда приходили что-то им рассказывать. Они, напротив, считают это своим триумфом, но мне кажется, что студенты вели себя в этой ситуации гораздо убедительнее. Если дети чувствуют, что их кормят готовыми рецептами, пропагандой вместо информации, они вправе взбунтоваться. И думаю, что они бунтуют вполне осознанно.
«Доброй ночи! — Наталия, доброй ночи! — Мне близки поэты с трагическим восприятием мира: Лермонтов, Блок, Бродский, Рыжий. Пушкин — самый гармонический. Как вы относитесь к такому делению?»
Это деление ещё Вознесенский обнародовал когда-то, когда говорил, что бывают поэты дневные и поэты ночные (Пушкин — дневной, Лермонтов — ночной). А ещё раньше об этом же писал Георгий Иванов, и об этом же писал Ходасевич, и Георгий Адамович, говоря, что «ночной Лермонтов нам сегодня ближе дневного и солнечного Пушкина». Но я бы не стал… Ну а Некрасова куда вы денете? Некрасова, у которого были и ужасные приступы ипохондрии, а были, наоборот (это такой МДП в чистом виде, как это сегодня называют, биполярный синдром, маниакально-депрессивный синдром), периоды абсолютной жизнерадостности и, я бы сказал, ликования. Тут очень трудно делить.
Другое дело, что есть некая доминирующая нота, конечно. Уж во всяком случае Рыжего я не стал бы вписывать в поэты ночные, потому что он как раз поэт очарования мира, поэт такого лёгкого опьянения. У него есть чрезвычайно драматические тексты (как есть они и у Есенина, как есть они и у Гумилёва), но есть, по-моему, и вполне ликующие. Иное дело, что Блок… Бродский вообще стоит здесь наособицу, потому что, как правильно кто-то заметил, «Бродский декларирует своё жизнеотрицание с таким напором, что это превращается уже в жизнеутверджение». Так что деление это не ново, но весьма условно.
«Из ваших стихотворений моё любимое — «Утреннее размышление…». Спасибо большое. Я тоже люблю это стихотворение. Имеется в виду «Утреннее размышление о Божием величестве», которое такой «наш ответ Ломоносову».
«Нравится ли вам фильм «День сурка»? Да, весьма.
«Вы когда-нибудь ловили рыбу? И что вообще думаете об этом занятии как о способе внутренней эмиграции? Станислав».
Станислав, есть хорошая английская книжка (я не вспомню сейчас её название) — учебник по рыболовству, который является одновременно, как и многие книги о рыболовстве, блистательным образцом английской прозы. Такой образец русской прозы — «Заметки об ужении рыбы» Аксакова — тоже всегда меня восхищал. Я рыбу не ловлю, потому что как-то мне её жалко, и процесс её снимания с крючка довольно неприятен. Я понимаю, что есть я её люблю (и, наверное, это с моей стороны определённая непоследовательность), но ловить не люблю. Другое дело, что я люблю смотреть, как её ловят. Это очень азартное занятие. И многие люди, мне близкие и бесконечно мной любимые — прекрасные ловцы, прекрасные рыбаки, очень профессиональные.
Другое дело, что выслушивать профессиональные разговоры рыбаков о рыбалке — дело довольно скучное. Они об этом говорят, как охотники, с таким же замечательным упоением и азартом, а людям сторонним это скучно — бесконечное обсуждение наживки, «самодура», «самовара» (забыл уже, как это всё называется). Но посмотреть на это я всегда любил. Когда я ещё ездил в Крым, мне очень нравились выходы на утреннюю рыбалку с замечательным начальником гурзуфской лодочной станции Серёжей. Привет тебе, Серёжа, если ты меня сейчас слышишь. И восхищали меня байки, которые там рассказывались, и восхищала меня Таврида.
«Драматургия Пристли — это социальная сатира или рентген страстей человеческих? Андрей».
Андрей, одно другому совершенно не мешает. Драматургия Пристли — сказал бы я, это ни то, ни другое, а это гениальный формальный эксперимент. По крайней мере, два формальных эксперимента у него. Я ставлю очень высоко «Время и семья Конве́й» (или Ко́нвей) — история, в которой второе действие, помещённое между первым и третьим, взято из будущего. Вот в первом мы видим завязку истории, во втором — уже её развязку, а в третьем — людей, которые ещё не знают, чем всё это закончится, и продолжают жить по накатанной схеме. Это на самом деле феноменальный, очень точный и очень новый способ рассказывания истории. И когда я это прочёл, помню, я просто от зависти задохнулся! И, конечно, «Инспектор Гулл» или «Он пришёл» — замечательная пьеса, единственная мне известная пьеса-детектив, в которой виновником оказывается зритель в финальном монологе.
Вернёмся через три минуты.
РЕКЛАМА
Д. Быков― Продолжаем разговор. «Один», в студии со всеми вами вместе Дмитрий Быков.
«Как вы думаете, как может повлиять профессия историка на писательское занятие?»
Я практически не знаю случаев, когда это было бы во вред. А когда на пользу — масса примеров. Тот же Юзефович, которому его строгость подхода к фактам, которую все мы видим по прекрасному недавнему роману «Зимняя дорога», позволяет так же точно, как, например, в рассказе «Бабочка», описывать психологическое состояние героев или, как в «Журавлях и карликах», давать замечательные социальные диагнозы.
Историк понимает хорошо две вещи. Во-первых, он понимает тщету и глупость человеческой жизни, потому что он знает всегда с позиции будущего, чем всё это разрешилось и какой ерундой это было; ошибки самообольщения видит лучше других, поэтому историки всегда ироничны. И во-вторых, конечно, историк хорошо понимает механизмы возбуждения толпы, механизмы вот этой «толпозности» (замечательное словечко Ивана Киуру); он понимает, что заводит, что превращает толпу в травящее и безумное чудовище, поэтому он умеет обращаться с инстинктами этой толпы. Тому замечательный пример — Радзинский, который просто гипнотизирует слушателя и великолепно владеет настроением массы. Я абсолютно уверен, что если бы Радзинский как оратор стоял во главе полка, он бы мог этот полк повести хоть в бездну, потому что законы драматургии и законы истории позволяют ему это дело понимать.
Практически все литераторы с историческим образованием, которых я знаю (или во всяком случае интересующиеся историей, как Акунин, который по образованию востоковед, но историю знает очень недурно), обладают вот этими двумя замечательными способностями — иронией и умением манипулировать читателем. Это хорошие вещи, и я в этом ничего дурного не вижу. Кроме того, начнём с того, что большинство русских талантливых историков — таких, как Ключевский, Карамзин, Соловьёв — были ещё и первоклассными писателями.
«Читали ли вы книгу Михаила Зыгаря «Вся кремлёвская рать»? Ваше мнение о ней?»
Уже много раз высказывался. Мне нравится эта книга, она интересная. Вместе с тем я скажу, как Толстой о Куприне сказал: «Я не могу не замечать, что автор любуется материалом». Может быть, иногда действительно и нужно любить материал. Когда пишешь газетную заметку, его любить необязательно, но когда пишешь книгу, ты обязан любить героев — иначе, как говорил Булгаков, тебя ждут неприятности.
«Мне очень понравился сериал Прошкина «Доктор Живаго». Как вы оцениваете работу сценариста Арабова? В чём различие образа Живаго в романе и фильме? Андрей».
Я очень высоко оценил эту работу и сразу же, помнится, Прошкину позвонил с неумеренными восторгами. Я вообще Прошкина очень люблю. Мне кажется, что это режиссёр недооценённый, потому что некоторые его работы, начиная с того же сериала «Инспектор Гулл», двухсерийной работы, или с «Ольги Сергеевны», они сразу задали очень высокий класс. Понимаете, Прошкин — большой молодец. Такие его фильмы, как «Чудо», которое просто мне представляется шедевром, или как экранизация Горенштейна «Искупление», безусловно, тоже его выводят в первые ряды.
«Доктор Живаго» стоит наособицу, потому что это сериал, которому очень много попало за вольное обращение с подлинником. Но мне кажется, что Арабов конгениально сделал это — он почувствовал главную интенцию Пастернака. Пастернак же говорил: «В мире Шекспира безволием не интересовались, а интересовались рыцарственностью. Гамлет — это волевое начало, а не безвольное». Ну, понятно, что он возражает Сталину здесь, конечно. Помните, когда в постановлении об Эйзенштейне было сказано, что Иван Грозный сделан «чем-то слабохарактерным и безвольным, вроде Гамлета», Пастернак отважно возражает: «Безволия, слабости не было. Характер Гамлета — рыцарский, христианский». И вот это почувствовал Арабов. Он сделал доктора Живаго (а Меньшиков его таким сыграл) не размазнёй, как его иногда рисуют, а человеком огромного личного мужества. Сцена, когда он сам себя оперирует, которой не было у Пастернака, — абсолютно точная метафора того, что Живаго делает с собой на протяжении жизни — он именно сам себя оперирует. Чулпан Хаматова там хорошо сыграла. И вообще мне кажется, что этот сериал — безусловно, большая удача.
«Что, по-вашему, наивность у взрослого человека, его незрелость, та простота, которая хуже воровства? Может ли вас привлекать общение со взрослым наивным человеком? Или наивность присуща исключительно нежному возрасту?» Автор подписывается — naivnaya.
Я не очень люблю наивных людей, потому что их наивность, как правило, деланая. Они изображают её, чтобы ни за что не отвечать. На самом деле они всё прекрасно понимают, но вот им хочется выглядеть инфантильными, чтобы реализовать принцип на деле «я не я, и лошадь не моя». Наивность мне вообще не очень нравится. Я скорее люблю людей умудрённых и, может быть, даже циничных, потому что цинизм гораздо реже оборачивается катастрофами, нежели наивность. А особенно меня раздражает инфантилизм в женщинах, такое присюсюкивание вечное. Я люблю, наоборот, людей взрослых. И чем взрослее школьник, например, чем он больше обгоняет свой возраст, тем он более мне интересен. Но к вам, конечно, это никак не относится, потому что раз вы взяли такой ник — значит, вы уже не наивная.
«Хочу вашего мнения о «Бесах». Понятно, что роман гениален, но устаёшь от него, и все персонажи представляются уродами — если не физическими, то моральными».
Послушайте, он же из этого и исходил. Он писал: «Пусть будет хоть памфлет, но я выскажусь». А герои, скажем, «Некуда» Лескова (под псевдонимом Стебницкий) вам не представляются уродами? Как замечательно писал Писарев: «Все наши антинигилистические романы превращаются во взбаламученное море авторской желчи», — имея в виду роман Писемского (почти своего однофамильца) «Взбаламученное море». Да, там сплошь уроды. А «На ножах» Лескова? Антинигилистический роман — это особый жанр, из которого, кстати, потом вырос роман конспирологический (и тоже это всегда роман о заговоре против России). Да, это мир уродов. Да, Достоевскому представлялся Нечаев (и, может быть, не без основания) самым опасным типом. Но он пошёл дальше и сумел увидеть не только Верховенского, но сумел увидеть и Ставрогина, которого в «нечаевском деле» ещё нет.
Конечно, «Бесы» — это роман, оставляющий крайне тягостные впечатления. Поэтому я детям всегда и рекомендую его, потому что это последняя книга, где Достоевский в совершенстве владеет своими художественными способностями, в том числе и способностями фельетониста, не в последнюю очередь. Я очень высоко ценю этот роман — именно благодаря его точному построению, его медленно раскачивающемуся и стремительно ускоряющемуся действию (а особенно после тех пор, как пошли пожары, там начался полный апокалипсис).
Конечно, от этой книги устаёшь. Но надо вам сказать, что это довольно точная картина того ментального ада, в котором жил сам Достоевский. Он думал разоблачить нигилистов, а разоблачил он при этом тот умственный ад, в который он сам себя загонял. Ведь это то состояние, в котором он, помните, бежал к Чернышевскому и умолял его прекратить петербургские поджоги, петербургские пожары. Он был уверен, что это поджигает Чернышевский. Ничего не поделаешь, Достоевский жил в аду. Но ад, в котором живёт человек гениальный, всё равно интереснее и нагляднее чистилища, в котором живут нормальные, поэтому я и люблю этот роман.
«Раньше в советских кинотеатрах к односерийным кинофильмам прикрепляли документалку. Это была часто интересная документалка. Что ценного можно позаимствовать из старой документалистики?»
Знаете, я много очень интересных фильмов увидел тогда. Помнится, в родном кинотеатре «Литва», который теперь непонятно почему закрыли (сделали сначала в нём паломнический центр, потом — православную ярмарку, потом — просто ярмарку), я пересмотрел страшное количество советских документалок в дополнение к хорошей советской классике. Там была ещё удлинённая программа. Помню, я увидел там совершенно удивительный документальный фильм о том, как учёные моделировали эволюцию на компьютере, и это было очень увлекательно. Потом увидел я там, кстати говоря, массу фильмов про советские республики, и это тоже было такое заочное путешествие. Я, кстати говоря, очень хорошо помню… У меня тогда была подруга, очень остроумная девочка, Ирка Егорова. (Ирка, если ты меня слышишь, то привет тебе большой!) Помню, сидели мы и, естественно, целовались по обыкновению. И вот идёт в это время сюжет про советскую Молдавию, а сзади две девчонки хохочут, надрываются! Я говорю: «Слушай, Ирка, а чего они так ржут?» Она говорит: «Видимо, они оттуда». Мне это так понравилось!
Конечно, советская документалистика была, наверное, ужасна в некотором отношении — идеологична, пафосна, фальшива. Но были у неё и гениальные образцы, ничего не поделаешь. И после Дзиги Вертова были хорошие режиссёры-документалисты. И рижская школа замечательная — не только Герц Франк, не только Подниекс, а их много было. И петербургская школа замечательная, из которой вышли впоследствии и Лозница, и совершенно гениальный автор «Среды» (забыл сейчас его фамилию, но вспомню, естественно), тоже один из любимых моих режиссёров. Много их было. Поэтому я за то, чтобы эту практику вернуть, а не показывать только одни бесконечные рекламы с бьющей по ушам музыкой. Но, видимо, это осталось навеки в советском времени. Видимо, это невозвратимо. И потом, зачем нам кинотеатр советского или нынешнего документального кино, когда в нашем распоряжении Интернет? Мы можем всё это спокойно посмотреть.
«Я знаю, что вы называете себя учеником Житинского, — да, действительно. — Обожаю этого писателя и прошу вас немного человеческого от вас к нему. Как вы познакомились? Чем он вам помог? Чем удивил? Или покритикуйте его. Нам это интересно».
Видите ли, я не могу Житинского критиковать. Я Житинского любил, как отца, в общем. Он мне и был за отца. У меня было что-то вроде такого «коллективного отца», действительно. Попов, Житинский, Веллер отчасти, Мелихов — люди, принадлежащие к одному и тому же поколению, примерно 1941–1947 годов рождения, — это люди, на которых я очень сильно в жизни ориентировался. А Житинский был просто мне ближе всех, ну, по-человечески. Мне всегда казалось, что эти книги я написал бы сам, если бы мог. И я продолжал всю жизнь (и я честно ему об этом говорил) писать, дописывать и переписывать его тексты в каком-то смысле. Когда я написал «Остромова» и перечитывал книгу перед сдачей её в печать, я с ужасом понял, что я написал вариацию на повесть Житинского «Спросите ваши души». Я даже позвонил ему и говорю: «Я опять написал вашу книгу!» На что он мне сказал, что, наверное, не стоит придавать этому большое значение. Он говорит: «Я примерно с двадцати лет понял, что мы живём в одном большом муравейнике, и быть в нём главным муравьём — не такая уж и большая честь». Мне кажется, я в очень значительной степени состою из того, чему он меня научил — и по-человечески, и литературно.
Знаете, наверное, я почитаю стихи, которых вы не знаете, потому что Житинский очень редко перепечатывал свои стихи. А поэтом он был хорошим, настоящим. Я много его текстов знаю наизусть, но вот этот текст мне представляется просто эталонным:
Я с радостью стал бы героем,
Сжимая в руке копьецо.
Могло бы пылать перед строем
Моё волевое лицо.
Слова офицерской команды
Ловлю я во сне наугад,
Пока воспалённые гланды,
Как яблоки, в горле горят.
Я стал бы героем сражений
И умер бы в чёрной броне,
Когда бы иных поражений
Награда не выпала мне,
Когда бы навязчивый шёпот
Уверенно мне не шептал,
Что тихий душевный мой опыт
Важней, чем сгоревший металл.
Дороже крупица печали,
Солёный кристаллик вины.
И сколько бы там ни кричали —
Лишь верные звуки слышны.
И правда не в том, чтобы с криком
Вести к потрясенью основ,
А только в сомненье великом
По поводу собственных слов.
Молчи, сотрясатель Вселенной,
Астролог божественных душ!
Для совести обыкновенной
Не грянет торжественный туш.
Она в отдалении встанет
И мокрое спрячет лицо.
И пусть там герои буянят,
Сжимая в руке копьецо!
Хорошо помню, как он это на кухне своей прочёл мне. Было мне двадцать лет, я служил в Советской армии, и для меня эти стихи были очень серьёзным утешением в жизни.
«Знакомы ли вы с книгой Юлии Яковлевой «Дети Ворона» из цикла «Ленинградские сказки»? К сожалению, нет, но теперь почитаю. «Как вы относитесь к книгам, которые выпускает издательство «Самокат»?» Очень хорошо отношусь!
«В прошлой передаче вы объяснили нашу Победу чудом. А разве здесь ни при чём наш фатализм? «Пить буду, гулять буду, а придёт время — помирать буду». Ещё в школе меня поразила книга Носова «Усвятские шлемоносцы» именно фаталистическим отношением к происходящему. Не кажется ли вам, что это важная черта России, и при любом планировании её надо учитывать?»
Нет, я не думаю, что это фатализм. Это то, что Найшуль сформулировал очень точно (я часто эту цитату повторяю): «Если в России что-то должно быть сделано, оно будет сделано любой ценой. Если что-то может быть не сделано, оно не будет сделано ни при каких обстоятельствах». Это пофигизм во второстепенном и абсолютная упёртость и принципиальность в главном (и, кстати, очень точное умение отличать одно от другого). Поэтому я и верю в то, что Россия никогда не покончит с собой, она из любой ямы вылезет сама, вытащит себя за волосы.
«Вышел ли у вас журнал? Как он называется, чтобы заказать почитать?» Пока не вышел, пока делаем сайт. На журнал сейчас ещё нет средств просто, на бумажную его версию. А сайт будет скоро.
«Приобрёл книгу Ивана Наживина «Евангелие от Фомы». Стыдно признаться, но раньше вообще не слышал об этом авторе». Знаете, я тоже почти ничего об этом авторе не знаю, но «Евангелие от Фомы», которое сейчас переиздали в этой исторической серии (по-моему, при «Комсомольской правде», если я ничего не путаю), — это выдающееся произведение, безусловно. Если хотите, к следующему разу я что-то про него узнаю и расскажу.
«Можно ли лекцию по прозе Цветаевой? Она такая «отдельная», что заслуживает и «отдельного» разговора». Да, если хотите — пожалуйста. Тем более я всё-таки считаю её как прозаика явлением более значительным и более сильным, нежели даже чем как поэта. Как бы я ни любил цветаевские стихи, но рыдаю я всегда над «Повестью о Сонечке».
Ещё один вопрос, касающийся реплики Клямкина. Всё, что мог, сказал.
«Давайте вспомним, с чего начался последний кейс «нагнетания страха» Кадыровым! А начался он с Сенченко. Ни Навальный, ни Яшин Сенченко не поддержали. Как вы думаете, почему? Мне представляется, потому что не поверили в искренность его порыва…»
Нет, я бы не сказал, что они его не поддержали. Другое дело, что его первым громче всех поддержал Гудков. Но у меня было ощущение как раз, что Навальный высказался в его поддержку практически сразу. Вы правы в одном — у нас недостаточно солидарности. Мы почему-то все боимся травли, нахрапа, общественного мнения, разоблачительного сюжета по федеральному каналу. А я абсолютно уверен, что федеральные каналы готовят ещё множество таких разоблачительных сюжетов, и ещё много мы про себя очень интересного узнаем. Тем не менее, это не оправдание. Конечно, русская оппозиция очень разобщена. Это ничего, это проходит. Ещё раз говорю: Россия в критические моменты действует очень быстро. Когда придёт время солидаризироваться, думаю, что все мимоходные разногласия и страхи будут отброшены.
«Стоит ли ожидать ваши выступления и лекции в Санкт-Петербурге в ближайшее время?» 19 марта будет вечер стихов, приходите.
«Нужны ли иллюстрации в книгах? Способствуют ли они развитию правильных качеств?»
Шолохов мечтал когда-то об издании «Тихого Дона» в едином томе без иллюстраций. У него спросили, как ему иллюстрации Верейского, и он сказал: «Очень хорошо, но лучше вообще без картинок». Я люблю, конечно, некоторые иллюстрации. Я люблю Алфеевского, я люблю Нику Гольц, моего любимого художника. Я люблю Шмаринова, кто спорит, или картинки Кибрика к «Тарасу Бульбе», или гениальные иллюстрации семьи Траугот. Но из всех книжных иллюстраторов, как мне кажется, лучше всех иллюстрировала собственные книги Туве Янссон. Это часть текста, потому что она — и создатель этих героев, и иллюстратор, и пишет она, как художник. Идеально было бы, чтобы автор иллюстрировал свою прозу сам (как это делал Пушкин, например).
«Натолкнулся я на днях на статью про «теорию разбитых окон». Мне она показалась правдоподобной и подходящей под наше время. Читали ли вы про неё?»
Конечно читал. Это теория двух английских социологов, фамилии которых я не помню, потому что вообще у меня не очень хорошая память на фамилии. Эта теория появилась в начале 80-х. Суть её в том, что если пресекать малые правонарушения, то не будет и больших. Или, чтобы не вызывать… не обожествлять очередной репрессивный поворот, а то у нас ужасно любят всё пресекать и запрещать, поэтому скажем иначе: если наводить порядок в малом, он будет и в большом. Известно, что если в здании разбить окно и его потом не вставить, через короткое время разбитыми окажутся все окна в здании. Поэтому я считаю таким важным делом наведение порядка в отдельно взятой комнате. Беспорядок в комнате — это беспорядок в жизни. Посуда в раковине — это депрессия. Вот таковы мои простые принципы. Я стараюсь этой «теории разбитых окон» придерживаться в своей частной практике (у меня стишок даже такой был). Надо всё время латать, подлатывать дыры в мироздании, не позволять ему расползаться. В этом смысле «теория разбитых окон» совершенно верна. И совершенно правильно сказано в этой теории, что если сократить вдвое число мелких правонарушений, то постепенно раза в полтора сократится и количество больших — что, собственно, Джулиани своей практикой в Нью-Йорке и показал.
«Такое впечатление, что вы собрали у себя дома человек тринадцать близких вам по духу знакомых, — mstr_bobr пишет, — раздали им бумажки с вопросами к себе и попросили их по очереди написать к вам в вопросник к предстоящей передаче. Положили себе на колени шпаргалки-ответы — и беседа плавно течёт в заданном вами русле. Только не забывайте удивлённо открывать глаза при очередном вопросе и говорить, что этот вопрос очень интересен и требует осмысления, а дальше — по написанному вами сценарию. Театр одного «актёра» и тринадцати статистов».
Дорогой mstr_bobr, как вы понимаете, я охотно отвечаю на неудобные вопросы. И тем охотнее отвечаю, что я вообще люблю снимать двусмысленности. Я не упоминаю только какие-то ну уж совсем откровенные спекулятивные вещи откровенно противных людей, чтобы не делать им рекламу. Но вообще вы правы — у меня есть установка в этой программе на беседу с единомышленниками. А почему бы мне не поговорить с такими людьми, как я? Ведь с другими людьми 24 часа разговаривает абсолютно всё радио, телевидение, значительная часть прессы. Почему бы мне не использовать два часа для разговора с такими, как я? Нас немного, но мне кажется, что мы — важная красочка в мире, и поэтому нам тоже нужно о чём-то друг с другом переговариваться — хотя бы для того, чтобы вам было кого не любить, сбрасывать свой избыток отрицательных эмоций. Очень хорошо когда-то Максим Кантор сказал в те времена, когда мы ещё общались: «Как же себя не жалеть? Всех много, а я один». Вот это правильно. Я один в данном случае. Это могло бы стать девизом программы.
«Дмитрий, здравствуйте. Дайте краткую характеристику творчества Дона Делилло».
Ох, трудно! Конечно, «Американа» — прекрасный роман, и «Белый шум» — прекрасный роман, и сам Дон Делилло — хороший писатель, но это примерно та же история, что с Корагессаном Бойлом. Хотя Корагессан Бойл кажется мне всё-таки немножко… Ну, он мне ближе, потому что он немного более фрик, немного более откровенен. Делилло — безусловно, интеллектуал. У него и язык свой есть (хотя мне кажется, что этот язык мог бы быть индивидуальнее и ярче). Как бы вам сказать? Я не вижу вот какой-то очень важной человеческой составляющей в его книгах. Интеллектуально всё хорошо, а чисто по-человечески я не чувствую какой-то его уязвлённости, я не чувствую того одиночества и страха смерти, который всё время есть у Уоллеса, например, и той некоторой затравленности при всей триумфальной его биографии. Я не чувствую того иррационального ужаса, который есть у Данилевского, не чувствую того счастья, просто бьющего ключом, которое есть иногда у Фолкнера в самых сложных его текстах, — счастья видеть, счастья ощущать. Делилло — хороший, сложный писатель, но при этом как-то у меня нет пространства контакта, нет точки контакта с ним. Недостаёт мне в нём человечности, недостаёт живости, недостаёт уязвимости, если хотите. Он слишком интеллектуал, он слишком академический писатель. При том, что «Белый шум» — это книга просто классическая абсолютно.
«После пелевинских «Тхагов» не могу смотреть на Родину-Мать иначе как на воплощение богини Кале, а после «Некромента» первое время любой проезд в маршрутке по «лежачему полицейскому» пробивал прямо до мурашек. Думаю, на его книги надо клеить маркировки, как на сигареты, — «Реальность никогда не будет прежней». Как он это делает?»
Он это делает благодаря замечательному своему таланту обобщения. Он прекрасно умеет видеть в мире сходства и параллели, — параллели между Родиной-Матерью и богиней Кале, параллели между «лежачим полицейским» и магическим амулетом. В общем, он замечательно сводит мир к цельным архетипическим понятиям. Это высокий и особенный талант — умение так всё расклассифицировать, что действительно весь мир укладывается в старые прекрасные магические схемы. Это очень хорошо.
«Ваше мнение о фильме «Сохрани мою речь навсегда»?» Промежуточное мнение — не могу ни похвалить, ни поругать. Вижу, что люди честно старались. А в таких случаях, как правило, стараюсь отзываться нейтрально.
Про Шкапскую? Хорошо, будет про Шкапскую.
«Как вам кажется, почему Драйзер непопулярен сегодня? Как вы относитесь к его творчеству?»
Я бы не сказал, что он непопулярен. Ещё читают Драйзера. Просто не то читают. Читают в основном почему-то «Трилогию желания» («Финансист», «Титан», «Стоик»), потому что, видимо, всем представляется жизнь олигарха Каупервуда более современной и более интересной. Мало читают «Американскую трагедию». И я вам скажу почему. Дело не в марксизме Драйзера, дело даже не в том, что у него всё социально обусловлено. Он большой писатель. Стивен Кинг когда-то сказал: «Большой писатель — это тот, у кого не видно авторской руки, передвигающей персонажей». У Драйзера её не видно; они действительно живые, действуют сами. Но Драйзер — это писатель большой социальной ответственности, Драйзер многого требует от читателя, поэтому, наверное, он и непопулярен. Он спрашивает с нас жёстко. По Драйзеру, мы не жертвы судьбы, мы не жертвы класса, не жертвы обстоятельств. Мы сами виноваты (по Драйзеру), если мы не сумели себя противопоставить обстоятельствам. А кто же будет любить сегодня такого писателя?
«Как вы оцениваете творчество поэта Георгия Оболдуева? Не кажется ли вам, что его нонконформизм сильно преувеличен?» — и так далее.
Большой вопрос, отвечу на него через три минуты.
НОВОСТИ
Д. Быков― Продолжаем разговор, дорогие полуночнички.
Я могу сказать пока про Георгия Оболдуева. Мне не очень нравится этот поэт, он не мой. Но почему я считаю его тоже недооценённым и непрочитанным? Понимаете, он принадлежит к очень драгоценной, очень интересной для меня прослойке людей, которые в советское время жили и были при этом не советскими. Почти всё, что я написал исторического, я написал об этих людях. Оболдуев, который легально существовал и никем не был замечен, — это такой же человек, как Кочетков, автор «Баллады о прокуренном вагоне», это такой же человек, как Геннадий Гор, который всю жизнь, будучи великим авангардистом, провёл в звании тихого советского фантаста, как Даниил [Давид] Дар, муж Пановой. Много их таких было. (По-моему, я не ошибся в его имени — Даниил Яковлевич Дар.) Было много таких людей: Долинина, Грудинина, Косцинский, Майя Данини, замечательный писатель. Это люди, которые, может быть, даже и печатались, но при этом их никто не знал, и они продолжали тихо свой подвижнический труд. Оболдуев же при жизни, по-моему, три стихотворения напечатал. Поэтому неважно, как мы оцениваем их стихи. Важна их подвижническая жизнь, их тихое служение, их миссия, их упорное неучастие ни в чём советском (кроме войны, которая всех коснулась). Поэтому Оболдуев — конечно, замечательный персонаж.
«Как вы относитесь к творчеству Саши Барона Коэна? Не кажется ли вам, что своим хулиганством, своими провокациями он проверяет общество на прочность? Не думаю, что он ставит перед собой всерьёз такие нравственные цели (скорее всего, просто прикалывается), но местами получается именно так. Или вам этот персонаж безразличен?»
Нет, не безразличен. Почему? Мне кажется, у него, конечно, большие проблемы со вкусом, и мне чаще всего не смешно его смотреть, но задача перед ним стоит серьёзная. Да, он действительно эпатирует общество. Да, он проверяет его на прочность. Да, он говорит о том, о чём говорить не принято.
Вот на чём зиждется успех Трампа? Я сейчас об этом в «Собеседнике» написал довольно большую статью. Трамп ведь по убеждениям не Жириновский, он скорее такой Навальный, потому что он всё время говорит о фактах коррупции, о разрушении американского общества. Просто он это говорит в манере левацкой и очень раздражающей. Но успех этого популиста (который, по-моему, гораздо глупее Навального и которому гораздо легче, чем Навальному — видите, он кандидатом в президенты стал, а не вынужден постоянно отбиваться), залог его успеха — это не только его личное достоинство, а это то, что очень многие вещи перестали называть вслух, перестали называть их именами. И в результате Трамп, который говорит вслух о каких-то вещах — о проблеме беженцев, о том, что слишком прозрачна мексиканская граница и туда идут деньги, а оттуда наркотики, или, например, знаменитый его тезис, что весь жилой фонд Америки страшно изношен, мосты скоро начнут падать, — он говорит о вещах, о которых без него бы не заговорили. На одном из сеансов этих дебатов он и сказал: «Если бы не я, вы бы вообще об этой проблеме не упомянули». Поэтому успех Саши Барона Коэна — это во многом триумф общества лицемерия. И поэтому — остроумен он или нет, прав он или нет, но, наверное, делать то, что он делает, надо. Хотя я, конечно, далеко от него не в восторге.
«В ряд с какими поэтами вы бы поставили Александра Городницкого?»
Александр Моисеевич — замечательный поэт ленинградской школы. И на фоне таких авторов, как Британишский, тоже его товарищ по горному институту, или Нона Слепакова, ходившая с ним в одно ЛИТО, или Виктор Соснора, начинавший с ним одновременно, — он в этой традиции вполне органичен. И Тарутин, и Горбовский, и Ася Векслер — это всё люди одного поколения. Понимаете, для них важно то, что они… Ну, две черты этой ленинградской школы я бы назвал: чеканка формы, серьёзное к ней отношение; и очень тонкое (наверное, происходящее от соразмерности петербургского архитектурного облика), очень точное чувство поэтической композиции — то, которое есть у Гумилёва, у всех поэтов-царскосельцев и у всех поэтов питерских. Поэтому, кстати говоря, такие хорошие песни у Городницкого, потому что в песне эта соразмерность очень важна, важен финальный удар.
Я-то больше всего люблю, конечно, не «Атлантов», а я больше всего люблю «Воздухоплавательный парк». Мне кажется, это прекрасное стихотворение! Я бы даже грешным делом его прочёл, но вы и так все его знаете. Помните этот финал:
Куда, петербургские жители,
Толпою весёлой бежите вы?
Не стелют свой след истребители
У века на самой заре.
Свод неба пустынен и свеж ещё —
Достигнут лишь первый рубеж ещё.
Не завтра ли бомбоубежище
Отроют у вас во дворе?
Вот это то, что я называю «ленинградским финалом», то, что Слепакова называла несколько иронически «расклоном под занавес». Но это не расклон, конечно (применительно к Городницкому она никогда так не говорила), это именно финальный удар. И мне очень приятно, что Городницкий и Слепакова были для меня важными литературными ориентирами.
«Может быть, появление люденов объясняется резким разжиманием исторической пружины, которая сжималась во времена войн, голода, исторических перемен, и теперь, когда более-менее спокойно, разжалась?»
Нет, я не думаю, что это… Ну, сама по себе мысль верна, потому что долгое время действительно нельзя было выдохнуть. Была война, были репрессии, была советская ложь, а вот теперь все эти скрепы, условно говоря (или, если хотите, наоборот — стены) рухнули. Но дело в том, что триумф свободы далеко не всегда ведёт к росту. Наоборот, иногда очень часто (как сами Стругацкие) в условиях огромных давлений появляется великое искусство. Я не готов отвечать на этот вопрос: что привело к появлению люденов, и вообще что приводит к появлению гениев? Приводит ли к этому долгое сжатие пружины (бесчеловечно было бы так думать, но может быть) или резкое её отпускание? Я думаю, что срабатывает чаще всего совокупность этих факторов. Когда очень долго сжимали, а потом вдруг отпустили, происходит вот такое чудо, как оттепель (оттепель екатерининская, оттепель александровская или оттепель хрущёвская). Видимо, совокупность этих факторов срабатывает, когда над обществом долго измываются, а потом дают ему вздохнуть.
«Как вы относитесь к Тому Шарпу и его произведениям?» «Уилт» мне очень нравится, замечательная и смешная трилогия.
«Читали ли вы книгу Георгия Старостина «К истокам языкового разнообразия»?» Нет. Я очень многих книг не читал. Прочту непременно.
«Смотрели ли вы турецкий сериал «Великолепный век»?» Увы, нет. И времени нет.
«Что вы можете посоветовать из современной норвежской литературы?» Несбё — прежде всего. Больше, по-моему, нечего.
«Как вы относитесь к идее экранизации вашей прозы?»
Положительно отношусь, но пока как-то нет желания. Понимаете, с экранизацией прозы получается очень хорошо. Есть люди, которые предлагают у меня купить так называемый опцион, купить право на эту экранизацию. Я всегда его охотно даю. Они его покупают за копейки и потом не снимают. То есть деньги, хотя и минимальные, получены, а позор избегнут. Кстати, так же у меня с большинством пьес, которые куплены театрами, репетировались, а потом не были доведены до сцены по разным причинам. То есть в результате я получил львиную долю своего удовольствия — поприсутствовал на репетициях, позаключал скромные договоры, подавал какие-то замечания для господ-актёров, как это Гоголь называл. А потом провал не состоялся (или триумф не состоялся), и в результате я от всех соблазнов избавлен. Если и экранизировать когда-нибудь, когда вырасту большой и разбогатею, конечно, я сниму фильму по «Эвакуатору», потому что «Эвакуатор» и писался как сценарий. Это будет не завтра, но когда-нибудь я это сделаю обязательно. Я хорошо знаю, как это надо делать. Как это будет делать другой человек — я не очень себе представляю. Может быть, по «Остромову» сниму.
«Что нужно России — американский либерализм или советский социализм?» Да ни то, ни другое, потому что это уже было.
«Назовите трёх любимых ныне живущих отечественных прозаиков».
Валерий Попов сразу же приходит в голову. Андрей Лазарчук, вероятно, тоже. С третьим большие проблемы. Видите ли, я многих люблю, но вот как-то среди них трудно найти одного. Я назову, может быть, не самого известного и не самого сейчас пишущего, но лучшее этот автор уже написал. Это Нина Катерли. Это не самый громкий писатель, но без некоторых её рассказов я был бы не я: без «Коллекции доктора Эмиля», без «Зелья», без «Бермудского треугольника» («Сенная площадь» был ещё вариант), без «Цветных открыток», без сборника «Окно». Без Нины Катерли я был бы другим. Нина Семёновна, если вы меня слышите, то большой-большой вам привет!
Знаете, многое мне может не нравиться или в её взглядах, или в её текстах, но одно мне нравится всегда — в них есть волшебство настоящее. Понимаете, Катерли — это писатель, читая которого, а особенно первые сборники её фантастических рассказов, этих притч ленинградских, таких как «Нагорная, десять», или «Чудовище», или «Прощальный свет»… В общем, как бы вы ни относились к Катерли, вы чувствуете вот эту крупицу волшебства, которая в её текстах есть.
Это очень важно почему? Потому что вообще делать волшебную и сказочную прозу очень трудно, практически невыносимо. Вы можете досягать любых стилистических чудес, но если там нет вот этого трудноуловимого контрапункта, какой-то улыбки, подмигивания, какого-то волшебного сочетания слов, ничего не получится. Вот Александр Шаров, даже когда он писал реалистические вещи, он писал волшебную прозу. Кстати, наверное, я должен бы назвать Владимира Шарова в числе любимых современных писателей, но я сейчас предпочитаю назвать Катерли именно потому, что её мало кто называет. Мы как-то привыкли быть неблагодарными к создавшим нас писателям нашего детства. А когда я впервые прочёл «Зелье», просто у меня действительно здорово крышу снесло. Там финал такой сильный! Я думаю, что у неё не было таких финалов во всей остальной её прозе. Нет, она настоящий писатель, и очень крупный, конечно.
«Зацепило «Можарово», — спасибо. — «Можарово» отражает вашу позицию по поводу мигрантов?»
Нет, когда я писал «Можарово», никаких мигрантов ещё не было. Оно отражает мою позицию по другому вопросу. Мы запрещаем себе жалеть людей. И, может быть, правильно делаем, потому что пожалеешь — руку откусят. Но жалость постепенно из нашей жизни уходит. Сострадать невозможно становится, потому что уровень зла действительно зашкаливает. Я написал «Можарово» в известном смысле как такую художественную провокацию.
«Довелось ли вам посмотреть фильм «Окраина» Петра Луцика?» Не просто довелось. Я же знал Луцика. Я был одним из тех, кого он пригласил на премьеру. «Возможен ли подобный утопический сценарий событий в наше время?»
Смотря что. Можно ли назвать утопией сцену, когда крестьянин загрыз менеджера в подвале? Ну, конечно, он правильно сделал, что загрыз, но утопия ли это? Я не уверен. В то, что такое развитие событий когда-нибудь произойдёт, я не верю никогда. В то, что есть где-то правильные мужики, которые возьмут власть, я тоже не верю. Я верю в другие сценарии. Но Луцик гениально экранизировал народную мечту, народное подсознание. И вообще он был фантастически талантлив.
«Пруст, да, для стойких, но «Любовь Свана» увлекательна, хотя и пустовата. Не находите?»
Илья, я не нахожу её пустоватой, но и не нахожу её увлекательной. Я нахожу её мучительно честной. Все комплексы, все страдания человека, влюблённого в женщину пустую, неверную и неблагодарную, — это есть и в первом томе, это есть и в «Пленнице», и в «Беглянке». Мне это не близко, но читать про это мне всё-таки было, да, мучительно и интересно. Вот там Пруст силён, а не в описаниях, конечно.
«Вы в «ЖД» показали и предсказали рашизм. Следует ли ожидать возвращения к массовым репрессиям?»
Я не думаю, что они будут массовыми. И я не думаю, что репрессии сейчас власти нужны, что ей нужны новые точки напряжения. А вот то, что люди начнут друг друга истреблять — подкарауливать, науськивать, настраивать на расправы, призывать к ним — да, это возможно. Очень многие люди сегодня к таким расправам готовы. Ленин пока мешает. Но то, что очень скоро будут тыкать пальцами и кричать «ату его!» — это уже происходит по полной программе. Зачем покупать актёров, когда можно купить зрителей? — перефразируя Горина. Зачем устраивать массовые репрессии, когда их можно устроить руками самих репрессируемых? Мне кажется, в этом смысле как раз путинский режим достиг замечательного прогресса: мочат друг друга, в том числе уже и своих.
«Будет ли лекция по «Бессильным мира сего»?» Хотите — будет.
«Что вы думаете о Евгении Клюеве?» Я не люблю эту прозу, но я понимаю, что Клюев — талантливый человек. Мне кажется, ему не хватает радикализма, радикальности. И «Андерманир штук», и «Книга Теней» — это была бы хорошая фантастика, если бы она была чуть индивидуальнее, чуть резче, чуть изобретательнее. Это, по-моему, тот редкий случай, когда полпрыжка не хватает до настоящего писателя.
«Читали ли вы книгу Валерия Алексеева «Паровоз из Гонконга»? Что можете сказать о ней?» Конкретно эту книгу не читал, но вообще Валерия Алексеева читал довольно много. Он был хороший мейнстримный писатель 70-х годов. На сегодняшнем фоне тогдашний мейнстрим, начиная с его первой повести «Люди Флинта», выглядит, конечно, ошеломляющим прорывом.
Просят поговорить о чеховской «Дуэли» и «Чёрном монахе». Хорошо.
«Ваше мнение о романе Джонатана Литтелла [«Благоволительницы»]?» Высказывал многократно. Оно полностью совпадает с известной рецензией Дмитрия Харитонова.
«Мне кажется, что в вашем романе «ЖД» присутствует желание если и не оправдать, то понять антисемитизм». Нет, не оправдать. Понять — да, наверное. Но я не убеждён, что его можно понять. Можно попытаться проникнуть в его истоки, а понять, одобрить, принять — нет, невозможно.
Начинаю отвечать на вопросы с почты.
«Как вы можете объяснить существование двойчаток и тройчаток в поздней поэзии Мандельштама?»
И просят ещё лекцию «Бродский и Высоцкий». Лекция эта будет. Она будет, насколько я помню, 17 февраля, если я ничего не путаю, на Ермолаевском. Посмотрите на сайте pryamaya.ru. Тут пишут, что не могут попасть. Скажите волшебное слово «один» — и вы попадёте. На сайте pryamaya.ru есть расписание. Я собираюсь поговорить об этой новой инкарнации Маяковского и Есенина — Бродском и Высоцком. Высоцкий тоже написал своего «Чёрного человека». Это интересно.
Что касается двойчаток и тройчаток у Мандельштама. Это называется, строго говоря, не «двойчатки» и «тройчатки», а это называется «кусты», когда из одного корня, из одного стихотворения, из замысла вырастает несколько вариаций. Ранний Мандельштам чеканен, он отбрасывает варианты и пишет сразу окончательный вариант. Поздний Мандельштам пускает читателя, я бы даже сказал — вталкивает его в свою голову, в свою лабораторию, заставляет присутствовать при процессе рождения шедевра, его создании. Как говорил Константин Рудаков, с ним бывший в ссылке, это такое ощущение, как будто присутствуешь при работе огромной поэтической фабрики. Простите, Сергей Рудаков, конечно, а Константин Большаков. Так вот, Сергей Рудаков говорил: «У меня было чувство, когда рождались стихи Мандельштама рядом со мной, что я присутствую при работе огромного организма, огромного завода, вырабатывающего тексты». И действительно Мандельштам пишет несколько вариантов. И в этом смысле вся оратория «Стихи о неизвестном солдате» — это параллельное развитие нескольких изначально заданных тем. Мандельштам не отбрасывает черновиков, он печатает подряд… вернее, он не печатал, конечно, а он готовит к печати два варианта одного и того же стихотворения. Это другая тактика, когда камень Петербурга меняется на сыпучую землю, грунт Воронежа, «сухая влажность чернозёмных га», на смену камню приходит сыпучесть. Это другой метод, но этот метод ничуть не уступает предыдущему и по-своему даже более нагляден.
«Можно ли сделать лекцию о советских толстых журналах?» Да запросто, если это кому-то интересно. Мне-то кажется, что советские толстые журналы — это феномен уже утраченный. Но говорить о нём очень здорово, да.
«Неужели я самый умный, что мне первым пришло в голову предложить простую логическую вещь? Если кто вслух и явно отрицает права человека и другие ценности гуманистического ряда, то в отношении их (и только их!) права человека применять не следует».
Это, конечно, хорошая мысль. Спасибо! Нет, такое многим приходило в голову. Вы сами цитируете: «Какой мерой будете мерить, такой и вам отмерится». Дело в том, что правда воспитания, правда гуманизации, к сожалению, в том и заключается, чтобы вовлекать в гуманитарную концепцию тех, кто эту концепцию отвергает, чтобы агитировать. Понимаете, вот это неправильно — к одним «милеть людскою лаской», а к другим «ставать железа твёрже». Надо пытаться людей перевоспитывать, надо их переманивать на свою сторону. А так, в принципе, конечно, вы правы.
И всегда очень смешно, когда вот эта вся публика — которая всех оскорбляет, по любому поводу кощунствует, топчется на покойниках, после смерти какого-нибудь героя говорит «это праздник какой-то» — видит кощунство в невиннейших чужих текстах. Они же сами очень уязвимы, они очень хрупкие ребята. Самим им можно изгаляться над чужой смертью как угодно, а задень их кто-нибудь или их кумиров — и они начинают сразу поджимать лапки, дико верещать и требовать расправ. Конечно, такая хрупкость поистине трогательна.
Просят лекцию о Ромене Гари. У меня была когда-то большая статья о Ромене Гари в журнале «Story», и нет большого желания это повторять.
«Какой для вас самый страшный момент в «Тихом Доне»?»
Избиение пленных, когда Дарья хватается за ружьё. Помните, когда там идёт один из пленных «с головой, как ведро» — огромной, раздутой невероятно от побоев. Это очень мощная метафора, такая могла прийти в голову только очень молодому человеку. В «Тихом Доне» вообще много крови, но вот эта сцена, когда Дарья стреляет по пленным… Там очень много вот этой толпы голосящей и обезумевшей.
Самый страшный момент в «Докторе Живаго» — это, конечно, исповедь Таньки Безочередёвой. Эта история так мучила Пастернака, что он сначала пытался её в своей пьесе «Этот свет» как-то изобразить, а потом отдал Таньке эту исповедь страшную про людоедов. Ой, это так жутко написано! Он умел вообще быть страшным. Всё-таки жизнь-то он понимал…
Очень хороший вопрос, очень интересный: «Здравствуйте! Я Василий. Мне 23 года. Я впервые устроился работать на полный рабочий день — с десяти до шести в офисе. После работы силы и времени нет ни на что. Неужели такой теперь и будет жизнь? Это какой-то кошмар! Как можно с этим справиться?»
Вася, два возможных ответа могу вам предложить. Первый — «стерпится — слюбится». Это идиотский ответ, и я его не хочу вам предлагать. Дело в том, что когда вы работаете в этом офисе, постепенно даже не вы начнёте привыкать (просто самое трудное время — первое), постепенно начнут вам что-то прощать, начнут менее жёсткие требования предъявлять, вы постепенно поймёте, что необязательно так уж точно следовать этому распорядку. Но по большому счёту, Вася, вот то, что я вам сейчас говорю, — это глупости, потому что привыкать к нелюбимой работе не надо. Я понимаю, что коней на переправе не меняют и что во время кризиса работу не меняют, но если вам эта работа настолько поперёк души, Вася, уходите оттуда! Уходите оттуда, ей-богу! Я вам просто говорю с таким облегчением, с такой радостью: уходите, нечего вам там делать на полный рабочий день! Если это не ваше, чего себя насиловать-то? Жизнь-то одна! Понимаете, умирать будете вы. И, умирая, вы будете себя спрашивать: «Зачем же я тратил свою единственную жизнь вот на это?!» И всегда я вспоминаю в таких случаях…
Знаете, я очень не люблю сам терять работу и очень не люблю её менять. Когда у меня закрывались проекты, когда мне надо было уходить откуда-то, когда я вообще уходил даже из мест не очень мне приятных, всё равно я уходил и всегда думал: «А как же я буду?» Знаете, Христос нас всех уже утешил: «Птицы небесные не хуже ли вас, а тем не менее Господь их питает». Можно найти возможность жить, ей-богу, чем гробить жизнь свою на нелюбимой работе. Уходите оттуда, Вася, к едрене фене и найдите себя в чём-нибудь другом.
«Меня зовут Саша. Когда я вырасту, я хочу быть таким же, как вы. Осталось набрать ещё пару кило и отрастить усы. Слава богу, интеллекта и обаятельности мне хватает уже сейчас». Саша, какое счастье! Как я вообще люблю людей, у которых всё хорошо! А когда вы наберёте ещё 2 килограмма, вы и ума сразу прибавите. Понимаете, это же очень связанные вещи.
Вопрос от того же Саши: «Для чего в «Граде обреченном» 90 процентов времени у главного героя — изменённое состояние сознания, пьянка, контузия, лихорадка? Ещё прошу (или предлагаю) прочесть лекцию по Уэллсу».
Спасибо насчёт Уэллса. А вот потому-то, Саша, у него и изменённое состояние сознания, дорогой мой! Действительно у вас есть интеллект. Потому что в нормальном состоянии сознания Андрей Воронин — скучный советский человек. Он человек азбучных, лекальных выводов. Надо постоянно менять его сознание, ставить его в условия, когда он начнёт соображать, и поэтому ему всё время приходится находиться в избиении, в лихорадке, в пьянке. Он всё время испытуется (по Стругацким) непонятным: то павианы на город пришли, то красные здания, то «падающие звёзды» с Края Мира. Он всё время попадает в состояние, когда простой советский человек должен меняться на глазах — и вот тогда в нём что-то просыпается, как и в нас с вами. Ещё 2 килограмма — и вы поймёте Стругацких.
«Как вы относитесь к творчеству Роберта Рождественского?»
Он мне нравился в детстве, а сейчас я плохо к нему отношусь. Мне грех это говорить. Он человек был хороший, трогательный по-своему был человек. Знаете, по дочерям его очень видно, что он был человек хороший, и по жене его, Алле Киреевой. Он был добрый, но в стихах его ужасное количество демагогии, и по-настоящему хороших стихов у него мало. Но они были, штук 20–30 я бы набрал, и даже наизусть бы кое-что вспомнил.
Я очень хорошо помню, как Лёня Филатов, Леонид Алексеевич, большой мой друг старший, читал мне… Уже больной Филатов, уже через многое прошедший. Правда, он в последние-то годы выздоравливал. Когда почку пересадили, он стал почти прежним. И я помню, как больной-больной, с трудом садящийся на постели после операции Филатов, очень изменившийся, очень исхудавший, мне читал:
Тихо летят паутинные нити.
Солнце горит на оконном стекле.
Что-то я делал не так;
Извините:
Жил я впервые на этой земле.
Я её только теперь ощущаю.
К ней припадаю.
И ею клянусь…
И по-другому прожить обещаю.
Если вернусь…
Но ведь я не вернусь.
Понимаете, он читал это с такой великолепной иронией по отношению к собственному разбитому состоянию (в нём это было), что это идеально совпадало с содержанием этих стихов — иронических и трагических. И вообще так, как читал стихи Филатов, никто больше не умел! А когда это ещё совпадало с наполовину запредельным его состоянием, он как бы читал это уже оттуда… Помнится, я говорю: «Лёня, просто вы какой-то необыкновенный». А он всё не мог понять, что меня так восхищает, потому что для него это было всё довольно естественно. И вообще, надо сказать, Филатов как поэт был лучше Рождественского. Кстати говоря, какая гениальная у него была пародия на Рождественского! Очень любящая, очень точная:
Может, это прозвучит
Резко,
Может, это прозвучит
Дерзко.
Но в театры я хожу
Редко,
А Таганку не люблю
С детства.
Вспоминается такой
Казус,
Вспоминается такой
Случай:
Подхожу я как-то раз
К кассе,
Эдак скромно, как простой
Слуцкий.
Я не буду это всё целиком читать, хотя помню. Это было гениально! И вообще вот выпало мне счастье знать Филатова и слушать, как он читает, разговаривает, смотреть, как он героически живёт.
«Не могли бы вы сделать лекцию о Янке Дягилевой?»
Вы знаете, я не настолько знаю Янку. Я сделать-то могу эту лекцию, и я поговорю о ней с удовольствием, но вам не понравится, потому что я-то вижу в ней не святую, а я вижу в ней жертву во многих отношениях и человека очень трагического. Но, конечно, я считаю, что «По трамвайным рельсам» — это лучшая песня 80-х годов (ну, наряду с некоторыми текстами БГ). Боюсь, что вам не понравится, но я попробую.
«Развейте сомнения. Окончание вашей баллады «Тень» — отсылка к Мандельштаму?»
Да, конечно. «Россия кончается Крымом» — это отсылка к »…где обрывается Россия // над морем чёрным и глухим». Пока это увидели два человека — Лада Панова и вы. Ну, Пановой положено, она специалист по Мандельштаму. Впрочем, может быть, вы тоже.
«Вы упомянули рассказ «Звезда Соломона». Я его прочитал и вот чего не понял, — спасибо, что прочитали. — Цвет несколько раз на протяжении рассказа задумывается, где он раньше видел Тоффеля, и не может вспомнить. К концу рассказа мне так и не стало ясно, где он его видел, или отчего лицо Тоффеля ему кажется знакомым».
Серёжа, спасибо вам за этот вопрос. Понимаете, это «банальность зла», как это называла Ханна Арендт. Лицо Тоффеля, лицо Сатаны (хотя он там не Сатана, а он один из подручных) — оно одно из многих, оно банальное, оно узнаваемое, оно стёрто. Вот эта бородка, эта визитка, эти колючие щёки, эти колючие глаза, эта неизменная вежливость, эти чёрные перчатки — мы его где-то видели! Мы всегда узнаём зло в лицо, но просто мы стараемся не вспоминать, потому что слишком уж это многого требует.
«Я случайно наткнулась на ваше интервью с Троицким. Вы там оба согласились, что США в кризисе, похожем на поздний СССР. Хотела узнать, что вы имели в виду».
Ну, не совсем в таком кризисе. Там мы с Троицким говорили о том, что политкорректность очень многое заставила забыть, об очень многом нельзя говорить, называть вслух. Да, такая ситуация есть, и эта ситуация вечная. Ну, ничего не поделаешь… Запад силён тем, что он говорит о кризисе, что он его осознаёт. И всегда я вспоминаю великие слова Андрея Кураева: «Кризис — нормальное состояние христианина».
«Что вы думаете о «Кандиде» Вольтера и романе Тимоти Финдли «Not Wanted…»?»
Я не читал Финдли, честно вам скажу. Что касается «Кандида» — ну да, это безделка. Он сам относился к ней несерьёзно, но это одно из гениальных его произведений, из лучших, я считаю. Хотя я очень люблю его трагедию «Магомет» и чрезвычайно люблю ещё помимо этого… да вообще все философские повести, чего там говорить (их немного). Но «Кандид» на этом фоне, безусловно, одно из самых ярких и трогательных произведений.
«Чьи переводы Одена кажутся вам наиболее удавшимися?» Кружкова. Как писал когда-то Давид Самойлов: «Русской поэзии надо навалиться на Рильке и как следует его перевести». Понимаете, я не уверен, что это возможно. Но то, что нам надо бы как-то на Одена навалиться — это безусловно.
«Читали ли вы последний рассказ Драгунского «Конфеты Достоевского»? Гениальный! Я плакал. Спасибо». Да, спасибо ему. Я тоже написал: «Живи, Денис, лучше не напишешь!»
Вернёмся через три минуты.
РЕКЛАМА
Д. Быков― Продолжаем разговор. В последней четверти нынешнего эфира я уж больше ни на что особо отвечать не буду, хотя вопросов по-прежнему довольно много. Тут одно могу сказать.
Я получил для «Послезавтра» несколько текстов, подписанных именем Всеволода Пальчика. Я не знаю, псевдоним это или реальный двадцатидвухлетний человек из Питера. Сева, если вы меня слышите, шлите мне всё, что вы напишете. Вы большой-большой молодец! Вот те два рассказа, которые вы прислали, плюс письмо — это тот редкий случай, когда я, как говорил Окуджава, «радостно вздрогнул». Это класс! Присылайте, пожалуйста. Я не знаю, будет ли журнал в бумажном виде (кризис, не те времена), но я вам обещаю, что как-нибудь я вам помогу.
Теперь мы переходим к рассказу о Марии Шкапской, судьба которой представляется мне, наверное, одной из самых трагических судеб русского XX века. У меня есть о ней довольно большая статья «Аборт», которая напечатана в журнале «Огонёк» миллион лет назад, но, конечно, о Шкапской надо говорить, мне кажется, по-новому, потому что всё больше популярности набирает сейчас её лирика и всё больше она становится символом собственной эпохи.
Что мне вспоминается прежде всего? То, что я больше всего и люблю:
Петербурженке и северянке — мил мне ветер с гривой седой, тот, что узкое горло Фонтанки заливает невской водой. Знаю, будут любить мои дети невский седобородый вал, потому что был западный ветер, когда ты меня целовал.
Это так здорово, что даже просто необъяснимо! Тем более что я особенно люблю у Шкапской её стихи, написанные в строчку, и здесь об этом следует поговорить более подробно, но я сначала очерчу её биографию.
Биография её трагическая, страшная. Шкапская была дочерью душевнобольного отца, который потом просто с ума сошёл, и для того чтобы содержать семью, ей буквально с 15 лет приходилось давать уроки. А потом она довольно быстро оказалась в ссылке, которую ей так мило царское правительство заменило высылкой. Ей разрешили уехать в эмиграцию. Она поехала в Париж и там познакомилась с Эренбургом. Эренбург как раз в это время выпускал цикл стихов, написанных в строчку, у него была такая удивительная особенность. У меня была статья «Илья формотворец»… Грех себя цитировать, но действительно он формотворец, который создавал новые методы, а вот наполнять эти новые формы он, как правило, не умел, и это приходили делать другие люди. Он написал первый русский плутовской роман «Хулио Хуренит», а славы с этим добились Алексей Толстой с «Ибикусом» и Ильф и Петров с Бендером. Он написал, как мне кажется, лучший роман о войне, «Бурю», а потом Литтелл его переписал — и «Благоволительницы» стали хитом. Ну, он в этом же духе написал роман, вот так бы я сказал, там главный герой тоже антрополог. Он начал писать стихи в строчку. В русской поэзии, помимо ещё Льдова (Розенблюма), по-моему, он первым стал это делать. Он открыл особый жанр, и они хороши у него были. Но Шкапская стала это делать не хорошо, а гениально.
Следует понять, какие стихи можно написать в строчку. Я сам этим, в общем, грешен — у меня довольно много стихов в строчку. Очень интересно понять, а кто собственно может это делать, а кто — нет; какие стихи выдерживают написание в строчку, а какие — нет. Знаете, это как без знаков препинания. Иногда, когда поэт написал банальность, он думает, что если он сейчас её перепишет без знаков препинания, то это будет высокая поэзия. Когда стихи без знаков препинания пишет Алексей Цветков — это одно. А когда, например, Сергей Шестаков, то — другое. Не хочу никого обидеть, но просто видно же, что иногда отказ от знаков препинания — это чисто формальный приём, позволяющий банальности выглядеть небанально.
А вот стихи в строчку — понимаете, тут контраст. Конечно, они не должны быть прозоподобные. Наоборот, искра должна высекаться от столкновения чрезвычайно патетического текста и вот такой прозоподобной, в строчку его записи. Этот закон открыла Шкапская. Чем более напряжённый, динамический, плотный стиховой ряд, тем больше шансов, что переписанные в строчку эти стихи зазвучат иначе и лучше. Это прекрасно использовал Катаев. Я помню, как он Николая Бурлюка переписал в строчку в «Траве забвения» — и гениально зазвучали эти стихи! Дело в том, что когда вот такая построчная запись стихотворения соответствует его поэтическому пафосу, нет контраста, нет какого-то дополнительного перца, дополнительной терпкости. А когда явный поэтизм, явно поэтические, очень высокие стихи переписаны в строку, возникает ощущение какой-то дополнительной горечи. Ну, посмотрите, как это делает Шкапская:
Ты стережёшь зачатные часы, Лукавый Сеятель, недремлющий над нами, — и человечьими забвенными ночами вздымаешь над землёй огромные весы. Но помню, чуткая, и — вся в любовном стоне, в объятьях мужниных, в руках его больших — гляжу украдкою в широкие ладони, где Ты приготовляешь их — к очередному плотскому посеву — детёнышей беспомощных моих, — слепую дань страданию и гневу.
Ну, это прямо ямбы, это чуть ли не Барбье по интонации! А перепишешь в строчку — и вот именно получается путешествие идеального через реальное, высокая поэзия, погружённая, заглублённая в прозу.
У неё было много очень сильных стихов — и предреволюционных, и особенно послереволюционных в сборнике «Кровь-руда», в сборнике «Барабан строгого господина» (названного по строчке Елены Гуро «Мы все танцуем под барабан строгого господина»). Это на самом деле великолепная, мощная послереволюционная лирика, потому что действительно революция как бы отворила кровь. Она как бы отворила кровь у Шкапской, когда хлынули эти стихи — кровавые, солёные, горькие и очень физиологичные. В революции было что-то подобное кровотечению, такому рождению. И это, может быть, страшно истощало страну, но то, что хлынуло, — это была кровь чистейшая, чистейшая кровь литературы в том числе, как ни ужасно это звучит.
Весёлый Скотовод, следишь, смеясь, за нами, когда ослепшая влечётся к плоти плоть, и спариваешь нас в хозяйственной заботе трудолюбивыми руками. И страстными гонимые ветрами, как листья осенью, легки перед Тобой, — свободно выбранной довольны мы судьбой, и это мы любовью называем.
Видите, здесь ещё и нарочитые ритмические сбои, и рифмы повисающие, потому что с этим создаётся ощущение корявой судьбы.
Лежу и слушаю, а кровь во мне течёт, вращаясь правильно, таинственно и мерно, и мне неведомый нечеловечий счёт чему-то сводит медленно и верно. Алчбой бескрайною напоена струя, ненасытимая в её потоках хищность, через века сосудов новых ищет — и вот — одним сосудом — я.
Тема крови — крови-руды, крови менструальной, крови родовой, крови, которая коловращается таинственно и темно в теле, — это вечная тема Шкапской. И надо сказать, что её поэзия действительно ужасна физиологически.
О, дети, маленькие дети, как много вас могла б иметь я меж этих стройных крепких ног, — неодолимого бессмертья почти физический залог.
— это то бесстыдство, которого мы и у Ахматовой не найдём. Это физиологизм истории, физиологизм кровавых времён. И в этом смысле Шкапская — пожалуй, единственный поэт, который времени своему адекватен.
Что знаю я о бабушке немецкой, что кажет свой старинный кринолин, свой облик выцветший и полудетский со старых карточек и блекнущих картин?
О русской бабушке — прелестной и греховной, чьи строчки узкие в душистых billet-doux, в записочках укорных и любовных, в шкатулке кованой я ныне не найду?
От первых дней и до травы могильной была их жизнь с краями налита, и был у каждой свой урок посильный и знавшие любовь уста.
О горькая и дивная отрава! — Быть одновременно и ими и собой, не спрашивать, не мудрствовать лукаво и выполнить урок посильный свой:
Познав любви несказанный Эдем,
Родить дитя, неведомо зачем.
Это такая безысходность, которая потом у Слепаковой тоже очень интересно отозвалась:
Поставлю за неслыханную плату
Для вечности, не нужной никому.
Прекрасное, очень женское понимание тленности и бренности всего. Нет, конечно, Шкапская — большой молодец.
Помимо этой физиологичности нельзя не отметить того, что отмечали у неё и Луначарский, и нынешние исследователи, и все, о ней писавшие, — её библейских корней. Её обращение к Богу, конечно, во многом ветхозаветное, непримиримое. «Но Ты из Недобрых Пастырей, Ты Незаботливый [Неразумный] Жнец», — знаете, это интонация вопрошания, но даже я бы сказал — грозного вопрошания, что-то есть от Иова в её поэтике. Она от Бога требует ответа, отчёта. Это не потому, что у неё есть (как сейчас многие напишут) какие-то еврейские корни. Да их, по-моему, и не было. Ну, это неинтересно. Интересно другое — что вообще Русская революция вызвала к жизни именно ветхозаветную традицию, потому что перед нами вот те самые руки Творца, о которых она пишет — «похожие на мужнины объятья». Перед нами руки Бога, который грубо лепит земную и человеческую глину, поэтому и разговор с Богом приобретает совершенно новую интонацию — интонацию требовательную, гневную.
Пускай живёт дитя моей печали,
Залог нечаянный отчаянных часов,
Живое эхо мёртвых голосов,
Которые однажды прозвучали.
Так черноморских волн прибой в начале
Угрюмой осени плачевен и суров,
Потворствует [покорствует] неистовству ветров, —
Но держится челнок на тоненьком причале.
Вот это ощущение бури, в которую вдвинут человек, ощущение катастрофы, в которой он живёт, — это всё у неё чрезвычайно живо и наглядно.
Я вообще считаю, что Светлана Шкапская, её дочь героическая, которая столько сделала для возвращения наследия матери… Она сумела вернуть из небытия её ненапечатанные стихи, заговорить об её судьбе. И прекрасно, что вот это дитя, которое рождено для ненужной вечности, оказалось и благодарным, и понимающим, и чутким. И слава богу, что Шкапская нашла вот такой отзвук в будущем.
Я знаю, что её первая книга после смерти (большой сборник её стихов) вышла сначала в Штатах. Потом в Германии её довольно много печатали. В Россию её вернул (и моя вечная ему тоже благодарность) Евгений Александрович Евтушенко, который большую её подборку в своих «Строфах века» напечатал сначала в «Огоньке», а потом она перешла, соответственно, и в антологию. Евтушенко гениально вернул в русскую поэзию множество прекрасных имён — в диапазоне от Юрия Грунина, который при жизни удостоился признания благодаря ему, до Александра Кочеткова, «Балладу о прокуренном вагоне» которого он напечатал уже посмертно. Правда, там ещё Рязанов её вернул в «Иронии судьбы».
Надо сказать, что огромный слой этой потаённой поэзии, а особенно поэзии 20-х годов — поэзии Адалис, поэзии Барковой, поэзии Шкапской — он тоже возвращался к нам медленно, постепенно. Почему женщины (во главе с Цветаевой, конечно, и с Ахматовой отчасти, потому что Ахматова очень быстро замолкает) в это время, в 20-е годы, взяли на себя миссию — написать о главном, о самом страшном? Знаете, наверное, потому (рискну я сказать), что женщина органически бесстрашнее. Женщине приходится рожать, поэтому с кровью, с физиологией, с бытом она связана более органически. И там, где мужчина замолкает или в ужасе отворачивается, или пишет антологические стихи, или что-нибудь греческое, римское, — там женщина подходит прямо к этому источнику страданий. И поэтому Шкапская написала в это время несколько действительно гениальных стихотворений.
А что случилось потом? Общеизвестно, что случилось потом. Потом она попыталась… Кстати говоря, её довольно высоко ценил Блок. Она вошла в Союз поэтов, даже в правление Союза поэтов. Она издала, насколько я помню, шесть книг всего, и все они были превосходные, и очень хорошо были приняты. Шкловский высоко её оценил, Тынянов очень высоко оценил её. Кстати, и Ахматова, невзирая, наверное, на неизбежный элемент поэтической ревности. Но довольно скоро — уже в 1924 году — Шкапская замолчала. Довольно трагическое зрелище — наблюдать, как она писала в это время, пытаясь каким-то образом ещё вызвать поэтическое вдохновение, пытаясь вернуть себе голос. Эти стихи производят впечатление какого-то скрежета. Вроде бы они радостные (типа «Привет весне от ленинградского поэта!» — что-то такое), она пытается описывать свой радостный город, она пытается описывать строительство, пытается говорить о каких-то новых временах, но всё время чувствуется ужас, отчаяние, иногда бешенство.
Она не напечатала эти последние стихи, слава богу. Так получилось, что она не стала больше публиковаться. Она как бы абортировала, как бы выкинула себя из поэзии. Это довольно трагическое явление, но это показывает, что тот период поэтического молчания, который наступил у всех — в диапазоне от Мандельштама и Маяковского до Ахматовой и даже впоследствии до Цветаевой, — это неизбежная вещь, это историческая объективная закономерность. Конечно, очень горько говорить об этом.
Что Шкапская делала дальше? Дальше она изобрела такой новый род искусства — она стала делать информационные коллажи. Она стала клеить альбомы, в которые она наклеивала свои впечатления, вписывала иногда рецензии, какие-то вырезки газетные, какие-то записки, билетики — такую хронику времени. Множество этих пожелтевших альбомов сохранилось. Они никакой ценности, конечно, не представляют, но они показывают, что делал большой поэт, когда ему делать было больше нечего.
Понимаете, это ведь на самом деле довольно трагическая тема: что происходит с поэтом, когда он не может больше писать? Иногда он стреляется. Иногда он умирает просто по физическим законам (как замечательно написал Замятин: «Блок умер не от чего. Блок умер от смерти»). Иногда он умирает. Иногда он продолжает жить, как это ни ужасно, и пишет какие-то квазистихи, какие-то поэтические суррогаты. А иногда он переходит на прозу — и тогда получаются иногда великие тексты, а иногда никакие.
Вот Шкапская пыталась заниматься литературой, пыталась искать себя в журналистике. Она выпустила несколько очерковых книг, очень плохих. Она по совету Горького (тоже мучительное занятие!) начала писать дикую историю фабрик и заводов. Горький пытался устроить коллективный труд. Как когда-то он во «Всемирной литературе» спасал людей, давая им переводы, предисловия, так он давал им теперь писать эти дикую, совершенно бессмысленную историю фабрик и заводов — когда несчастный Вагинов, умирая от туберкулёза, ездил на завод «Светлана» и писал об электрических лампочках, когда Шкапская писала о какой-то иваново-вознесенской фабрике тоже.
Я это говорю не от презрения к фабричной жизни. Многие, конечно, скажут: «А, вот вы питаетесь сами всю жизнь плодами трудов, а к этим трудам так пренебрежительно относитесь!» Нет конечно. Я очень уважаю эти труды. И именно одна из форм этого уважения — то, что я не пишу о них конъюнктурных текстов, то, что я не пытаюсь сочинять историю фабрик и заводов. Надо уважать этот процесс, а не втягивать его в насильственную, скудную и уродливую литературу. И сохранилась до сих пор, и где-то лежит в архивах эта огромная рукопись-машинопись Шкапской и об истории иваново-вознесенской какой-то ткацкой фабрики, и о революционном движении. И тоже она старалась это хорошо написать. И всё это было в никуда…
Потом, во время войны, сын её погиб. Потом удар с ней случился. И умерла она преждевременно и глубоко состарившись, как человек, из которого вынули позвоночник. Есть только один замечательный фрагмент 30-х годов, немножко похожий на набоковское описание Зоорландии из «Подвига» — о стране, в которой запрещена речь и запрещена мысль. Это такое поразительное описание страшного сна, в котором вдруг появились, возникли какие-то прежние её тона. Но по большому счёту, конечно, писать она уже не могла.
И мне рассказывала дочь её, что она (Шкапская) умерла во время выставки собак. Она занималась в последние годы собаководством. Её упрекнули, что она то ли кого-то неправильно спарила, то ли кого-то неправильно вывела. И она так была потрясена, что вот тут же прямо и умерла от инфаркта. Действительно, такая страшная, такая собачья жизнь — и такая страшная и непонятная смерть! Это один из множества русских поэтов, которые вот так гибельно, так страшно начали и без развития погибли.
О, тяготы блаженной искушенье,
соблазн неодолимый зваться «мать»
и новой жизни новое биенье
ежевечерне в теле ощущать.
По улице идти, как королева,
гордясь своей двойной судьбой.
И знать, что взыскано твоё слепое чрево
и быть ему владыкой и рабой,
и твёрдо знать, что меч господня гнева
в ночи не встанет над тобой.
И быть как зверь, как дикая волчица,
неутоляемой в своей тоске лесной,
когда придет пора отвоплотиться
и быть опять отдельной и одной.
Как это здорово сделано! Что здесь работает? Какое здесь противоречие? Конечно, главное стилистическое противоречие — это приземлённый, бытовой, грубый физиологизм и библейская высота. Мне многие скажут, что делать из менструальной или родовой крови символ — это дурной вкус. Во-первых, хороший вкус никому не нужен. Поэзия — это не дело хорошего вкуса. Хороший вкус заново изобретается гением, и критерии заново им отстраиваются. Но главное дело в том, что в Библии тоже есть то, что Пушкин называл «библейской похабностью». Это есть и в Шкапской, конечно.
Вспомним «Мумию». О мумиях есть много стихов замечательных, но лучшие два написали женщины — Новелла Матвеева («Не хвастай, мумия, что уцелела ты») и Шкапская. Вот смотрите:
Лежит пустая и простая,
В своём раскрашенном гробу,
И спит над ней немая стая
Стеклянноглазых марабу.
Упали жёсткие, как плети,
Нагие кисти черных рук.
Лишь прикоснитесь — вам ответит
Сухих костей звенящий стук.
Но тело, мертвенному жалу
Отдав живую теплоту,
Хранить ревниво не устало
Застывших линий чистоту.
Улыбка на лице овальном
Тиха, прозрачна и чиста,
Открыла мудро и печально
Тысячелетние уста.
Удивительно, что здесь Шкапская этой мумией умиляется, эта мумия у неё чуть ли не символ добра. А у Матвеевой это такое страшное, такое роковое явление.
Да, говорят, что это нужно было… И был для хищных гарпий страшный корм, и тело медленно теряло силы, и укачал, смиряя, хлороформ. И кровь моя текла, не усыхая — не радостно, не так, как в прошлый раз…
Я думаю, что вот эти самые страшные стихи об аборте Русской революции, об абортированной революции, об абортированной и прерванной истории — это Шкапская. Ну а повторять про себя мы будем всегда, конечно, «Петербурженке и северянке…». «Вода живая с кипящей пеной» — вот лучшая характеристика её стихов.
Услышимся, как всегда, через неделю.
*****************************************************
12 февраля 2016
-echo/
Д. Быков― Привет, дорогие друзья, добрый вечер! «Один», в студии Дмитрий Быков. Сегодня у нас какое-то фантастическое количество вопросов, качество которых повышается с каждой программой, и это меня радует. Не знаю, насколько я смогу соответствовать их уровню, но попробую.
Что меня более всего удивило — так это то, что пришло порядка 20 предложений (некоторые из них вы увидите на форуме, а остальные — в письмах) сделать лекцию про Горенштейна. Я долго думал, почему это так — почему писатель, который был маргиналом даже в маргинальной среде «Метрополя», который был при жизни замолчан и после смерти мало понят, вдруг сегодня дожил до такого всплеска интереса? Началось это ещё, когда Прошкин-старший — человек с замечательной интуицией — экранизировал «Искупление» (по-моему, лучшую вещь Горенштейна) и снял довольно достойную картину, хотя эту вещь экранизировать практически невозможно, и я потом попробую объяснить почему. Лекция будет про Горенштейна.
Я думаю, причина интереса к нему в том (сейчас попробую сформулировать, это трудно), что его картина мира очень совпадает с нынешними нашими страхами и предположениями. По Горенштейну, мир, безусловно, лежит во зле, мир и человек — это неудачный проект. И у нас сегодня очень много стимулов подумать о мире и человеке именно так. Не всё кончается хорошо, не всегда торжествует справедливость; от нас требуются усилия, чтобы мир улучшился. Вот про это весь Горенштейн. Давайте, если хотите, про это поговорим.
Начинаю отвечать на форумные вопросы.
Наталья спрашивает: «Одна из моих самых любимых книг — «Сага о Форсайтах» Голсуорси. В школьные годы впервые прочитала её в прекрасных переводах под редакцией Лорие, а потом перечитывала в оригинале. Вселяет она в меня грусть и говорит о неизменности человеческой природы. Любимая героиня — Флёр Форсайт, умная, решительная и проницательная. Всё моё сочувствие на стороне Сомса. Выше всех по человеческим качествам ставлю Майкла Монта. Меня раздражает Ирэн, олицетворяющая неуловимую красоту. Я не испытываю особой симпатии к людям, которые её дороги: к Босини, к Джолиону, к Джону. Я понимаю их страдания и даже сочувствую, но моя любовь на другой стороне, хотя насчёт собственности я согласна. Со мной что-то не так? Или у меня сдвинуты представления о добре и зле и сильны собственнические инстинкты?»
Наташа, я вас хочу утешить. С вами всё так, но нам придётся здесь сделать некоторый экскурс в сторону того, что собой являет Голсуорси. Ведь это действительно писатель, в российской культуре немножечко не отрефлексированный. Все любили «Сагу о Форсайтах», а особенно на фоне советской литературы. У матери моей это практически настольная книга всю жизнь. Сколько она ни заставляла меня её прочесть, всегда мне было люто скучно, пока в какой-то момент я не прочёл сначала «Конец главы», который мне очень понравился, а потом уже и «Сагу».
Голсуорси принадлежит к блистательной плеяде. Он, кстати говоря, один из двух британских нобелиатов в этом поколении, потому что остальным-то не светило, а дали Киплингу и ему. Но и Моэм, и Уайльд, и Честертон, и Стивенсон, и Шоу… Нет, Шоу всё-таки получил Нобеля. Да, три. Вот они собой олицетворяют таких «детей Диккенса». Как бы гигантская вселенная Диккенса раздробилась на эти лучики. У каждого из них своя тема. Имперская трагедия у Киплинга. Жертвенная красота страдания, христианства у Уайльда. Другое — комнатное, плюшевое — христианство, как бы христианство здравого смысла, но противостоящее, у Честертона. У Моэма скепсис и цинизм относительно человеческой природы. У Стивенсона страшный роковой мотив двойничества (особенно, конечно, во «Владетеле Баллантрэ» и, что уж говорить, в «Докторе Джекиле и мистере Хайде»). И вот я думаю: а что же на этом фоне… Ну, у Шоу свои дела. Шоу, кстати, романтик, а не циник вовсе. Перечитайте «Святую Иоанну». Это страстный вопль о человечестве, которое низко пало, которое утратило идеалы. И вот на этом фоне странный такой Голсуорси.
Что же он собой олицетворяет? Я вам, Наташа, скажу. Он олицетворяет культ нормы. Более того, он на фоне XX века высказывает выдающийся парадокс: а что, если природные инстинкты человека — это хорошо? А зачем всё время себя насиловать? (Кстати, он немножко в этом сближается с Уэллсом.) А что, если человек природный — это не так плохо? А что, если для человека естественно быть нормальным?
Он в «Конце главы» ставит проблему более чем актуальную для современного мира. Там лётчика захватили в плен и потребовали от него принять ислам, отречься от своей веры. Он принял ислам, чтобы спасти свою жизнь, — и всё общество от него отвернулось, эти лицемерные подонки. А любимая женщина отстаивает его против всего общества. Я давно не перечитывал книгу, но конфликт мне помнится ясно. Вот в чём, как мне представляется, проблема.
Для Голсуорси естественно собственничество, естественна ревность, естественен страх за свою жизнь и желание её сохранить. На фоне XX века, который непрерывно насилует человека, он отстаивает его право быть таким, каким для него… Кто там Сомс в принципе? Сомс, в отличие, скажем, от Каупервуда у Драйзера, это вовсе не selfmademan, а это естественный человек, который повинуется инстинкту жизни, который в нём заложен. Я там, кроме Сомса, ярких персонажей и не помню. Но вы правы, кстати, и Ирэн такая. Она такая, какая есть. И она ничего из себя не делает. «Сага о Форсайтах» — это нормальная книга.
Вот возьмите для сравнения с ней «Семью Тибо», другую семейную сагу Роже Мартена дю Гара. Вот там есть Антуан — казалось бы, прелестный человек, который всё время ставит себе сверхчеловеческие задачи: то он завоёвывает Ла-Рошель, то он едет на войну; он всё время пытается прыгнуть выше головы. Естественно, что это кончается самоубийством, и он пишет прощальную записку, великолепную, сверхчеловеческую, гораздо проще, чем думают. Понимаете, вот этот Антуан с его нижней челюстью, которой он стыдится и прячет её в бороде, потому что она изобличает безволие, Антуан, который всё время пытается что-то сделать из себя. А герои Голсуорси не пытаются. И они вообще думают, что, может быть, и не надо жертвовать жизнью за убеждения, а может быть, и не надо себя ломать, а может быть, это и нормально — быть семьянином, капиталистом, любить и ревновать. Понимаете, на фоне ХХ века в этом есть рыцарство, в этом есть какой-то гуманизм. Вот говорят, что Голсуорси писатель. Нет, он мыслитель, конечно. И я, в общем, не осуждаю вас за то, что вы нормальный человек. Обычно принято нормальных людей осуждать.
«Вы говорили о том, что категорически не любите Зеэва (Жаботинского), — не люблю. — А можно уточнить, за что? Вы не приемлете его политических взглядов и мировоззрения, или вам не близки его произведения?»
Одно другому не мешает. Мне не близки его произведения. Мне кажется, что он писатель достаточно крепкого второго ряда. Мне кажется, что он не выдерживает сравнения с титанами литературы, одновременно с которыми он жил и работал. Мне кажется, что и «Самсон», и в особенности «Пятеро» (роман, прославленный сверх всякой меры и страшно переоценённый) — это литература, во-первых, не показывающая, а рассказывающая, довольно слабая в пластическом отношении, довольно натянутая. Его итальянские новеллы — это какой-то, простите, шедевр пошлости и аляповатости. Его публицистика очень хлёсткая и очень провинциальная. Всё, что он написал в качестве Альталены, по-моему, слабеет, блёкнет перед одним его переводом «Ворона» Эдгара По, который действительно очень хорош. Но, в принципе, я никаких восторженных чувств по поводу его литературы не испытываю.
Что касается его идей, его убеждений. Я могу понять их генезис, я могу им даже сострадать, но я никогда не буду их разделять. По-моему, любой национализм ужасен. И его страшная ненависть к ассимиляции — в этом что-то есть от мести человека, которого долго унижали, а теперь он мстит постоянно за эти унижения, пытается всё время найти предлог для отмщения. Меня многое раздражает в Жаботинском: раздражает его тон, раздражает поверхностная хлёсткость его текстов.
И главное. Понимаете, очень легко разделить эти чувства, но это чувства низкого порядка. Я не знаю, как это объяснить яснее. Я знаю, что очень многие в Израиле страшно на меня за это злятся. Ну, всегда кто-то будет злиться, нельзя же подлаживаться под всех. И так уже я вынужден слишком много думать о том, чтобы «Эху» не было неприятностей от тех или иных моих оценок. Да что греха таить — чтобы мне не было неприятностей. Но я всё-таки пытаюсь говорить то, что думаю. Я думаю, что пока ещё во мне внутренний редактор слабее, чем думатель.
«Кто прав в идейно-политическом споре — Жаботинский или Бен-Гурион? Почему они ненавидели друг друга настолько, что так и не примирились?»
По-моему, мой ответ очевиден из вышесказанного. Я говорил, что я готов оценить и отвагу Жаботинского, и мощь его предвидения, но я не готов оценить те чувства, на которых он играет и которые он у читателя вызывает. И мне деятельность его в целом не нравится. Хотя многие, конечно, скажут, что вот если бы все были такими, как Жаботинский, давно бы уже не было никакого антисемитизма, все бы боялись. Но, к сожалению, в Жаботинском очень много того, что и провоцирует скепсис, и провоцирует дурное отношение. Я говорю, никакой национализм не может быть для меня приемлемым.
«Каково ваше мнение о предстоящей встрече папы и патриарха? Она что-то значит, или это просто пропагандистская уловка?»
Значит она безусловно, поскольку всё-таки первый раз такое случилось за тысячу лет. Насколько это значимо? Видите ли, всякое духовное событие, привлекающее интерес, хорошо. А для меня это событие примерно того же ряда, что и открытие вот этих гравитационных волн, в которых я, конечно, понимаю гораздо меньше, чем в богословии, но это важное духовное событие. Всегда, когда происходят важные духовные события, это приятно, это отвлекает нас как-то от кормушки, от страхов, от раболепия. Это прекрасно.
«Вы в своих репликах показали, что неплохо разбираетесь в классической музыке, — очень плохо. — Слушали ли вы передачи и смотрели ли фильмы культуролога Михаила Казиника?»
Он даже был у меня в эфире, Михаил Казиник, и мы с ним разговаривали, и даже я мог поддерживать с трудом этот разговор. Казиник же не пытается показать, что он умнее всех. Он может даже с таким дилетантом, как я, разговаривать вполне уважительно. «Интересно послушать ваше интервью». Его можно послушать где-то в архивах «Сити FM».
«Напоминаю про Ивана Наживина. Вы о нём обещали рассказать подробнее. Спасибо за высокую оценку «Евангелия от Фомы».
Понимаете, я не могу сказать, что я уж так высоко оцениваю «Евангелие от Фомы». Эта книга всё-таки на фоне исторических сочинений Мережковского — прежде всего трилогий и «Иисуса Неизвестного» — конечно, это паралитература абсолютная, беллетристика. А вот «Распутин» — это интересно.
Понимаете, какая штука? Может быть, кто-то его не знает совсем, поэтому я напомню коротко какие-то основные факты его биографии. Наживин родился, насколько я помню, в шестьдесят… Нет, не помню точно сейчас. То ли в 1870 году… Сейчас уточню. Он довольно рано начал печататься, был толстовцем, причём толстовцем убеждённым, сектантским, фанатичным. Написал довольно много о своём духовном опыте — в общем, довольно плохо и довольно скучно. Это всё есть в Сети, и вы можете это легко найти. Написал несколько бытописательских повестей и рассказов.
Но главный его успех в жизни (это уже после эмиграции) — трёхтомный роман «Распутин», который мне пришлось читать собственно потому, что на него (вы будете смеяться) ссылается Ходасевич. Ходасевич, описывая Горького в своём мемуарном очерке, говорит, что Горький нашёл у Наживина какую-то смешную неточность — что-то, касающееся пароходов — и долго из-за этого на книге топтался. Этой неточности в книге нет. Ходасевичу либо изменяла память, либо он нарочно Максимовича оклеветал, но мне так или иначе пришлось роман прочесть. Я вам скажу, что это занятное чтение, гораздо более талантливое, чем пьеса Толстого и Щёголева «Заговор императрицы», гораздо более талантливое, чем имитационный дневник Вырубовой (как вы понимаете, это подделка). Наживин написал о Распутине с хорошим пониманием…
Это немножко такой Пикуль, вот я бы так сказал. Это Пикуль 20-х годов. Пикуль был неплохой писатель в общем. Я не беру сейчас в расчёт его убеждения, но он был хороший стилизатор сказа, он умел построить сюжет. Первым на него как на серьёзного писателя начал смотреть Веллер, которого всё-таки филологическое образование заставило увидеть эту сказовую стилизацию. Вот Наживин — это такой Пикуль 20-х годов.
И его роман о Распутине пронизан двумя чувствами: во-первых, болью за ужас, который с этой фигурой пришёл в русскую историю, а с другой стороны — своеобразной гордостью, потому что действительно фигура-то небывалая. Это средневекового масштаба придворный юродивый, вертевший мирами. Там есть, конечно, жареные детали. Но вообще почитайте, это неплохой роман. Он немножко сделан под Алексея Николаевича Толстого, но в целом это хорошее чтение. Вот это я из Наживина вам рекомендую. А его стихотворения в прозе, конечно, совершенно ужасны.
«Салют, Дмитрий Львович! — и вам салют! — В прошлом «Одном» вы говорили, цитирую: «Я бы не сказал, что они его не поддержали (имея в виду Навального, Яшина и Сенченко). Другое дело, что его первым громче всех поддержал Гудков». Сделав поиск по блогам Навального и Яшина, я не нашла ни одного упоминания Сенченко. Если у вас нет конкретных ссылок, то давайте считать, что таких слов они не говорили».
Мне кажется, что все выступления, сразу вам хочу сказать, Наташа… Наташа это? Сейчас я посмотрю, кто это. Ната. Мне показалось, что все выступления Яшина и Навального в это время, касаемые кадыровских эскапад, имели в виду и случай Сенченко в том числе. То, что они не называли его конкретной фамилии, мне кажется, не умаляет их личной смелости. А если вам кажется, что они недостаточно его поддержали, обратитесь к ним — и они эту двусмысленность снимут.
«Какая самая тяжёлая для вас книга или рассказ? Не в плане тяжести переживаний, а в плане того, что и написано хорошо, но нет сил дочитать до конца. Для меня это «Мелкий бес» Сологуба и «Смерть Вазир-Мухтара» Тынянова».
Наташа, для меня «Смерть Вазир-Мухтара» — как раз очень радостная книга. Мне нравится, как она написана. Когда-то Владимир Новиков сказал, что это роман-автоэпитафия, и такую книгу можно написать одну, и писать её как последнюю. Лидия Гинзбург писала, что это тупиковая вещь. Но мне почему-то в этой сухой сыпучей прозе необычайно уютно, в ней много воздуха. И вообще она мне нравится, многое оттуда я помню просто наизусть.
А что касается тех текстов, которые для меня тяжелы, которые мне невыносимо читать, то это практически весь Андрей Платонов, а особенно сказки, особенно «Восьмушка» и «Разноцветная бабочка». Я всегда так ревел, когда их читал в детстве! Ну, «Восьмушку» напечатали, когда мне было уже лет шестнадцать. Ну просто я не мог физически это читать, ужас какой-то! И мне вообще Платонова очень тяжело читать всегда. Иногда эта тяжесть сопряжена с наслаждением. Мне многие тексты Леонова тяжело было читать, но это было наслаждение. Сейчас я понимаю, например, что «Вор» — всё-таки довольно картонная книга (при всём моём уважении к нему), но когда-то в отрочестве это было настоящее наслаждение, такое смакование.
А вот книги, которые бы меня угнетали психологически? Добычин, конечно. Что бы ещё назвать? Видите ли, однотонная грусть, такая беспросветная. Есть книги, так написанные, и они на меня действуют примерно так. Платонов прежде всего и все его последователи, которых довольно много. Ну, Борис Екимов, кстати, хотя я люблю этого автора.
«Несколько слов о Дэне Брауне, Умберто Эко и Артуро Пересе-Реверте».
Послушайте, вы ставите в один ряд совершенно несовместимых людей. То, что у них всех присутствуют элементы конспирологического романа (который, кстати, начался в России с «Бесов», с «Кровавого пуфа» Крестовского, с антинигилистических романов Лескова и так далее), это не делает их писателями одного уровня.
Я совершенно солидарен с Володей Вороновым, который считает, что Перес-Реверте — начнём с того, что это блистательный публицист, замечательный колумнист, очень интересный историк. Ну, как писатель («Клуб Дюма») — я не знаю, но всё-таки это писатель, безусловно.
Умберто Эко — просто один из крупнейших мыслителей современной Европы. И проза для него — развлечение. В конспирологическом духе выдержан только «Маятник Фуко». Но, безусловно, Эко — это один из крупнейших прозаиков и мыслителей нашего времени.
А что касается Дэна Брауна, то тут просто не о чем говорить всерьёз. Вот вы пишете, что это [«Код да Винчи»] — «Маятник Фуко» для бедных. Нет, это «Ларец Марии Медичи» для бедных. Понимаете, у нас же всё это было. У нас «Глаз Будды» и «Ларец Марии Медичи», милицейская дилогия Парнова Еремея Иудовича, — это просто на порядки опережает Дэна Брауна, и вся та же самая история. Я Парнова знал немного. Я больше ценил, конечно, его великого соавтора Емцева — главным образом за гениальную повесть «Бог после шести», которую я вам очень рекомендую (она ещё имеет второе название «Притворяшки»). Емцев — просто очень крупный писатель, настоящий, глубокий, совершенно ни на что не похожий, аналога даже нет никакого. Но Парно́в (или Па́рнов, как его ещё называют) — это тоже такая предтеча Дэна Брауна. Я к конспирологии хорошо отношусь, когда это сюжетные механизмы, а плохо — когда это основа философии.
«В одной из глав «Клуба Дюма» появляется «известный профессор семиотики из Болонского университета». Что это — забава выводить в персонажах коллег по цеху?»
Нет, это элегантный ответ. А почему Хорхе появляется слепой у Умберто Эко в «Имени розы»? Вы же понимаете, кто это. И я, кстати, вполне разделяю его отношение к этому автору.
«Много лет назад, — пишет Гозман. Привет, дорогой Гозман! — в журнале «Знание — сила» было опубликовано эссе Тойнби под названием «Если бы Александр не умер тогда…». Речь шла об Александре Великом, о возможной альтернативной истории мировой цивилизации. Вы неоднократно высказывали нестандартные по нынешним временам, но объективные мысли о Ленине. После того как я с удовольствием прочёл роман «Правда», у меня сложилось впечатление, что у вас особое отношение к этой личности. Что вы можете сказать на тему «Если бы Ленин не умер тогда…»?»
Знаете, об этом у Искандера уже было, где Ленина называют «тот, кто хотел лучшего, но не успел». Все великие личности (а Ленин был безусловно великой личностью, о знаке можно спорить), великие злодеи, великие добродетели, благодетели человечества — они все умирают вовремя. Вовремя в том смысле, что их жизнь, может быть, бессознательно выстроена как драма. Я думаю, что Ленин был обречён, и обречён по многим причинам — прежде всего потому, что крайне двусмысленным было его положение. Его окружение было разрываемо противоположными мнениями и страстями, и он не мог бы удерживать своим авторитетом эту чрезвычайно разнородную, разномастную публику. И я думаю, Троцкий со своей стороны, а Сталин со своей так или иначе его бы перетягивали, а в конечном итоге сживали бы со свету.
Ленин — это фигура, звёздный час которой случайно, непредвиденно, неожиданно для него самого состоялся примерно с февраля-марта 1917 года примерно по октябрь 1918-го — «триумфальное шествие советской власти», как он сам это называл. Дальше этот человек стал перерождаться. Дальше у него уже не было никакого управления течением мысли, а было абсолютно голое репрессивное сознание. И я думаю, что умер он не только от инсульта и от последствий ранений, но в огромной степени и от разочарования. Это, кстати, отдельная тема: действительно ли он написал и передал через Эйно Рахья письмо, в котором каялся? Я думаю, что это фейк. Но то, что он примерно понимал, что всё зашло не туда, что у него восстанавливается та же система, только труба пониже, а дым пожиже, — я думаю, он это осознавал. Отсюда вот эти безумные припадки гнева.
Он умер примерно от той же депрессии, что и Блок. И хотя Блок умер от ревмокардита, а Ленин от инсульта, но последние два-три года у них прошли при очень сходной симптоматике: беспрерывные раздражения, нервные срывы, забывания слов, постоянный ужас, постоянная ненависть к окружающим — много всего. У людей, у которых жизнь тела очень тесно привязана к жизни духа, такое бывает. И оба — результаты такого долгого дворянского вырождения. И они сами понимали, что они последние в своём роде. Поэтому это долгая история.
Я думаю, Ленин к концу своей жизни — даже без удара, даже без умственной деменции — деградировал бы очень быстро. Понимаете, действительно у Ленина — азартного бойца, который любил состояние драчки — более или менее ощущение своей политической востребованности было, пока он думал, будто он оседлал историю, будто он оседлал Россию. Потом — в 1918 году — очень быстро оказалось, что Россия оседлала его. Нельзя им не любоваться в какие-то минуты, но нельзя им и не ужасаться потом, потому что, конечно, его злодеяния, которых он совершенно не осознавал, от этого не делаются меньшими. Это личность во многих отношениях кошмарная.
«Посмотрев фильм «Царь», я запомнил выражение Петра Мамонова: «Кто власти противится — тот Богу противится. А кто противится Богу — тот отступник». Как вы считаете, не существует ли сейчас такого мнения у правящей ныне номенклатуры?»
Конечно существует. Они думают, что всякая власть от Бога и не понимают истинного смысла этого апостольского высказывания. Ведь Павел имеет в виду совсем не то, что власть как таковая, любая навязанная власть, в том числе власть антихристова, может быть от Бога. Как разъясняет этот текст Андрей Кураев, под властью здесь имеется в виду иерархия, порядок. Иерархия, система — она от Бога. Поэтому, кстати говоря, у поэта, живущего в жёсткой вкусовой иерархии, всегда так велик соблазн признать власть (и иногда получаются омерзительные вещи из этого принятия). Но, конечно, в Библии вовсе не сказано, что власть от Бога как таковая. Там сказано, что идея власти, идея иерархии — это идея божественного мироустройства. И, конечно, попытки власти истолковать это как санкцию на что угодно — это, знаете ли, смешно.
«Правда ли, что у Пушкина было несколько муз? Эрато. Каллиопа. Ещё одна отвечала за прозу. И ещё одна — Клио — была за историю».
Нет, я думаю, что муза всё-таки одна, потому что голос у Пушкина всегда один и тот же. И литература Пушкина — это одна литература, чего бы он ни писал. Он всё писал в жанре «Пушкин», сочетающем силу, энергию, лёгкость и ясность разума.
«Как вы относитесь к Александру Гордону?»
Позвольте мне не отвечать на этот вопрос. Я уже говорил, что стараюсь в программе не говорить о тех вещах, которые меня огорчают, которые как-то не вписываются в мою картину мира. Легко было бы сейчас ругать Гордона, но мне кажется, что здесь… Хотя, конечно, там и претенциозность определённая, и самомнение безумное, но мне кажется, что здесь уместнее говорить о трагедии, — о трагедии, которая со временем просто войдёт в учебники.
«Занимает проблема абсолютного зла…» Как интересно, что соседствуют эти вопросы! Как это замечательно! «Прочитал «Выбор Софи» Стайрона, был поражён судьбой отца Софи Завистовски, — да, действительно. — Оказывается, злу не нужны союзники согласные, хоть немного думающие, а только топор, только плаха. Стайрон сгустил краски?»
Нет, Андрей, что вы? Он ничего не сгустил. Он угадал очень тонко одну вещь: злу действительно не нужны умные союзники. Вы посмотрите на прокремлёвских журналистов, на то, что они пишут, например. Я сейчас почитаю тут одного. У меня времени мало остаётся, но я почитаю. Нужны ли злу умные союзники? Вот Пастернак, например, говорил многим, но чаще всего Тарасенкову: «Ну чего они не хотят нас привлечь? Мы бы всё сделали. Мы бы им придумали. Мы бы гораздо мягче и тоньше вели эту пропаганду. Мы бы не отталкивали от них людей». А им не нужны хорошие союзники, потому что в этом будет когнитивный диссонанс. Злу нужны плохие, бездарные, злобные, поэтому талантливые обычно и против зла. Или, встав на сторону зла, они очень быстро утрачивают свой талант, потому что зло же тоже отравляет как-то своих агентов. Ну не нужны им нормальные, поймите вы это уже наконец! Вы всё думаете: «А вот можно, наверное, российскую имперскую пропаганду осуществлять умно́». Наверное, можно, но им умно́ не нужно́. Им нужно, чтобы человек, встав на их сторону (как совершенно правильно недавно написал Кашин) немедленно превращался. Вот они и превращаются.
А мы с вами вернёмся через три минуты.
РЕКЛАМА
Д. Быков― Вот видите, даже раньше, через две минуты мы возвращаемся.
Вот, пожалуйста, текст. Я не называю автора, я называю место его публикации. Я совершенно не хочу делать ему пиар, но называю место публикации — деловая газета «Взгляд». Текст называется «Ковш русского экскаватора». Хочется это прочесть железным голосом то ли Сергея Доренко, то ли Советского информбюро.
«Ковши экскаваторов снесли не просто магазинчики, и даже не облик 90-х годов, плавно перетёкший в 2000-е, а часть жизненных ценностей и установок российского общества постсоветских лет.
Массовая ликвидация торговых павильонов в Москве — не первый, но знаковый признак структурных изменений российского государства, — ну, уместнее было бы, конечно, «государства российского». — Уходит Россия торгашеская, возвращается Россия имперская. Мелочные интересы частников уступают место государственному порядку и высоким мечтам большой нации.
В либерально-прозападной среде, которая интересам народа предпочитает личное обогащение и собственную безответственность, это принято называть наступлением великодержавной тирании на права свободной личности.
Но их недовольство бесплодно: Россия, вернувшись на международную арену, неизбежно должна была начать восстановление своего традиционного содержания, национальной идентичности, пусть и в мягких формах.
Ковши экскаваторов снесли не просто магазинчики…» Это уже было вынесено в эпиграф.
Часть, может, не самую худшую (все же откровенный криминал и ельцинский олигархат нанесли куда больший вред), но также опутавшую Москву и Россию своими мелкотравчатыми интересами.
«Купи-продай» заменило собой «построй-создай», «бери от жизни всё» — «отдай свою жизнь ради других». Старики ворчали: всё везде продают, но нигде ничего не делают. Варварская деиндустриализация сопровождалась безудержным самостроем торговых ларьков.
Россия, начав, как положено, со столицы, физически очищается от псевдоархитектурных наслоений дикого капитализма, расчищая улицы, площади и проспекты, одним видом напоминающие гражданам об имперском самоощущении — просторе и величии.
Городское пространство, вдруг вырвавшееся из-под торговых шанхаев, завораживает перспективой и мысленно возносит до высот Пушкина и Петра, — кого возносит и до каких высот — неясно. Ну, тут уж такой пафос, что бог с ним, — а монументальные тяжеловатые постройки напоминают о тысячелетней, пусть непростой, но великой и родной истории». Конечно, непростой, да. Кого-то постреляли, кого-то пожгли, но великая вся она и родная!
«О жизни огромного народа, который выжил и покорял широты и высоты, строил эти самые проспекты вопреки природным стихиям…»
Далее я пропускаю, потому что дальше автор разжёвывает эту мысль ещё четыре абзаца. А вот дальше происходит интересное:
«Личные интересы отдельного гражданина, его комфорт и возможность обогащения должны не препятствовать развитию государства, решению общенациональных задач. Более того, когда страна делает большие дела, малые должны подвинуться и подождать».
Ребята, вы можете сказать, а если бы не было этой стыдной двусмысленности, было бы лучше? Нет, она нужна, она необходима, потому что уровень текста должен соответствовать его художественной задаче.
«Как метко выразился публицист, — которого я тоже не хочу пиарить, — о платных парковках и в целом деятельности московских властей, «по большим и чистым улицам должны — если что — идти танки и зенитно-ракетные комплексы, а не стоять ваши ржавые корыта».
«Ваши ржавые корыта». Понятно, как эти пропагандисты и эта власть относятся к населению? Презрительно. «Ваши ржавые корыта». Вы всегда будете для них обладателями «ржавых корыт», а по их проспектам должны ходить танки и зенитно-ракетные комплексы. Я только не знаю, кому эти два публициста собираются в ближайшее время сдавать Москву и где в Москве должны развернуться в ближайшее время городские бои. Я понимаю, что тот раздрай, который устроил Собянин с этими всеми пейзажами, как после бомбёжки, — это действительно немножко напоминает поджог Москвы перед приходом Наполеона. Хотелось бы понять, где Наполеон.
«И это не пренебрежение к гражданам, — продолжает публицист, — а новое старое ощущение жизни, главная радость которой не в том, чтобы взять капучино в кофейне, прогуляться по торговому центру и купить себе кучу барахла (место этих радостей в дальнем углу), а в созидании и труде, полезном для окружающих». То есть тот, кто хочет созидать, забудь про капучино. «В великих помыслах, творениях и событиях…» — тра-та-та-та-та. И дальше в один ряд с уничтожением ларьков становится очередь на Серова, потому что это приоритет духовных интересов.
Финал!
«И действительно, теперь, если вы видите движение, то можете быть уверены — это не вращение флюгера, это работает ковшом русский экскаватор».
Большинство комментариев к этому тексту: «Что курил автор?» Автор не курил, в этом-то весь и ужас. Понимаете, я уверен, что этот автор не курит. Этот автор так думает, и это действительно страшно, потому что он всё время противопоставляет друг другу взаимообусловленные вещи. Он всё время противопоставляет друг другу комфорт и порядок, величие и свободу. То есть для него есть только одно величие, которое беспрерывно репрессирует граждан и напоминает им, что их потолок — это «ржавое корыто», а всё остальное время они должны строить и созидать, созидать и строить. Из каких соображений? Почему они должны всё время жертвовать собой ради других? Почему они не могут попить капучино, а всё время должны идти жертвовать? Причём жертвовать собой ради вот таких бездарно пишущих людей, простите, как вот этот герой. Я говорю именно «людей», хотя просятся, конечно, разные ругательства, но я хочу всё-таки соблюсти какое-то уважение. В конце концов, он ещё молодой человек, он может раскаяться. И мы увидим его покаяние, он ещё будет у нас писать оды чашке капучино.
Но просто почему залогом величия всегда является насилие, дискомфорт и хамство? Вот этого я не пойму. А статья эта выдержана как раз, простите меня, в абсолютно хамском тоне. Что тут обижаться-то? Но для него хамство — это и есть залог величия. Государство так должно говорить со своими гражданами, иначе они распустятся и начнут ходить по торговым центрам вместо того, чтобы жертвовать собой, простите, ради выживания этой бездари.
«В «Орфографии» у вас изображён забавный мужчина, в одиночку и силой железной логики захвативший власть в городе. Это пародия на Сталина?»
Вы имеете в виду садовника Могришвили. Дело в том, что то, что он садовник — довольно принципиальная вещь, потому что это такая попытка развить идеи доктора Живаго, который полагает историю лесом, запущенным садом, если угодно, и такой апофеоз природного начала, который видится ему в дохристианской государственности, побеждается и разрывается христианством. Это очень тонкая и прекрасная мысль. Мне хотелось показать, что такое садовник, каким властителем будет человек, который обожествляет природность, именно выживание, ползучую силу жизни, адаптивность, приспособляемость, торжество слепого роста — такую биологию, государство биологического выживания, лишённое принципов. С христианства начинаются принципы. Поэтому садовник Могришвили — это не столько Сталин (хотя и Сталин тоже, конечно), а это любой человек, склонный обожествлять природу, а не историю.
«Вспоминаю сильное впечатление от кино — сцена пыток монаха Патрикея (роль Юрия Никулина) в «Андрее Рублёве». Зачем Тарковскому понадобился клоун в роли святого мученика? Ведь режиссёр говорил, что видел до этого Никулина только в цирке».
Так в этом и был гениальный выбор. Понимаете, Патрикей не произносит же железных и каменных монологов о величии России, о том, что сейчас пойдём все жертвовать. Он просто жертвует. Его просто убивают, пытают и убивают. Помните, он говорит: «Вы придёте, всё пожжёте, а мы опять построим». Он поэтому и взял человека доброго, бесконечно трогательного, даже в какие-то минуты жалкого и героически гибнущего. Вот на этом контрапункте, на этом контрасте всё построено. А Алексей Юрьевич Герман, не будучи наивен, очень быстро подсмотрел эти мучительные чёрные глаза Никулина и пригласил его на главную, серьёзную, трагическую роль в «Двадцати днях без войны» из записок Лопатина. Это, конечно, замечательное достижение.
«Сценарии Натальи Рязанцевой стали основой замечательных фильмов Киры Муратовой, Ильи Авербаха, Ларисы Шепитько. Какая из работ Рязанцевой вам наиболее близка? И почему?»
Я много раз говорил, что мой самый любимый фильм всех времён и народов — это «Чужие письма». Я считаю, что это величайшая и пророческая картина, оставшаяся невероятно актуальной. Вы бы видели, сколько было народу на её единственном показе, на устроенном сеансе в «Авроре», по-моему, на Невском или в «Колизее», и как встречали Рязанцеву и Дмитрия Долинина, оператора картины. Там всё гениально! Там мой любимый режиссёр Авербах, мой любимый сценарист Рязанцева, мой любимой композитор Каравайчук, любимый оператор Долинин и любимая актриса Семёнова, которая там действительно просто… По-моему, Семёнова, если я не путаю сейчас. Простите, Смирнова. Конечно, Светлана Смирнова, любимая актриса. И Ирина Купченко, и замечательный Янковский. Там все божественно хороши. А музыка, волшебная тема эта, с которой начинается картина, когда яблоки падают, и всё пронизано вот этой тревогой, ветром августа, пограничьем — это божественно! Конечно, это для меня самая важная картина.
Наверное, не менее важная по-своему — «Долгие проводы», очень сильное кино. Из других вещей мне очень нравится сценарий Рязанцевой «Эффект Дориана». Меньше нравится, как он поставлен, но как киноповесть, как идея это высокий класс. Да и вообще проза Рязанцевой, её воспоминания об Авербахе, об Мамардашвили, всё, что она пишет, любой разговор с Рязанцевой (привет вам большой, Наталия Борисовна!) — это для меня огромный факт искусства.
«Какие фильмы последнего времени произвели на вас впечатление?»
Я дал слово одному советско-российскому очень знаменитому режиссёру-классику, что я никому не расскажу о его фильме, который я посмотрел сегодня. Он едва закончен, и, видимо, будет доделываться ещё долго. Это великое и очень для меня серьёзное впечатление. Не могу сказать. Вот распирает, но не могу сказать, что это было. Скоро, видимо, картина выйдет, и вы о ней сможете спросить меня. Долго делал — и наконец сделал.
И, конечно, совершенно меня потряс (но я его уже видел раньше) фильм Аменабара, который называется у нас «Затмение», а в оригинале — «Regression». Вот к тому, что происходит сейчас в России, вообще к психологии массового гипноза эта картина имеет отношение самое прямое. Например, моя мать говорит, что по сравнению с «Другими» Аменабар стал жёстче, гораздо суше. Это так. «Другие» — это была вообще трагедия, лирическая поэма. Лучше «Других» вообще ничего не сделаешь в этом жанре, я думаю. Но некоторое сходство сюжетных схем показывает, насколько тоньше и насколько точнее стал Аменабар. Я и другие его фильмы люблю. И «Агору» я люблю, и вполне нравится мне «Открой глаза», дебютная полнометражная работа (нет, вторая, была «Диссертация» ещё), но всё-таки больше всего я люблю, конечно, «Других» и вот этот фильм. «Затмение» просто вызвало у меня какое-то… Знаете, как всегда, бывает такое чувство, что ты отмщён. Пришёл человек среди массового безумия — и показал это массовое безумие. Молодец, умница! Я познакомился уже с Гором Вербински, даже взял у него автограф. Теперь тоже возьму, наверное.
«Фильм Эльдара Рязанова «Андерсен. Жизнь без любви» стал последним для режиссёра. Вам понятна главная мысль картины? И зачем там такой странный финал?»
Понятна. Ну, я думаю, что она мне понятна. Это странная такая картина. Она немножко для Рязанова не типична, Царствие ему небесное. Она была в жанре даже уже не трагикомедии, а в жанре притчи. И там, кстати, много было и страшноватых, триллерных сцен (особенно вот этот эпизод с похоронами), много гротеска (вся эта история с травлей). Это сильное кино, но оно, в общем, о довольно простой вещи. Оно о том, что человек за гениальность платит уродством, платит фриковством, платит патологией, если угодно. Сделано это очень сильно, по-моему.
И этот финальный разговор с Богом тоже мне нравится, потому что Тихонов сыграл именно такого Бога, в которого хочется верить — доброго, снисходительного, слегка насмешливого. Помните, там Бог говорит: «Я люблю сладкое». Вот Рязанов сказал, что Бог любит сладкое, поэтому все упрёки искусства в слащавости, в сентиментальности, в слюнтяйстве — это глупые упрёки. Фраза «Бог любит сладкое» кажется мне одной из самых лучших киноцитат вообще (наряду с некоторыми фирменными фразочками Феллини, например).
«Что можно изобразить в мультфильме, чего нельзя показать в кино?»
Видите ли, я опускаю сейчас случаи всяких замечательных чудес в духе Миядзаки. Я просто хочу сказать, что трансформации, превращения в мультфильме всегда нагляднее. Вечный вопрос мирового кино: как трансформировать Джекила в Хайда, и должны ли их играть разные актёры (как у нас играли, например, Смоктуновский и Феклистов)? Я считаю, что в мультфильме сам механизм трансформации — пластилиновый или, как у Петрова или Евтеевой, вот эти краски, которые наносятся на фоны, — это гораздо убедительнее. Мне вообще нравится в мультфильме именно механизм превращения всегда, поэтому я так люблю пластилиновые вещи и так люблю живописную мультипликацию.
«Если в культуру привносятся элементы соревновательности, как в спорт, она теряет своё первоначальное значение — развитие духовности. Как вы относитесь к конкурсам музыкантов, певцов и прочих личностей? Или они уже не творцы, а ремесленники?»
Послушайте, элемент соревновательности в культуре присутствует изначально. Без этого элемента… Ну, Аркадий Арканов очень хорошо говорил: «Отними у искусства азарт — и ты его кастрируешь». Я говорил: «Зачем вы всю жизнь играете то на тотализаторе, то вы на бега ходите, то вы пари заключаете? Что такое для вас игорный бизнес? Что за игромания? Ведь это совершенно не творческое». Он говорит: «Нет, ну как? Без азарта ничего же вообще не напишешь». И я считаю, что искусство всегда соревновательное, причём это борьба за место в истории, за бессмертие, борьба за сердца читателей в конце концов. Кто хорошо написал — тот и молодец. Без соревновательности это действительно будет какое-то достаточно скучное занятие.
«Читая «ЖД», убедился, насколько важно для достоверности реальное знание фактуры. Атака «новобранцев-тапочников» — это маркер того, что автор знаком с армией не понаслышке, — да, знаком. Осталось ощущение, что, выписывая концовку, автор отступил от первоначального замысла».
Я много раз рассказывал эту историю, когда Чингиз Айтматов мне придумал другую концовку, и я ему за это очень благодарен. Я ему сказал, как бы я на его месте закончил «Тавро Кассандры». Там история о том, как пожилая пара заводит ребёнка. Это их единственный шанс завести этого ребёнка. А при обследовании выясняется, что этот ребёнок родится или гением, или монстром — и его решают уничтожить. И они сбегают. Ну, там этот космонавт-монах открыл способ находить на ребёнке вот это тавро Кассандры — жёлтое пятно на лбу, которое показывает, что родится либо гений, либо злодей. Человечество оказывается к этому не готовым, и он скрывает свой секрет. Но сама идея мне очень понравилась.
Я говорю: «Вот представьте себе такой роман, где эти двое убегают…» Их все преследуют, она беременная, немолода она, ей сорок, ей трудно бежать. Они забрались в горы, и там в хижине пастуха она родила ребёнка, по виду которого сразу стало ясно, что пришёл Антихрист, пришёл демонический красавец. «Но после того, как их травили на протяжении полромана, становится понятно: этому мир так и надо. Вот почему бы вам не сделать такую концовку?» Он подумал и сказал: «Представляешь, как было бы интересно, если их травят, они бегут, а родится не антихрист, а родится нормальный ребёнок, абсолютно здоровый. Причём и не гений, и не злодей, а никакой вообще, просто обычный. Попробуй над этим подумать, это гораздо красивее».
И сразу он набросал мне несколько линий. Я говорю: «Ну так чего? Может быть, вы напишете такое?» Он говорит: «Сам напиши. Считай, что я тебе подарил». Я подумал-подумал, и мне показалось, что так действительно интереснее. Айтматов же действительно был человек очень творческий, он любил выдумывать сюжеты и раздаривать. И я действительно сделал не ту концовку. Сначала Аша рожала антихриста. А потом я подумал — и она родила нормального человека.
«Не шокирует ли вас чувство русского языка в рекламе программы «О́дин»?» Нет абсолютно. Мне даже как-то лестно.
Тут кто-то подумает, что я из-за трусости не отвечаю на вопросы о Кадырове. Что отвечать? Ситуация ясна. Задавать вопросы в ситуации, когда всё понятно, — это, по-моему, неэтично. Мы же всё с вами понимаем. Каждый, как умеет, противостоит этой ситуации. А говорить о том, что сделать, какие ответные перформансы предпринять с тортами — мне кажется, это значит становиться на тот же уровень. Когда мы видим нечто недостойное, здесь выход всегда может быть один: предъявлять нечто достойное.
«С детства люблю Карела Чапека, регулярно перечитываю сам и буду перечитывать детям. Как полный профан в литературе могу судить о его достоинствах только по удовольствию, которое он мне доставляет, — и прекрасно делаете, дорогой x_ray! Это единственный способ судить о литературе. — Вижу трёх разных авторов: замечательный драматург, гениальный рассказчик и несколько затянутый и нудноватый романист. Что вы скажете по этому поводу?»
Я никогда его не считал нудноватым романистом. Более того, так называемая «философская трилогия» — «Кракатит», «Гордуба́л» (или «Горду́бал») и «Метеор» — это было для меня сильным откровением в детстве, а особенно «Метеор», из которого вырос потом и «Английский пациент», и очень многое. А сам «Метеор» в свою очередь вырос из рассказа Горького «О тараканах». Там есть труп, и люди пытаются реконструировать его жизнь, схема простая. Но мне нравится Чапек. Когда мне было лет двенадцать, «Война с саламандрами» действовала ну просто магически, хотя я сейчас понимаю, что она фельетонно написана. А «Кракатит» — вообще потрясающий роман. Ребята, он такой добрый, умный, в нём такой стресс содержится. Все кошмары ХХ века в нём так предсказаны, так поймана безумная атмосфера 20-х. Нет, он молодец, конечно.
Рассказы я тоже очень люблю, но они как раз, по-моему, немножко честертонианские, они несколько вторичные. А вот в романах он очень силён. Главное — он действительное гениальный драматург («Мать», «Белая болезнь»). Ну, вот такую пьесу, как «Мать», поди напиши, да? «Дети! Малые шалунишки! Иди!» — и даёт ему эту винтовку в финале! «Кадеты! Родина передаёт вам последний привет!» Помните эту сцену? Я это всё представляю, потому что я читал эту вещь. Но если бы я увидел это на сцене, там были бы вообще слёзы градом. Не ставят, не ставят, слабо́. А какая современная вещь на самом деле!
«Смотрели ли вы сериал «Школа»? Пару слов о нём». Смотрел. Талантливо очень сделано, физиологично, замечательное физиологическое отвращение к миру, боль. Я очень люблю Гай Германику вообще, она умная.
«Вдогонку за «Евангелием от Фомы». «Всемирная история в романах»… Эмилио Сальгари, «Последние флибустьеры». Что вы можете сказать о Сальгари, которого я раньше не отличал от Сабатини?» Я вообще Сальгари никогда не читал. Прочитаю — скажу.
«Дмитрий Львович, у вас солидный опыт вступления в браки. Посоветуйте. Мне 29 лет. Подруга настойчиво говорит о помоловке, — хорошо звучит «помоловка». Это значит для вас, как помол. Вы действительно описались по Фрейду. — Делать предложение или повременить? Стоит ли перешагивать себя в этом вопросе?»
Знаете, у меня нет солидного опыта вступления в браки, увы (хотя полагаю, что именно ради этой фразы и задан весь вопрос). У меня был кратковременный студенческий брак. Мы с Надей сохранили очень тёплые отношения. Надька, привет тебе! Она счастлива в своём браке, я — в своём. А потом у меня был брак, в котором я уже 20 лет, и как-то не испытываю по этому поводу никаких особых мучений. Не знаю, какие планы у Лукьяновой, но у меня нет никаких таких планов увеличивать опыт. Поэтому я скажу со всей откровенностью, что я здесь плохой советчик. А вообще мне кажется, что если человек в 29 лет не женат, то он, по-моему, зря это делает. По-моему, ему надо этот опыт получить и как-то что-то в себе переменить.
«Случайно посмотрели фильм «Гражданин поэт. Прогон года». Совершенно очарованы вашей матушкой. Вы сами подвижнически популяризируете литературу, — спасибо. — Нет ли задумки записать уроки литературы Натальи Иосифовны по школьной программе?»
Конечно есть! Я сто лет с ней об этом говорю и всячески её пытаюсь заставить это сделать, но очень трудно. У неё есть принципиальная установка — не записываться, не сниматься. Ей это не хочется, не интересно. Она и в телепрограммах участвует крайне неохотно, когда её довольно часто приглашают в качестве эксперта. Она считает, что контакт учителя с классом, учителя с учеником — это вещь достаточно интимная, и телевидение это разрушит. Я не теряю надежды, чтобы несколько её лекций всё-таки записать.
Хороший вопрос про «Незнайку на Луне», но в нём уже содержится ответ.
«В 1965 году я прочитал роман «Наследник из Калькутты» Роберта Штильмарка. Тогда молодёжь зачитывалась этой книгой. В предисловии была описана романтическая история её создания. Оказывается, автор — участник войны и писал этот роман в ГУЛАГе, где сидел по политической статье, под давлением своего непосредственного начальника, которого вынужден был записать в соавторы. Надо, чтобы сверстники, которые зачитывались романом, знали, как всё было на самом деле».
Анатолий, во-первых, там всё понятно. Когда была идея экранизировать «Наследника из Калькутты», я предполагал писать сценарий в двух планах, в двух плоскостях. К сожалению, это предложение было отвергнуто. Половина действия происходит в лагере, где Штильмарк пишет роман, а половина — на судне, где капитан Бернардито рулит своими голодранцами-оборванцами, причём и пиратов, и лагерников играют одни и те же артисты. То есть совершенно понятно, что прототипами этих пиратских нравов были люди с зоны; советские лагерные нравы, гулаговские. Это действительно лагерная проза, но при этом тут надо вот какую вещь… Там в конце у меня было очень хорошо придумано, когда Штильмарк уходит на свободу, освобождается, а капитан Бернардито причаливает в магаданский порт и забирает его с собой.
Там история была какая? Я бы, кстати, не сказал, что Василевский (официальный соавтор) так уж Штильмарку повредил. Василевский немного двинулся рассудком. Он себе придумал такую историю, что Сталин очень любит исторические романы. И вот он сейчас напишет исторический роман (точнее, зэк за него напишет), он этот роман отошлёт Сталину — и получит Сталинскую премию, и прославится, и будет пожизненно обеспечен. Как ни странно, роман действительно был издан и имел огромный успех, и он вышел под двумя фамилиями. Под это дело он выделил Штильмарку угол, освободил его от всех работ. Настреляли колонков, сделали колонковые кисты и ими выполнили роскошные иллюстрации. И действительно убористым почерком переписанные три толстенных папки ушли к Сталину, но Сталин за это время умер. История и гомерическая, и трагическая. И, конечно, Василевский не имеет никаких прав на роман, но надо отметить, что жизнь Штильмарку он, может быть, и спас.
Перерыв на три минуты.
НОВОСТИ
Д. Быков― Продолжаем разговор, программа «Один».
«Позвольте поблагодарить… — и вас позвольте поблагодарить. — Уже два года читаю «Человеческую комедию». Сначала все прочитанные вещи впечатляли («Отец Горио», «Евгения Гранде», «Утраченные иллюзии»), но уже «Блеск и нищета» показалась неровной с путаной и разухабистой первой половиной. «Тридцатилетняя женщина» откровенно разочаровала. «Сельский врач» оставил смешанные впечатления. Какие романы Бальзака вы бы рекомендовали?»
Видите ли, какая штука опять-таки. Бальзак, как и Достоевский, кстати (а Достоевский, как вы знаете, его очень любил, переводил «Евгению Гранде»), он первую половину своего пути образцово владел своими художественными способностями и всеми своими ресурсами, но потом как-то это разбренчалось — и дальше, естественно, пошли книги неровные. «Братья Карамазовы» — великая, но неровная книга. Точно так же главный центральный двухтомный роман «Блеск и нищета куртизанок», конечно, тяжеловат. Бальзак действительно гениален в «Отце Горио», которого я ставлю выше всего. Но я люблю и ранние рассказы, типа «Дом кошки, играющей в мяч». Но лучшие его вещи, как мне кажется, — эти странные, мистические, вроде «Неведомого шедевра». Ужасно мне нравятся «Озорные рассказы», кстати. А что касается «Шагреневой кожи», то я недавно её перечитал. Ну, напыщенная вещь! Конечно, она плохо написана, но ничего не сделаешь. Вот «Отец Горио» и «Евгения Гранде». А особенно, помните, когда она в финале даже начала немного заикаться: «Я п-п-подумаю». Это превосходная вещь!
«Если характеризовать люденов как людей воспитанных, выходит, что это всё-таки эволюционная ступень, и базируется она на достижении в голове некоей критической массы европейских ценностей?»
Да не европейских, вот в том-то и дело! Вы правильно говорите, что среди традиционных, традиционалистских культур люден маловероятен. Это он пока маловероятен, но, в принципе, чем резче скачок, рывок… Я, кстати, говорил с детьми-школьниками об этом парадоксе, и они тоже очень удивились. Обратите внимание, что наиболее бурно и ярко модерн цветёт в тех культурах, где сильнее всего традиционалистское, архаическое начало. Это Япония, где Акутагава. Не он один, а вообще весь «Кружок белой обезьяны» замечательный, но Акутагава, конечно, номер один. Это Норвегия и вообще Скандинавия с их архаикой. Это Россия наконец с её бурным Серебряным веком. Это Германия — Кафка, пожалуйста. Потому что чем сильнее разрыв модерниста с традиционной культурной (наиболее отчётливо выраженный, конечно, у Кафки в «Письме к отцу»), тем сильнее механизм вины, вот это чувство вины, которое порождает интереснейшие комплексы. И под чем большим давлением происходит этот разрыв, тем, конечно, сильнее художественный результат.
И Кафка, и Акутагава — такое ощущение, что это два брата-близнеца. Они очень похожи своими традиционалистскими притчами, которые вместе с тем абсолютно взрывают традицию, превращают её в противоположность, выворачивают её наизнанку. Я говорю, конечно, о традиции иудейской и немецкой у Кафки, потому что он же говорил: «Я — странная птица. Я нигде не свой». Это же касается и Гамсуна, который рвёт с традицией и возвращается к ней. Его роман — это особая и долгая история. Это особенно касается и Ибсена, конечно. То есть чем традиционнее культура, тем больше шансов, что на её почве вырастет люден.
«Что вы думаете о феномене интернет-мемов?» Да я не очень много об этом думаю. Это смешно, по крайней мере, забавно.
«Поделитесь мыслями о романе Евгения Чижова «Перевод с подстрочника». Не кажется ли вам, что он становится всё более актуальным?»
Да нет. Это, кстати, действительно очень хороший роман Евгения Чижова, изданный в «АСТ» года четыре назад. Прекрасная книга о том, как переводить восточного тирана в бывшую среднеазиатскую республику едет современный поэт-конформист, надеясь там подзаработать, а в результате он гибнет в этой республике, потому что его засасывает это чудовищное болото нового тоталитаризма. Это очень жестокая и правдивая книга, и все мы понимаем, о каком эпизоде идёт речь. Но интересно здесь другое. Интересно то, что Чижов написал прекрасно сделанную книгу с грамотной и цельной композицией, с живым героем, с удивительно точно переданной атмосферой этого сладкого страха. Ну, конечно, это немножко похоже на трифоновские «Предварительные итоги», но тем интереснее. И почти никто эту книгу не то чтобы не заметил, её заметили, но как-то она… Хотя, на мой взгляд, водолазкинский «Лавр» ей серьёзно уступает, но почему-то роман Чижова не пришёлся ко двору. Наверное, потому, что он слишком гармоничен, слишком пропорционален.
Вот тут мы сейчас с Андреем, сынком моим, обсуждали для «Новой газеты», какие стартапы в искусстве имеют наибольшие шансы на успех. И он сказал, что вещь хорошо сделанная, вещь просчитанная таковых шансов не имеет. Должны быть очень серьёзные недочёты и какие-то внутренние неправильные соотношения, диспропорции — как в творчестве Лизы Монеточки, например. Мне кажется, что здесь нечто подобное. Вот слишком хорош этот роман. Точно так же, по-моему, самый совершенный фильм Чаплина — это «Месье Верду». И именно он имел наименьший успех.
«Сталкивались ли вы с произведениями авторов, у которых в основу сюжета легла идея о победившем в мире коммунизме?» Да сколько угодно — начиная с «Тоста» Куприна, продолжая «Мы» Замятина и кончая совершенно утопическими сочинениями Николая Трублаини. Нет, очень много было таких книг.
«Как по-вашему, в «Статском советнике» Михалков играет положительного или отрицательного персонажа? Понятно по сюжету, что он антагонист, но Никита Сергеевич явно не заморачивается и просто даёт бесогона». Нет, он играет именно обаяние власти, обаяние зла. Он всё понимает прекрасно, и именно это он играет. Я говорю, что эти люди всё понимают. Они получают наслаждение от сознательных упражнений во зле. У них нет заблуждений ни этических, ни эстетических.
«Почему среди известных писательниц-классиков преобладают британки: Шелли, Остин, сёстры Бронте, Элиот, дю Морье, Мёрдок, Кристи? Здесь феномен или историческая закономерность? Если можно, небольшую лекцию о Дафне дю Морье».
Я действительно очень люблю Дафну дю Морье, часто использовал её в виде эпиграфов (во всяком случае, совершенно точно в одном стихотворении и в одном романе), много её цитирую. Я вообще люблю дю Морье, это просто для меня эталонный писатель.
Почему женщины? А это довольно легко объяснить как раз. Помните, как писал Добролюбов в «Луче света в тёмном царстве»: «Самый сильный стон вырывается из самой слабой груди». Здесь тот самый феномен: чем больше давление традиции, тем больше ответное сопротивление. Сёстры Бронте, которые жили в страшных условиях — в ледяном доме при деспотичном отце, давление предрассудков в обществе очень сильное, естественно. И потом, обратите внимание, что все эти авторы пишут о гибких, мягких, ползучих техниках противостояния злу. Вот когда-то Максим Суханов обратил моё внимание на это. Он сказал, что сетевые техники и вообще сетевая, мягкая сила — это женщины; и мы живём во всё более женском мире. Это очень интересно, очень характерно.
«С каким из персонажей книги «Над кукушкиным гнездом» вы себя ассоциируете?»
Вот уж ни с каким! И ни с кем не хотел бы. И я вам скажу больше. В этом выморочном, больном мире — в мире лечебницы для душевнобольных, где вдобавок правит тоталитарная медсестра — не может быть ни добра, ни правды, а протест там принимает крайне уродливые формы. Поэтому ни с кем я себя не ассоциирую из них. И мне вообще не нравится эта книга, хотя я признаю её великой.
«Интересно ваше мнение как сторонника теории цикличности российской истории. Сложно отрицать, что сейчас с пугающей идентичностью происходит абсолютно то же самое, что и сто лет назад. Собственно вопрос в том, кто может стать Лениным нашего времени».
Это и для меня вопрос, но вы легко на него ответите, если проследите аналогии. Наиболее радикальные сторонники прогресса и наиболее радикальные… не скажу, что аморалисты, но прагматики. К тому же у меня есть сильное подозрение, что Ленин сейчас может находиться только или в глубоком подполье, или за границей. Мы не знаем этого человека. Если бы кто-то нам сказал в 1915 году, что Ленин будет диктатором в России два года спустя, его бы подняли на смех.
«Собянин снёс «ларьки Пандоры». Власть объявила свои постановления бумажками. Гербовая бумага стала туалетной».
Пока ещё нет, но произошло очень важное явление. Повторяется солженицынский тезис о воронке, когда каждый шаг хуже предыдущего, это такой цугцванг. Понимаете, необязательно сейчас было сносить эти ларьки, но это добавлена эстетически важная красочка. Вот эти побоища и эти погромные кучи дерева и железа около метро сегодняшней Москве добавляют инфернальности. И, конечно, эстетически они совершенно неизбежны.
«Каково ваше мнение о творчестве Нила Геймана?»
Он хороший писатель. Тут сравнивают «Американских богов» с «Чёрной башней». «Чёрная башня» — самое слабое произведение Кинга, как мне кажется. Главный наш специалист по Кингу Эрлихман не согласен со мной, и Вебер не согласен, а я считаю, что это слабая книга, поэтому чего и хвалить? У Нила Геймана есть замечательные прорывы, он бывает очень остроумен и мил, но в целом, конечно, это сироп. По-моему, это сироп.
«Как правильнее говорить с детьми о смерти — с помощью метафор или максимально просто и конкретно?»
Я даже не знаю, какая здесь может быть метафора. Только, может быть, зерно. Как раз в том фильме, который я сегодня смотрел, есть сцена, где замечательный разговор о тысячелетней пшенице, 3 тысячи лет пролежавшей в земле, а вот сейчас она дала всходы. Может быть, да, «падши в землю, не умрёт». Но вообще мне кажется, что надо просто объяснить ребёнку, что смерть заслуживает уважения, заслуживает вкуса, эстетики, стилистической цельности (то есть чтобы над ней, по крайней мере, не измываться), но она совершенно не заслуживает слишком серьёзного к себе отношения, поскольку для души её нет. Душа должна игнорировать смерть, потому что душа со смертью несовместима. Душа есть то, что бессмертно. Так объяснял бы я.
«Вы жизнелюб и в каком-то смысле живёте вне времени в мире изящного, вечного, — да какой уж я жизнелюб? Я просто не считаю полезным расчёсывать свои язвы. — Как быть простым смертным? — куда проще меня. — Как подзарядиться жизнелюбием и желанием желать?»
Надо любить кого-то, наверное. Не надо пренебрегать такими вещами, как женская любовь, как дружба. Наконец, даже иногда не худо бывает «откупорить шампанского бутылку или перечесть «Женитьбу Фигаро». Но вообще Господь щадит обычно того, кто занят важным делом, а особенно если это дело интересно Господу. Старайтесь делать то, что будет интересно Господу (ну и то, что интересно вам). Старайтесь заниматься. Я же говорю, труд — это главный самогипноз.
«Каковы творческие планы?» Вот «Маяковский» выйдет уже в марте, и мы сможем выслушать всё, что хотим.
«Как вы относитесь к событиям 3–4 октября 1993 года в Москве? Где вы были в те дни?»
В те времена сложилась уродливая ситуация, и правильного этического выбора тогда не было. Мне не нравилась только надсхваточная позиция, вот она мне казалась совершенно аморальной. Где я был? Я через московский зоопарк, через вольер с жирафами по заданию родной газеты «Собеседник» вместе с армейским другом Павлом Аншуковым пробивался к «Хаммер-центру», чтобы снять репортаж и написать о перестрелке, которая там происходила. Да, было такое дело. До сих пор весь этот абсурд — Пашка, жирафы — я очень живо всё это помню.
«Считаете ли вы Кронина крупным писателем?» Ну, хороший писатель. «Цитадель», «Звёзды смотрят вниз».
«Концерт группы «Машина времени» в Екатеринбурге не состоится из-за распоряжения властей. Ваше мнение об этом, Дмитрий?»
Я уж не знаю, кто там отдавал распоряжение. Меня очень смутило, что пресс-секретарь Холманского мало того что всячески унизил Макаревича, как мне кажется (это моё оценочное суждение), но он ещё и пообещал на него в суд подать за клевету. И концерт запретили (не знаю, Холманский или кто-нибудь другой), и за клевету ещё. Это называется «бьют и плакать не дают». А вообще мне кажется, что Макаревича бояться не нужно. Если люди боятся Макаревича, то как они хотят нас защищать от кошмаров Третьей мировой войны?
«Надеюсь, что не вторгаюсь своим вопросом в вашу личную жизнь. Вы воцерковлённый человек, как часто бываете в храме?»
Вторгаетесь. Я не люблю разговоров об интимном. Уж мне проще поговорить о любви, нежели о вере. Помню, у меня была теоретическая дискуссия с Сергеем Худиевым, и он сразу же спросил, когда я последний раз причащался. Это не метод. Это не дискуссия.
«При попытке трудоустройства мне в кадрах открытым текстом заявили о нежелательности моего места рождения (Львов) и фамилии на «ко», а уж про отчество и говорить нечего. Предприятие — государственная крупная больница. Это при моем сорокалетнем стаже на территории своего российского города».
О такой ситуации только что рассказали на «Эхе». Я думаю, что вам следовало бы просто обратиться в вышестоящую инстанцию. Вот в таких случаях отступать нельзя.
«Стихи пытался читать, но это не моё. Я к этому отношусь спокойно и принимаю это как данность. Наверное, так оно и останется».
Как говорил Николай Петров — донашивайте. Я не выступаю против этого. Когда-то Кушнер сказал: «Стихи — архаика. И скоро их не будет». Зачем любить стихи? Я не понимаю других жанров. Например, я не очень разбираюсь в демотиваторах. От сына я недавно узнал, что бывает полисиллабическая рифма в рэпе. Рэп я вообще терпеть не могу. Ну, кому-то не нравятся стихи — нормально. А кто-то кино не любит — ничего не поделаешь. Стихи — это действительно не для всех. И для всех оно быть и не должно.
«Открыл для себя Воробьёва, — спасибо. — Книги, продающиеся в электронных библиотеках под тегами «сверхспособности», «попаданцы», «становление героя», «альтернативная история» — это фантастика или нет?»
Да, конечно, это фантастика. Просто в своё время, я помню, Лазарчука и Успенского спрашивали: «Где тот центр управления фантастикой, который заставляет всех одновременно писать в жанре альтернативной истории?» Помните, была такая мода? Было ощущение, что просто всех запрограммировали, что компьютер встроили. Альтернативная история — это мода, родившаяся в Штатах в 70-е годы. Вообще это наука в принципе, и у меня Волохов в «ЖД» как раз занимается этим как наукой. Она не имеет пока ещё статуса строгой научной дисциплины, но изучение исторических развилок — это очень дельная и полезная задача. Как говорит Александр… Владимир Шаров (сын Александр), прекрасный и историк: «История делается не на магистралях, а в тупиках и депо». Вот это, по-моему, верно.
«Как вы относитесь к Джону Ирвингу?» Да восторженно я отношусь к нему. И «Молитва об Оуэне Мини» — действительно прекрасный роман. Нет, это прекрасный писатель, но скучноватый немножко.
Просят лекцию про Богомолова, в смысле — «В августе 44-го…». Давайте, наверное. Это интересный роман во всяком случае.
«Смотрели ли вы фильм по роману «Ритуал» Дяченко?» Нет, не смотрел.
«Что бы вы могли посоветовать почитать о немецких концлагерях и о движении сопротивления в них?»
«Это мы, Господи!..» Константина Воробьёва. «Здравствуйте, пани Катерина!» и «Эльжуня» Ирошниковой. О Собиборе есть совершенно замечательные книги. Я уже говорил, «Скрижали из пепла», подготовленные Нерлером к печати. «Чёрную книгу», естественно. И Тадеуша Боровского — «Прощание с Марией» и «У нас в Аушвице…».
«Каково ваше отношение к творчеству Юлии Вознесенской?» Не читал, к сожалению. Почитаю обязательно.
«Ваша передача для многих как детектор лжи и орудие пыток. Она всех делает неравнодушными, все хотят высказаться». Да, спасибо. Я вообще замечал, что отношение ко мне… я не скажу, что это маркер, но оно довольно полярное: меня либо сильно любят, либо сильно не любят. Мне это нравится. И вообще приятно поляризовать.
«Какие перспективы у литературы будущего?» Да всё будет, как всегда. Ничего такого, что нас смущает, что нас изумляет, не будет.
Немножко поотвечаю на вопросы из почты, они в этот раз ещё более интересные, чем обычно. Сейчас, подождите. Очень много (к сожалению или к счастью — не знаю уж) вопросов о Ниле Геймане. Мне-то как раз Нил Гейман кажется довольно заурядным писателем, хотя чрезвычайно талантливым кинематографистом, талантливым сценаристом. Он пишет хорошие вещи для того, чтобы делать из этого кино. А вот как литератор… Понимаете, мне кажется, там язык недостаточно оригинален. Без этого я, к сожалению, прозы не принимаю.
Сейчас, секунду подождите, не могу никак войти в почту. Пока отвечаю на очень важный вопрос, как мне показалось, от человека, Сергей его зовут. Он страдает тяжёлой клинической депрессией (во всяком случае, ему поставлен такой диагноз) и спрашивает меня, что делать. Я ему ответил подробно сам и предложил несколько возможных работ (он без работы). У меня вообще есть ощущение, что это написано одной из моих добрых знакомых в порядке теста, но в любом случае я получаю много писем от людей, которые пишут: «Не могу встать с дивана. Не знаю, для чего». Прежде всего вам надо внушить себе… точнее, объяснить себе, что это не болезнь, а это норма. В снаряде, который стремительно несётся (не скажу куда), совершенно необязательно развивать большую активность.
«У меня недавно возник навязчивый соблазн совершить достаточно дурной поступок — вторгнуться в частную жизнь человека без его ведома. Пока я держусь, пытаюсь найти окончательный аргумент, который заставил бы меня воздержаться, но не нахожу. Все они неубедительные. В том числе возможность самому быть жертвой подобного вмешательства. Как бы вы для себя решили такую дилемму, когда понимаешь, что нехорошо, неправильно делать нечто, но очень уж тянет?»
Дорогой Р. Н., не делайте. Не делайте! Понимаете, если бы не было дьявола, не было бы соблазна. Соблазн есть всегда. И есть соблазн это совершить. Знаете, как говорил Уайльд? У него много есть гадостей, он иногда говорил вещи очень опасные. Он говорил: «Единственный способ победить соблазн — это поддаться ему». Не поддавайтесь! Хуже будет, вот клянусь вам. Дьявол именно и соблазняет нас наслаждением. Более того, он говорит: «В бездне, дружок, ты откроешь истину. Не согрешишь, не покаешься». В мусорном ведре истину не ищут. Бездна — это мусорное ведро на практике. Не надо, ничего не получится.
«Прочла «Оправдание», — спасибо. — Хотелось бы узнать ваше мнение о романе «Вера» Александра Снегирёва».
Это скорее конспект романа, как мне кажется, но интересный. Там есть, конечно, вещи слишком лобовые и простые, но вообще Снегирёв — талантливый человек. Понимаете, я не разделяю этого желания ругать его прозу. По-моему, слабая проза Снегирёва всё равно интереснее, чем сильная проза какого-нибудь ремесленника. Снегирёв не ремесленник, а он думающий человек. И мне многое в его романе интересно. Там много огульных ходов, но там есть мысли и наблюдения очень точные.
«Знакомы ли вы с Роббинсом? «Вилла «Инкогнито» и прочее». Не знаком, к сожалению.
«На каком писателе лучше узнавать современный английский?»
Если вас интересует именно современный, то уж во всяком случае не на Пинчоне, потому что это очень сложно. Знаете, когда я читал «Purity» Франзена… А мне пришлось её по-английски читать, потому что она по-русски ещё не вышла. Вот попробуйте на Франзене, у него язык хороший. Очень неплохой, кстати говоря, был язык у Гарднера («Никелевая гора» и прочее). Как мне кажется, очень неплохой был язык у Гэддиса, просто замечательный.
«Прекрасная, по-варяжски блестящая статья «Ковш русского экскаватора», — спасибо. Жаль, не моя. — Но ведь вы знали, что так будет? Одни превыше всего ставят ценности одной личности, другие — ценности всего стада. Это свидетельство эпохи?»
Да, это свидетельство ценностей эпохи, цельности эпохи. А я за это и люблю наше время — за наглядность. Когда-то Колмогоров говорил: «Чем хорош графический способ решения уравнений? Он просто и наглядный!» Я люблю наглядность. Понимаете, наша эпоха имеет то безусловное преимущество, что она наглядная.
Спрашивают дважды (и на форуме, и в почте): «Всегда отчим — отрицательный герой. А есть ли книги, где…»
В сказках я такого не припомню. Наверное, потому, что отчиму свойственно несколько как бы робеть. Правда, дровосек в «Золушке» был отчимом по отношению к Кубышке и Худышке, но он их любил. Понимаете, отчим всегда виноват немножко, как в фильме «Мама вышла замуж». Наверное, особо отрицательный отчим в «Лолите» и в «Даре». Других примеров не припомню. Наверное, действительно быть отчимом — это очень тяжёлый вызов, всегда чувствуешь себя как-то виноватым вдвойне. Но в литературе это никак не отражено. А, ещё есть замечательный же фильм «Отчим» Бертрана Блие с Патриком Девэром, очень интересная картина.
«Доминирование самцов над самками, даже по сравнению с обезьянами, особенно заметно у человекообразных приматов. Культ целомудрия — это всего лишь запрет инициативы всем, кроме самца-доминанта, даже не любого самца?»
Нет. Объясню вам, почему нет. Культ целомудрия имеет изнанку чисто эстетическую: чем сильнее запрет, тем сильнее страсть. Вообще любые запреты имеют по большому счёту только одну цель — разжигание потаённого инстинкта. Без борьбы нет победы. Если вы не боретесь с собой, с плотью, с соблазном зла, с соблазном воровства, бегства, трусости и так далее, если нет этой борьбы, то чего стоит жизнь? Поэтому соблазн целомудрия в данном случае… Хороший вопрос, попробую потом подумать о нём
«Что вы скажете о современной драматургии? Есть ли выдающиеся пьесы последних лет?»
Наверное, есть. В мире — я не знаю. Просто я не знаю мировую драматургию. Самая экзотическая книга, которая была в моём детстве, — это сборник японских радиопьес (кстати, очень недурных). А вот из тех, кто пишет сегодня в России… Ну, у Пряжко хорошая пьеса «Поля», по моим ощущениям. У Гришковца есть одна хорошая ранняя пьеса «Зима», к остальным я отношусь сложно. Я очень люблю всё, что пишет Ксения Драгунская. Ну, вы же видите, кстати, на мне и майка, которую она подарила, потому что мы с ней родились в один день — 20 декабря (правда, с небольшой разницей в годах). Драгунская — один из моих любимых писателей и драматургов. И особенно я люблю у неё «Яблочного вора», «Ощущение бороды», «Истребление». Совершенно изумительный «Кышкин». «Секрет русского камамбера» — какая прелестная и смешная пьеса! А вообще я в театре ничего не понимаю.
«Уважаемый Дмитрий Львович! Вот вы говорите, что конспирология не должна быть основой убеждений, однако генетика развивается экспоненциально, геном человека расшифровывается всё точнее. И скоро генетики научно докажут теорию Шаламова-Ломброзо, что блатные — не люди. Вы и тогда будете говорить о неплодотворности конспирологических убеждений?»
Буду. Знаете, вот эту мысль высказала Таня Друбич в интервью мне. Татьяна Друбич (даже я могу сказать Татьяна Люсьеновна, если хотите) — очень близкий, очень чтимый мною человек. Она биолог по образованию, доктор. И вот она мне сказала: «Когда-нибудь будет доказано, что как существуют разные породы собак, так и существуют разные породы людей. Одни способны на убийство, а другие — нет. Одним доставляет радость физическое насилие, а другим — нет. Это покажет, что мы все разные. И это заставит нас искать людей своей породы, своего карраса (по-воннегутовски)». Я ценю это как блистательную гипотезу, но я не могу с этим согласиться. Кроме того, конспирологический роман построен совсем не на том, что все люди разные. Он, наоборот, построен на том, что в мире возможно что-то организовать. А это неправда. Сейчас какой-то американец уже научно доказал, что любой заговор обречён на неудачу.
«Читали ли вы пост Дениса Драгунского в Facebook о «Жизни Клима Самгина»? Как прокомментируете его?»
Я читал его, да. Я вообще всё, что пишет Драгунский, и всё, что он говорит (а в особенности хорошего) обо мне, очень люблю. Но если говорить серьёзно, то я много раз говорил, что, на мой взгляд, Драгунский — это просто лучший сегодня живущий прозаик, поэтому я к его мнениям прислушиваюсь внимательно.
Что касается «Жизни Клима Самгина». Просто он ищет в этой книге не то, что там есть. Эта книга направлена на разоблачение одного чрезвычайно живучего типа, человека, который всегда говорит «мы говорили», который ничего из себя не представляет, но всегда умеет себя спозиционировать как осторожного и умного. Вот ради этого разоблачения написана книга. Поэтому там и все перехлёсты, и все мерзости, которые там есть. Знаете, читать это неприятно, это действительно как гранату глотаешь, потому что Самгин — это про себя. И в каждом из нас сидит Самгин. Но он и в Горьком был. Хотя, конечно, он не был, как многие утверждают, автопортретом, но Горький тоже умел подметить за людьми дурное и очень много думал о том, как он выглядит. Он всегда говорил: «Нельзя мне портить биографию! Хочу быть похороненным в приличном гробе», — помните, сказано в том самом рассказе «О тараканах». Это неприятная черта. Но Самгин — это такой омерзительный тип, что книга о нём не может быть хорошей. Там много лишнего, но вообще-то это замечательная книга. Такие персонажи, как Лидия Варавка, сделали бы честь, я думаю, любому.
Тут, кстати, спрашивают, что я думаю о Ромене Роллане. Вот Ромен Роллан мне кажется очень плохим писателем. Простите, мне стыдно! Добрым, талантливым, вдохновляющим, очень знающим, но страшно жидким, водянистым, очень восклицательным, очень пафосным. Кроме «Кола Брюньона», пожалуй, я ничего читать не могу. «Очарованная душа» в своё время мне была жутко скучна, хотя многие люди находили там тысячи заветных мыслей. А как можно прочитать «Жана-Кристофа» — это, ребята, честно, я не знаю. Ну, есть такие герои.
«Как вы относитесь к резким оценкам Айдера Муждабаева в адрес Навального?» Сейчас невозможны в больном обществе нормальные отношения. Все ищут своих, чужих, все друг в друга кидаются чем-то. Выморочная ситуация, поэтому не может быть нормальных дискуссий. Это всё пройдёт.
Вот уточняют — Наживин в 1874 году родился. Спасибо большое.
«Вопрос из Литвы. Что вы думаете о Джоне Барте, а особенно о романах «Плавучая опера» и «Конец дороги»?» Знаете, никогда не мог дочитать. Ну никогда! Это мой грех. Честное слово, я к этому вернусь и дочитаю обязательно.
«Как вы относитесь к творчеству Леонида Филатова как поэта?» Восторженно отношусь. Я очень любил его стихи.
«Мне 16 лет. И почему-то в столь раннем возрасте…»
К сожалению, делаем паузу на три минуты.
РЕКЛАМА
Д. Быков― Поехали дальше! Последняя четверть эфира.
Спрашивает Миша Васильев (фамилия изменена в целях конспирологии): «Мне 16 лет. Почему-то в столь раннем возрасте живу с ощущением того, что просто недостоин жить. Сравниваю себя с великими личностями и чувствую, что все возможности ускользают из моих рук. Если мне везёт, отказываюсь, отдавая другим, так как есть люди лучше меня, которые более достойные. Как это объяснить? Может, со мной что-то не так?»
Да нет, Миша, всё с вами так. Какой-то вы, Миша, д’Артаньян, «мне 19 лет — и ничего не сделано для славы». Всё будет. Что касается вашей уступчивости, то это вы просто ещё не встретили того, что вам нужно. Когда вы увидите своё, то вцепитесь так, что за уши не оттащишь.
Тоже ещё один хороший человек, Андрей, спрашивает: «Каким образом мне определиться? Мне кажется, что я никакой. Я слишком часто соглашаюсь с другими. Я конформист».
Это просто вас ещё жизнь не взяла за хобот. Помните у Кафки рассказ «Голодарь»? «Почему я голодаю? Потому что я до сих пор не нашёл той еды, которая была бы мне по вкусу». Мой любимый рассказ, один из любимых. Вы просто ещё не нашли того, что бы вас по-настоящему сильно задевало. Как только найдёте, тут уже не оттащишь — сработают рефлексы.
«С горечью вижу в себе Зелига». Очень большой соблазн — всё время подделываться под чужие мнения. Но это просто вы ещё не упёрлись в какую-то необходимость.
«Интересно услышать ваше мнение о творчестве Льва Кассиля».
Ну, творчество как творчество. У него была прекрасная повесть о Гайдаре, «Дорогие мои мальчишки», где образ Гайдара, его талант как бы подсвечивает прозу Кассиля самого. Он был хороший человек. По-моему, единственная его настоящая литературная неудача — это «Кондуит и Швамбрания». Его спортивные вещи очень скучные (для меня во всяком случае), типа «Вратарь республики». Совсем неудачной мне кажется его повесть о Джунгахоре «Будьте готовы, Ваше высочество!». Неплохая вещь, в детстве мне нравилась — «Великое противостояние».
Тут вопрос, что мальчик растёт очень мрачным, скучным. «Что ему дать почитать? А то он слишком разочаровывается от жестокого мира».
Знаете, а может быть, это и нормальное состояние для 15–17 лет? Может быть, ничего ему и не надо такого давать почитать? В принципе, «Над пропастью во ржи». Если он правильно прочитает книгу, он поймёт, насколько это смешно, насколько это глупо, насколько смешна эта подростковая высокомерность.
«Чехов рекомендовал играть «Чайку» как комедию, а для меня комедия — «Три сестры». Постановки этой пьесы, которые я знаю, — печальные размышления об интеллигенции в провинции. Неужели никто не видит, насколько смешны все персонажи?» Конечно, смешны, гротескны. Конечно, надо Чехова играть как комедию. Понимаете, это он просто очень далеко ушёл.
«В одном из эфиров вы вскользь упомянули о том, что сталкивались с тревожно-депрессивным расстройством. Поделитесь вашим опытом преодоления недуга».
Есть три способа. Не знаю, в какой степени они вам помогут, потому что тут такая штука. Понимаете, зубная боль — это вещь, от которой очень трудно отвлечься. Вот примерно такого же типа тревожно-депрессивное расстройство. Это совсем не то, что описано у Стайрона в «Зримой тьме» («Darkness Visible»), а это совсем другое явление. Это когда вас всё время колотит, всё время вы испытываете так называемые непривязанные беспокойства. Вы ждёте удара, вы загнанно смотрите на людей. Чувствуя эту загнанность, они начинают к вам соответственно относиться.
Первое средство, которое приходит на ум, — простите, медикаментозное. Ничего не придумано лучше, нежели в этой ситуации всё-таки подсесть временно на нормальное медикаментозное лечение. А чего мучиться-то? Когда у вас болит голова, вы пьёте анальгин? Есть такое лечение. Есть «Ксанакс», но кому-то «Ксанакс» не нравится. Есть всяческие и другие препараты-релаксанты. Есть другие какие-то техники психологические. В общем, без специалиста это не рассосётся. Это первый способ.
Второй. Понимаете, страх вытесняется даже не любовью, а только злобой, сильным раздражением. Введите себя в состояние злобы, боевитости. Это можно сделать.
И третий способ. Естественно, что тревожно-депрессивное расстройство абсолютно исчезает у человека, который перемещается в другую среду, едет путешествовать и вообще меняет обстановку. Кто вам сказал, что вы обязаны сидеть дома? Соберите последние деньги и поезжайте к морю. И много есть ещё чудес господних. Не ограничивайте свой мир вот этой вонючей клеткой, куда вас загнала депрессия. Я уже не говорю о том, что можно работать. Работа лечит. Но для того, чтобы заставить себя в этом состоянии заниматься работой, надо совершить над собой сверхусилия. Гимнастика лечит от всего, но гимнастикой не каждый может заниматься, не каждый может скакать на брусьях. Но в любом случае просто смените обстановку резко, уезжайте. И не думайте, что вам не хватит денег. Господь на такие вещи даёт. А в принципе — медикаменты или всё-таки профессиональная помощь психолога. Не следует думать, что зубную боль можно вылечить путём за́говора… загово́ра.
Теперь — Горенштейн.
Я уже говорил о том, что мне представляется очень неслучайным сегодняшнее внимание к его творчеству. Фридрих Горенштейн — писатель, который при жизни опубликовал единственный в России рассказ «Дом с башенкой», который в «Юности» вызвал ажиотаж настоящий. Потом он больше ничего не мог напечатать. Бортанули его повесть «Зима 53-го года», которая была в шаге от публикации. Но в результате он реализовался как сценарист. Он был сценаристом Тарковского, написал «Солярис». Он написал «Раба любви» для Михалкова. Он работал для Али Хамраева. В конце концов, он написал замечательный сценарий «Ариэль» (не поставленный). «Седьмая пуля» — это тоже он. В общем, Горенштейн довольно много написал, он жил на сценарии. Он был неприятный человек, неприятный даже физически. Отталкивающей была его манера есть, говорить, его агрессия, его страшная обидчивость. Но тем тоньше, тем нежнее казалась в этой горе плоти его трагическая душа.
Я думаю, что самое исповедальное, самое по-настоящему искреннее произведение Горенштейна — это «Бердичев», замечательная драматическая повесть-пьеса о такой фанатичной партийке и при этом трогательной еврейке, всегда одинокой, Рахили. Атмосфера жизни Бердичева там прекрасная: замечательная ненависть к евреям, которые пытаются понравиться русским, которые всё время заискивают перед ними, унижаются. И вообще мне кажется, что Горенштейн недолюбливал евреев-ассимилянтов, любил иудеев и уж точно ненавидел выкрестов, они ему казались конформистами. Но суть его творчества не в этом. Хотя еврейский вопрос очень важен для Горенштейна, но он один из тех немногих, для кого еврейский вопрос — это всё-таки частный случай, одно из вечных проявлений божественной несправедливости.
По Горенштейну, мир — это неуютное место, созданное злым Богом; и задача людей — своими поступками, своими страданиями, своими победами над собой, если угодно, искупить это зло. Собственно в этом и смысл названия повести «Искупление». Я очень долго думал: а в чём смысл этой повести, про что она? Она про то, что мир, скатившийся в нравственную и в военную катастрофу, можно спасти только одним способом — когда страдания человечества и когда подвиги человечества перевесят на этих весах, тогда чаша грехов пойдёт вниз… точнее, наоборот, чаша грехов пойдёт вверх, а чаша страданий и подвигов перевесит. Нужно искупление. Людям нужно стать людьми — и тогда долгая ночь сменится рассветом. Эта концепция очень спорная, но это концепция, из которой так или иначе вытекает всё, написанное Горенштейном. Мир Горенштейна — это ад. В этом мире правит Дан, Аспид, Антихрист из его романа «Псалом». Это каратель. Каратель идёт по земле, и наказывает человечество, и разрушает всё на своём пути. И есть только один способ противостоять злу в мире — это пытаться перевесить его, пытаться его превзойти.
Об этом весь Горенштейн — вплоть до самых бытовых вещей, вплоть до рассказа «С кошёлочкой». Помните, там есть довольно-таки отвратительная старуха, которая с этой своей кошёлочкой (Горенштейн же вообще большой мастер в описании отвратительного) ходит и там прикупит кусочек мяска, там — фаршик, там — рыбки, там — яичек, творожку. Всё это описание такое мерзкое, отвратительное! Столько омерзения к этой плоти мира! Вот ходит эта старушка со своей кошёлочкой, которую и жалко, и которая противная страшно. Но потом она чувствует, что она теряет сознание в одной очереди, и попадает в больницу. И она больше всего боится, что она упустила свою кошёлочку, с которой она ходила за продуктами. А в конце дворник из её дома (по-моему, дворник) приносит ей в больницу эту кошёлочку, и она понимает, что в мире осталось какое-то добро. И вот эта смесь омерзения и сентиментальности (как у Петрушевской, но у Горенштейна резче, конечно, жёстче) для Горенштейна очень характерна.
Почему мир для Горенштейна определяется очень точно названием одного из его рассказов «Шампанское с желчью»? Да, действительное шампанское с желчью. Потому что, во-первых, мир лежит в грехе. Для этого достаточно прочитать эротическое повествование Горенштейна «Чок-Чок» — замечательную повесть именно о физической стороне любви, которая там истрактована как величайшая зависимость, величайшее рабство, грязь. Она очень хорошая, кстати. Она смешная, Горенштейн очень такой насмешливый и желчный действительно. Там замечательная история с влюблённостью главного героя в чешку, которая оказалась лесбиянкой. И она написала ему довольно снисходительное письмо, в котором сказала: «В мужчинах ничего нет. А ты вообще ничего не умеешь». И подписала: «Пусть у тебя будет красный живот», — имеется в виду «пусть у тебя будет прекрасная жизнь, хорошая жизнь». И вот этот красный живот сопровождает его всю дорогу как символ унижения окончательного. Там действительно есть такая точная метафора, что когда подросток подглядывает за совокупляющимися родителями, он видит что-то грязное, отвратительное, что-то похожее на чавкающее мясо.
Да, у Горенштейна есть к физической плоти мира вот такое отвращение. Перечитайте «Искупление». Посмотрите, с каким омерзением там описаны вот эти клопы, которые ползают по Сашеньке, этот вонючий приблудившийся к ним инвалид, который и неплохой сам по себе человек, но как все там противны! Мать, которая протаскивает какую-то еду, вынося её с базы продовольственной. То есть омерзение Горенштейна к плоти мира и вообще ко всему вещественному просто не знает границ. И я думаю, что таково же было его отвращение к себе.
Не забывайте, что он дебютировал в подпольной литературе, в самиздате с огромным романом 1974 года «Место», главный герой которого — вот этот Гога Цвибышев — он как раз всё время… Это отвратительный персонаж. Это редкий в русской литературе (как и Самгин) роман с отрицательным протагонистом. Это человек, который железными зубами выгрызает себе место сначала в провинции, а потом в Москве, место среди людей. Но обратите внимание, что в каждом из нас живёт этот Цвибышев.
Горенштейн подтверждает всей своей прозой давнюю закономерность, что русский писатель (а он именно большой русский писатель), начав с разоблачения порока, полюбляет этот порок в конце концов. И действительно книга «Место» написана, чтобы разоблачить Цвибышева, этого нового Растиньяка, но по ходу дела Горенштейн его полюбил. Поэтому роман и заканчивается словами: «И когда я заговорил, я понял, что Бог дал мне речь, Бог дал мне голос». У него действительно Цвибышев находит своё искупление в литературе, в способности рассказать; поскольку это рассказано, оно побеждено тем самым.
Конечно, Цвибышев, цепляющийся за койко-место, за место в городе, за место среди людей, мерзок. Но давайте вспомним, какова была его биография, через какие дикие унижения он прошёл. Он здесь тоже, кстати, абсолютно протагонист, абсолютно автобиографический герой, потому что у Горенштейна отца забрали, арестовали, мать умерла по дороге в эвакуацию, он жил у чужих людей, работал то инженером на шахте, то подёнщиком. Литературой он смог заниматься более или менее профессионально с 40 лет. Страшная жизнь, которая его так обтёсывала! И она была сопряжена с беспрерывными унижениями, с настоящей самоненавистью. И поэтому, конечно, Цвибышев в конце концов стал ему нравиться, он стал его любить. И, в общем, когда заканчиваем мы «Место», мы почти оправдываем его. Хотя я думаю, что «Место» — это самая тяжёлая из книг Горенштейна. Кстати, к вопросу о том, что тяжело читается. Она читается тяжело, потому что она ещё и противная. Понимаете, всё время похож пейзаж на то, как Аксёнов в «Победе» описывает послевоенное детство: жёлтый снег, неуют, всё тело чешется. Вот об этом.
Что ещё очень важно для Горенштейна? Я о содержательной стороне, о метафизической стороне его прозы особо-то распространяться и не хотел, потому что каждый сам для себя (тут, кстати, особый вопрос о героинях Горенштейна, о женщинах) будет решать, как ему это интерпретировать. Женщина для Горенштейна — вообще существо полярное. Она, по мнению какого-то француза (не помню какого), либо гораздо лучше мужчины, либо гораздо хуже. Либо это демоническая соблазнительница, сама плоть мира, которая тебя поглощает; либо это святая, что-то ангелическое. И найти какой-то промежуточный вариант у него очень трудно, он максималист. Но философское, метафизическое наполнение прозы Горенштейна не так для меня важно, как формальное её совершенство.
Горенштейн — писатель того же класса, что и Трифонов, я думаю. И даже иногда мне кажется, что он выше Аксёнова, например. Но меня удерживает только одно: Аксёнова читать и перечитывать приятно, а Горенштейна — нет. Но «Бердичев» можно. Для меня всё-таки удовольствие в литературе — очень важный фактор. Горенштейн не приносит нам удовольствия, но он открыл одну важную штуку: он понял, что в прозе (он об этом говорил в интервью Кучкиной, и вообще много говорил) ритм важнее, чем в поэзии. И вот ритм, дыхание прозы Горенштейна, почти библейской по своей простоте и, как выражался Пушкин, по своей библейской похабности, это дыхание его прозы — лучшее, что там есть.
Когда я вспоминаю, как я писал «Оправдание», например (грех себя упоминать, но это правда), больше всего я старался выползти из-под влияния Горенштейна, его прозы, но всё равно в первых главах она очень чувствуется. И слава богу, что никто не читал Горенштейна и об этом влиянии вслух не сказал.
Горенштейн пишет очень просто. Ему присущ пафос, называние вещей своими именами. Он пишет очень безжалостно. В его прозе много канцеляризмов, много советизмов (никогда не говорит «кого-нибудь», а всегда «кого-либо»). И вообще проза такая очень советская по фактуре, по языку. Но ритм её, дыхание её безусловно библейские. Вот это сочетание советской языковой ткани и библейского ритма, библейского темпа повествования, и при этом поразительная точность называния каких-то физиологизмов своими именами — это создаёт совершенно неповторимую ауру его прозы.
Что я советую у Горенштейна читать? В первую очередь, безусловно, пьесу «Детоубийца». Эта пьеса шла под названием «Государь наш, батюшка…» у Вахтангова, по-моему, в гениальной постановке Фоменко. Это лучшая историческая пьеса, написанная в России в ХХ веке. Конечно, «Бердичев». «Зима 53-го года» — конечно. И «Искупление» как лучшую его прозу. И цикл рассказов, написанных в советское время: «С кошёлочкой», «Искра»… Очень неплохой рассказ у него (забыл, как называется) про престарелых мать и дочь. По-моему, «Старушки»… Да, «Старушки» так и называется. «Шампанское с желчью», «Последнее лето на Волге», «Яков Каша», «Ступени» и вообще все рассказы и повести Горенштейна 70-х — начала 80-х годов. Это был его пик. Это не тот писатель, который вам будет повышать настроение, но он срезонирует с вашим отчаянием и в этом смысле будет целителен.
Напоследок вот какая вещь. Горенштейном, его творчеством, его пропагандой много занимается Юрий Векслер, которому я от души передаю привет и благодарность. Но у нас катастрофа с наследием Горенштейна. У нас до сих пор не издан в России его роман «На крестцах» — двухтомная в 17 актах пьеса по времени Ивана Грозного. Мне не нравится этот роман, но там есть сцены просто гениальные. Вот когда они там все засыпают… Они обсуждают во главе с Иоанном какую-то пыточную процедуру — и вдруг все засыпают! Это так здорово сделано! Такая будничность и такой гротеск одновременно! И там вообще есть сильные куски.
Не то что не издан, а не разобран, не переведён с рукописей его последний роман «Верёвочная книга», который он считал главным своим свершением. Очень много горенштейновских текстов до сих пор просто не издано в России. Я пытался это издать, но там издательство «Слово» запрашивает больших денег, потому что они вбухали сами большие деньги в расшифровку почти нечитаемых горенштейновских рукописей. Я думаю, надо убить много времени просто на то, чтобы расшифровать оставшиеся от него рукописи. В общем, наследием Горенштейна кто-то должен серьёзно заняться. И я очень призываю, to whom it may concern, всё-таки творчество этого большого писателя вернуть большому русскому читателю.
А вам большое спасибо, дорогие друзья! Услышимся через неделю.
*****************************************************
19 февраля 2016
-echo/
Д. Быков― Доброй ночи, дорогие друзья! С вами в студии Дмитрий Быков, «Один» — и, как всегда, не один, потому что вместе со мной на этот раз многие сотни увлекательных вопросов, на всё не успею.
Что касается лекции. Неожиданно пришло пять или даже, по-моему, шесть писем с просьбой сделать лекцию о Владимире Богомолове, авторе «Момента истины». Как это получилось, я совершенно не понимаю. Вообще для меня некоторая загадка — вот эта эволюция пожеланий, потому что вдруг внезапно в прошлый раз все захотели Горенштейна. Кстати, я, пользуясь случаем, передаю привет главному его пропагандисту Юрию Векслеру, снявшему замечательный фильм «Место Горенштейна», который я только что посмотрел. И я ужасно обрадовался подтверждению своих мыслей, что Горенштейн считает человека неудачным проектом, а мир — лежащим во зле. Прекрасно, что он там открытым текстом в последнем интервью об этом говорит.
Что касается Богомолова. Проще всего предположить, что так подействовал выход его трёхтомника в издательстве «ПРОЗАиК», где вышла наконец малая проза, большой роман «Жизнь моя, иль ты приснилась мне…», над которым он работал последние 20 лет (правда, он напечатан четыре года уже как), и, соответственно, «Момент истины», переизданный с большим количеством дополнительных материалов, а именно со всей перепиской, которую ему пришлось выдержать по поводу романа. Есть два трудных момента в разговоре о Богомолове.
Первый касается СМЕРШа. То есть, всё-таки служил ли он там — неизвестно. Я Василия Быкова как-то спрашивал, что он думает о Богомолове. Он назвал его писателем выдающегося таланта. Хотя апология СМЕРШа в «Моменте истины» его смутила, но всё равно на качестве книги это не сказалось. Он только сказал: «Никогда в нашем ветеранском сборище любом, когда собирались писатели-ветераны…» — тогда ещё довольно плотно общавшиеся — Бондарев, Быков, Бакланов — авторы, знаменитой прозы 50–60-х годов. Когда они сходились, Богомолов никогда не вспоминал о своём военном опыте. То ли этот опыт был так ужасен; то ли есть версия, что этого опыта просто не было, потому что Богомолов (а вообще настоящая фамилия была Войтинский) просто воспользовался чужими рассказами и выдумал себе всю эту биографию, а на самом деле на фронте не был. Такая версия тоже есть. Поверить в это я никак не могу, хотя это ничуть не умалило бы моей к нему… не скажу, что приязни (приязнь — здесь сложное дело), но моего к нему пиетета, потому что выдумать такую биографию целиком — это подвиг настоящий.
И надо вам сказать, что роман «Жизнь моя, иль ты приснилась мне…» я ставлю выше «Момента истины», потому что это, как называл Богомолов, «автобиография вымышленного лица». Придумать и так документировать, так глубоко фундировать биографию не существовавшего человека, который с личной судьбой Богомолова почти не имеет пересечений, — это колоссальный подвиг. Кстати, некоторые говорят, что Николай Островский всё выдумал в «Как закалялась сталь», а реальная его биография была гораздо более заурядной. Так это прибавляет мне уважения к нему, это прибавляет ему авторитета, потому что выдумать такое — это надо быть большим писателем.
Что касается собственно художественной стороны. Богомолов действительно заслуживает разговора. Второй трудный момент здесь — это его крайняя собственная закрытость. Я видел его единственный раз в жизни, в гостях, говорил с ним. И меня поразило, что этот человек, знавший наизусть, напамять такое количество документов, такое количество цифр, точной информации, действительно ничего не говорил о себе. Но можно, наверное, всё-таки попытаться анализировать те тексты, которые нам доступны, и из них сделать некоторые выводы. Ну, таких загадок в литературе очень много — радикальное, разительное несовпадение текста и автора. Мы знаем, например, шолоховский случай. И поэтому о Богомолове, естественно…
Те, кто знали Богомолова, знают его фанатизм в отстаивании собственной точки зрения, его абсолютную нетерпимость, его пристрастие к документализации каждого слова, подтверждения его документами, некоторую почти параноидальную дотошность (параноидальную, конечно, не в клиническом смысле, а в смысле абстрактно-психологическом). Он действительно не очень совпадает с той весёлой и азартной атмосферой, которая есть в «Моменте истины», с тем невероятным и пронзительным гуманизмом, который есть в «Иване» или в рассказе «Сердца моего боль». Ну, ничего не поделаешь, бывают такие скрытные люди. И вообще писатель не обязан походить на свои тексты. Посмотрите на Горенштейна и почитайте то, что он писал. Поэтому разговариваем о Богомолове.
Для начала я начинаю отвечать на вопросы, их очень много.
«Доброй ночи! — Наталия пишет. Вам тоже доброй ночи! — Андреев в «Розе Мира» писал, что миссия Лермонтова — одна из глубочайших загадок нашей культуры. Как вы с ней справляетесь? Чьё мнение вам ближе: Соловьёва, для которого Лермонтов — чудовище; или Мережковского, для которого Лермонтов — единственный не смирившийся в русской литературе?»
Мережковского, конечно. Я вообще считаю, что в «Вечных спутниках» о Пушкине, о Лермонтове (может быть, о Некрасове, кстати) сказаны самые точные слова.
«Можно ли воспринимать его творчество как спор с христианством?»
Как спор с христианством — конечно нет. Как некоторую эволюцию, как постепенный отход от христианства, как балансирование между исламом и христианством — да, пожалуй, потому что «…Небеса востока // Меня с ученьем их пророка // Невольно сблизили». Лермонтов интересовался исламом. «Фаталист» — последняя повесть «Героя [нашего времени]» — имеет серьёзные пересечения с исламским мировоззрением. Корни лермонтовского мировоззрения исламские. У меня была большая статья «Мцыри и Маугли: две инициации [колонизации]», как сейчас помню, в журнале «Русская литературе»… в журнале «Литература в школе». Там речь шла о том, что «Маугли» и «Мцыри» — это две противоположные стратегии в отношении завоёвываемых земель: Киплинг идёт на Восток учить, и Маугли идёт в джунгли как человека; а Мцыри идёт учиться, и Лермонтов идёт учиться на Восток, он идёт на Восток набираться тамошней мудрости. Обе эти стратегии отражены в его стихотворении «Спор». И спор этот не закончен, спор Востока и Запада исторически длится. Вот в этом и трудность оценки Лермонтова.
«Может быть, сделаете лекцию? Было бы здорово! И интересно сравнение с Байроном».
Наташа, здесь обычно делают ошибку (сейчас объясню, какого рода). Мы прекрасно понимаем, что в русской литературе — литературе молодой и по-хорошему наглой, как подросток, — в XIX веке есть такая тенденция: брать высокие западные образцы и их переделывать на русской лад, сохраняя западное содержание, то есть западную форму и наполняя её, как лайковую перчатку тяжёлым и мосластым кулаком, глубоко русским смыслом. В этом смысле почти у каждого русского классика был не то чтобы двойник, но ориентир на Западе. И вот Байрон — это ориентир для Пушкина. Пушкин находится в постоянной с ним полемике, которая особенно отчётлива, конечно, в «Онегине». «Онегин» — это реплика на байроновского «Дон Гуана». Надо сказать, более удачный роман, конечно, потому что и более компактный, и более изящный. И главное — это жанр высокой пародии. Дон Жуан здесь спародирован, и спародирован Чайльд-Гарольд:
Прямым Онегин Чильд Гарольдом
Вдался в задумчивую лень:
Со сна садится в ванну со льдом,
И после, дома целый день,
Один, в расчёты погружённый,
Тупым киём вооружённый,
Он на бильярде в два шара
Играет с самого утра.
Вот собственно весь байронизм. Конечно, Пушкин находится в жёсткой полемике с Байроном. Он ладит себя под него, он равняется на него. Он ради него выучил английский язык в конце концов, чтобы читать в оригинале (и Нащокин вспоминает его чудовищное произношение). Ну, ничего не поделаешь, он Байрона победил с позиций гуманистических. Это вечный спор гуманизма с романтизмом. И думается, что победа здесь осталась, конечно, за Пушкиным. Победа осталась за Татьяной, потому что Татьяна предложила гораздо более привлекательный modus vivendi, нежели байронизм («Уж не пародия ли он?»). Пародия — не только русский байронит, русский денди, а сам Дон Гуан, сам Чайльд-Гарольд. Конечно, пародия. Напыщенная гордыня и наполеонизм этот («И столбик с куклою чугунной») благополучно преодолён в пушкинском случае.
Так вот, что касается Лермонтова, то у него совсем не байронические идеалы («Нет, я не Байрон, я другой»). Он равняется на совершенно другого великого автора, и круг его проблем к этому автору восходит. Он из него переводил, мы все знаем «Не пылит дорога, // Не дрожат листы…». Конечно, это Гёте. Философская одержимость проблемами фаустианскими, проблемами просвещения, проблемами сверхчеловечности — это всё Лермонтов. И Лермонтов равняется на Гёте как автора философских драм.
Было бы небезынтересно (но, к сожалению, пока этим никто не занялся), было бы очень интересно проследить тонкие взаимосвязи лермонтовской прозы — прежде всего, конечно «Героя» с «Вертером», потому что «Герой [нашего времени]» — это и есть реплика на »[Страдания юного] Вертера», только опять-таки по-русски ироническая, пародийная. Этот Вертер от несчастной любви не покончил с собой, а он просто стал приносить несчастья всем вокруг себя. А вот то, что Шенгели назвал «резцом алмазной прозы» применительно к Лермонтову — это, конечно, так и есть. Но ведь «алмазная проза» Лермонтова (во всяком случае стилистически) имеет своим корнем короткий роман Гёте. Правда, надо сказать, что роман Гёте, конечно, и многословнее, и консервативнее, и тяжеловеснее. Но то, что Лермонтов ориентируется на Гёте, а не на Байрона, на философскую проблематику (конечно, прежде всего второй части «Фауста»), это и в «Сказке для детей» очень наглядно, а особенно наглядно в последних стихах — это, на мой взгляд, несомненно. Вот соотношение Лермонтова с гётеанством, претензия Лермонтова (и вполне обоснованная) быть русским Гёте, писателем, задающим духовную матрицу, — я здесь не могу с этим не согласиться. Не зря Лев Толстой любил повторять: «Поживи он ещё десять лет — и нам всем нечего было бы делать». Да, это так и есть.
«Поясните свой тезис о том, что «смерти нет потому, что мысль о ней мне невыносима». Ведь есть же очень много невыносимых вещей, которые существуют или существовали объективно».
Нет, она мне невыносима в другом смысле. Понимаете, невыносимы мне дураки, но это совсем другое. Причём самовлюблённые дураки или дураки, которые швыряются чужими жизнями, или дураки, которые претендуют на моральную истину. Они мне невыносимы, но они — объективная реальность, совершенно верно. Так же, как и перечисленные вами Голодомор, Холокост, революции и так далее. Речь идёт о когнитивном диссонансе, об антологической несовместимости сознания с конечностью, сознания с мыслью о смерти. Смерть не вместима в сознании, потому что они исключают друг друга. Вот так я это понимаю, такова моя интуиция в этом вопросе. Это не невыносимость, а это именно логическое противоречие. Поскольку я чувствую свою мысль бесконечной, с конечностью сознания я смириться не могу. Это достаточно долгая история, но чем меня слушать, вы почитайте просто «Записки сумасшедшего» Толстого, где он говорит: «Она здесь, она рядом, но её не должно быть». Вот кто такая «она» — там всё достаточно подробно расписано. И лучше расписано, чем я вам расскажу.
«Совершенно не могу воспринимать кино. У меня не хватает усидчивости, чтобы высидеть два часа. А когда включаю какой-нибудь фильм, не могу воспринимать рационально, начинаю переживать и плакать. Читать про кино нравится, а смотреть не могу».
Да, «кушать могу, а так — нет». Видите ли, ну а я театр плохо воспринимаю — наверное, потому, что у меня действительно какой-то обострённый вкус, уж очень брезгливый и уж очень разборчивый. Театр бывает или гениальным, или никаким. Гениального я почти не вижу, а в никаком засыпаю. Поэтому, наверное, надо смириться с тем, что какие-то виды или роды искусства вам не доступны. Слушайте, я же высшую математику тоже не люблю. Тут есть и другие проблемы, связанные с клиповым мышлением, с ускорением сознания, с тем, что сегодня… Правильно кто-то заметил: начнёшь смотреть «Андрея Рублёва» на компьютере, а всё равно пару раз отвлечёшься на новости или на переписку. Ничего не поделаешь, клиповое сознание, большое количество отвлекающих моментов, вынужденная многоканальность (естественно, сетевое явление).
Знаете, я очень люблю приводить этот пример. Раньше, если ребёнок быстро усваивал материал и ему становилось скучно в классе, все говорили — СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности). Наверное, этот диагноз существует объективно, я не могу об этом судить. Это вопросы к дочери, которая всё-таки психолог и которая сама достаточно много в детстве бедствовала из-за разговоров про её рассеянность. Она действительно быстрее всё понимала — и ей скучно становилось. Но дело в том, что очень часто СДВГ ставили необоснованно. Почему? Потому что сознание человека ускоряется. Заметьте, очень многое, что воспринимается сначала как болезнь, потом становится нормой. И я считаю, что действительно сознание современного ребёнка быстрее.
Скажем, завтра у меня четыре часа по «Тихому Дону» в двух классах, и для меня это довольно серьёзная проблема, потому что всё, что нужно детям знать про «Тихий Дон», помимо чтения самого романа, раньше у меня занимало часов шесть, а сейчас я могу это уложить в два. И не потому, что я стал быстрее говорить, а потому, что они стали быстрее понимать. И многое из того, о чём я рассказываю, для них уже азбука. Если вы не можете высидеть два часа в кино, так это плохо говорит не о вас. Это говорит просто о том, что фильм скучный, ничего не поделаешь.
«Почему о Великой Отечественной войне не возникло эпоса, подобного «Войне и миру» или «Тихому Дону»? «Жизнь и судьба» — при всём уважении, только попытка».
Это очень легко объяснить. Хотя и попыткой такого эпоса, но достаточно успешной, мне всё-таки кажется роман Эренбурга «Буря». Почему? Видите ли, есть такое понятие, как «высота взгляда». Вот высота взгляда Толстого была достаточной, чтобы многие азбучные вещи, касавшиеся 1812 года, поставить под сомнение. Например, что нет полководческого гения, а есть ход вещей; и то, что мы называем «полководческим гением» — это всего лишь умение угадывать этот ход вещей и соответствовать ему. Ну, тут нужны концепты.
Такого сочетания, как знание реалий и концептуальное мышление, по разным причинам в Советском Союзе быть не могло, пока были люди, помнящие это, пока были люди, знающие это. То есть нужно было сочетание достаточного близкого знакомства с советской военной историей (и лучше бы опытным путём) и концептуализация достаточно свободная (во всяком случае не коммунистическая). А сегодня эпос о войне вообще не возможен, потому что — что ты ни напишешь, всё сразу будет очернительство. Сегодня только Литтелл может писать о Второй мировой войне объективно, потому что не здесь живёт. А попробуйте вы сегодня напишете роман о войне.
Кстати говоря, довольно близкие подступы и очень интересные пролегомены к большой военной прозе оставил Борис Иванов, который сам военный опыт имел. Это знаменитый издатель журнала «Часы», ленинградский писатель-диссидент. Вот его военная проза имеет именно некоторые концептуальные, некоторые сверхидеологические, надидеологические черты. А никто из советских писателей просто в силу мировоззренческой ограниченности не мог написать правду о Великой Отечественной войне. Конечно, она будет когда-то написана, потому что очень многое из того, что мы сегодня о войне говорим и знаем, будет подвергнуто ревизии, сомнению, переосмыслению, и мы много что поймём. Кстати, серьёзные подступы демонстрировал Астафьев, у которого был свой взгляд на войну. «Прокляты и убиты» — это очень ценная попытка. Тем более что у него был опыт, и он решил перед смертью этот опыт записать. Хотя ему страшно мучительно давалась эта книга. Он даже третий том не написал, вместо него появился маленький роман «Весёлый солдат».
А сегодня, когда уже оскорбление патриотических чувств нам пытаются прописать законодательно, о каком осмыслении войны хотите вы говорить? Сегодня возможно только одно осмысление: «Мы всегда всё делали правильно. Мы герои. Весь мир — зло». И поэтому эпоса о Великой Отечественной войне нам ждать лет десять-пятнадцать, пока вырастет человек, достаточно глубоко изучивший материал, и при этом способный назвать некоторые вещи своими именами. У Астафьева была своя концепция — грубо говоря, что победили количественно. Он даже цитировал чью-то фразу, что «мясорубку завалили мясом». Попробовал бы он сегодня сказать что-нибудь подобное — и его немедленно, что называется, потянули бы к Иисусу. Мне даже цитировать это страшно, а уж что говорить о том, чтобы что-то оригинальное об этом сказать. Сегодня возможен только стиль «славься». Поэтому — подождём, нормальный эпос будет написан. Причём это будет эпос, конечно, не только о советском и не только о немецком участии в войне, а это будет, я думаю, эпос именно о войне мировой, о катастрофе человечества. Такую попытку делает Максим Кантор в романе «Красный свет», где он пытается рассмотреть Вторую мировую войну как продолжение Первой, как одну единую всемирную войну. Может быть, это тоже точка зрения, имеющая право на существование. Посмотрим, что там будет дальше. Но в любом случае эта задача не на сейчас.
«Расскажите о своём отношении к прозе Юрия Казакова. Справедливо ли его зачисляют в беспомощные эпигоны Бунина и Паустовского?»
Нет конечно. В эпигоны Бунина и Паустовского его никто не зачисляет, то есть — в беспомощные. Да, у него есть бунинское начало. Паустовский сам писатель хотя и очень хороший, но всё-таки не бунинского уровня, и поэтому Казаков, я думаю, на уровне стоит, а может быть, в чём-то его и превосходит. Мне большинство ранних рассказов Казакова («Голубое и зелёное», «Некрасивая», «Северный дневник») скучноваты, потому что это такая советская проза с подтекстом, а такой тогда было довольно много. Мне нравятся у него поздние вещи — «Свечечка» и, конечно, гениальный рассказ памяти Дмитрия Голубкова «Во сне ты горько плакал». Знаете, когда Казаков бросил писать, когда он писал по большому и серьёзному рассказу в два-три года, вот тут появилось нечто гениальное, настоящее. Я, кстати, считаю, что он в гораздо большей степени эпигон, не эпигон, но он ученик американской прозы. И не зря Аксёнов — сам большой западник — описывал его именно как такого джазмена, игравшего на контрабасе в джаз-банде: эти пухлые губы, сигара неизменная, постоянный джазовый синкопированный ритм, который есть в его рассказах, кстати.
Я очень люблю пейзажи казаковские, как Мещёра у Паустовского: вот эти реки с густо заваренной, как чай, полной листьев водой, эти северные паромы, деревни почти безлюдные, охотничий быт. В городе всегда эти люди немного чужаки, потому что город к ним крайне негостеприимен. Совершенно замечательно в фильме Калика «Любить…» экранизирован один из его рассказов (не помню сейчас название), где двоим всё время некуда приткнуться. Нет, он вообще писатель замечательной бесприютности и одинокости, но он очень многие прозаические моды своего века, к сожалению, впитал. Настоящая проза, почти чеховского уровня — это рассказы последних пяти-семи лет, когда не мысль, а именно сложное и тонкое сочетание лейтмотивов организует рассказ и какой-то настрой великолепный. Это вот такая пронзительная грусть, невероятная, какая бывает только ну уж с очень сильного похмелья, может быть, или очень серым утром в очень средней полосе.
«Прочитал давеча, так как вы хвалили, роман Нестерова «Скины». По мне, это слабая беллетристика, но вопрос у меня в другом. Не кажется ли вам, что подобные тексты служат катализатором нарастания агрессии?»
Нет, я не хвалил роман. Я говорил о показательности этого романа, о том, что он бесценен для историка. И потом, это сильная книга. Сильная в том смысле, что там действительно отчаяние этого человека и тупик, в который он пришёл, в романе «Русь пробуждается» показаны. И особенно, конечно, вот эта замечательная история с котёнком, вот это страшное сочетание зверства и сентиментальности. Кстати говоря, это восходит, конечно, к лимоновскому «Укрощению тигра в Париже» (там тоже котёнок), но написано здорово, написано сильно и неумело. И, конечно, этот роман вовсе не может послужить катализатором агрессии. Явление надо описать изнутри. Там оно изнутри и описано. И после этого становится понятно, что это явление обречено.
«Как вы думаете, «Хаджи-Мурат» о том, что всякая человеческая жизнь безусловно важна, потому что каждая жизнь от Бога? В чём для вас разница между смыслом «Хаджи-Мурата» и «Казаков»?»
Знаете, у Толстого были действительно очень чётко выраженные периоды, и смысл совершенно разный всегда. Смысл «Казаков» очень просто сформулирован Олениным: «Кто счастлив, тот и прав». Полнота жизни, полнота переживания всего — вот есть правда. Почему Ерошка, Епишка, Марьяна — вот эти здоровые, чистые и свежие люди — правы, а Оленин не прав? Потому что они живут, а он думает. Помните, там «руки нежные, как каймак». Счастье — это сила и полнота переживания. «Хаджи-Мурат» про совершенно другое. И мне кажется, что о смысле «Хаджи-Мурата» вообще в одной передаче не расскажешь. Это поздний Толстой. Конечно, самая простая вещь, самое простое, что приходит на ум — что это вещь о самодостаточности обречённого сопротивления. И знаменитая история с татарником, которая обрамляет эту вещь, как раз об этом: уже сопротивляться бесполезно и невозможна победа, но тем не менее самодостаточность этого одинокого несломленного сопротивления очень важна.
Меня тут много спрашивают, что я думаю о полемике Изотова и Ямбурга вокруг Корчака. Я не обсуждаю сейчас тон этой полемики, её стиль. Конечно, Ямбург прав в своих оценках, а Изотов наивен в своих домыслах. Но дело в том, что я не раздаю оценки опять же. Я что хочу сказать? Он говорит: «Да, Корчак мог бы, наверное, спастись». Конечно, он мог бы спастись. И даже если бы они, как в Собиборе, бросились сопротивляться, может быть, они спасли бы кого-то. Хотя Корчака действительно уже на руках несли к этому поезду. Но, понимаете, Корчак же другое сделал.
Есть самодостаточность жертвы. Тут важен не результат, а важен след, который остался от этого поступка. Христианская жертва… Да, можно сказать, что Христос проиграл. Пародируя обывательские суждения, Мень говорил: «Земная карьера Христа закончилась крахом». Христос мог не быть на кресте, он мог не принять позорной смерти, но тогда не было бы христианства. А вот Корчак мог спастись (и, может быть, мог кого-то спасти), но тогда бы не было того знамени, той моральной победы, которая в веках. Тем более что спасение было очень проблематично, а героическая гибель была избрана. Я могу сказать, что об этом и «Хаджи-Мурат». Кстати, «Хаджи-Мурат» — глубоко христианское произведение.
Вернёмся через три минуты.
РЕКЛАМА
Д. Быков― Продолжаем разговор. «Один», в студии Дмитрий Быков с вами вместе. Братцы, вопросов столько, что, простите меня, я действительно отбираю только те, которые способны вышибить из меня какой-то парадокс, потому что повторять трюизмы мне бы не хотелось.
«Вы смотрели режиссёрский дебют Волобуева?»
Смотрел. Мне кажется, что… К вопросу о «Казаках». Лев Александрович Аннинский писал: «Самым ценным плодом экранизации «Казаков» был блестящий критический этюд, уничтожительная критика без Толстого». Самый ценный результат произошедшего — это блестящий разбор Волобуевым-критиком фильма Волобуева-режиссёра. Просто восторгаюсь.
«Я часто задаюсь вопросом: если бы советское руководство всё делало правильно — мы не вторглись бы в Афганистан, не раздавали бы деньги союзникам, здраво вели плановое хозяйство, не тратили бы средства на ядерное вооружение, не было бы перестройки — возможно, нам удалось бы сохранить социализм до нынешних лет, а культура и искусство миновали бы периоды деградации? Вы так не думаете?»
Я так не думаю. Прав Веллер, конечно, что деградация этой культуры уже к началу 80-х была очевидной: кто умер, кто спился, кто уехал. И во-вторых, с таким фундаментом, как коллективизация, культурная революция (индустриализация сравнительно мягче обошлась) и репрессии 10–20-х — вряд ли тут было бы построено светлое хрустальное здание. К сожалению, человек нуждается в более радикальном и при этом менее насильственном перевоспитании. Средства этого перевоспитания должны быть другими. Вот над чем надо думать — над теорией воспитания. Мир, который был построен, который был запланирован советской властью и который потом очень радикально мутировал (мутировал в 30-е, 40-е, в 60-е, а в 70-е это была уже совсем другая страна, к утопиям Ленина никакого отношения не имевшая), этот мир был построен для другого человека — не того человека, который имелся в реальности. Вот воспитать этого нового человека — с этой задачей советская власть не справилась.
Вот здесь внимание! Как только эта система почувствовала, что она вроде бы воспитала сверхлюдей (это поколение, о котором я подробно пишу сейчас в эссе о Нагибине в «Дилетанте» — условно говоря, поколение 1919–1926 годов рождения, в диапазоне от Солженицына до Трифонова), как только советская власть их воспитала, она тут же начала их репрессировать, а потом швырять в топку войны, совершенно некритично, совершенно неэкономно. Из этого поколения уцелел каждый четвёртый. Этого хватило на то, чтобы произвести ещё в стране оттепель, но на то, чтобы построить новую страну, уже не хватило. Это удивительное чутьё системы, которая в топку швыряет тех, кто способен её уничтожить или перестроить. Сейчас тоже есть такие люди. И тоже сейчас их, мне кажется, хотят швырнуть в топку, а потом сказать, что это было сделано по объективным мотивам. Я надеюсь, что у них этого не получится. Но то, что советская власть выступала собственным могильщиком постоянно, по-моему, сомнению не подлежит.
«Что вы думаете о роли Геннадия Шпаликова в художественной жизни СССР в 60-е годы?»
Я совершенно солидарен с Натальей Борисовной Рязанцевой, дай бог ей здоровья, которая сказала, что «60-е годы выдумал Гена Шпаликов» (кстати, её первый муж). Шпаликов играл определяющую роль в создании эстетики 60-х. Это сценарист «Заставы Ильича» и «Я шагаю по Москве» — двух довольно напряжённых, довольно трагических фильмов, а особенно, конечно, «Заставы», в которой уже очень наглядно явлен мировоззренческий кризис 60-х, о котором потом Аннинский и Хлоплянкина напишут с убийственной точностью по этой картине. Шпаликов, конечно, понимал, что в 60-е было всё непросто. И он выстраивал настоящие 60-е, а не идиллическую картинку. Например, он снял сам по собственному сценарию «Долгую счастливую жизнь» с Лавровым и Гулая — великий фильм, где разоблачён изнутри дутый супермен 60-х годов, который позировать умеет, а жить не умеет. Я думаю, что с коммунарской романтикой и вообще с советской романтикой Шпаликов разобрался ещё убедительнее в действительно гениальном сценарии «Девочка Надя, чего тебе надо?». Он писал его без всякой надежды на реализацию, и писал, насколько я знаю, на почтовых бланках, но написал великую прозу. Я очень советую всем его прочесть.
И алкоголизм Шпаликова возник не на ровном месте. Он опьянялся реальностью, пока эта реальность была, а потом пил, чтобы заглушить отчаяние. Конечно, Шпаликов задыхался в воздухе 70-х годов. Он возник, он стал знаменит в 20 лет. Он прославился ещё во ВГИКе — и как поэт, и как сценарист, и как прозаик. Он был сыном этой вертикальной мобильности, прямым её продолжением. А когда всё увязло в болоте, Шпаликов стал невозможен. Его самоубийство — это вечный страшный упрёк всей советской реальности 70-х годов. Я думаю, что он был самым талантливым человеком в поколении. Просто талантливым настолько, что даже написанные уже в алкогольном бреду фрагменты прозы, из которой он потом сделал свой роман, отправив его в нобелевский комитет… Я думаю, что этот роман Нобеля заслуживал, потому что даже написанные в состоянии полураспада личности эти дневниковые фрагменты поражают точностью и глубиной. Многое, конечно, случилось из-за того, что уехал Виктор Некрасов — его старший друг, заменявший ему отца. Некрасов как-то умел держать его в рамках, а после его отъезда Шпаликов стал просто разваливаться стремительно. Мне кажется, что он был самым умным среди коллег и очень быстро всё понял.
Что касается его роли. Понимаете, эстетика Шпаликова непростая. Это не просто эстетика счастья, ликования, как в его сценариях ранних, кстати, очень сильно замешанных на близости к французскому кино 30-х, и прежде всего Ренуару и Жану Виго в особенности, потому что он был действительно фанатик и талант. Вот из Виго, из его мудрости и радости выросло это кино. Но Шпаликов всегда чувствует трагизм бытия. Он всё-таки дитя войны, он всё-таки сирота, он всё-таки выпускник военного училища. Он такой же подранок, как потом снял Губенко в фильме «Подранки». Этот опыт трагический в нём постоянно сидит. И, кстати говоря, счастье героев у него всегда очень хрупко, оно всегда ненадолго.
И «Застава Ильича» заканчивается ведь мировоззренческим тупиком. Помните, там главный герой спрашивает отца: «Как мне жить?» А тот говорит: «Откуда я знаю? Я ведь младше тебя». И поколение отцов не может ответить. Прав, конечно, был Аннинский, что через головы отцов пытались найти ответы у дедов, поэтому и революционный патруль ходит по Москве. Но и деды не могут дать ответа. Понимаете, «Застава Ильича» — это граница, обозначение границы. Поэтому трагедия мировоззренческая, трагедия поверхностности этого поколения у Шпаликова была отрефлексирована и прочувствована раньше, чем у многих других. И вообще читайте его, потому что такие сценарии, как «Девочка Надя…», или в особенности «Прыг-скок, обвалился потолок», некоторые мотивы которого вошли потом в «Нежный возраст» у Соловьёва, — это классика.
«Иглой в памяти сидит фраза инженера Гарина о человеке: «Ничтожнейший микроорганизм, вцепившийся в несказуемом ужасе смерти в глиняный шарик земли…» Если Алексей Толстой имел в виду Ленина, угадал ли он суть взглядов вождя на человечество?»
Конечно, угадал. Понимаете, Ленин где-то (в какой-то из стенограмм я это нашёл), когда он говорит, как мучительно рождается в России новое, как мучительна эволюция, он говорил: «Это как природа, когда женщина превращается в орущий, обезумевший от боли кусок мяса». Вот так он сказал. Он умел сильно выразиться. Так вот, этот «кричащий кусок мяса» — да, наверное, таковым было мнение Ленина о человеке. «Мясо». Он всё-таки понимал, что он имеет дело с биомассой, которую ещё только надлежит воспитать, одухотворить и так далее. Его мнение о человеческой природе было довольно низменное. Он поэтому и верил в то, что человек ещё только становится, что человек находится в процессе становления.
Я не знаю, кстати, мнения Ленина о Дарвине, и не знаю, читал ли он его толком, но ведь Маркс — это прямой аналог Дарвина, его продолжение (во всяком случае эта революция была синхронной). Аналог в том смысле, что человек — это результат внешних условий, адаптации к ним. И в этом смысле Ленин совершенно искренне полагал, что если создать здоровые условия, то удастся создать идеального человека. Он абсолютный материалист, и мнение его о человеке было мнением материалиста — «кусок глины», «душонка, обременённая трупом» (да и душонка так себе). То, что это фраза о человеке, то, что Гарин — это Ленин в его главных чертах? По-моему, безусловно. По-моему, это лучшее описание Ленина, если не считать портрет у Куприна в очерке.
«Режиссёр Марлен Хуциев долго работает над фильмом «Невечерняя» о встречах Толстого и Чехова…» А я смотрел некоторые куски ещё тогда, когда они были показаны в «Белых Столбах». В общем, насколько я знаю, эта работа в общих чертах близка к завершению. «Как вы думаете, актуальна ли такая масштабная тема?»
Это фильм не о Чехове и о Толстом. Насколько я могу интерпретировать после просмотра ещё тогда в «Белых Столбах», когда были первые 40 минут, это фильм о людях, которые умеют жить, и о людях, которые умеют умирать, о поколении расцвета и о поколении вырождения — об очень многих сложных вещах. Это сложная картина, сложнейшая. Мы от такого уровня разговора отвыкли. Хуциев долго её делал, потому что денег не было. Но он долго её делает и потому, что крайне вдумчив в выборе натуры. Это две гениальные актёрские работы. Это потрясающий сценарий, написанный сыном. И вообще я склонен думать, что когда этот фильм выйдет, то это будет бомба. Но найдутся ли сегодня люди, способные масштаб этой бомбы оценить? Хуциев терпеть не может разговоров о том, «когда же наконец», поэтому давайте его об этом не спрашивать. Давайте смиренно дожидаться великого события.
«Слушая ваши предыдущие программы, я подумал, что вы оцениваете Октябрьский переворот 1917-го в целом как положительное историческое событие. А я, когда читаю об экономических показателях, научных достижениях, культуре и о том, что потом со всем этим случилось после прихода большевиков, никак не могу увидеть в Октябрьском перевороте что-либо положительное».
Знаете, а вы не ищите в нём положительное. История не оценивается в категориях «хорошо/плохо». История оценивается в категориях «масштабно/не масштабно», «избежно/неизбежно» и так далее. Я не буду с вами сейчас ввязываться в абсолютно бесплодную дискуссию о прошлом. Вот эти все дискуссии — «А Сталин — хорошо/плохо?», «А Ленин — хорошо/плохо?», «А надо ли ставить памятники?» — эти дискуссии не имеют никакого вывода. Потому что вы сначала просто изучите, почему это всё случилось, почему это по ряду причин стало неизбежным, а потом уже говорите о расцвете духовном, о культуре, о прекрасных экономических показателях 1913 года. Было бы всё хорошо — не было бы революции. Понимаете, эта революция случилась потому, что…
Я помню, как наш историк Николай Львович Страхов, один из кумиров моей молодости… Николай Львович, дорогой, если вы меня слышите сейчас, то я очень вам благодарен! Ваши уроки во многом меня превратили в мыслящую и самостоятельную единицу. Вот уроки матери по литературе, уроки Зинаиды Васильевны Шишковой по литературе и ваши. Что я хочу сказать? Вот наш историк говаривал: «Орден Октябрьской революции за номером один полагалось бы выписать Николаю Второму». Это грустно, конечно, но он сделал для неё больше всех. Пусть не он, но верхушка многое сделала. Поэтому все эти разговоры о том, хорошо ли это, положительно, отрицательно… Изучайте! Давайте изучать, что это было. Давайте спорить. И вот тогда будет о чём говорить.
«Что придёт на смену постмодерну в человеческой культуре? Мне видится новая традиция, в которой старые народы либо исчезнут, либо преобразятся в нечто совершенно другое. Возможно, грядут другие формы объединения людей».
Я уже говорил об этих новых формах — о гипотетическом Человейнике и о новых луддитах, одиночках, которые будут эту сеть разрушать или игнорировать. О том, что ризома (грибница) станет новой формой объединения людей, Делёз и Гваттари написали ещё в 70-е годы, насколько помню. У меня был доклад когда-то в Питтсбурге, который назывался «Фашизм как последняя стадия постмодернизма», и там столько копий было сломано, что мне к этой теме сейчас возвращаться стрёмно. Но речь идёт просто о том, что последней стадией постмодерна действительно вполне может оказаться фашизм.
Я всегда давал постмодерну, может быть, не слишком лестное определение: постмодерн — это просто стадия освоения массовой культурой и вообще массами достижений модерна. Постмодерн — это модерн, погружённый в массу на всех уровнях: на социальном, на философском, прежде всего на культурном. Вот модерн — это «И корабль плывёт…», а постмодерн — это «Титаник» Кэмерона. Поэтому вполне следующей стадией массовизации культуры может оказаться фашизм. Илья Кормильцев, Царствие ему небесное, говаривал, что «новая серьёзность — это практически неизбежное следствие и это отступление в архаику, мода на архаику». Да, к сожалению, это возникает. Это ещё одна издержка постмодерна.
То, что две основные линии будут, видимо, в развитии человечества — это понял ещё Уэллс. Но это необязательно будут элои и морлоки. Это могут быть люди более эффективные, скажем, в коллективе и более эффективные в одиночестве. Это один критерий разделения. Это могут быть люди простые и сложные. Необязательно умные и глупые, а именно простые и сложные — скажем, люди одного мнения или люди колеблющиеся. Я не знаю, по каким границам пойдёт это разделение, но то, что история человечества, скорее всего, пойдёт далее по двум веткам, и мы сейчас переживаем стадию мучительного расставания, мучительной ижицы, развилки… Я всегда повторяю в таких случаях фразу Пинчона из «Against the Day»: «Дойдя до развилки, выбирай развилку». Состояние развилки довольно плодотворно.
Тут, конечно, много можно спорить об этом, это не одну программу надо было бы потратить. Да и потом, опять я должен сказать, что прежде чем что-то сформулировать, прежде чем что-то сказать, уже трижды подумаешь. Я столько получил потрясающих отповедей, что когда я говорю о люденах, я впадаю в фашизм: «Вот вы делите людей на недочеловеков и сверхчеловеков». Во-первых, не я делю, а история делит. Во-вторых, не на «недо» и «сверх», а на людей, которые делают разные выборы. Ничего не поделаешь, по всей видимости, единая эволюция, единая история человечества закончилась, а дальше отдельные части человечества будут эволюционировать по-разному. Они будут собираться в разные группы. И думаю, что этим критерием будет либо склонность к массовизации, либо склонность к одиночеству. А как будет выглядеть этот «зубец-Т в ментограмме», описанный Стругацкими, я пока сказать точно не могу.
«Катаклизмы первой половины XX века угробили весь цвет народонаселения России, превратив большинство в послушное стадо, — неверно это! Это тоже штамп. Но нет времени спорить. — Как вы думаете, придёт ли в обозримом будущем основная масса нашего народа к пониманию общеевропейских ценностей?»
Это не общеевропейские ценности! Это общечеловеческие ценности. Но слово «общечеловек» стало ругательным. Вообще сейчас очень смешно обо всём этом говорить. Понимаете, когда судят за пословицы и за оскорбления патриотических чувств и хотят вменить статью, очень сложно вести теоретические дискуссии. Тут надо спорить о кинематографе Жоры Крыжовникова. Я не хочу сказать, что он плохой. Я хочу сказать, что он отражает эту эпоху. А спорить о том, каковы ценности, каковы пути развития, в этих условиях невозможно. В этих условиях можно общаться намёками (что мы, в общем, и делаем).
«Совершенно не понимаю, как противостоять коллегам (и надо ли вообще?), которые прочно стоят на принципах неуважения к своей нации, объясняя исторической необходимостью происходившие репрессии, диктатуру, революции, несправедливость. Расстрелы так расстрелы («сами виноваты!»), война так война («а посмотри, как действует Запад», «кругом враги»). Ценность человеческой жизни не признаётся. Человек воспринимается исключительно как биоматериал. «Да, мы такие, — говорят они, — и ничем не хуже любой другой нации, это наш путь». А так хочется с этого пути свернуть — говорю я от своего имени. Сколько можно истреблять собственный народ? Сколько можно оправдывать собственные мерзости, сравнивая с чужими? Душа болит! А коллеги, между прочим, отборные: с высшим образованием, читающие литературу, смотрящие кино и посещающие театры».
Этот крик души юзера по имени kiselyov (надеюсь, что псевдоним) — это совершенно нормальная история. Понимаете, вот вы говорите: «Сколько можно оправдывать?» Действительно, сейчас спор идёт в России один: происходящее — это норма или эксцесс? Когда-то Андрей Шемякин поразил меня фразой: «Логика истории пострашнее её эксцессов». Конечно, вопрос в одном: действительно ли Россия плюхнулась с облегчением в родную матрицу, или всё-таки она куда-то движется?
Тут впору повторить за умирающим Некрасовым: «Но все ж, озирая мой пройдённый путь, // Я к лучшему шаг замечаю». Каждое новое просветление в российской истории было более радикальным, более масштабным. И хотя отдельные люди кричат, что все эти просветления и оттепели приводили только к разрушению нашей промышленности и культуры… Во время оттепели полетел Гагарин, во время перестройки были достигнуты очень серьёзные духовные высоты и люди стали жить пристойно. И не нужно говорить, что именно во время перестройки люди перестали работать. Как раз во время перестройки им работать захотелось, а не только торговать. Они ощутили страну своей, и пять-шесть лет они прожили если не в эйфории, то в радости. Хотя потом это начало уже вырождаться в криминал, в чеченскую войну, в выборы 1996 года, во многих отношениях позорные. Много чего было. Но период с 1985-го по 1990-й… Вот в преддверии 85-летия Михаила Сергеевича хочется ему за многое сказать «спасибо». Вернее, не ему, а ходу истории, которому он по-кутузовски не противостоял.
Разговоры о том, что логика русского развития — это, условно говоря, «все плохие, а мы великие и духовные», «нам не надо ничего делать, у нас есть вся таблица Менделеева» — понимаете, это такой действительно эксцесс, петля времени, неизбежный отказ перед прорывом. Прорыв этот будет обязательно. И черты его, и признаки его мы чувствуем сегодня. И в воздухе уже пахнет вот этой интеллектуальной новой весной, новым интеллектуальным взрывом, которым Россия, как в 60-е годы XIX века, удивит мир. Это случится довольно скоро. Самая тёмная ночь бывает перед рассветом, ничего не поделаешь. Сегодня люди, которые только в сумраке и сероводородном зловонии могут на что-то претендовать, абсолютные интеллектуальные ничтожества и паразиты, пытаются выдавать себя за духовную элиту нации и будут бороться за такой состав атмосферы очень долго, потому что только в этой атмосфере они могут себя за кого-то выдавать. Но ход истории — это такая штука… Ахматова же писала: «Но как нам быть с тем ужасом, который был бегом времени когда-то наречён». Ход истории неостановим. Я должен разочаровать этих ребят: их будут вспоминать с презрительной усмешкой.
А как противостоять коллегам? Очень просто противостоять коллегам. Поймите, что этим противостоянием они и питаются. Они сами не верят в то, что говорят, но вы им необходимы, как необходима пресловутая «пятая колонна». Она давно не делает ничего, она давно уже ни на какие марши не выходит (кроме немцовского, который, слава богу, согласовали), она практически никак себя не проявляет, ей нет места ни на телевидении, ни в прессе. Тем не менее, абсолютно вся идеология жива только топтанием на этой несуществующей, по сути дела, оппозиции. Оппозиция давно ушла на кухни, в народ, в магазинные очереди, где идут такие разговоры, что куда там былым оппозиционным митингам. И всё это ушло, растворилось, но растворилось в массе.
Все эти люди, естественно, боятся, в душе у них зыбкое болото, страх (я имею в виду идеологов и апологетов этой нынешней архаики), поэтому не надо никак им противостоять. Отвечайте им: «Вы совершенно правы! Дай бог вам здоровья! Ваши речи — это мёд!» Я помню, в «Нашем современнике» печаталась драматическая поэма, где колхозница разговаривает с председателем. Он ей поясняет политику партии, и она ему отвечает: «Пойду домой, займусь козою, а то и впрямь сегодня всласть наговорилась я с тобою, как будто мёду напилась». Вот вы и говорите: «Наговорилась я с тобою, как будто мёду напилась. Чего вы будете со мной спорить? Не надо с вами спорить. Дай вам бог здоровья и генеральский чин».
«На бытовом уровне с иностранцами обсуждал две проблемы, находясь за границей. Первая — феминизм (место женщины дома, пусть занимается детьми)».
А зачем вы обсуждаете эту проблему с иностранцами? Феминизм — это проблема неразрешимая. Переубедить феминиста невозможно, а тем более феминистку. И не надо их переубеждать. Они именно живут полемикой с вами. Опять-таки кивайте, соглашайтесь радостно, что бы они ни говорили, даже если они будут говорить, что женщины — высшие существа, а мужчины — низшие. Пожалуйста, ради бога! Ну неужели вы не понимаете, что этим людям феминизм нужен для самоутверждения? Не мешайте им самоутверждаться. Пусть они самоутвердятся и лоб себе расшибут о реальность.
«Как жить хорошо? Если смотреть на самые социально защищённые страны (Скандинавия, Австралия), у них население сравнительно небольшое. Будем ли мы когда-нибудь хорошо жить?»
А что, мы плохо живём, что ли, я не поминаю? Мы, может быть, в духовном отношении живём не очень хорошо, а так, в принципе, навык выживания у населения огромен. Как только станем плохо жить, население, народ, как в 1917 году, свою судьбу изменит. Пока не меняет — значит, нравится. Вот из этого я исхожу. Не надо говорить, что всё заслужили сами, что всё сделали сами. Можно выбрать более мягкую формулировку. Пока не возражают — значит, нравится. Если захотят возразить — возразят, и мало не покажется.
«Когда-то в интервью украинскому журналу «ШО» Михаил Веллер сказал, что Бродский — это поэт для полуобразованных людей, назвал «Пилигримы» его лучшим стихотворением, а поэзию в эмиграции — «никому не нужной версификацией». Легко представляю, как Веллер это произносит, и даже понимаю, что он имеет в виду, но интересно услышать ваш комментарий».
Я не думаю, что Веллер это сказал дословно так. Ну, Веллеру больше нравится Михаил Генделев, которого, кстати, многие считают крупнейшим после Бродского поэтом. Есть даже лосевцы, есть генделевцы. Я с этой точкой зрения не совсем согласен. Но, знаете, восторженные апологеты Бродского, которые ставят его выше всех, могут довести и не до таких эскапад. Веллер филолог и знает, что говорит.
А следующий крайне интересный вопрос — через три минуты.
НОВОСТИ
Д. Быков― Привет ещё раз! В студии «Один», Дмитрий Быков.
«Один мой друг рассказывал мне, — это спрашивает vilsent, — о своём разочаровании в Пастернаке как человеке из-за того, что тот якобы «заманил» Цветаеву в СССР, не предупредив о том, что её здесь ожидало, и это привело Цветаеву к самоубийству. Что вы можете об этом сказать?»
Всё, что мог сказать, написано в книге о Пастернаке, к которой я вас и адресую. Трудно придумать большую ерунду, чем то, что Цветаеву «заманили» в СССР. Вы помните, почему Цветаева уехала и каковы были обстоятельства. Не буду вам напоминать об убийстве Игнатия Рейсса, к которому до некоторой степени был причастен Сергей Эфрон. Что там именно было — был ли он просто за рулём машины, которая везла к Рейссу, или принимал участие в его ликвидации — это уже никто и никогда не скажет. Вот я поеду сейчас в Чапел-Хилл, там лежит савинский, архив белой эмиграции. По моим предположениям, там есть некоторые документы, способные пролить свет на данную историю. Во всяком случае, если мне повезёт, я там вот этим буду заниматься, буду там с любезного разрешения Чапел-Хиллского университета копаться в этом совершенно уникальном архиве в конце марта. Обо всех результатах своих разысканий постараюсь вам рассказать.
Что касается эмиграции Цветаевой и её реэмиграции, её возвращения, то это тщательно описанная история. Она использована в деталях и в беллетризованных биографиях, и в фильмах, и в замечательной книге Ирмы Кудровой, и в книге Виктории Швейцер. А уж сколько Анна Саакянц об этом написала — тут просто читать не перечитать. Говорить о том, что Пастернак «заманивал» Цветаеву? Давайте вспомним, в каком состоянии был Пастернак в 1935 году, летом (и об этом я говорил, кстати, недавно). И уж говорить о каком-то «заманивании»… Единственная фраза, которая может быть ему как-то инкриминирована — он сказал: «Ты полюбишь колхозы». Но при этом он всё время говорил: «Там всё не так, как Вам кажется». Он пытался и Серёжу переубедить, и Але многое рассказать. Но для того состояния, в котором он был — для тяжелейшей нервной депрессии с практически полугодовой бессонницей, он засыпал на час-два в сутки, — наверное, можно как-то всё-таки сказать, что для этого состояния он вёл себя образцово. И он просто сбежал якобы за сигаретами, сбежал во время разговора с Цветаевой, просто вышел из-за стола.
Я, кстати, хочу… А нет, меня сейчас, к сожалению, не слышит никто из референтов. Просто пришли мои ассистенты с новыми вопросами, они стоят внизу. Кто бы их пропустил? Кто бы сказал внизу, чтобы пропустили ко мне человека, который несёт новую пачку свежих вопросов?
Так что насчёт Пастернака вы можете быть спокойны. Не разочаровывайтесь в нём, пожалуйста. Пастернак из всей русской литературы был, наверное, самый хороший человек — во всяком случае, самый безупречный в некоторой степени.
«Хочу пообщаться с вашей матушкой. Вы можете ей сообщить мой адрес?» Сообщу непременно, и вы с ней поговорите, конечно.
«Читали ли вы книжку «Голос монстра»?» К сожалению, не читал.
«Художественная литература современной России сдаёт позиции. Нет даже призрачного контура положительного героя. Революционеры прошлого хороши были, пока не ввязывались в борьбу. Тут-то их и подстерегала биологическая конкурентная борьба за выживание, и все они теряли человеческий облик».
Нет, я бы так не сказал. Ну, тоже это разговор не на одну лекцию и не на один такой эфир. Положительных героев в русской литературе было вообще два: герой волевой, действующий и герой рефлексирующий. Попытка свести это воедино, дав облик человека с твёрдыми правилами, готового действовать, при этом сомневающегося и мыслящего — это только доктор Живаго (чем и объясняется феерическая слава романа). И очень точно Арабов это почувствовал, сделав героя героем действия. Помните, Юрий Живаго, который говорит Комаровскому: «Вы забываетесь!» Это совсем не безвольный интеллигент. «Безволием не интересовались», — говорит Пастернак, тем более во времена Шекспира. Русский Гамлет, русский Фауст — это очень редкий герой.
Пожалуй, некоторые пролегомены опять же к этому герою, некоторые подходы к нему есть у Алексея Толстого в Рощине, но по обстоятельствам времени и места он того, что хотел, не мог написать. Мне кажется, что интересные подходы, интересные подступы были у Куприна, который сам был такой — действующий и мыслящий герой. У Грина были, но Грина не воспринимали всерьёз как фантаста. А между тем, герой Грина, который у него в «Жизнь Гнора» — «гибкая человеческая сталь», сочетание нервности и решимости. Да, это действительно редкий тип героя для русской литературы. В основном они или борются, или уж я не знаю, чем занимаются.
«Расскажите о Вагинове, о его поэзии и прозе».
Давайте лекцию сделаем. Почему нет? Это очень интересный человек, вообще один из любимых моих авторов. Мы тут, кстати, с Вадимом Эрлихманом, главредом серии «ЖЗЛ», думали, кто лучший писатель 20-х годов. По обыкновению затеяли мы жестокий спор и неожиданно пришли к выводу, что «Козлиная песнь» — это роман, который мы помним практически по главам, на цитаты можем разобрать. Почему на нас так подействовала эта книга удивительная и ни на что не похожая? Наверное, потому, что в ней есть (я пытался в Альтергейме в «Орфографии» как-то его изобразить) сочетание уязвимости и цинизма, сентиментальности и стойкости. Представьте себе Вагинова-красноармейца — знатока языков, культур, обэриута в сущности, попавшего в Красную армию. Как он говорил: «Я в гуще овчинного войска [Я в толпе сермяжного войска]. // В Польшу налёт — и перелёт на Восток».
Две такие фигуры я знаю в литературе 20-х годов — это Вагинов и не успевший написать свою прозу, но написавший гениальные стихи Игорь Юрков, которого благодаря покойному Святославу Евдокимовичу Хрыкину прочли всё-таки миллионы. Юрков был гениальный поэт, очень вагиновского плана. Хрыкин, Царствие ему небесное, напечатал всё это. И я пытался тоже как-то… Ну, первую книжку Юркова после долгой паузы издал Житинский в «Геликоне» по материалам хрыкинским и моим. И я очень счастлив, что этот автор, так Вагинову близкий, занял своё место в «таблице Менделеева». Вагинов — это совершенно необходимый элемент. Понимаете, он такой трогательный, его так жалко, он так восхищает! Лучше всех, наверное, в нём разбирается Аня Герасимова (Умка), которая, конечно, более известна как бард, но кроме того и совершенно выдающийся специалист по ОБЭРИУ.
«Способны ли вы оценить творчество Пелевина?»
Да, конечно. Я довольно много об этом написал. Я считаю Пелевина крупнейшим современным прозаиком. И что бы он ни написал… Я говорю, даже если он опубликует свои телефонные счета, это всё равно нужно будет читать.
«Не могу найти записанную версию лекцию Лизы Верещагиной о Флоренском. Немного расскажите, о чём там говорилось».
Мы попробуем ей выложить, потому что её записывали. Лиза Верещагина — это моя студентка, очень хороший молодой поэт. Она читала лекцию о Флоренском. Там тоже страшные споры возникли уже после лекции. Лекция сама по себе была интересная, но там, уже когда она закончилась, начались по-настоящему грубые… Ну, не грубые. Вот ужасно было интересно. Ледяная Москва, холод был. Съехались какие-то сто человек совершенно неожиданно в этот наш маленький зал на Ермолаевском, 25, в аудиторию «Прямой речи». Кто мог думать, что на лекцию студентки о Флоренском набьётся пусть маленькая, но очень плотная, страшно запрудившая всю аудиторию… Я думал, придёт человек двадцать, кто бы ни читал о Флоренском. А так спорили дико! Такие все молодые! Какие-то старшеклассники, которые размахивали там «Теорией имён» и «Столпом и утверждением истины» или какими-то его совсем поздними работами. Ну чудо просто! И Лизу, с одной стороны, заклевали; с другой — она вышла абсолютно счастливая, потому что поняла, что это безумно всем интересно. Это была сильная лекция. И вообще Лиза — талантливый человек.
«[Модераторы], пропустите мой вопрос по Пелевину». Пропустили. Ответил.
«Следуя вашему совету, читаю «14 декабря» Мережковского, — молодец, спасибо! — Только сейчас начинаю понимать ужас и трагизм того, что случилось. Или не случилось? Как по-вашему, было бы лучше для тогдашней России пойти по пути, предложенному Пестелем? Не стоит ли поговорить об этом подробнее?»
Конечно стоит. Давайте попробуем поговорить об этом подробнее. Существует же, в конце концов, замечательная книга Пьецуха «Роммат» (Пьецух — профессиональный историк и школьный учитель, кстати), в которой рассматриваются возможности прихода к власти декабристов. Почитайте, там есть интересные точки зрения. А было бы лучше по Пестелю или по Николаю? Не знаю, боюсь сказать. Во всяком случае, в «Русской Правде» были очень здравые мысли.
Огромный вопрос про Бандеру. Не чувствую себя вправе отвечать на него.
«Смотрели ли вы последнюю адаптацию романа Толстого «Война и мир» по BBC?»
Да, вместе с матерью посмотрели. В общем, пришли к выводу, что это хотя очень иллюстративно и бегло, но хорошо. Конечно, Дано — это совершенно прекрасный Пьер. Ну и Элен мне нравится. Хотя она совсем не такая, но она похожая. Таппенс… Как её там по фамилии? [Мидлтон]. Очень славная. Наташа мне понравилась. Да нет, вообще хорошая экранизация, хорошая. Главное — добрый дух романа там уловлен.
«Детский вопрос: сочетается ли с представлением о бессмертии души тот бесспорный факт, что тело влияет на душу? Недостаёт миллиграмма гормона — и вот уже депрессия. Миллиграмм лишний — наполеоновские планы и оптимизм гигантский. А старость? А спермотоксикоз? А беременность? Что же тогда душа без тела?»
А вот вы попытайтесь этот эксперимент (благо у вас всё для этого под рукой) на себе поставить. Знаете, у меня с первой женой об этом были очень интересные дискуссии. Надька — она же очень хороший биолог действительно, а ныне уже доктор. Я спрашивал её часто, каким образом её биология сочетается с её же верой. И она мне всегда поясняла, что если человек чувствует в себе светящуюся точку, то вопрос о бессмертии души для него очевиден. Надо только расчистить в себе эту светящуюся точку. Понимаете, надо отделять душу от своего Я. Душа не тождественна Я. Это на ваше Я влияет упомянутый спермотоксикоз или просто токсикоз, или гормоны. А помимо этого существует то, что делает вас человеком, что вас одушевляет. Вот если вы расчистите в себе это… Это не характер. Это не склонности. Склонности — это всё ваше. Это, что называется, «мешок костей». А вот попробуйте расчистить в себе то, что тянет вас вперёд, то, что заставляет вас сострадать несчастным или завидовать счастливым (такое тоже бывает). Расчистите это в себе! Это очень интересный эксперимент — расчистить, где Я, а где не Я. Это безумно увлекательно.
«Ваше отношение к смерти во многом совпадает с главной идеей книги Беккера «Отрицание смерти», — совпадает, конечно. Великие умы часто сходятся. — Беккер утверждает, что двойственность человеческого состояния заключается в противоречии между ограничениями физического мира и человеческим стремлением к биологической и духовной экспансии, — сам термин «экспансия» мне очень не нравится, надо его уточнять. — Разрешением этого конфликта является культура».
Совершенно правильно. Это старая мысль, кстати. Лев Мочалов ещё в 50-е годы писал о том, что культура разрешает главное противоречие человеческой природы: с одной стороны, стремление к иерархии, с другой — стремление к равенству, потому что культурная иерархия ненасильственна! Культура иерархична, но эта иерархия базируется не на унижении. Да, это старая мысль.
«Добрый день. Последовательно вникаю в Диккенса, — и правильно делаете. — При чтении его, казалось бы, реалистичных романов всё равно появляется ощущение абсурда и фарса. В чём его секрет?»
Это как раз очень естественно. Диккенс — вообще гиперболист большой и сказочник. Вот вы пишете, что при чтении «Заводного апельсина» Бёрджесса возникает аналогичное ощущение. Ну, Бёрджесс к нему и стремился. Бёрджесс фактически создал новый язык, на котором Алекс думает, с огромными заимствованиями русизмов (что Кормильцев переводил, кстати говоря, как тюркизмы, чтобы подчеркнуть их экзотичность): все эти «stari kashka», «молоко с ножами» и «всякий прочий kal», если вы помните. Конечно, такая гиперболизация реальности, её сознательное сведение к гротеску входят в художественную задачу. У Диккенса эта гиперболизация на каждом шагу. И, конечно, Диккенс не реалист. Господи боже мой, ну какой Диккенс реалист? Диккенс — сказочник. И все его герои сказочные. Подробное исследование на эту тему написано. Другое дело, что из него выросли британские реалисты — такие, как Голсуорси, Моэм, Шоу. Но надо сказать, что они все несут тоже на себе сильнейший отпечаток гротеска Диккенса.
Меня очень многие спрашивают, что почитать из английской литературы, чтобы составить представление об английском характере. Я думаю, что лучше всего читать Киплинга, с одной стороны, и прежде всего «Свет погас». Это плохой роман, но очень показательный. Голсуорси, конечно. И Моэма, ничего не поделаешь, а в особенности «Cakes and Ale» («Пироги и пиво»). Это такой хороший роман, ребята! Он немножко в тени двух других — «The Moon and Sixpence» и «Theatre».
Кстати, «The Moon and Sixpence» — наверное, это мой самый любимый английский роман. Он, правда, не об английском характере. Хотя, знаете, а если взять характер рассказчика? Там же потрясающий, абсолютно симфонический финал. Помните «под визгливые звуки концертино»? Это когда он представляет Стрикленда и его сына, танцующего под визгливые звуки концертино. «Я хотел возразить, но разговор замер у меня на языке. Мой дядя, который помнил времена, когда за фунт можно было купить не дюжину устриц, а целых тринадцать штук!» Вот этот гениальный симфонический финал, вот это синее небо и безбрежная широта океана… Ну, прочтите! Вот характер рассказчика в «Луне и гроше» — это и есть английский характер: иронический, печальный. Блин, так я люблю эту вещь! Просто я её прочёл, помню… Нам же очень рано её давали, потому что немножечко адаптированный «The Moon and Sixpence» был просто в программе английской спецшколы. И я, когда его прочёл, в такой пришёл восторг! Помню, тоже я всё допытывался у матери, в чём смысл названия. Я и сейчас не скажу, что «Луна и грош» — это «Гений и нравственность». Конечно, не об этом дело. Дело о том, что «Луна и грош» — это Стрикленд и рассказчик. Это честный грош, если уж на то пошло.
И что всё-таки есть в английском характере? Что очень важно? Я люблю поговорить о том, что люблю! Я не могу говорить о том, что ненавижу! Вот я люблю о том, что я люблю. Я люблю ту сцену, когда приходят капитан и доктор, когда они впервые знакомятся со Стриклендом. И когда доктор приходит осмотреть умершего Стрикленда, и когда там три абзаца описания стен, вот этой живописи фантастической, безумной, порочной — вот этот райский сад! Описана на самом деле, конечно, последняя картина Гогена «Кто мы? Куда мы идём?». Но вот то, как она описана… Она лучше, чем у Гогена это нарисовано!
И вот здесь вы поймёте, что характер англичанина на самом деле абсолютно рациональный. Восхищение перед иррациональным, восторженный ужас, преклонение перед необъяснимым — вот в этом корень английской глубокой религиозности. Это есть у Честертона, но это есть и у Уайльда, а в особенности это есть у Моэма, который при всём своём трезвом скепсисе, когда он видел то, что находится за пределами его понимания, он благоговел. Человек же проверяется одним критерием — как он относится к непонятному. Либо он его «ненавидит и стремится затоптать», как сказал Стругацкий когда-то; либо он умеет перед ним благоговеть. И вот столкновение английского духа, английского характера этого доктора (простого, как мычание), его столкновение с этой гениальной живописью — безумной, запредельной, греховной! — вот это и организует книгу.
И надо вам сказать, что я «Луну и грош» перечитываю где-то раз в год, просто чтобы не разучиться писать, потому что моэмовские приёмы там очень совершенны. Конечно, там совершенно ужасная история со Стрёвами. Стрикленд противный. Что вы хотите? Конечно, он противный. Но надо уметь видеть то, что за человеком. Стрикленд же и свою жизнь сломал, а не только чужую. Гений ломает жизни. А если не ломает, то он не гений. Это ужасно. Прежде всего он ломает жизнь своего носителя. С Галичем ведь тоже ужасное случилось, когда человек начал писать — и сломал всё вокруг себя. Талант его распрямил, что называется, до хруста — и поломал. Такое бывает. История о том, что гений делает с его носителем — это и есть Моэм. Наверное, это я вам очень рекомендую.
«Почему повесть или рассказ сильнее воздействуют на читателя, чем роман?
Смотря какой роман. Вот Валерий Попов когда-то сказал, что в романе всегда слишком много соединительной ткани. Даже в «Войне и мире» есть лишние куски — конструктивно необходимые, но явно, что они именно конструктивно нужны. В «Анне Карениной» их, может, и меньше, но они тоже есть. Чем меньше объём, тем больше энергия. Повесть в этом смысле… Миндадзе когда-то сказал: «Повесть, наверное, всё-таки оптимального объёма: пятачок очерчен, и там больше пространства, чем в рассказе, но нет ещё романного объёма, на который будет распределяться это давление».
«Как бы вы описали временной период СССР с 1976-го по 1985 годы?»
Во многих отношениях это всё-таки умирание великой культуры. Умирание, к сожалению. Уже в этом трупе завелись черви. Правда, завелись и многие очень интересные… Для того чтобы понять, что такое были эти годы, достаточно прочесть ленинградский сборник «Круг», где были изданы впервые многие молодые ленинградцы. Он задумывался, примерно как «Метрополь», но он был издан официально, насколько я помню, в «Советском писателе». Он подвергся такой критике! — прежде всего в «Нашем современнике» и иных почвенных изданиях. Там просто яблоку было негде упасть от желающих пнуть этот сборник. Он был действительно не очень хороший, но по тенденциям он был крайне представителен. Надо сказать, что и в «Метрополе» было тоже не очень много хороших текстов. Кроме Горенштейна, да Аксёнова, да подборки Высоцкого, да четверостишья одного Вознесенского, там просто и не было ничего особенно хорошего, но тем не менее событие само по себе замечательное. Ну и Липкин, конечно.
«Почему Джек Лондон покончил самоубийством?» Он подробно ответил на этот вопрос в «Мартине Идене». Не думаю, что нужно что-то добавлять.
«Видели ли вы ролик в YouTube российских студентов с обвинениями Обамы? Как это появляется? И неужели студенты настолько глупы, чтобы заниматься такой бредятиной?»
Я не думаю даже, что они это сделали ради корысти. Они это сделали ради интересного духовного опыта. К сожалению, молодые люди иногда не могут остановиться и ради духовного опыта употребляют то алкоголь, то наркотики, то съёмки вот в таком ролике. Им кажется, что это расширяет их духовные горизонты.
«Знакомы ли вы с творчеством Леонида Почивалова?» К сожалению, нет. Теперь придётся познакомиться.
«Почему у Гончарова получился только один великий роман «Обломов»? Ведь «Обыкновенная история» — вещь довольно простая, — согласен абсолютно, — а «Обрыв» затянут, мучителен и однообразен».
Видите ли, он болел, был больной человек действительно, и болезнь эта прогрессировала. Это бывает со многими художниками. Кстати, он и свой невроз описал в «Обломове». Он не потому 20 лет писал «Обрыв», что он был так требователен. Нет, он 20 лет пытался заставить себя написать книгу. Как сказал бы Лейн из рассказа «Фрэнни» Сэлинджера, «ему недоставало некоторых гормонов». Вот «Обломов» — это такая золотая середина, центр трилогии. В «Обрыве» есть прекрасные места. И надо вам сказать, что Марк Волохов — это один из самых убедительных героев в русской прозе. И Вера — очаровательная героиня. «Обрыв» — хороший роман для чтения в гамаке. Но, конечно, ему не хватает напряжения, ему не хватает той страсти, которая движет мирами, и поэтому, собственно, Гончаров остался писателем всё-таки первого сорта, а не высшего. Но каким он мог быть писателем? Вот он был одержим настоящим художественным темпераментом. Эта склочная история с Тургеневым, описанная в очерке «Необыкновенная история» (вот тут видно настоящее безумие, паранойя, он задел за живое), и в статье «Мильон терзаний» про «Горе от ума». Вот как он умел писать — с каким темпераментом, с какой страстью! — это там есть. А так всю жизнь один, без женщины, всю жизнь на государственных должностях, всю жизнь вот эти «ленивые серые глаза навыкате», «сонные губы» — всё, как описано в «Обломове», когда появляется сочинитель. Он знал за собой недостатки темперамента, и чтобы с ними справиться, написал «Обломова». Мне всё это как раз завтра предстоит ещё на одном уроке рассказывать. «Обломов» — это такой психоделический роман, вгоняющий читателя в дрёму. Просто прелесть этого романа в том, что автор, как всегда бывает в русской литературе, начал бороться со своим комплексом, а кончил тем, что полюбил его.
«Сегодня исполнилось 25 лет Анне Русс, — поздравляю! — Из выступлений в Казани мы знаем, что вы по-доброму к ней относитесь, — по-доброму. — Кого из поэтов её поколения вы могли бы рекомендовать?»
Ну как «рекомендовать»? Чем больше будет поэтов, тем лучше. Анна Русс — замечательный поэт, действительно один из самых талантливых поэтов поколения. Давно не читал её новых стихов — просто, может быть, потому, что не хожу туда, где она их размещает. В любом случае поздравляю! 35 лет — прекрасный возраст. Для поэта, как правильно Кушнер заметил (а особенно для современно), это возраст молодости: как раз освоено наследие классиков и можно начинать искать дальше.
«Я так и не смог полюбить джаз». Я тоже. Ничего страшного с нами нет. Про «Наследника из Калькутты» я уже рассказывал. Про «Шантарам» ничего сказать не могу, потому что ничего интересного в нём не нахожу.
«В прошлом «О́дине» вы сказали, что самое постыдное в 1992 году было находиться над схваткой. Ваше отношение к политике понятно. А как вы относитесь к Веллеру, который и тогда, и сейчас считает неправильным вмешиваться, и к БГ, который призывает относиться к власти, как к погоде?»
Нет, позиция БГ изложена неточно. БГ вмешивается довольно часто, за что и огребает от разных неофитов (видимо, просто желающих как-то засветиться на пинке). А что касается Веллера, то Веллер обосновал свою позицию очень наглядно. Он сказал, что он по тем временем не чувствовал морального права брать чью-либо сторону. И я с ним совершенно согласен. А у меня не было морального права находиться над схваткой, потому что эти танки защищали меня. Просто меня. Меня как молодого журналиста. Меня как москвича, придерживающегося определённых… Я не говорю, что я это одобрял. Я должен был разделить за это ответственность. Вот и всё. Между одобрением и разделением ответственности довольно большая разница. Разделение ответственности не приносит выгод.
Начинаю отвечать бегло на вопросы, заданные по личной почте.
«Вы предлагали такой способ преодоления комплексов: поставить решаемую задачу и решить её. А как вы охарактеризуете совет наоборот: найти то, чего я не умею, и на этом основании счесть себя ничтожеством?»
Это, конечно, интересная духовная практика, но я не понимаю — зачем? Считать себя ничтожеством полезно, полезно просто для духовного роста, но просто вечно считать себя ничтожеством не надо. Поставьте себе задачу, выполните её — и прекрасно вы себя почувствуете.
«Прочли ли вы «Пойди, поставь сторожа»? — прочёл. — Мне он понравился даже больше «Пересмешника», — он не хуже «[Убить] пересмешника», но ничего принципиально нового относительно «Пересмешника» в нём нет.
«Что вы думаете о Петре Вайле и «Стихах про меня»?»
Ох, думаю, но говорить не буду. Во-первых, о вкусах не спорят. Во-вторых, мне кажется, что вкусы Петра Вайля довольно точно охарактеризованы в «Докторе Живаго»: это человек, который любит хорошее. А мне очень нравится то… Это не бедствие среднего вкуса. Я бы сформулировал иначе: это бедствие хорошего вкуса. А мне в последнее время всё ближе слова Мандельштама: «Да, я люблю в поэзии только дикое мясо», «И до самой кости ранено // Всё ущелье криком сокола» («Гоготур и Апшина»). Я люблю всё более какие-то вещи, выходящие за рамки хорошего вкуса, потому что писать хорошие стихи не трудно. Мечтал, кажется, Филонов о картине, которая бы «сама держалась на стене без гвоздя». А Хармс сформулировал ещё лучше: «Настоящее стихотворение должно быть таким, что если листок бросить в окно, оно разобьётся». Вот таких стихотворений очень мало в русской литературе и вообще в литературе.
Интересный вопрос: «Посмотрел старую экранизацию «Дыма» по сценарию Рязанцевой, — тургеневский «Дым». — Что значит слово «дым» для Грибоедова и для Тургенева?»
И просят лекцию на эту тему. Знаете, может быть, я такую лекцию и прочту, потому что я очень люблю этот роман — «Дым». И я вообще считаю его лучшим тургеневским романом, мы здесь с Рязанцевой совпадает. А «дым, дым и дым»? Там правильно сказано: «Всё — дым, кроме одного». А что это «одно»? В этом Тургенев совпал с Пушкиным. Там появляется героиня, похожая на Татьяну, и это очень важно. И действительно всё — дым, кроме совести и кроме любви.
Хороший вопрос: «Заметил в своей жизни аналогию со сказкой об Алёше Поповиче, который лежал на печи 30 лет и 3 года, — это не Попович лежал, а лежал Муромец. — Чувствую в себе с приближением такого же возраста, что также способен на что-то большое. Занимался чёрте чем — по сути, лежал на печи. А сейчас нахожу и всё чётче формулирую призвания. Нормально ли это в таком возрасте?»
Да, абсолютно нормально. Обратите внимание, что 33 года — это не только для Христа возраст великих духовных свершений. Пушкин в 33 года написал главное своё произведение — «Медного всадника». Толстой в 33 года написал «Поликушку». В общем, исходите из того, что 33 года… А, Тургенев в 33 года начал писать наконец прозу — «Записки охотника» и «Муму», абсолютно великую повесть. Нет, 33 года — это очень хороший возраст. У вас всё только начинается.
«Прочитал после последней передачи «Искупление». Почему все не-евреи у Горенштейна либо по-мещански отвратительны, либо просто гадины?» Господи помилуй! А мать Сашеньки абсолютно святая? Сашенька противная, да. А мать Сашеньки? Святые люди, абсолютно жертвенные! Что вы?
Вернёмся через три минуты.
РЕКЛАМА
Д. Быков― Поехали дальше! «Один», в студии Быков.
«У меня много материалов, бесед, ярко и объёмно характеризующих современных персонажей, способных дышать лишь сероводородом и потому так ликующих сейчас, — это мне уже письмо пришло по итогам этого разговора. — Что можно из этого сделать? Книгу? Видеоролик? Материала много, и очень яркого. Это не просто тупые зомби, а именно высокоинтеллектуальные негодяи, выстраивающие хитрые теории и эксгибиционистски бравирующие своей подлостью».
Я об этом говорил — об экстазе падения. Понимаете, Астах (подписан этот вопрос), я бы на вашем месте такую книгу сделал. Она свою службу сослужит, будьте уверены. И вообще на этих персонажей надо сейчас смотреть, запоминать и записывать, а то они потом опять валенками прикинутся, конечно. Я призываю не к мести. Я призываю к тому, чтобы запомнить.
Я пересказываю вопрос, он очень длинный: «Что можно сделать с женщиной, которая не желает духовно расти? Я ей подкладываю книги, а она их не читает».
На женщину не надо воздействовать техниками духовного роста, там есть какие-то другие формы воздействия. Необязательно это любовь или секс. Необязательно это деньги. И уж совсем, конечно, нельзя думать, что физическое насилие — путём побоев заставить читать литературу. А то я вспоминаю, как в «Локисе» у Мериме диалог, помните: «Как вылечить старуху графиню от безумия?» — «Да так, как лечат в России кликуш: побить их всей деревней — и они немедленно выздоравливают». Нет, конечно, это глупости. Ну, какие-то другие способы воздействия.
Почему-то на женщину очень хорошо действует, если её заинтригуешь чем-то, если ей скажешь: «А вот эта книга не для тебя». Так же, кстати, и с детьми бывает. Не потому, что женщины, как дети, а потому, что в женщинах очень сильно самолюбие, как и в детях. «Эта книга не для тебя». — «Не для меня?! Да ты идиот!» И завтра — пожалуйста, она её прочла. Я, кстати говоря, в классе так очень часто делаю. Особенно девочки на это всегда ловятся. Я говорю: «Дети, не вздумайте читать Розанова! Вам это рано», — причём я это искренне говорю. На следующей неделе весь класс говорит цитатами из Розанова! Что с этим сделать — не знаю.
«Передо мной в этом году стоит выбор: получить диплом бакалавра или со спокойной душой идти работать. Получаю лингвистическое образование». Знаете, такой знаменитый филолог и философ Асмус когда-то сказал: «Аспирантура — дура, а штык — молодец». Идите работать, я считаю.
«Пожалуйста, прочтите лекцию про «Бессильных мира сего». Три таких просьбы. Пожалуйста, с наслаждением! Следующая лекция будет про «Бессильных мира сего».
«Вы пишете в статье 1995 года, — Господи боже мой, это же 21 год назад! — по поводу экзистенциальной трагедии жизни, утверждая, что западный интеллектуал успел придумать противоядие этому ощущению. Осветите эту тему подробно».
В статье, наверное, это есть. Я не помню, о какой статье вы говорите. Наверное, о статье в журнале «Время и мы». Понимаете, дело в том, что западный человек от очень многих вещей, от очень многих трагедий не прячется. Он называет вещи своими именами, он их, что называется, faces, он выходит к ним лицом к лицу, поэтому некоторые противоядия и придуманы. Иногда достаточно просто называть. А мы от бессмыслицы бежим, мы везде отыскиваем смысл. Почему не назвать что-то бессмыслицей, в конце концов?
«Если можно, расскажите о Пинчоне».
Я не специалист. Главный специалист по Пинчону у нас Сергей Кузнецов, насколько я знаю. Но, в принципе, почему нет? Когда-нибудь. Я бы рассказал про «Against the Day». Это единственный роман, который я люблю. А моя самая любимая там сцена — это сцена путешествия героев в машине времени, когда там: «Сложная система запахов истории пронеслась между них, но сильнее всего пахло всё-таки экскрементами». Я вообще очень люблю Пинчона, это один из моих любимых авторов, но только одного романа. Хотя почему? «Gravity’s Rainbow» — прекрасный роман тоже.
Ещё три вопроса, потому что трудно от вас оторваться, — и Богомолов.
«Спасибо! — и вам спасибо. — Я сам закончил новосибирскую ФМШ почти шесть лет назад, — привет, друг! — До сих пор не могу отвязаться от этой школы, — и не надо отвязываться. Я вот от совета «Ровесников» до сих пор не могу отвязаться. — Все эти шесть лет чуть ли не каждую неделю заходил туда по тем или иным поводам, — и я заходил. — Сейчас заменяю семинариста по физике в десятом классе. Занятия приносят мне какую-то долю моего тогдашнего оптимизма».
Понимаете, если вы любите школу… Тут, естественно, человек, как всегда, спрашивает, нормально ли это. Нормально. Я однажды ехал на «Жигулях» верных куда-то, на какую-то программу, на которую я очень не хотел ехать, была какая-то совершенно бесполезная дискуссия. И вдруг я увидел, что руки на руле сами собой меня привели в школу «Золотое сечение», где у меня в тот день не было уроков, но просто я захотел туда приехать. Я пошёл и с облегчением за меня и коллегу дал два урока, просто чтобы не ездить на эту ерунду. Понимаете, если человеку хочется в школу, то и слава богу. Мне всё время хочется в школу, и необязательно в «Золотое сечение». Вот завтра, например, я опять туда поеду. Я уже давно там не работаю, потому что просто у меня времени нет физически — мне роман надо дописывать, и всё-таки никто не прекращал моей работы, слава богу, в «Собеседнике», или в «Новой», или в «Профиле». Но мне надо ехать, и вот я хочу туда.
И тот не учитель, кого не тянет в школу. Если вас туда тянет, то и ради бога. Это наш экстремальный спорт. Понимаете, старого пса не выучить новым трюкам. Я помню, мы с матерью однажды… Сколько мне было? Ну, примерно сразу после армии. Отдыхали мы с матерью в пансионате подмосковном. Летом это было, и там был Последний звонок. И услышав, что у этих детей Последний звонок, мы просто пошли посмотреть. О нас там узнали как-то, мать немедленно позвали, она стала там что-то выдумывать, что-то клеить, рисовать. Когда вы идёте мимо школы и вас туда тянет, ну и идите туда! Потому что дух школы никогда потом не повторится. Там людям интересно.
Переходим к Богомолову.
С Богомоловым два аспекта. Первый (как это названо у Стругацких, «Тайная личность Льва Абалкина») — тайная личность Володи Войтинского (его настоящая фамилия). А второй — это собственно художественные особенности его текстов.
Что касается тайной личности. Ольга Кучкина довольно серьёзно занималась этой проблемой, посмотрите в «Википедии» ссылки на её работы. Несколько друзей Богомолова рассказывали, что он воспользовался разными деталями их биографии для реконструкции своего фронтового опыта. Действительно жизнь Богомолова очень мало документирована. Некоторые его друзья и коллеги мне рассказывали, что архивы, в которых побывал Богомолов, хранят следы его пребывания, потому что всё, что касалось его прошлого, там тщательно зачищено. Хорошо его знавший Юлий Анатольевич Дубов, превосходный писатель, рассказывал мне, что у него было представление о крайне высоком месте Богомолова в иерархии спецслужб.
Наверное, Богомолов действительно обладал некими непростыми навыками, потому что когда на него — 75-летнего — напали трое в подъезде с целью ограбления, он одного уложил, а двое убежали. Он серьёзный был человек. И, кстати говоря, при моём единственном общении с ним, он производил впечатление большой физической мощи. У меня есть ощущение, что действительно он служил в СМЕРШе, действительно много чего повидал, и действительно некоторые вещи в его романе принадлежат к числу невыдуманных и невыдумываемых. Поэтому, если он выдумал себя таким, то это гений. Если нет, то это просто очень хороший писатель.
Теперь — что касается, собственно говоря, особенностей богомоловской прозы. Я хотел бы сразу отмести дискуссию о том, уместно ли поэтизировать СМЕРШ. Что это за организация, мы все себе примерно представляем, что такое военная контрразведка. «Но где ж ты святого найдёшь одного, чтобы пошёл в десант?» — как пел Анчаров. Конечно, военная контрразведка, по поводу которой Богомолов ввязался в долгую полемику с Владимовым, сочетала в себе и черты героические, и черты палаческие. Она и мешала воякам, когда оклеветовывала невинных, воякам настоящим, и она действительно работала по-настоящему со шпионами. Шпионов ловили, тут ничего не сделаешь. И история, которую описывает Богомолов, — это его вымысел процентов на девяносто, но такие истории случались. И половина документов, которыми он пользуется, подлинные.
Во всяком случае, в чём секрет успеха романа «В августе сорок четвёртого»? Вот здесь надо сказать одну очень принципиальную вещь. Все спрашивают: что такое бестселлер, как написать бестселлер? Бестселлером становится книга, которая даёт национальному характеру возможность полюбоваться собой, возможность собой восхититься, которая этому национальному характеру придумывает наиболее льстящий облик. Мы любим себя такими честными, как Татьяна, такими преданными долгу. Вспомним, сколько девушек (некоторые из них потом соглашались, некоторые — нет) с радостью вам говорили: «Но я другому отдана; // И буду век ему верна». Им нравилось это говорить, даже если они потом в результате падали в ваши объятия. Но в какой-то момент им эта самоидентификация льстила. Вспомните, какой лестный образ русских нарисован в «Войне и мире» — люди, которых скрытая теплота патриотизма объединяет вне зависимости от того, это Жюли Карагина или княжна Марья. Абсолютно лестный образ страны нарисован в «Василии Тёркине». То есть бестселлером становится то, что совпадает с национальным характером и делает этот национальный характер привлекательным в собственных глазах. То есть, по тому же Пушкину: «Себя как в зеркале я вижу, // Но это зеркало мне льстит».
Вот таких два абсолютных бестселлера, выражающих национальный характер идеально точно (плюс песни Высоцкого, конечно), было в 70-е годы: «Москва — Петушки» Ерофеева и «В августе сорок четвёртого» Богомолова. «Москва — Петушки» — это роман о том, как гениально русский человек пьёт, а «В августе сорок четвёртого» — это о том, как он гениально работает, как он гениально занимается азартным, весёлым, увлекательным делом. Помните, когда там Алёхин прокачивает Мищенко. За 10 минут прокачать Мищенко! Я думаю, лучшее, самое сильное, что есть в этом романе — это примерно 50 предпоследних страниц, страниц внутреннего монолога, где главный герой, начальник разведгруппы, прокачивает Мищенко, и в голове у него идут три мыслительных потока одновременно, которые пересекаются.
Первый — он всё время помнит, что у дочери обнаружили опасную болезнь, что ревмокардит «точит суставы и лижет сердце». Он всё время вспоминает эту формулу.
С другой стороны, он постоянно повторяет себе: «Качай его, качай!..» — и перечисляет очень точный перечень возможных примет в его документах. Помните, там иногда добавляется лишняя точка в документе, иногда — пропуск буквы. И он подробнейшим образом проверяет фактуру бумаги. Всё это там изложено. Это дико интересно, потому что на огромном фактическом материале написано.
И третий поток мыслей, который там есть, — это он поддерживает диалог. Он вынужден поддерживать диалог с Мищенко. Кроме того, он должен всё время помнить, что как только он скажет условную фразу «будьте любезны», на линию обстрела выходит прячущийся в кустах его непосредственно подчинённый, Малыш. И вот как раз в этом самом эпизоде, когда он произносит «будьте любезны» и успевает пригнуться — вот там-то и погибает этот самолюбующийся и несчастный оперный певец, который вынужденно мобилизован и совершенно не годится для армии, потому что он любуется собой непрерывно. Вот это как раз не приятный Богомолову тип. Он, в общем, несчастный человек, но он как раз забыл и оказался на линии выстрела.
И вот идёт это страшное напряжение на 50 страниц (это примерно седьмая или восьмая часть романа), на 50 страниц идёт этот внутренний монолог, написанный с массой подробностей. И через него пролетаешь так же стремительно, как через Стивена Кинга, который тоже очень любит такие внутренние монологи писать. Это подготовлено (и надо сказать, что подготовлено очень тщательно) всем предыдущим ходом романа.
Нужно заметить, что Богомолов вообще романную технику демонстрирует потрясающе. Правильный роман построен как? Примерно пять шестых или семь восьмых его объёма писатель собирает машину, а в восьмой части эта машина едет. Ну, если это, конечно, не такой роман-эпопея, как «Война и мир». Допустим, такой роман, как «Анна Каренина» или как «Бесы», где три четверти действия — это подготовка к действию, а потом — бабах! — и оно сорвалось со спускового крючка и понеслось.
«В августе сорок четвёртого» (он же «Момент истины») — это роман о том, как готовится гигантская войсковая операция, которая будет стоить огромных денег и, возможно, жертв, но за 15 минут до начала этой операции Алёхин прокачал Мищенко. И идёт вот эта знаменитая реплика, помните, когда Малыш, ополоумев от счастья, кричит в рацию: «Бабулька приехала!» Это кодовая фраза «бабушка приехала», после которой ясно: группа накрылась, группу накрыли.
Там в чём секрет вообще, в чём фабула «В августе сорок четвёртого»? Там ловят передатчик. Передатчик этот работает где-то в лесах. Есть осведомитель в штабе округа, который сливает информацию этой группе. Кстати говоря, сразу, когда их ещё тёпленькими брали, Малыш умудрился вытащить из них сразу это имя. Мищенко они там, насколько я помню, оглушили. А вот второй им всё выдал, сдал сразу источник тёпленьким. Малыш гениально разыграл истерику: «Друга, друга убили моего!» — хотя друг живёхонек. В общем, очень сильно. «За друга сейчас порву!» Кстати, это очень сильно написано и убедительно.
Понимаете, ведь разговоры о русской лени, о русском раздолбайстве не имеют под собой по большому счёту почвы. Русский человек плохо делает то, что ему не интересно. А здесь ему люто интересно. И вот будни разведки этих профессионалов («Если не бог, то точно его заместитель по разведке», — говорится там об одном человеке) — это наслаждение. Это показано действительно глазами профессионала, которыми это увидено, и глазами профессионала, который любуется другими профессионалами. Это сделано очень крепко.
Что мне нравится у Богомолова? Что во все три своих периода — период рассказов и повестей небольших, период «В августе…» и период последнего романа — он писал разную прозу. Например, почему я знаю, что Алексей Иванов большой писатель? Да потому, что каждая его следующая книга не похожа на предыдущую. Они имеют какие-то общие черты, они объединяются в группы, но он идёт дальше, он пробует то, чего ещё не пробовал. Вот Богомолов очень разный. Богомолов ранних повестей и рассказов — это хороший советский военный писатель. Правда, там есть удивительная книга «Иван», которая при первом рецензировании получила отзыв «это никогда не будет напечатано». Тем не менее, он правильно пишет, что «218 изданий в разных странах «Ивана» загромождают его полки». Он не очень любил фильм «Иваново детство», хотя фильм точный. Он не любил его за эстетизацию некоторую, потому что на самом деле это довольно голая проза, как правильно пишет Аннинский, «с очень плотно пригнанными деталями».
В чём особенность «Ивана»? Остальные рассказы — «Зося», «Первая любовь», «Сердца моего боль» — это обычная военная проза. А «Иван» — особенная вещь. Она показывает, как вымораживается душа, как невозможно остаться человеком на войне, чем человек платит. Вот этот Иван, этот страшный подросток, в котором есть и детское, а есть и звериное, потому что его не может не быть… Его попытался немножко очеловечить Тарковский (Бурляев там у него и сыграл), когда он видит эти сны, поэтические и страшные. Но Богомолов в эти сны не залезает, а он просто описывает подростка, который состарился. Помните, там потрясающая сцена, когда капитан смотрит на него и не может определить его возраст, потому что у него тельце одиннадцатилетнего, лицо и глаза тринадцатилетнего, а голос и манеры сорокалетнего. Это потрясающе написано! И вот это то, чем платит человек за войну, за превращение в механизм на войне.
Кстати, там тоже с большим любованием описано, как Иван — маленький профессиональный разведчик — собирает нужное количество иголок, шишек, каких-то песчинок, камней, цветов просто для того, чтобы запомнить, что вот столько-то танков, а вот столько-то там стоит пехотинцев. Он таким образом записывает информацию. И когда он октябрьскую реку переплывает на бревне, всё, что у него есть с собой — этот узел за пазухой, и в нём точная информация. Это замечательно написано.
А третий роман Богомолова уже совсем особенный. И там Богомолов действительно занимался очень принципиальной задачей, пока ещё, мне кажется, в русской литературе не решённой — он показывал механизм превращения человека советского (абсолютно правильного, абсолютно кондового) в человека если не антисоветского, то думающего, задумывающегося. Это действительно автобиография вымышленного лица. Очень многие похождения этого лица совпадают с похождения Богомолова, а очень многие — нет. И вот он описывает, как человек в Германии допрашивает пленных сначала, как он потом попадает на Дальний Восток служить, как он потом служит за Полярным кругом, как он потом возвращается в Среднюю Россию. Это 20 лет его послевоенной жизни — подробнейше, детальнейшее описание того, как из сверхчеловека, прошедшего войну, он превращается сначала в винтик, а потом начинает думать и сомневаться
Надо вам сказать, что Богомолов… Вот в чём его странность? Непонятно, откуда вырос такой крепкий профессионал. Потому что «В августе сорок четвёртого» — это роман, написанный действительно пером абсолютно крепкого профессионального автора военных детективов: замечательное чутьё на детали, абсолютно нормативный и прозрачный язык. А вот «Жизнь моя, иль ты приснилась мне…» написана совершенно другим слогом. Там на протяжении 800 страниц этого огромного романа, который он 20 лет ваял, считал неоконченным и не печатал (хотя роман был закончен к 1999 году), вот в этом огромном романе нет ни единого языкового сбоя. Это чисто воспроизведённая речь советского служаки, который воспитан на реляциях, приказах, газетах. И даже когда он описывает попойку или секс, он описывает это в советской терминологии. Вот этот грубый и одновременно официозный, вот этот выдуманный язык, которым написана книга, воспроизведён с абсолютно музыкальной виртуозностью. Правильно Владимир Новиков писал: «Наверное, единственным человеком, который мог бы оценить эту книгу, был бы Евреинов с его «театром для себя». Это человек… Полное перевоплощение в жизни! Вот с кем бы действительно поговорить
Я думаю, два человека понимали приёмы Богомолова — Новиков, который очень много и продуктивно о нём писал, и Никита Елисеев, автор некролога, который появился в «Огоньке», где точнейшим образом было разработано, как работает Богомолов с речью. И, конечно, умение точно держать композицию — с военной точностью, чёткостью. Роман работает, как механизм. Он совсем иначе построен, чем «Момент истины». Там нет ярко выраженной кульминации (последний роман «Жизнь моя, иль ты приснилась мне…»), но там великолепно проведено это нарастание рефлексии. Герой, который сначала не думает, а концу он начинает рефлексировать над каждым своим действием, задаёт себе вопросы. И кончается эта книга словами: «Моя вина… Во всём моя вина…». Это на самом деле поразительное явление.
Так что Владимир Осипович Богомолов, какова бы ни была его подлинная биография, — один из немногих профессионалов в русской литературе, показавший, что именно профессионализм и есть в некотором смысле аналог совести и чести.
А мы с вами услышимся через неделю.
*****************************************************
26 февраля 2016
-echo/
Д. Быков― Добрый вечер, дорогие друзья! И даже доброй ночи. В студии Дмитрий Быков, «Один» вместе с вами. Начинаю отвечать на ваши вопросы, которых на почту в этот раз пришло несколько больше, чем на форум, и они очень увлекательные.
Что касается лекции, то с колоссальным отрывом лидируют «Бессильные мира сего» Бориса Натановича Стругацкого под псевдонимом С. Витицкий (Старик Витицкий, как он его расшифровывал). Соответственно, мы поговорим в последней четверти эфира об этой сложной книге. А сейчас отвечаю на вопросы.
«С праздником! — вас также с праздником! — Было ли в вашей службе в армии что-то позитивное? И не были ли эти два года напрасно потеряны?»
Нет, не были. Напротив, позитивного было довольно много. Во-первых, я всё-таки обзавёлся там порядочным количеством друзей, с которыми и по сию пору поддерживаю довольно тёплые отношения — прежде всего, с одним из ближайших моих друзей, замечательным компьютерщиком и очень глубоким человеком Пашей Аншуковым. И с Игорем Ежовым. И только что сейчас в Штатах я встречался с совершенно замечательным Юрой Мазиком, которому я лишний раз, пользуясь случаем, передаю привет. Довольно таинственная история у меня связана с ним, потому что мне кажется, что… Ну, не буду об этом рассказывать. Я сейчас повесть небольшую об этом напишу лучше. Просто мне кажется, что после его отъезда в Штаты я многократно встречал его здесь — как-то он удивительным образом раздвоился. Понравился мне этот сюжет, я об этом напишу.
И не буду, конечно, скрывать, что я в армии написал несколько… не могу сказать, что любимых, но нравившихся мне, по крайней мере тогда, стихотворений. Они большей частью вошли в мою первую книжку «Послание к юноше». Там я написал несколько и рассказов, которые до сих пор мне нравятся; и, конечно, приобрёл бесценный опыт для романа «ЖД», который тоже многие армейские порядки в себя вобрал.
Да и потом, знаете, если перефразировать Бродского («Как-то стыдно спать, когда в шесть утра сто миллионов человек идут на работу»), мне было бы как-то стыдно не служить. Правильно заметили некоторые люди, что большинство либералов или тех, кого причисляют к либералам (хотя какой я там либерал?), служило, а большинство «диванных стратегов» одышливых как-то обходились пожеланием чужой службы и чужой крови. Поэтому я очень рад, пожалуй, что этот опыт у меня есть. Под Ленинградом это было.
Несколько вопросов сразу (и особенно подробный от Наталии) о Юрии Осиповиче Домбровском: почему он как-то отошёл на второй план?
Видите ли, не он отошёл, а мы отошли. Домбровский — вообще говоря, он же писатель, которому совершенно не присущ культ страдания. Он такой цыган в русской литературе, человек, принципиально не жалующийся, человек очень вольный. Его жена Клара Турумова (которой я, пользуясь случаем, передаю большой привет!) рассказывала, что Домбровский палец о палец не ударил бы ради какой-нибудь полезной деятельности, но если надо было растаскивать тяжеленные камни, чтобы оборудовать площадки для шашлыка и для пикника, он это делал с выдающимся энтузиазмом. В нём это действительно есть. Я полагаю, что Домбровский — гениальный писатель. Вот именно так, именно гениальный писатель. А генитальный писатель совершенно не обязан же, во-первых, писать много — достаточно одного произведения в каждом жанре, как было, например, у Олеши. А во-вторых, он совершенно не обязан работать стабильно, выдавая по книге в год.
Он действительно написал три великих романа. Я рассматриваю дилогию как один текст — «Хранителя древностей» и «Факультет ненужных вещей». Кроме того, он написал «Обезьяна приходит за своим черепом». Я считаю, что о фашизме из всего написанного это просто самое цельное и ценное. Это именно антропологический подход к фашизму. Эта книга сопоставима по своему значению, конечно, и с эссе Эко «Вечный фашизм», и уж конечно она сопоставима, я думаю, с романом Эренбурга «Буря», где тоже антропологические вопросы поставлены. Я считаю, что «Обезьяна приходит за своим черепом» — это один из самых увлекательных и великих романов о фашизме. Вот то, что он был написан в 1943 году и потом восстановлен в 50-е — это чудо.
Третий великий роман Домбровского — это появившийся уже в наше время, восстановленный буквально из черновых тетрадей роман в повестях и рассказах «Рождение мыши» — довольно уникальный по своей композиции текст, где две части. В одной части описывается судьба успешного человека, которой Домбровский для себя в это время боялся и не хотел, а во второй — судьба абсолютного аутсайдера. В этот роман как раз входят великие отдельно напечатанные рассказы Домбровского «Леки Макбет» и «Хризантемы на подзеркальнике». Я считаю, что то, что этот роман был восстановлен и выпущен в «ПРОЗАиКе» и сделался таким абсолютным бестселлером (его достать сейчас нигде невозможно) — это доказывает, что Домбровский очень далеко смотрел, и что он жив и вообще в большом порядке. Сверх того, я считаю его гениальным поэтом, потому что такое стихотворение, как «Амнистия»:
Даже в пекле надежда заводится,
Если в адские вхожа края.
Матерь Божия, Богородица,
Непорочная Дева моя!
Она ходит по кругу проклятому,
[Вся надламываясь от тягот]
И без выборов каждому пятому
Ручку маленькую подаёт.
— это просто невероятной силы стихи!
И глядя, как кричит, как колотится
Оголтелое это зверьё,
— Ты права, — я кричу, — Богородица!
Да прославится имя Твоё!
Помните, там, когда рядом с ней ходит апостол и кричит:
— Посмотрите [прочитайте] Вы, Дева, фамилии,
Посмотрите хотя бы статьи!
А она выводит всех, ну, каждого пятого. Это что-то действительно нечеловеческое! Сила этих стихов… А «Меня убить хотели эти суки» — какое великолепное:
…Но я принёс с рабочего двора
Два острых и тяжёлых [новых навострённых] топора.
По всем законам лагерной науки.
Это гениально! И потом:
Смотрю [гляжу] на вас, на тонких женщин ваших,
[На молчаливое седое зло]
На мелкое добро грошовой сути,
На то, как врут, [пьют, как заседают] крутят,
И думаю: как мне не повезло!
Это нечеловечески, прекрасные стихи!
Я помню, как Наум Ним (кстати, замечательный прозаик, дай бог ему здоровья) мне впервые прочёл это стихотворение наизусть. Он большой знаток лагерного фольклора. И я просто обалдел от того, что этот поэт — поэт таких потенций и таких возможностей! — написал всего 30 стихотворений. Ну, во всяком случае, печатал 30. Тогда ещё неопубликованными лежали стихи из «Рождения мыши» — на мой взгляд, абсолютно гениальные. И прекрасно, что Владимир Кочетков собрал этот роман по куску буквально и сумел его опубликовать.
Причины такой относительной неактуальности сегодня Домбровского (хотя он колоссально актуален, просто мы это не понимаем) в том, что это действительно замечательный образ силы и свободы, а вовсе не страдания. И в нём совершенно нет жалоб, в нём есть цыганская вольность и цыганская гордость. Написать смешной, местами очень смешной роман о 30-х годах практически невозможно, а между тем «Факультет ненужных вещей», все эти письма, которые там Зыбин рассылает — это колоссально смешно! Но главное здесь другое. Домбровский вообще рождён был остро, невероятно остро чувствовать полноту и прелесть жизни. И даже когда он описывает следовательницу, которая допрашивает Зыбина, видно, что Зыбин в неё влюбляется мгновенно (и невозможно не влюбиться!), и сама она что-то начинает понимать.
Для Домбровского нет плохих, для Домбровского нет безнадёжных людей. Когда однажды стукач, его заложивший, начал каяться перед ним, он сказал: «Да ладно, пойдём выпьем». Этот человек всё равно потом застрелился. Он только не прощал одну женщину, не прощал он Ирину Стрелкову, которая, прямо сидя перед ним, цинично и нагло на него лгала, доносила на очной ставке. Это потрясающее письмо, опубликованное в своё время в журнале «Столица» Андреем Мальгиным. В общем, хватало, конечно… Я вам его рекомендую, почитайте письмо Домбровского Сергею Антонову, оно есть в Интернете, этот документ. Вам, так сказать, мало не покажется.
Домбровский обладал потрясающей внутренней свободой, красотой и силой. И вот когда я у вдовы его слушал записи его голоса, даже запись чтения главы из «Факультета» несёт в себе такой феноменальный заряд здоровья, насмешливости, едкости! Из всех воспоминаний о нём встаёт образ уникально свободного человека.
И знаете, что мне ужасно нравится? Мне ужасно нравится одна маленькая его заметка — воспоминание о Грине. Девятнадцатилетний Домбровский работал тогда в журнале «Безбожник», и ему дали задание — опросить нескольких современных крупных писателей, почему они не верят в Бога. Он выбрал Грина, потому что его любил. С потрясающе чётким вкусом он понял, что Грин — это близкий ему автор, такой же в русской литературе цыган, такой же поэт радости, такой же счастливый алкоголик. Мне кажется, и пили они оба, только чтобы притупить невероятную остроту своих чувств. И вот он встретился с Грином во время одного из его немногочисленных приездов в Москву и стал ему заказывать этот очерк. А Грин говорит: «Нет, простите, молодой человек, я этого написать не могу». — «А почему?» — спрашивает Домбровский. — «Ну, просто потому, что в Бога я верю», — просто ответил Грин и выразил желание написать рассказ на эту тему, если нужно, или вообще любой рассказ для журнала. Но этого как раз Домбровский ему предложить не мог. Я думаю, что это один из лучших, из важнейших диалогов в русской литературе XX века.
«Знакомо ли вам творчество писателя Андрея Долгих и повесть «Улица Радио»?» Увы, нет.
«Знакомы ли вы с романом Леонида Габышева «Одлян, или Воздух свободы»?»
Увы, да. «Увы», потому что это очень страшная книга. И вообще судьба Габышева очень страшная. Насколько я знаю, он содержится сейчас в психиатрической клинике где-то в средней полосе России, чуть ли не под Владимиром. Это надо посмотреть в «Википедии», там это есть. После «Одляна» он написал ещё несколько текстов уже гораздо более низкого качества. Но «Одлян» — наверное, всё-таки самый страшный документ советской лагерной литературы. Это про детскую зону, про малолетку, про мальчика, насколько я помню, Колю по кличке Глаз, потому что он одноглазый. Это очень страшный текст. Повесть «До петушиного крика» уже упомянутого Нима и «Одлян» Габышева — по-моему, это два самых страшных текста о советских лагерях и вообще о лагерной психологии, которая в России является всосанной буквально с воздухом, с кислородом. Потому что если гуманизировать тюремную систему, исчезнет страх. А если исчезнет страх, у власти не останется стимулов управлять. Вот об этом написана повесть Габышева, об этом пишет Ним. Действительно, у кого нервы крепкие, почитайте Габышева. Это и судьба страшнейшая, и нечеловечески сильная проза. Правда, она подверглась сильной редактуре, Андрей Битов это напечатал. Но слышал я, что и в оригинальном габышевском тексте, когда роман был ещё очень велик и хранился в целом чемодане у него, это всё равно производило впечатление. Да и чего говорить, действительно великая и страшная вещь.
«В фильме «Приключения Электроника» Караченцов поёт: «Я только в одном глубоко убеждён: не надо иметь убеждений!» Мне это жутко понравилось. А нравилось ли вам находить в детских произведениях сатиру на соцреализм?»
Сатиру в прямом смысле я там никогда не находил, но, конечно, абсолютно взрослые вещи применительно к советскому образу жизни, наверное, недопустимые во взрослой литературе, в детской кое-как сходили. Чемпионом в этом смысле был, например, Юрий Кова́ль (или Ко́валь, как его ещё называли), который умудрялся в детских своих сочинениях протащить как-то и свой абсурд, и гротеск, и сатиру на советское общество. Другим таким мастером был, конечно, Юрий Коринец, замечательный писатель. Третьим и безусловно для меня в моём детстве очень серьёзным…
Я помню, кстати говоря, что у нас с Иркой Лукьяновой (ещё до того, как мы поженились, а только познакомились) одним из парольных текстов из общих была повесть Юрия Томина «Карусели над городом». Сейчас вообще очень мало кто помнит Томина, а это, братцы, большая ошибка, потому что именно он автор замечательной книги «Шёл по городу волшебник», впоследствии экранизированной как «Тайна железной двери» (помните, там: «Я — великий волшебник!»). Конечно, он был грандиозное явление, очень взрослый автор. Но «Карусели над городом» мне нравились больше всего, потому что некоторые слова оттуда — типа «Мы никак не можем преодолеть феномен беспупковости» — они до сих пор служат для меня таким же паролем, как и для других.
Я не буду называть классические детские вещи Стругацких, вроде «Повести о дружбе и недружбе» или «Экспедиции в преисподнюю». Конечно, в очень многих детских текстах писатели умудрялись как-то протащить… не скажу, что антисоветчину, нет, а они умудрялись протащить живой, нонконформистский, яркий, талантливый взгляд на вещи.
Но самая знаменитая в этом смысле вещь (на меня, правда, она почему-то никогда не действовала, но очень действовала на людей моего поколения, но я поздно прочитал) — это тогда ещё дилогия, а сейчас уже трилогия Василия Аксёнова: «Мой дедушка — памятник» и «Сундучок, в котором что-то стучит». Безумно всем нравилась эта книга. Потом он дописал к ней, по-моему, лучшую часть, уже взрослую, третью — «Редкие земли». Это пророческая книга, значение и смысл которой нам ещё предстоит долго понимать.
Кстати говоря, очень ярким и талантливым детским (а по сути, совершенно не детским писателем) был, конечно, Евгений Велтистов. Его тоже сейчас помнят немногие, помнят благодаря упомянутому «Электронику». Но лучшей его вещью, на мой взгляд, была, конечно, «Миллион и один день каникул», такая мрачная фантасмагория. И чрезвычайно мне нравилась, конечно, «Гум-Гам». Вот если кто-то ещё не читал повести Велтистова «Гум-Гам» — одну из самых страшных и странных, таких сновидческих книг моего детства, — то я к ней отсылаю.
Велтистов был вообще писатель очень нестандартный. У него были очень хорошие и взрослые повести — например, замечательная военная вещь «Прасковья». Понимаете, вот тогда это было настолько несоветское чтение… Естественно, это была фантастика: и сам образ этого Гум-Гама, и страшный Автук — конструктор, создающий всё, такой образ Бога, если угодно («Автук, зачем ты остановил время?»). Ну, почитайте, это страшноватая такая вещь. Она на даче у меня лежит, и я её там часто перечитываю.
И, конечно, Константин Сергиенко, который был, кстати говоря, одним из ближайших друзей Коваля, я с ними познакомился в один день. Константин Константинович был просто выдающийся мастер. Я не говорю о такой повести как «До свидания, овраг!», потому что в своё время поставленный Шендеровичем, тогда молодым режиссёром, спектакль по повести «До свидания, овраг!» в театре Дворца пионеров — это было культовое зрелище. Для подростка, для десятиклассника 1983–84 года это нельзя было не посмотреть. Там молодая Оля Кабо играла. Там вообще много было будущих звёзд. Лёша Круглов, впоследствии покончивший с собой в армии, Царствие ему небесное… Это было важное духовное событие: и эта повесть про бродящих собак, который травят, и этот спектакль с теми зонгами, которые туда Шендерович написал. Для нас для всех, для тогдашних московских продвинутых детей, это было совершенно культовое произведение.
Но я больше всего любил у Сергиенко совершенно пронзительные его вещи, типа «Белого ронделя», или «Дней поздней осени», или замечательного романа о дочери Годунова Ксении, «Ксения». И, конечно, мне очень нравился «Кеес Адмирал Тюльпанов», который я и сейчас считаю его лучшей вещью. Тогда он её написал в порядке дебюта, просто как халтуру. Но гений в халтуру всегда вкладывает очень многое. И, конечно, «Кеес Адмирал Тюльпанов» на фоне советской детской литературы был ослепительной вспышкой. Там не было, конечно, прямой сатиры на советское общество, но там была бо́льшая мера свободы и смелости, чем в литературе взрослой. Детям как-то это разрешалось.
Сейчас будет, страшно подумать, 70 лет Михаилу Яснову. Я пишу сейчас как раз предисловие к его однотомнику. Знаете, Михаил Яснов был для меня одним из главных поэтов 80-х годов. По его детским книгам, по его отдельным публикациям в «Юности»… Помню, в «Юности», в «Зелёном листке» тогда в первом номере всегда печатались дебюты. Я прочёл штук шесть его стихотворений — и все их до сих пор помню наизусть. Из них самое моё любимое — это «Помяну в этот вечер Елену». Я не буду сейчас его читать, но вы просто почитайте в Сети. Там воспоминания героя об античных героинях. Это что-то божественное! Он петербуржский поэт, очень сильный. Потом меня лично с ним Слепакова познакомила, они дружили по детским делам всяким (он же детский поэт прежде всего). Помните его знаменитый роман в стихах «Жизнь жука»?
Жил—
Был
Жук.
Жук
Был
Мал.
Жук
Грыз
Бук,
Ел,
Пил
Спал.
Бук
Был
Твёрд —
Жук
Был
Горд:
Он
Грыз
Год,
Он
Грыз
Ход.
Ну и так далее. В общем, для меня Яснов был тоже одним из важных детских поэтов, который писал абсолютно взрослые стихи.
«Как вы считаете, кто больше болен — общество или власть?»
Да я их, знаете ли, не разделяю. Я ещё раз хочу сказать, что Россия живёт в обществе спектакля: власть рулит, общество смотрит. Потом ему в какой-то момент надоедает смотреть. Вот и всё. Ну, надоедает этот спектакль. Или кончается еда в буфете.
«Что вы думаете о сценариях Олега Осетинского и о его работе с Мотылём и Прошкиным?»
Ну, имеются в виду сценарии — «Жёны», который назывался впоследствии «Звезда пленительного счастья», и кинороман о Михаиле Ломоносове. Я вообще чрезвычайно высоко ценю Олега Осетинского как сценариста. Как к человеку отношусь к нему весьма сложно, потому что мне кажется, что не нужно писать гадостей о людях, которых ты считаешь своими друзьями. Но он, по-моему, человек всё равно выдающийся, очень яркий. И чрезвычайно хороший фильм… Ну, это я не знаю, кого благодарить в большей степени, но и Мотыль, и Осетинский, я думаю, чрезвычайно хорошо сработали в фильме «Звезда пленительного счастья». Я этот фильм считаю лучшим у Мотыля — ну, наряду, может быть, с «Багровым цветом снегопада», с последней картиной. Два фильма я у Мотыля люблю больше всего. Не «Белое солнце пустыни», которое, конечно, шедевр, но это всё-таки стилизация. «Дети Памира» — кстати, отличная картина, первая. Но вот «Звезда пленительного счастья» и «Багровый цвет снегопада» — это для меня две самые остроумные, изобретательные, сильные изобразительно и очень интеллектуально точные картины. И главный вывод «Звезды пленительного счастья» о том, что красивой гибели не будет, а будет очень некрасивая («Я вас в крепости сгною! Я вас носками задушу!»), и точнейшая мысль «Багрового цвета…» о том, что не надо мстить, Бог сам за тебя всё сделает, а особенно в России, — это мне представляется высокими достижениями.
«Можете ли вы объяснить культовость фильма «Покровские ворота?» Я, может быть, в силу возраста не считываю чего-то, понятного жившим в СССР».
Видите ли, «Покровские ворота» — во-первых, очень хорошая пьеса Зорина, прежде всего, и хорошая потому, что там очень точные типажи. Замечательный и симпатичный рассеянный книжник, замечательный мастер на все руки, абсолютно душевно глухой Савва, прелестный Костик. Костик Ромин — кстати говоря, сквозной персонаж у Зорина, о котором у Зорина написано несколько прекрасных романов. Потом в «Тени слова» он таинственно исчезает. Зорин так любил этого героя, что даже не смог написать его смерть, а написал его таинственное исчезновение. Я, кстати, считаю, что «Тень слова» — одна из лучших его повестей, это такой детектив страшноватый, метафизический. Я вообще к Зорину очень хорошо отношусь. Это, по-моему, совершенно первоклассный писатель и драматург очень сильный.
Мне кажется, что «Покровские ворота» — это практически идеальная пьеса. Она в меру ностальгическая и в меру жестокая. Там, собственно говоря, ностальгии не так уж и много. Там показано, что коммунальный мир со всеми этими милыми велюровыми прелестными тётушками и так далее был добрым и страшным. И вот этот контрапункт очень точно, по-моему, достигнут в фильме Казакова. Фильм блистательный! Он очень грустный. И печаль этого фильма мне близка, потому что той Москвы ведь тоже нет, а я её застал, я её любил. Для вас этот фильм не культовый потому, что для вас эти герои не знакомы, наверное, а я-то их хорошо знал.
И потом, понимаете, нельзя никому навязывать свои вкусы. Кто-то у того же Зорина терпеть не может «Покровские ворота», а любит, например, «Медную бабушку» или «Царскую охоту», интеллектуальные исторические драмы, а «Покровские ворота» (кстати говоря, как и он сам) считает милой шуткой. «Вот «Варшавская мелодия» — это да! А «Покровские ворота» — ну, это так». Я тоже считаю, что, конечно, Зорин гораздо сильнее там, где он интеллектуал и трагик. И я комедию его люблю меньше, нежели такие пьесы, как, например, «Пропавший сюжет». Я совершенно честно считаю, что лучшая пьеса 80-х годов — это «Пропавший сюжет». Правда, этих моих чувств никто не разделяет, потому что эта пьеса практически не шла.
Про Григория Померанца будет лекция обязательно.
«Что вы думаете о деятельности Соломона Волкова?»
Я не знаю, что думать о его деятельности применительно к Шостаковичу, потому что аутентичность монологов Шостаковича в этой книге, интонационно очень убедительных, для меня всё-таки под вопросом. Но я знаю книгу Волкова «Диалоги с Бродским», она интересна. Цикл фильмов «Диалоги с Евтушенко» мне показался слабым, скорее подставляющим Евтушенко.
«Правда ли, что главный мотив «Острова сокровищ» — инициация главного героя?»
Знаете, есть огромная школа, которая вообще Стивенсона воспринимает как мистического писателя и исходит при этом, конечно, прежде всего из «Владетеля Баллантрэ», в значительной степени — из «Флоризеля», и, конечно, из «Доктора Джекила», который стал, наверное, самым главным текстом для XX века, хотя написан в конце XIX. Знаете, есть как бы два таких великих текста о мотиве двойничества, написанных почти одновременно, две великие сказки — «Портрет Дориана Грея» Уайльда и «Доктор Джекил и мистер Хайд» Стивенсона. Хотя, по-моему, «Портрет Дориана Грея» — гораздо слабее роман, чем маленькая стивенсовская повесть.
И Уайльда, и Стивенсона в XX веке всё время пытаются прочесть с позиций мистических, изотерических. Ну, у Уайльда, например, наибольшие возможности в этом смысле предоставляет сказка, которую я ценю выше, чем «Портрет Дориана Грея», а именно «Рыбак и его душа» — абсолютно пророческое произведение, кстати говоря, из которого, как мне кажется, выросли «Старик и море» Хемингуэя. Я думаю, что если у «Старика и моря» и есть какие-то источники, то вот другой великий эстет, другой мастер подтекста — Уайльд — конечно, в «Рыбаке и его душе» заложил какие-то основы этого текста. Если есть профессионалы, занимающиеся англоязычными литературами XX века, то эту мысль я дарю. Я ещё нигде её не встречал, а между тем эта мысль дельная. Вот она сейчас мне пришла, и я вам её щедро бросаю.
Что касается Стивенсона. Я не думаю, что там описана инициация. Но то, что Стивенсон был более глубоким мастером, чем его обычно рисуют (он был не просто поставщиком детского авантюрного чтива) — да, это несомненно. Конечно, он был глубоким именно изотерическим мыслителем. Особенно это видно, на мой взгляд, по «Флоризелю», потому что «Флоризель» — это вообще мрачное и важное пророчество о судьбе Европы. Есть хорошая книжка о Стивенсоне Олдингтона, действительно хорошая. И если кто-то прочтёт её, то он многое поймёт.
«Вы ещё не боитесь соседей? А зря… Уже можно! Путин сделал страшное и непоправимое — он достал из забвения всё самое низменное, и это механизм самоуничтожения нации».
Вот со второй частью я согласен, а с первой не согласен. Я с соседями дружу. И мои соседи в большинстве своём — мои единомышленники. Я, кстати говоря, думаю, что если и вы своих соседей опросите, то там тоже примерно то же окажется. И примерно в 86 случаях из 100 окажется всё то же самое. Это к вопросу о социологии.
Услышимся через три минуты.
РЕКЛАМА
Д. Быков― Продолжаем разговор. Быков, «Один» с вами.
«Почему можно водку, а травку или кислоту нельзя»?
Знаете, это вопрос, который очень часто задают (интересуется им kirill_z). Мне кажется, всё-таки последствия от травки или кислоты более ужасны — они разрушают мозг более необратимо, чем водка, которая, как мы видим, при всей ужасности своих последствий всё-таки не отнимает у человека его личность. Хотя я очень не люблю водку, и я в последнее время её практически не пью, о чём уже устал говорить. И мне как-то очень трудно вспомнить, ради чего я её пил когда-то. Видимо, кислота или травка ещё вот чем ужасны. Понимаете, вызываемые ими трипы, вызываемые ими глюки — это вещи индивидуальные, а Россия — страна коллективистская. Мы любим коллективный кайф, алкогольный. Нельзя вместе наслаждаться кислотой, а водкой можно. Наверное, поэтому.
Если же говорить серьёзно, дурные последствия алкоголизма тоже ужасны, конечно, но, видимо, они всё-таки не так стремительны. Более того, многие люди умудряются до того лишить себя ума посредством алкоголизма, что становятся и психически, и физиологически гораздо более выносливыми. Об этом есть классический анекдот, когда расспрашивают 110-летнего долгожителя, как ему удалось прожить так долго. Он говорит: «Во-первых, вегетарианство. Во-вторых, минимум женщин. В-третьих, никакого алкоголя, разумеется». И тут раздаётся сверху, со второго этажа: «Что ты там несёшь, кретин?» Говорят: «Что это такое?» — «А, не обращайте внимания. Это мой старший брат — бабник и алкоголик». Вот это, пожалуй, довольно убедительная вещь.
«У Николая Задорнова есть роман «Амур-батюшка». Это единственное литературное произведение, описывающее грандиозную столыпинскую реформу по заселению дальневосточных земель. Переселенцев обеспечивали коровой, перевозили бесплатно железной дорогой, и земли они могли брать сколько хотели. Как по-вашему, роман Задорнова — хорошая основа для сценария? Ведь фильм был бы актуален».
Так получается, что я должен быть благодарен столыпинской программе переселенцев, потому что прадед и прабабка моей жены-сибирячки оказались в Сибири, именно когда переселились туда из Средней России (насколько я помню, из Брянщины). А чего доброго, если бы Столыпин их не переселил, Лукьянова не поехала бы в Сибирь, я бы в Новосибирске на научной студенческой конференции с ней познакомился — и, глядишь, лишился бы значительной доли счастья. Но действительно программа этих переселенцев совершенно грандиозная, и за одно это Столыпину следовало бы быть благодарным.
Но вот в чём проблема. Роман Задорнова «Амур-батюшка», мне кажется, мог бы послужить, наверное, основной для хорошего сценария (точно так же, как и его романы «Хэда» и «Симода»), но художественно именно как роман это, по-моему, всё-таки слабо. Хотя для подростков, наверное, это увлекательное чтение, и особенно если нет ничего другого на эту тему. Да, сценарий из этого сделать, наверное, я бы рекомендовал.
«Что вы думаете про поэта Ивана Елагина?»
Иван Елагин — двоюродный брат Новеллы Матвеевой, поэтому естественно, что, имея Матвееву в числе своих литературных учителей и любимых поэтов, я стихи Елагина знал задолго до того, как они были напечатаны в России. Я считаю, что это был очень крупный поэт. Ну, я вообще имею такую учительную привычку немножко — расставлять всех по рангам. Я считаю, что это был поэт класса Твардовского, не ниже никак. Некоторые стихи Елагина… Я попробую, кстати, сейчас одно стихотворение Елагина прочесть в эфире, если мне удастся его найти, поскольку это верлибр, я наизусть его не знаю. Тем не менее, конечно, это исключительный класс.
Я хочу напомнить, что Иван Елагин был сыном такого замечательного дальневосточного футуриста Венедикта Марта, который, в свою очередь, приходился дядей Новелле Николаевне, был братом её отца Николая Николаевича Матеева-Бодрого. Кроме того, он был в плену во время Второй мировой войны и уехал на Запад. Он принадлежит к эмигрантам второй волны. Он по-настоящему стал известен после того, как Евтушенко включил несколько его стихов в свою антологию, и появилась в «Новом мире» большая подборка. Он был поэт очень высокого формального совершенства прежде всего и, конечно, замечательного лирического проникновения, большой глубины. В каком-то смысле он был поэтом очень советским, советской лексики. Ну, советским в лучшем смысле. Очень современным — скажем так. В нём не было ничего архаического (всё-таки он был сын крупного футуриста), но он хранил высокую религиозную традицию русской поэзии, гуманистическую.
Я прочту его стихотворение. Оно тоже называется, как ни странно, «Амнистия», как и стихотворение Домбровского. Что-то сегодня прямо совпадения идут.
Ещё жив человек,
Расстрелявший отца моего
Летом в Киеве, в тридцать восьмом.
Вероятно, на пенсию вышел.
Живёт на покое
И дело привычное бросил.
Ну, а если он умер —
Наверное, жив человек,
Что пред самым расстрелом
Толстой
Проволокою
Закручивал
Руки
Отцу моему
За спиной.
Верно, тоже на пенсию вышел.
А если он умер,
То, наверное, жив человек,
Что пытал на допросах отца.
Этот, верно, на очень хорошую пенсию вышел.
Может быть, конвоир ещё жив,
Что отца выводил на расстрел.
Если б я захотел,
Я на родину мог бы вернуться.
Я слышал,
Что все эти люди
Простили меня.
Что тут добавлять? Гениальный поэт. Многие мне пеняют, что я часто упоминаю слово «гениальный». Ну, если хотите, переводите «очень хороший». Перехвалить не страшно.
«Присоединяюсь к вопросу Наталии, предложившей вспомнить о Юрии Домбровском». Вот вспомнил. История с крабом? История с крабом из «Факультета» впервые как раз появляется в совершенно замечательном романе «Рождение мыши».
«Дмитрий Львович! Нет, не все вас обожают или ненавидят, как вы полагаете. Я, например, высоко ценя, кидаясь в бой с дураками, смеющими вас оскорблять, не всегда соглашаюсь с вами. К слову, Шкапская, стопроцентно любимая вами, не лишена малосимпатичной физиологической зацикленности, если не безумия».
Да, не лишена. Но видите ли, в чём дело, дорогой scheslvit. Я вообще считаю, что у каждого поэта есть какая-то своя зацикленность. Ну, здоровые люди в поэты же не идут. Поэтому я считаю, что физиологическая зацикленность Шкапской обусловлена двояко. Во-первых, всё-таки у неё была чрезвычайно неблагоприятная наследственность. Понимаете, здоровые люди писать не начинают, а совсем здоровые люди тем более писать не бросают так внезапно. Шкапская вместе с революцией остановилась, остановилась, как только последние следы этой революции канули. Можно спорить о том, хорошо это или плохо, но очевидно, что её безумие было со знаком «плюс», потому что в поэзии оно привело к тому, чего до этого не было.
А «Cantos»? Эзра Паунд — здоровый человек? «Cantos» — это произведение здорового человека? Нет, наверное. А большинство крупных поэтов, принадлежавших к тому же имажизму, что и Паунд, и Эддингтон (о котором много почему-то сейчас вопросов)? Тоже это не очень здоровое явление. Я уже не говорю о том, что Дилан Томас — наверное, мой самый любимый англоязычный поэт XX столетия, наверное, наряду с Арлингтоном Робинсоном, они были, в общем, тоже… Ну, Арлингтон в меньшей степени, а Дилан Томас просто был клинический алкаш — такой, что все анонимные алкоголики отдыхают на его фоне.
Про Джеймса Джонса ничего содержательного сообщить не могу. Подготовлюсь — расскажу.
«Не могли бы вы провести лекцию про Умберто Эко, увы ушедшего от нас? И что могли бы вы сказать о его знаменитом эссе «Вечный фашизм»?»
Все сейчас полощут это эссе. Надо сказать, что я начал полоскать его ещё раньше. При единственной встрече мне Эко сказал, что в последние годы он замечает все признаки фашизма в наиболее ратующих антифашистах, в наиболее безумных и с пеной у рта. Это тоже интересно. То есть он понимал релевантность этих признаков. Должен я сказать, что эссе это точное — особенно там, где речь идёт о сочетании архаики и эклектики как главных черт ур-фашизма. Это совершенно справедливая мысль. И, конечно, культ гибели.
Я не буду сейчас вмешиваться в спор вокруг этого эссе. Для меня очевидна его правота. Хотя мне кажется, что главный список, главный перечень ур-фашизма, состоящий из трёх каких-нибудь признаков (самый важный из них — сознательное преодоление совести, избавление от химеры совести, наслаждение от злодейства) — это у него вовсе не упомянуто. Но, с другой стороны, спорить об этом бессмысленно. Мы все в себе это знаем. Мы все чувствуем в себе нередко готовность к этому. Наверное, это как-то заложено в человечестве. И только способностью остановиться, не поддаться этому соблазну человек для меня и определяется. Потому что соблазн силён — почти так же силён, как соблазн, скажем, запретного секса или кражи. Человек любит соблазны. Другое дело, что способность от них удерживаться — это всё-таки и есть черта человека.
Что касается прозы Эко. Я очень высоко ценю «Маятник Фуко» — выше, чем «Имя розы». Мне кажется, что «Маятник Фуко» до некоторой степени ставит точку в развитии конспирологического романа. Правда, я продолжаю настаивать на том, что это роман очень избыточный, в нём очень много лишнего. Но, с другой стороны, такая развесистость, избыточность барочная. Эко — вообще фигура барочная. И мне это в нём очень нравится.
«Вспоминаю ваше давнее интервью в «Собеседнике» с генералом Калугиным, — да, 2003 года. — Разговор был интересный, но запомнился образ холодного человека. Как вы думаете, служба в КГБ навсегда вымораживает?»
Да, конечно. У меня не было большого тепла в отношении генерала Калугина, хотя то, что он рассказывал, было очень интересно. И я благодарен был, что он мне это рассказывал.
«Герои Стивенсона в сериале «Приключения принца Флоризеля» производят впечатление монстров. Наивные и недалёкие люди там ещё не поняли, что их смысл жизни — игра со смертью и похоть. Сознание героев искажено, как на картинах Перкинса, — да, действительно есть такие картины. — Был ли Стивенсон закоренелым пессимистом?»
Нет, Андрей, не был конечно. Что вы? Просто, видите ли, нельзя судить об этом по сериалу. Надо помнить, что принц Флоризель, знаменитый своими жилетами, противопоставлен этому ужасному миру. Вот Флоризель и есть душа Европы. Когда Даль его играет в картине (последняя роль) — это предсмертный Даль, действительно тоже вымороженный и тоже холодный. А Флоризель — скорее такая очаровательная, старомодная фигура. Он немножко похож, во всяком случае, мне так кажется… Я его вижу немного Питером О’Тулом или Грегори Пеком. Он похож скорее на Аттикуса Финча из романа «Убить пересмешника» Харпер Ли, Царствие ей небесное. Он вот такой был. Флоризель добрый прежде всего, он весёлый. И в этом смысле фильм нравится мне меньше, чем блистательная трилогия вот этих пластинок: «Повесть о доме с зелёными ставнями», «Повесть о молодом человеке духовного звания» и «Алмаз Раджи». Я очень высоко ценил эту трилогию, у меня три пластинки в детстве были, я их обожал. Поэтому, что и говорить, для меня Флоризель — это настоящий европейский герой. В каком-то смысле он — мой идеал литературного персонажа. В фильме этого не видно.
«Как вы относитесь к вестерну?»
Скорее положительно. «My Darling Clementine» — естественно. Это был один из любимых фильмов моего детства. А «Дилижанс», который шёл у нас как «Путешествие будет опасным»? Конечно. И Уэйн, да и все они мне нравились.
«Расскажите о Николае Глазкове».
Видите, Глазков очень хорошо описан в дневниках Давида Самойлова, которые я сейчас постоянно перечитываю в связи с работой над «Июнем». Мне кажется, что Глазков был, наверное, для них для всех одновременно и кумиром, и страшным предупреждением об опасности, потому что в Глазкове было чуть больше безумия, чем они все могли себе позволить. Поэтому они все, эта компания — Слуцкий, Самойлов, Кульчицкий, Наровчатов, Львовский, Коган — они все состоялись в большей степени, чем Глазков. Даже те, кто, как Кульчицкий и Коган, погибли. Даже те, кто, как Львовский, перешли в кинодраматургию. Мера безумия Глазкова его спасла, может быть, от юродства, как-то его защитила, но оно же и погубило в нём всё-таки серьёзного поэта. Он был недостаточно безумен, чтобы продолжать Хлебникова, и недостаточно нормален, чтобы сделать официальную карьеру. Его официозные стихи, публиковавшиеся много раз, были, конечно, абсолютно идиотскими, нарочито идиотскими, пародийными. Что касается его стихов для себя — да, там есть, конечно, классические произведения, а особенно среди того, что написано было до 50-х годов. Самое знаменитое:
Мне говорят, что «Окна ТАСС»
Моих стихов полезнее.
Полезен также унитаз,
Но это не поэзия…
Или:
Господи! Вступися за Советы,
Защити [сохрани] страну от высших рас,
Потому что все твои заветы
Нарушает Гитлер чаще нас.
Или:
Я на мир взираю из-под столика.
Век двадцатый — век необычайный.
Чем столетье интересней для историка,
Тем для современника печальней…
И, конечно, одно из классических стихотворений, вошедших во все хрестоматии, — это его «Ворон» 1939 года. Это такой урок всем пессимистам, где ворон на все вопросы о светлом будущем отвечает «никогда».
Я спросил: — Какие в Чили
Существуют города? —
Он ответил: — Никогда! —
И его разоблачили!
Вот это, по-моему, абсолютно гениально!
И вообще он был сильный поэт. И, судя по его опубликованным дневникам и письмам, он всё-таки лепил имидж. Он был в достаточной степени трезвый и самоконтролем удерживал себя в каких-то рамках. То есть, когда Самойлов пишет, что «Коля Глазков страшный и безумный», я думаю, это маски. Я видел же, я застал и знал людей, которые прекрасно всё соображали, но при этом они жили в такой маске юродивых, безумцев. У меня случались очень откровенные и очень серьёзные разговоры с одним бабушкиным одноклассником, Колей Маховским. Кстати, он замечательную прожил жизнь, после десяти лет в Норильске вернулся в Москву и был частым гостем в нашем доме, и женился он там, и жена его была человеком очень умным и серьёзным. Но он всю жизнь юродствовал. А иногда наедине с друзьями он бывал серьёзным (или выпив, например). То есть огромное количество людей 30–40-х годов юродством спасались. И я это прекрасно понимал. Применительно к Глазкову: наверное, надо отличать его манеры от его трезвой, довольно точной и довольно умной души. Некоторые стихи даже поздних лет всё равно пахнут ещё по-настоящему Москвой 30-х, кругом Лили Брик, кругом людей, знавших Хлебникова, Николаем Степановым — несут на себе отпечаток этой среды.
«Сахаров выдвинул идею конвергенции. Каковы были бы у неё перспективы, если бы не появился Горбачёв?»
Хорошие были бы перспективы у неё, но видите, в чём дело. Идея конвергенции, вообще говоря, почти реализовалась, но вот Андропов, например, гэбэшник классический, он всю эту конвергенцию брежневскую свёл на нет. Беда, проблема Советского Союза была в том, что в нём боролись тоже две башни: условно черненковская и условно горбачёвская. Это чудо, что Горбачёв пришёл к власти. (Кстати, поздравляю его с грядущим юбилеем.) А то, что он мог проиграть Гришину и всё продолжалось бы — я думаю, что это не была бы конвергенция. Я думаю, что это было бы какое-то всё-таки гниение, доходящее до взрыва. Когда не появляется реформатор, конвергенция весьма проблематична.
Сахаров был человек очень умный прежде всего, потому что другой бы не стал гениальным физиком. Не нужно думать, что все гении чудаковаты. Все гении прежде всего умны. Он был человек великого ума. И идея конвергенции — постепенного сближения режимов — она абстрактно, теоретически была сильной идеей. Но я боюсь, что Советский Союз очень точно совпадает с диагнозом Уистена Хью Одена в замечательном переводе Льва Лосева: «Что ожидается от людоеда, то и делает людоед». Я боюсь, что попытки конвергировать людоеда в сторону вегетарианства были обречены. Хотя можно было посадить его на диету.
«В одной из предыдущих передач вы упомянули о победе над гитлеровской Германией как о символической победе христианства. Хотелось бы понять, что вы имели в виду: победу западного либерализма или победу сталинско-большевистского варварства?»
Знаете, победу человечности над бесчеловечностью. Вот и всё. И не надо тут делить, победа ли это сталинско-большевистского варварства, победа ли это либерального западного крыла (кстати, не такого уж и либерального). Я к тому просто, что есть великие исторические события, в которых виден почерк Бога, и не надо их приписывать конкретным режимам. Вот так бы я сказал. Потому что разговоры о том, кто победил Гитлера — Сталин, Черчилль, или Рузвельт… Гитлера победил Человек. Гитлера победило человечество. Знаете, иногда исполнителем божественных замыслов может быть и атеист, это довольно частое явление.
«Как вы относитесь к творчеству Денниса Лихэйна?» К сожалению, не знаком с ним совсем.
«Будет ли лекция, посвящённая Ирвину Шоу?»
Не будет, потому что я не очень понимаю о чём там собственно читать лекцию. Ну, Ирвин Шоу написал «Жажду жизни», насколько я помню… А нет, это Ирвинг Стоун, извините. Ну, проверю сейчас, короче. Ирвин Шоу написал «Ночного портье» — один из любимых романов моего детства. Ирвин Шоу написал «Богач, бедняк» и «Нищий, вор», совершенно прелестную дилогию, и «Вечер в Византии», который в своё время я, помнится, читал и перечитывал, потому что там упоительный женский образ: вот эта с чисто вымытыми пяточками журналисточка, которая к нему проникает незадолго до его кровотечения, его погубившего. Вообще «Вечер в Византии» — очень хороший роман. Это хороший роман о том, как надо стареть. Этому надо учиться с молодости, я думаю. Ирвин Шоу — прелестный писатель («Молодые львы» — хороший роман), но ничего в нём нет такого, чтобы посвящать ему лекцию. То есть он не контактирует никак с моей личностью.
«Хотелось бы услышать ваше мнение о творчестве Сергеева-Ценского. Казалось бы, такая длинная жизнь… В чём причина такого забвения?»
Причина очень простая: Сергеев-Ценский не был очень хорошим писателем. Вот что мне кажется важным. Судя по дневникам Чуковского, он был совершенно очаровательным человеком. Он был, наверное, неплохим поэтом и симпатичным пейзажистом. Он был очень интересным прозаиком. Но это писатель того же класса, что и Станюкович. Можно сказать: забыт ли Станюкович? Есть отдельные люди (например, как Леонид Филатов), которые считали Станюковича необходимым писателем для подростков. И он своего пасынка заставил всего Станюковича прочитать, и это, наверное, сыграло определённую роль в формировании его прекрасного характера. Я Станюковича считаю всё-таки писателем второго, если не третьего ряда. И Сергеева-Ценского я не могу читать подряд. Вот почему-то у меня есть такое чувство. Это не самый главный писатель в моей жизни.
Вот очень интересный вопрос: «Вашу лекцию про Гарри Поттера не слышал, — ничего, не страшно, — но боюсь, что в ней не было ответа на вопрос: зачем в Хогвартсе факультет Слизерин?»
Ребята, это очень важный вопрос! Зачем в Хогвартсе факультет Слизерин? Ведь Дамблдор ему действительно не благоволит. Более того, в Слизерине не так уж много хороших людей. Если вы помните, шляпа имела высокие шансы отправить Гарри Поттера в Слизерин, но тем не менее он там не оказался. Что такое вообще Слизерин, невзирая на ту слизь, которая там слышится? Что это такое? Видимо, Роулинг хочет сказать (а у неё вообще очень много таких тонких интуиций, тонких догадок), что магия не гарантирует добра; и, более того, очень часто для магии нужны те душевные качества, которые представлены в Слизерине довольно ярко. Я не такой фанат романа, и я не настолько помню его, все эти прекрасных семь томов, но, безусловно, я понимаю интуитивно тоже, что Слизерин не закрывает пути к магическому совершенству, напротив — он открывает.
Если вы помните, в очень важном для меня романе Айтматова «Тавро Кассандры» вот это жёлтое пятно между бровями у эмбриона необязательно означает, что выйдет великий злодей. Оно означает иногда, что выйдет великий учитель человечества, великий путеводитель. Да и не всегда можно эту грань провести. Больше того, это жёлтое пятно означает, что появится нечто выдающееся, нечто сильно ломающее жизнь, но не факт, что это будет добро.
В Слизерине люди коварные, безусловно, люди довольно снобского склада, часто просто ксенофобского, но отвага им присуща. Да и вообще плохим людям присущи некоторые важные, иногда творческие качества, поэтому зачем-то, как специи в этом мире, нужен и Слизерин. И обратите внимание, что слизеринцы не безнадёжны, они способны к эволюции. Иными словами, тот набор черт, который есть в Слизерине (главной из которых является, конечно, снобизм), иногда приводит к настоящей магии. Обратите внимание, что сноб (я много раз об этом говорил) не всегда хорошо живёт, но героически умирает. Ходасевич тоже сноб, но тем не менее это большой поэт. Хотя назвать его нравственным человеком, я думаю, не мог бы даже он сам. Слизерин — это факультет для Ходасевича. Но тем не менее в Ходасевиче есть, безусловно, своё величие.
Вернёмся через три минуты.
НОВОСТИ
Д. Быков― Продолжаем разговор. Доброй ночи. Я собираюсь поговорить на темы писем, которых чрезвычайно много, но пока ещё немножко я поцитирую вопросы с форума.
«Как бороться с религиозным радикализмом — пропагандой атеизма или пропагандой официальной религии?»
Знаете, опыт показывает, что пропаганда атеизма не приносит никаких результатов. Официальная религия, её слишком назойливое внедрение, в том числе в школах, приводит только к тому, что появляется очень много сект. Феномен народной веры, самодеятельной веры, страшное количество сектантов в России (кстати, и в Штатах отчасти, как ответ на пуританскую суровость новоанглийскую) — это достаточно печальное явление. И секта ничем не лучше церкви. Больше того, секта хуже церкви, потому что она меньше, у́же, а давление на большей площади, как вы знаете, всё-таки распределяется меньше, свободнее.
Я, естественно, не считаю, что с пропагандой религии, с радикальным религиозным экстремизмом вообще можно как-либо бороться, кроме чистого запрета на тоталитарные секты, просто нормального уголовного преследования. Сейчас я знаю, что очень многие возмутятся и возопят, но эти люди так часто возмущаются и вопят по моему поводу, что только лишний раз убеждают в моей правоте. Преследование сект как таковое совершенно бессмысленно, по-моему, но тоталитарная секта — это вещь с совершенно конкретными признаками. Там семь этих признаков, они выделяются по-разному (ну, это как с ур-фашизмом у Эко): это наличие жёсткого тоталитарного лидера, близкого круга посвящённых, эсхатологическое учение, обирание участников и очень часто суицидный финал, — финал который является катастрофическим для большинства, причём чаще всего лидеры спасаются, а рядовые члены погибают. Это для меня однозначное совершенно зло. И вот с этим надо бороться, и бороться законодательно.
Что касается всего остального, что касается того или иного религиозного опыта. Видимо, у человека есть в этом потребность, поэтому никакая пропаганда, никакая атеистическая или квазирелигиозная пропаганда ничего с этим не сделает. Единственная задача — это вводить этот инстинкт веры, инстинкт зачастую очень тёмный. Инстинкт тоталитаризма ведь тоже в человеке есть, инстинкт стада. Надо его просто вводить в максимально цивилизованное русло. Вот и всё, что можно с этим сделать.
«До определённого возраста ребёнок верит, что его отец — самый сильный, а мать — самая красивая. И не надо его в этом разубеждать. Но с возрастом приходит понимание, что родители — нормальные люди со своими недостатками, и не стоит всегда брать их за образец. То же относится и к России. И вот вопрос: с какого возраста ученикам можно рассказывать правдивую историю России, хотя бы на уровне Костомарова?»
Знаете, тут абсолютно разные вещи. Правдивую историю России надо знать, безусловно, с самого раннего возраста, потому что любой обман здесь ужасен. Что касается отношения к родителям. Понимаете, это как и с Родиной. Правду знать надо. Но я, например, за эту правду своих родителей люблю больше. Я знаю, что мать моя, которая сейчас меня слушает, к некоторым вещам относится очень предвзято, очень предубеждённо. Я ничего не могу с этим поделать, и я не считаю нужным её переспорить. Но эти её заблуждения мне по-человечески необычайно милы и трогательны.
Это же касается и в общем отношения к России. Сейчас Россия много чего воротит такого, что можно навеки в ней разочароваться, но я же понимаю, что по большому счёту это всё к России не относится. Вот это концепция захваченной, одержимой страны. В конце концов, одержимость бывает и у самых здравых людей.
Меня тут, кстати, спрашивают о смысле фильма «Possession» только что умершего Жулавского, Царствие ему небесное. Да смысл очень простой как раз. Он рассказывает о рисках религиозного помешательства — о том, о чём и Умберто Эко в «Имени розы». Помните, там был монах, одержимый преступной страстью к Богоматери, прости Господи. Это та же история. Это анализ очень опасного религиозного помешательства. Но одержимость, «одержание», как это названо у Стругацких, — это же не означает окончательного безумия и не означает, что человек потерян. Точно так же и Родина может иногда временами впадать в болезнь. Но надо помнить, что это её болезнь, потому что в генах её это не заложено. А если заложено, то в любом случае она поправима, она выздоравливаема, что мы не раз уже видели, в общем. Я согласен с Кашиным: «европейская страна, которой не повезло».
А что касается любви к родителям и сознания их недостатков. Я прочёл как-то, кажется, у Толстого где-то, что там героя стал раздражать запах изо рта жены. Если бы он её любил, то этот запах его бы не раздражал, он бы вызывал у него какие-то другие чувства. Я вообще считаю, что родители, которые беспомощны, родители, которые заблуждаются, и даже родители, которые говорят глупости, нам милее, чем их ледяная правота.
К тому же я сам, сделавшись родителем (а теперь уже родителем довольно взрослых детей), на своём примере и опыте замечаю, что у родителя есть неизбежные аберрации. Не может родитель любить ситуацию, когда сын приводит домой девушку. Ну не может! Он должен радоваться, но не может. Во всяком случае, я не могу. Возникает и родительская ревность, и родительские опасения, и уже в халате так просто не пройдёшься. Ну, есть какие-то серьёзные вещи. Точно так же не может… Я думал: вот я буду родителем абсолютно продвинутым, сын у меня будет что хочешь делать. Я даже такие стихи тогда писал:
Пусть забывает заправить кровать,
Будет мучительно нечистоплотен,
С детства приводит домой ночевать
Грязных девах из любых подворотен.
Ну, я представлял для себя такой вариант, но потом понял, что — нет, продвинутый родитель из меня не получился. Наверное, родительские заблуждения вытекают из природы родительства. Точно так же, как писательские комплексы — тщеславие, определённая зацикленность на совершенно бессмысленном творческом процессе — они вытекают из природы писательства. Давайте нас любить за наши врождённые заболевания.
«В каком стиле написан роман «ЖД»?» Я думаю, что в жанре мениппеи, есть такое определение. Хотя я не очень пониманию, что такое мениппея. Мне приятнее думать, что это в жанре одиссеи.
«Мне интересно ваше мнение относительно присуждения премии «НОС» 2015 года книге «Повесть и житие Данилы Терентьевича Зайцева» и о книгах — основных претендентах на премию: «Пенсия» Ильянена и «Живые картины» Барсковой».
Я присудил бы Барсковой — наверное, просто потому, что я давно её знаю. И мне нравится этот поэт, и мне нравится её книга. Хотя, по-моему, тоже там у меня есть к ней претензии, но дело не в этом. Понимаете, в этом споре схлестнулись две одинаково неприятные мне стороны. С одной стороны, мне совершенно не нравится позиция Colta в этом вопросе — позиция достаточно снобская. И я вообще к Colta отношусь со скепсисом, как и она ко мне. Не буду я подробно объяснять, чем мне не нравится Colta.
А что касается позиции Константина Богомолова, выраженной в его письме, то и это мне не нравится. Мне совершенно не нравятся ни «Пенсия» Ильянена, которая представляется мне абсолютно скучной и совершенно неталантливой книгой, хотя сам Ильянен, наверное, талантливый и очень хороший человек. Ну, что поделать? Вы же меня спросили. У меня есть свои мнения. Вот мне не нравится эта книга. И ровно в той же степени мне не нравится и «Житие Данилы Терентьевича Зайцева». Мне скучно его читать. При том, что для этнографа или для историка, или для социопсихолога, я согласен, это произведение представляет замечательный интерес и замечательный материал. Но это материал для исследования, а не самоцельное художественное произведение.
В России сейчас очень много хороших книг, которые вообще проходят абсолютно мимо внимания большинства литературных премий — видимо, потому, что эти книги либо не имеют должного пиара, либо они… Они издаются, их издать-то не проблема. В России сейчас много хороших поэтов, хороших прозаиков, которых никто не знает. И мне, конечно, очень обидно, что спорят о Носове… то есть о «Зайцеве» или Ильянене (Носов — это просто премия «НОС» подсказала мне), и совершенно не спорят о десятках (не буду сейчас их перечислять) других авторов, которые заслуживают такого спора. Мне кажется, как всегда, что это мимо главного, мимо центра. Это противопоставление друг другу двух наглядных, типичных и, по-моему, не очень хороших книг.
«Как вы относитесь к творчеству Толкина?» Это вопрос не на одну программу. В общем, если говорить в целом, я признаю масштаб явления, огромную одарённость автора, но мне это не близко.
«Мне помнится один из последних советских фильмов — «Шут», по повести Вяземского. Учителя играл Костолевский».
Да, это была экранизация Андрея Эшпая, который приходится… Я не знаю, как это называется. Эшпай — это муж сестры Вяземского. Вяземский — замечательный прозаик и историк. Муж его сестры — Андрей Эшпай. А его сестра — Евгения Павловна Симонова, замечательная актриса.
«Мне фильм очень нравится, — и мне он очень нравится. — Скажите своё мнение».
Мне повесть нравится больше, она была провокативнее. И вообще мне очень нравится ранний Вяземский — времён повести «Банда справедливых [справедливости]», если я ничего не путаю, и «Бэстолочи». Я люблю и поздние его романы из цикла «Сладкие весенние баккуроты», но ранний Вяземский мне был ближе. Вот те самые подростки, которые бегали смотреть «До свидания, овраг!», хватали и жадно читали подростковые повести Вяземского, потому что они ставили очень острые проблемы, и они были написаны про умных книжных детей — про тех умников и умниц, которых он принимает теперь в МГИМО и этим, по-моему, вносит огромный вклад в формирование российской интеллектуальной элиты. Я вообще к Вяземскому отношусь с большой теплотой.
Мне кажется, что «Шут» — это важное, этапное произведение в каком-то смысле, очень жестокое. И в отличие от большинства текстов 70–80-х годов, оно ставит не надуманные, не уродливые проблемы закрытого общества, а оно ставит проблемы серьёзные. Грубо говоря: есть ли сила, способная победить сноба, есть ли сила, способная победить такого эгоцентричного, любующегося собой, умного и сильного человека, который разрабатывает именно шутены, наслаждаясь чужим унижением? Какая сила способна это победить? В фильме Вяземского шута побеждает другой шут, только более высокой квалификации (в фильме Эшпая). Но там, если помните, когда звучит песня в конце и мы видим вот этих жалких несчастных старшеклассников и жалких таких же первоклашек, идущих во время последнего звонка… Мне кажется, сила милосердия может победить в гораздо большей степени, сила сентиментальности, сострадания. Потому что вот этот довольно-таки садический метод шута — это метод Кая, которому осколок попал в глаз, а его можно растопить слезами. И мне кажется, что сентиментальность здесь не худший выход. Вот это я у Вяземского люблю очень сильно, люблю его сострадательность.
«Не могли бы вы сказать об Эдгаре По?» Хорошо, в следующий раз — пожалуйста.
«Где можно услышать лекции вашей матушки?»
Ну, мы пытаемся её сейчас уговорить. Вообще-то можно их услышать, наверное, когда она занимается со своими учениками, она репетирует их. Но вряд ли она вас, взрослого человека, возьмёт в ученики. Я попробую уговорить её прочесть, может, пару лекций (может, по «Войне и миру», может, по Маяковскому), попробую уговорить её прочесть пару лекций в «Прямой речи». Но всегда же, понимаете, начинаются эти разговоры: «Да кому это нужно?», «Мне это физически трудно». Может быть, если бы несколько человек, которые для неё авторитет, её бы уговорили…
Понимаете, словесник же не имеет возраста. Пока у него работает память и речь, он молод. Вот Айзермана возьмите. Это, по-моему, великий преподаватель литературы. И я очень рад, что они с матерью регулярно созваниваются и делятся секретами мастерства. Привет мой большой Айзерману, чьи ученики — мои ближайшие друзья. Мы же все, московские словесники, более или менее друг друга знаем. Вот Айзерману гораздо больше лет, нежели матери, но человека с такой памятью, таким юмором и такой живой, точной реакцией на всё происходящее мне просто трудно припомнить. Я вообще абсолютно убеждён, что учитель — это профессия, которая почти гарантирует вечную молодость. Поэтому мы попробуем, конечно.
«Что вы думаете о Морисе Дрюоне? Перечитываю — скучно. Вспоминаю ваши слова «он не показывает, а рассказывает». Дрюон не совсем же писатель, он гораздо больше учёный. Я не люблю его романы, мне Дюма нравится гораздо больше.
«Читали ли вы «Хижину» Уильяма Пола Янга?» Читал — скучно. Мне скучно. Извините меня, не могу.
«Чей взгляд относительно люстрации вам ближе — Навального («Не забудем, не простим!») или Ходорковского?»
Не знаю я! Не знаю, чей взгляд мне ближе. Мне ближе взгляд Карякина, который сказал (в 1991 году я брал у него это интервью, после августовских событий): «Всех мерзавцев назвать — и всех помиловать!» Понимаете, люстрация — это же не запрет на профессию. Такое писали в газете «Известия», в газете «Культура», в «Литературной газете» (все их знают), что казалось бы — «не забудем, не простим». Ну а потом, подумаешь, ведь для этих людей гораздо страшнее будет, если простят. Понимаете, что самое страшное? Поэтому я за то, чтобы всех назвать, всю правду рассказать — и всех помиловать, всех простить. Я категорически против такой люстрации. Люстрация должна быть, если угодно, духовной.
«Дочитываю «ЖД». Некоторые вещи пророческие. Откуда вы это знали в 2005 году?» Слушайте, а что там было не знать? Спасибо вам большое, я очень благодарен.
«Где-то вы обмолвились, что знаете французский. А какие ещё языки знаете?
Это мать знает французский. Французский я знаю в пределах «читать», а разговаривать я не могу совершенно, грамматики я не знаю. Вообще я французский учил два года в университете как второй язык. И я сейчас помню его ровно настолько, чтобы прочитать рецензию на меня, вышедшую во Франции, или оценить качество перевода. Английский я знаю более или менее в совершенстве. Кстати, как раз сейчас выходит «Дом листьев» (наконец-то, слава богу). Вот только что мне прислали уже окончательный вариант. В ближайшее время выйдет книга, и я буду по возможности её везде пиарить. Это роман Марка Данилевского. Часть его я перевёл и предисловие к нему написал.
«В одной из лекций о романе «Мастер и Маргарита» вы назвали его дурновкусным, в том числе и потому, что там присутствовали эротические сцены, — нет, не поэтому. — При этом в «Сигналах» переспали друг с другом все, кому не лень. Как быть? По-моему, критерии вкуса в искусстве стремительно изменчивы. Могут ли эротические рассказы быть хорошей литературой? Назовите примеры».
Конечно могут. Слушайте, дело не в эротических сценах в «Мастере и Маргарите», а дело как раз в характере и вкусе этих эротических сцен. Что касается «Сигналов», то там в каждой главе действительно присутствует эротический эпизод. Это нарочно сделано, потому что это такой способ раскрытия героя, единственный способ. Помните: «Не имея способа показать нам, как живёт и действует Базаров, не имея такой возможности, Тургенев нам показывает, как он умирает». В «Сигналах» мы с Жаровой не имеем возможности показать, как живут и действуют эти люди, потому что они взяты во время двухнедельной экспедиции в свердловскую тайгу под городом Серовым, условно говоря, поэтому мы показываем их в этой области тоже, и даже скорее всего через эту область. Особенно мне, конечно, симпатичен там очень важный для меня эротический эпизод на заводе.
Эротические рассказы, где всё позволено? Послушайте, почти весь Бунин на этом построен — эротика «Тёмных аллей», граничащая со смертью. Что вы? Эротика может быть высочайшего класса. Другой вопрос: как её написать? Мне кажется, что лучший эротический эпизод в русской литературе — это всё-таки полёт Хомы Брута на панночке.
«Решили ли вы для себя загадку личности Старика, предсказанного бабой Дарьей из Благодати?»
Не решил. Я думаю, что это из тех пророчеств, которые или не следует толковать буквально, или надо ждать… Там она говорит, что сначала придут волки, а потом — Старик. Ну, волки — вот вокруг. А кто будет старик? Видимо, бабка Дарья ожидала (я не знаю, кстати, что с ней и как она), что придёт какой-то всепримиряющий русский мудрый персонаж, что-то вроде волхва.
«Я прочитал «Улисс» Джойса три раза. Вначале еле продрался сквозь дебри разных стилей — и наконец получилось увидеть происходящее словно своими глазами. Учитывал ли Джойс эту возможность? Или был расчёт на понимание тонкой игры со стилями?»
Да не было это для него тонкой игрой со стилями. Джойс писал в расчёте на читателя, который, как и он, получил католическое воспитание, неплохое образование, пожил в Европе и более или менее ориентировался в стилистике английской литературы (читал Чосера, читал Шекспира, читал Бэкона — вот в таких пределах), поэтому никакого особого понимания там не требуется. Даже я вам так скажу: продираться через «Улисса» необязательно, какие-то главы вполне пропускабельные. Я в «Сиренах» иногда пропускаю огромные куски, мне это неинтересно. Я люблю «Улисса», наоборот, за точность описания повседневности. Зачем же всё время говорить и думать о тончайших метатекстуальных играх Джойса? Джойс — это просто нормальный прозаик.
«Спасибо за передачу! — и вам спасибо. — Вы часто говорите о конце проекта «Человек», что человечество не вынесло испытаний минувшего века. Последними гвоздями в крышку гроба стали немецкий фашизм и известная часть советского проекта. Но если мы обернёмся назад, то увидим, что всё это было в веках, бывших прежде нас (в античности — в рабстве). И всегда были мыслители-современники, которые осознавали этот ужас. Почему же именно сейчас, а не 500 лет назад, закрывается проект «Человек»?»
Объясняю вам. Когда ребёнок в десятилетнем возрасте мучает галку, у него есть шанс. Но когда он продолжает мучить галку в двадцатилетнем возрасте, то это значит, что в проекте что-то не так. На этапах детства человечества можно было верить в глупости и обманываться ими, но когда взрослое, зрелое, страшно усложнившееся человечество XX века совершает то, что оно совершило под действием фашизма прежде всего, — простите, это говорит всё-таки о некоторой обречённости проекта в целом.
Кроме того, есть ещё одно важное соображение, для меня наиболее принципиальное — это, конечно, масштаб. Масштаб злодейства был максимальным в XX веке, и последствия были максимальными. Есть вещи просто не прощаемые. Мы всё понимаем, но такие вещи, как Майданек, возникли в XX веке, хотя и младенцам мозжили головы, в Спарте и в пропасть бросали, и величайшие акты ксенофобии были. И вообще правильно сказал Андрей Кураев: «После распятия Христа все остальные злодейства отличаются от него только количественно». Да, это верно. Христа распинают и сораспинают бесконечно, участвуют в этом распятии бесконечно. Просто XX век количественно перешёл некую грань, после которой, по-моему, проект будет радикально переформатирован. Как? Об этом мы с вами уже многажды говорили.
Начинаю отвечать на многочисленные вопросы из писем.
«Кто, по-вашему, играет роль Телемаха в повести Лескова «Очарованный странник»?»
Я не думаю, что «Очарованный странник» принадлежит к жанру одиссеи. Там многое не совпадает. Кстати говоря, Телемах не императивен. Императивна для жанра невозможность вернуться.
«Можно ли утверждать, что Россия ходит по кругу за счёт своей бинарности, потому что окончательный выбор не совершён?»
Видите, может быть, если бы он был совершён, уже бы не было и никакой России. Может быть, именно её неспособность до конца во что-то поверить и делает проект вечным. Но хождение по кругу, по-моему, имеет другую природу. Россия вообще ни во что до конца не верит. Она и не христианизирована толком. Она живёт в природе, а не в истории. Именно поэтому её цикличный исторический ход так напоминает смену времён года. Это и есть смена времён года.
Денис пишет: «Если всех преступников назвать, а затем помиловать, то это придаст всем последующим жуликам и ворам уверенность в собственных делах. Вы предлагаете человеческие понятия взамен слепого закона. Вам не кажется, что для того, чтобы побороть беззаконие в России, прощать как раз никого нельзя?»
Понимаете, если вы перестанете прощать, случится ровно то, что уже имело место на протяжении всего русского XX века и частично XXI. Произойдёт то, что частично описано (во всяком случае, как я пытался описать) в романе «Оправдание» — произойдёт ещё один сеанс бесконечного… когда не прощается ничего. Вот окурок не туда бросил — и то не прощается. Я за то, чтобы прощать. Я за то, чтобы заклеймить и простить, чтобы было видно — этот человек делал то-то и то-то: доносил, лгал, призывал к уничтожению по этническому признаку. Да, он это делал. Он ходит среди нас. Мы его простили, но он себя прощать не должен. Вот так, мне кажется.
«Как вы считаете, если бы Лонгфелло и Уитмен не были переведены Буниным и Чуковским, были ли бы они востребованы в России?»
Были бы, конечно. Ну, их перевели бы другие просто. Понимаете, такие фигуры, как Лонгфелло, создали, по сути дела, один из главных эпосов XIX столетия. Естественно, что он в Россию пришёл бы так или иначе. Аналогичным образом и Уитмен, который пришёл литературно не только через Чуковского, но и в огромной степени через Маяковского, конечно. А Верхарн, если бы его не переводил Брюсов, например, конгениально, почти на уровне Верхарна? Всё равно это пришло бы. Просто им повезло с переводчиками, потому что эти люди ещё и агитировали за них. Бунин, конечно, сделал «Гайавату» фактом русской литературы. И в огромной степени, конечно, Чуковский своей книгой «Мой Уитмен», как и в своём предисловии к Уайльду, сделал их фактами русской литературы. Помните знаменитую его фразу: «Оскар Уайльд давно уже наш русский родной писатель». Уверенность в этой родственности очень важна.
«Дочитала «Процесс» Кафки. Все вокруг говорят, что книга скучная и предсказуемая, — слушайте, а жизнь какая, хочется спросить? — Я же до последнего надеялась, что у Йозефа К. получится пойти против системы и изменить её. Но получилось, что одного здравомыслящего человека для этого недостаточно».
Катя, вы, видимо, очень молодой человек, и вы совсем не понимаете (или не хотите понимать пока), что роман Кафки написан не о системе и не против системы, он написан о жизни, Кафка так воспринимает жизнь. И нет никакой возможности пойти против этого хода вещей. Это роман пражского еврея, живущего в Австро-Венгрии. Это роман человека, который воспитан на Талмуде, который подходит и к жизни талмудически, который живёт в ощущении, что он приговорён и что помиловать его нельзя, потому что так устроен мир.
«Какая, на ваш взгляд, книга могла бы, — повторяется вопрос, — заставить задуматься женщину средних лет о важности духовного единения со своим избранником?» Если женщина об этом не задумалась до сих пор, никакая книга её не заставит.
«Ваше отношение к роману «Буранный полустанок»?»
Самое позитивное… Хотя мне кажется, что космическая линия там лишняя. Но потом может оказаться, что она главная была. Я не знаю. Космическое мышление Айтматова, мне кажется, тоже было несколько дурновкусным. Но, с другой стороны, поклонники русского космизма утверждают, что «Буранный полустанок» — это вообще главный, лучший роман эпохи русского космизма.
«Знаю, что вы задавали похожий вопрос автору, и потому задам его вам. Есть ли место в современном мире человеку традиций, такому как Едигей?»
Конечно, есть. Просто нужно понимать традицию не как слепое следование культу предков, а традицию надо понимать как живое дело. Вот фашизм понимает традицию именно репрессивно: «Делай, как мы, и ни в чём от неё не отходи». Традиция — это прежде всего душа нации, это то, что нации удаётся лучше всего. В этом смысле, кстати, мифологический и сказочный роман Айтматова совершенно традиционен.
«Существует мнение, главным образом среди молодёжи, что классическая художественная литература своё отжила. Почему чтение книг и знакомство с классикой излишни? Знакома ли вам эта точка зрения?»
Это выражено только у самой неумной молодёжи или у самой умной, которая понимает, что культ классики относителен, релевантен. Не нужно классику считать литературным эталоном, образцом. В конце концов, это писали люди, которые просто очень многого не знали. Я вообще когда-то в статье «Молчание классики» писал о том, что не нужно бы русской литературе всё время исходить только из классического опыта — немножко это однобоко. И мне кажется, что культ классики, который есть у нас, культ древности, он действительно мешает — мешает новаторству, мешает классическому трезвому анализу тех же великих книг XIX века. У нас поэтому до сих пор отношение к классике довольно рабское, а любая попытка непредвзятого и оригинального анализа (такая, как книги Синявского, например — «Прогулки с Пушкиным» или «В тени Гоголя»), мне кажется, встречается в штыки именно потому, что господствует охранительское отношение. Жолковский это называет «культ солидарного чтения». А мне кажется, что к классике надо относиться, как к актуальному чтению.
«Чем, на ваш взгляд, вызван успех переиздания книги Уильямса «Стоунер», написанной 50 лет назад?
Это как раз очень просто объяснить. Формально говоря, просто французская писательница (на мой взгляд, не очень высокого класса), насколько я помню, [Анна Гавальда]… А может быть, и не она, а кто-то ещё из молодых француженок сейчас что-то пишущих. Она похвалила книгу — и у книги появилось переиздание. На самом деле, конечно, причина глубже. Я попробую её озвучить, хотя я знаю, что многим это не понравится. «Стоунер» — это книга очень смиренная, книга о том, что человеческая жизнь мало что меняет, даже самая честная, отважная и глубокая человеческая жизнь мало что меняет, и от всех нас ничего не останется, и все мы ничего не изменим. Это признание характерно для нынешних времён — для времени серьёзных поражений гуманизма.
Вернёмся через три минуты.
РЕКЛАМА
Д. Быков― Продолжаем! «Один» в студии. Очень много вопросов, на которые хочется ответить, поэтому я немножко урву времени от рассказа про Стругацких и продолжу.
«Хочется продолжить разговор о бессмертии души, — да ради бога! — Мои мысли таковы. Тело необходимо для получения ощущений посредством органов чувств. Информация и её носитель, на мой взгляд, не тождественны, так как с разрушением либо с серьёзным повреждением последнего находящаяся на нём информация исчезает безвозвратно. Стивен Хокинг однажды сказал: «В моём представлении мозг — это компьютер, который перестанет работать, когда его детали сломаются. Не существует рая для сломанных компьютеров. Рай — это сказка, которая годится людей, испытывающих страх перед темнотой».
Мозг — это, может быть, и компьютер. Но ведь есть тот, кто на этом компьютере работает. По-моему, это очевидно, и из мысли Хокинга это ярко и явно вытекает. Ни один компьютер не может ни сам себя завести, ни сам себя выключить. Компьютер нужен в любом случае не себе самому.
«Моему сыну полтора года. Мы живём в посёлке не вымирающем, но депрессивном, — это очень точно, прямо характеристика всей России. — Каждый за своим забором. Люди срываются на злобу. Я осознаю, что после трёх лет влияние среды будет оказывать на ребёнка бо́льшую воспитательную роль, чем моё воздействие. Что делать? Как создать питательную среду для малыша?»
Оля, а вы не бойтесь его замыкать на своё воздействие. Все говорят «ребёнка надо социализировать». Надо, наверное, но эта социализация не должна отрывать его от родителей. И ваше влияние вряд ли убудет. Для меня, например, всё-таки мнение матери остаётся важным, несмотря на всю мою социализацию (и, может быть, первостепенно важным). И мнение семьи. Ну, это по-блоковски, как в «Соловьином саду». Я совершенно против того, что надо обязательно уходить из «соловьиного сада» ради социализации. Если хорошо дома — живи дома. Вот таково моё глубокое убеждение. Да, ваш посёлок может влиять, но ваше влияние может оказаться значительно сильнее.
«Расскажите о романе Адама Левина «Инструкции».
Это тысячестраничная книжка молодого американского писателя про ребёнка, который… Ну, немножко это на Дэвида Фостера Уоллеса похоже, но у Дэвида Фостера Уоллеса, конечно, гораздо более плотное повествование, более разветвлённый и интересный мир, он более отважный экспериментатор, он мыслитель. Что касается Левина, то он, как часто бывает с молодыми авторами, просто в первую книгу попытался вложить всё, что он знает о жизни. Это ребёнок, сложный ребёнок, который немножко страдает от мессианства, который везде создаёт и сколачивает банды. Его отчисляют из обычной школы, и он попадает в школу для подростков патологичных и очень дурных — и из них тоже сколачивает банду, не чувствуя разницы. Это вообще история о том, как ребёнок, ощущая себя действительно полубогом, пытается трансформировать мир, о том, как можно воздействовать на толпу, в особенности на детскую, о первом опыте любви. Это интересное сочинение, и о воспитании в том числе; очень большое, очень затянутое, очень много там лишнего, но есть куски поразительно умные и поразительно точно раскрывающие психологию вот этого умного, талантливого и опасного подростка. Это из тех книг, которые «must read», но тоже скучные места, мне кажется, должны пропускаться.
«Получается, что предлагаете наказывать ложные обвинения и призывы к расправе просто признанием вины?» Именно так. Потому что, в конце концов, наказаны будем мы все. Человек смертен, и с этим ничего нельзя сделать.
«Если ввести это в УК, в чём будет заключаться реальное наказание для таких людей? Жертвы в таком случае будут нести более серьёзное наказание, чем палачи». Денис, может быть, вы и правы, но кто-то должен в какой-то момент прервать цепочку возмездия, заменить одно возмездие (физическое) другим (моральным).
«Дмитрий Львович, простите, что влезла, но вы безбожно перепутали Стоуна с Ирвином Шоу».
Не безбожно перепутал, а сразу же поймал себя на этом. Катя, вы слушайте всё-таки внимательно. «Вечер в Византии» и «Ночной портье» — нет, это не Ирвинг Стоун, простите, это именно Ирвин Шоу. Вот это вы как раз, Катя, пропустили. Ирвинг Стоун — это «Жажда жизни», а «Вечер в Византии» и «Ночной портье» — это Ирвин Шоу. Видите, какая случается иногда и на старуху замечательная проруха. Катя, ещё раз говорю: слушайте внимательно! Но этих двух Ирвин(г)ов очень легко перепутать, поэтому вы, безусловно, правы. Сейчас я, кстати говоря, проверю. Может быть, вдруг это не я перепутал, а вы перепутали. А может быть наоборот — перепутал я. Сейчас мы проверим. Нет, «Ночной портье» — это всё-таки Ирвин Шоу, ребята. Что хотите, но какие-то вещи я ещё помню. Сейчас мы проверим. Простите, что приходится отрываться. Ну, ничего не поделаешь, иногда надо. Ну, путать всем случается. Важно, чтобы эта путаница не проникла далеко и была своевременно… Я же говорю, Ирвин Шоу — «Ночной портье». Всё правильно. А Ирвинг Стоун — это «Жажда жизни», что я сразу же, как вы помните, и вспомнил. Катя, не ловите меня на ошибках! Ловите на них себя. Будет лучше. Кроме того, в вашем распоряжении Интернет.
Тут очень много ещё вопросов о бессмертии души. Давайте просто сделаем отдельную лекцию, посвящённую теме бессмертия, потому что… Видите ли, я бы с удовольствием признал правоту людей, которые настаивают на смерти, видят смерть везде. Но они с такой радостью на этом настаивают, с такой радостью отрицают какую-то возможность загробной жизни, что вот эта радость мне не понятна, это злорадство такое. Я попробую им возразить.
А теперь — о Стругацких, и конкретно о Борисе Стругацком, и конкретно о романе «Бессильные мира сего».
Роман «Бессильные мира сего», опубликованный в 2003 году, — это, к сожалению, последнее произведение (во всяком случае, последнее художественное произведение) Стругацких. Хотя меня не покидала мысль, что Борис Натанович над чем-то продолжает работать, но он сам это категорически отрицал и говорил, что замыслы приходят, но он от них отказывается. Ну, как Лем в последние годы.
Считается, что «БМС» («Бессильные мира сего») — самый сложный роман Стругацких. Я с этим готов согласиться, потому что «сожжённые мостики» — любимый приём Бориса Стругацкого, который на сюжетном уровне материализован в романе «Поиск предназначения» (помните, там варолиев мост сжигается в мозгу) — этот приём здесь доведён действительно почти до абсурда. В романе огромное количество цитат и отсылок, и они невероятно плотно расположены. В романе страшное количество именно сожжённых мостов и недоговорённых связей. И для того чтобы ветвистая и сложная конструкция этого романа установилась в вашем мозгу, расправила там все свои крылья и пружинки, мне кажется, книгу надо перечитать раза три.
Я помню, как Житинский прислал мне этот роман, едва получив его от Стругацкого для публикации в «Полудне», и как сам Житинский вскоре после этого угодил в реанимацию. И вот из реанимации с инфарктом он мне позвонил, чтобы спросить, как я понимаю финал. Его это продолжало волновать. Меня это и сейчас продолжает волновать живейшим образом.
Кстати говоря, я помню, что я с этим романом под мышкой поехал в Камбоджу. Это был один из самых печальных опытов командировок (там девочку-маугли поймали). В Камбодже вообще очень страшно в джунглях. Там начинаешь понимать, что здесь, на этой земле, действительно очень много пролилось крови. Это страшное место! Не может очнуться земля, которая пережила Пол Пота и Иенга Сари. И вот я оттуда Стругацкому отправил письмо: «Именно здесь, перечитывая вашу книгу, я, когда-то находивший её крайне пессимистичной, сегодня вижу, что она очень оптимистична!» И я знаю, что это письмо его, в общем, позабавило.
Перейдём собственно к роману. Там описан Стэн Агре (как всегда, Стругацкие брали имя общего друга) — человек, наделённый достаточно патологическими, очень странными чертами и важными способностями. Он там называется «сэнсей», «учитель». Он обладает способностью видеть в любом человеке скрытый талант и этот талант развивать. Получил он эти способности в результате довольно бесчеловечных экспериментов над ним самим, которые проводил его отец, в поисках физического бессмертия для Сталина. И вот в таком институте геронтологии… Ну, был тогда создан институт геронтологии, который потом существовал и после Сталина. Но он именно искал бессмертие (или во всяком случае продление жизни и дееспособности). Так вот, эти проблемы поиска бессмертия привели к тому, что над людьми ставили совершенно бесчеловечные эксперименты. И в результате одного из этих экспериментов у Стэна Агре (его там ещё называют Сынуля, поскольку эксперимент ставит его отец) проявились патологические вот эти черты, странные способности. В остальном он обычный человек (там всё время подчёркивается, что грязный и неряшливый старик), но он обладает способностью видеть в человеке и развивать немедленно скрытую патологию — патологию иногда со знаком «плюс», а иногда и со знаком «минус».
Один герой совершенно точно может почувствовать благодаря сердечному перебою, когда при нём врут. Он такой как бы полиграф, живой детектор лжи. Другой герой обладает способностью гипнотически подавлять чужую волю. Третий (его называют Резалтинг Форс) умеет поворачивать исторические события, чувствует вектор истории, вот это «направление миллионов», которое у Шопенгауэра. Ещё есть один человек, который патологически боится насекомых, но при этом наделён другими замечательными чувствами — например, феноменальной памятью. Есть так называемый Ядозуб — человек, который обладает потрясающей силой ненависти, злости (там он отца своего уничтожил однажды по ошибке), из него вылетает как бы такая направленная торпеда вот этой злобы.
Если рассматривать роман на этом уровне — как повествование о Стэне Агре и его учениках, которых он воспитывает, — то многие видят в этом жестокий шарж на кружок Бориса Стругацкого, на его «Литературный семинар». И даже есть конкретные догадки, что вот Аятолла — это один конкретный человек, а, допустим, а Вадим Резалтинг Форс — это другой. Конечно, ничего подобного. То, что Стругацкий был разочарован многими своими учениками — это факт, но идея в другом, как мне кажется.
Там Стэн Агре всё время упоминает «проклятую свинью жизни», которая лежит на пороге любых великих инициатив. Большинство этих людей, обладавших феноменальными способностями, с годами забыли о них, они постарались о них забыть, они перестали ими владеть. Они стали их применять в быту — грубо говоря, на молнии варить суп, кипятить чайник. Некоторые, как Вадим Резалтинг Форс, вообще стараются избегать напоминаний об этих способностях. И нужно прислать к нему человека с пыточными приспособлениями (которого посылает всё тот же Агре), чтобы его запугать и вернуть к реальности, вернуть к реальной жизни. Это одна линия романа.
Там есть главная коллизия: должны выбрать либо генерала, либо интеллигента. И вот чтобы прокатить генерала и выбрать интеллигента, нужно включить их коллективные силы, нужно заставить их всех работать. Но «проклятая свинья жизни», лежащая на всех дорогах, она превратила их в бессильных мира сего. Им удалось в конце концов активизироваться и выбрать интеллигента. Но вот тут-то вступает Ядозуб, который или по какой-то случайности, или по причине своей концентрированной ненависти, вдруг на первом же выступлении только что избранного интеллигента посылает вдруг страшную волну ненависти в него, такой сигарообразный след остаётся, как от взрыва — и интеллигент гибнет, только что ими избранный. А всё почему? А потому что всякое общество, всякая община существует только постольку, поскольку в ней есть Иуда. Если нет своего Ядозуба, это не работает. И вот поэтому роман Стругацкого ещё и о том, что во всякой победе заложена её последующая компрометация, её последующий крах, иначе она недостижима. Во всяком сообществе есть зерно смерти, которое в результате погубит любой проект.
Многие читают роман иначе, но для меня идея заключается именно в этом. Ну и ещё, конечно, в том, что «проклятая свинья жизни», с одной стороны, проклятая, а с другой — благословенная. Потому что если бы она не лежала на пути у всех великих абстракций, может быть, человечество уже было бы погублено. Если бы не то трение, которое губит любой вечный двигатель… Ну, вспомните рассказ Шукшина о том, как главный герой вечный двигатель строил, но он не учёл, что гирька давит не только на грузик, но и на жёлоб. Сила трения, которая включается в какой-то роковой момент — «проклятая свинья» — она губит великие замысли. Но, может быть, вот эти все «начинания, взнёсшиеся мощно», они и погубили бы человечество гораздо раньше. Может быть, «проклятая свинья жизни» — это тот необходимый тормоз, без которого ничто не реализуется.
Эту идею я впервые высказал в статье, которая называлась «Прекрасные утята». Это была попытка проанализировать «Гадких лебедей» 40 лет спустя. Не знаю, может быть, попытка рассказать о том, почему некоторые педагогические концепции обречены. Именно потому, что они имеют дело с идеальным газом, со сферическим учеником в вакууме, а ученик реален. И поэтому какие бы замысли секты ни лелеяли, какие бы прекрасные революционеры, какие бы прекрасные воспитатели ни появлялись, жизнь тормозит это всё. И, может быть, за это ей надо сказать спасибо.
И вторая идея, которая там довольно сложна, не прописана. Она относится к числу опять-таки самых глубоких интуитивных догадок Стругацкого. Я абсолютно убеждён, что Стругацкие были люденами, были действительно сверхлюдьми, неслучайно их называли «братья по разуму». И сходная мысль, кстати, высказана в прекрасном, одном из первых исследований творчества Стругацких — в «Двойной звезде» Бориса Вишневского, где есть намёк на то, что действительно, когда они были вместе, они были больше, чем просто два человека, а это был один коллективный сверхавтор.
И вот одна из самых глубоких интуиций Бориса Натановича касается образа страшной девочки и страшного мальчика. Я не буду пересказывать этот роман, потому что… Ну, его и невозможно пересказать. Каждый там выскребает из закоулков свои какие-то прелести. Там потрясающее количество вставных новелл, семь прекрасных вставных новелл. Самая лучшая, по-моему, про марки, потому что Борис Натанович всю жизнь их собирал и в них азартно разбирался. Но если попытаться интуитивно как-то нащупать смысл этой истории про мальчика и девочку… Роман вообще очень страшно написан, это настоящий триллер. И там есть поразительная сцена.
Дело в том, что сэнсей, чтобы сосредоточиться, во время разговоров, во время расспросов этих детей вяжет всё время. И вот этот пожилой, действительно грязный, неряшливый, «в халате, пахнущим козлом», этот старый человек, который с бешеной энергией и бешеной силой щёлкает деревянными спицами и вяжет бесконечную шерстяную полосу — это довольно страшный кусок, когда он разговаривает с мальчиком. Тем более что он задаёт мальчику бессмысленные вопросы. Он цитирует ему Конан Дойля, тоже самые страшные куски, цитирует ему дзенские коаны без всякой связи — и мальчик отвечает ему абсолютно точно. Там потом сэнсей говорит: «Вы же поняли, он давал не просто верные ответы, — говорит он своему секретарю, человеку с феноменальной памятью, тоже своему ученику. — Он говорил мне то, что я хочу услышать». Вот эта страшная способность сказать то, что человек хочет услышать, — это ведь необязательно хорошая черта, а это скорее черта опасная. И поэтому, когда я читаю в разных комментариях, что мальчик теоретически должен был стать спасителем человечества, я в этом не уверен.
А есть страшная девочка. Сэнсей вообще обычно не работает с девочками, он работает с мальчиками. (Кстати говоря, в «Семинаре» Стругацкого женщин почти не было.) Но он работает с этой девочкой, потому что чувствует в ней большую, чем в Ядозубе, страшную, разрушительную силу. Обратите внимание, что образ женщины-разрушительницы (уже не женщины-воительницы, созидательницы, не женщины продолжательницы рода, а женщины деструктивной) — это страшная догадка. Она есть у Стивена Кинга, например. Помните, когда главная героиня «Воспламеняющей взглядом» смотрит на солнце и понимает, что когда-то она сможет померяться силами и с ним. Страшная девочка — почему это архетипический образ, как Кэрри у того же Кинга? Ведь не мальчик же это. Этот образ для литературы XX века почему-то очень важный — образ взбунтовавшейся природы.
Короче, там есть два образа будущего. Один — это страшная девочка, который сводится к тому, что, по всей вероятности, единственный способ спасти мир — это его уничтожить, начать с нуля. Девочка может уничтожить мир, если захочет. А есть страшный мальчик, который может мир спасти, наоборот, но спасти его, боюсь, за счёт довольно рабских черт. Грубо говоря, здесь две возможности развития человечества: либо его уничтожение, либо такая его трансформация, которая тоже к особому благу не приведёт. Потому что этот мальчик — как мне представляется, это какой-то символ суперконформизма, абсолютного совпадения с чужими представлениями о себе.
Заканчивается роман тем, что сэнсей просит привести к нему мальчика и начать заниматься с ним немедленно, потому что «совершенно нет времени». Последняя фраза всего наследия Стругацких — «совершенно нет времени». Видимо, что-то такое Борис Натанович почувствовал в 2003 году применительно к нынешнему человечеству. Кстати, развитие России там было описано совершенно точно: и всевластие спецслужб, и вот это жуткое ощущение, что надо либо всё это взорвать и начать с нуля, либо построить глобально покорное, глобальное конформное общество, в котором правит «проклятая свинья жизни». Борис Натанович делает всё-таки выбор в пользу жизни, в пользу мальчика. Но девочка ведь где-то есть, и она растёт. И нет никакой гарантии, что другой сэнсей в свой срок ею не займётся.
Это страшная книга, это очень умная книга, очень тревожная. Каждый откроет и прочтёт её по-своему. Но если вы её прочтёте, вы прежним из неё не выйдете — вы станете гораздо лучше.
Ну а мы услышимся через неделю. Пока!
*****************************************************
04 марта 2016
-echo/
Д. Быков― Здравствуйте, дорогие друзья! На этот раз не в студии, но, безусловно, один. И мне приходится первую четверть эфира вести в достаточно романтических обстоятельствах. Дело в том, что я должен был выйти по Skype, но поезд опоздал (что, оказывается, в Америке тоже бывает), что-то случилось на рельсах. Задержались мы, короче, на полтора часа. И вот сейчас я подъезжаю непосредственно к тому месту, откуда буду скайпиться. Чувствую себя по-настоящему, как один, потому что среди совершенно незнакомых мест, среди непонятных американцев, среди дождливой американской весенней природы. Но я, тем не менее, душевно с вами, поэтому очень мне приятно. Большое количество вопросов. Сейчас я примерно расскажу, что мы будем делать.
Первые полчаса я буду разговаривать по телефону, простите за возможные шумы и помехи. Потом благополучно мы перейдём на Skype, я надеюсь. Я поотвечаю на вопросы с форума. На лекцию сегодня заявок подозрительно много и разных. Есть заявка на лекцию о Галиче, и я готов её рассмотреть. Есть идея прочитать лекцию про Бабеля, и это приятно совпадает с тем, что мне сегодня в университете как раз докладывать на ту же тему, и мы можем двух зайцев убить. И третье. Очень многие настаивают, чтобы я, как и обещал, поговорил про бессмертие души. Я бы рад это сделать, тем более что обстановка чрезвычайно располагает. Очень большое количество агрессивных вопросов. Знаете, меня всегда очень смущало, что материалисты не просто доказывают, что все мы умрём, но почему-то очень настаивают на этом факте и очень радуются ему. Поэтому, чтобы не умножать количество зла в мире, я, наверное, остановлюсь или на Бабеле, или на Галиче, а бессмертием мы займёмся, когда будем, так сказать, что ли, более толерантно себя чувствовать.
Теперь я начинаю отвечать на то, о чём спрашивают на форуме сегодня, потому что здесь крайне интересная подборка вопросов.
Вопрос от Наташи о том, как я отношусь к гоголевской книге «Выбранные места из переписки с друзьями» и, соответственно, к критике Белинского.
К сожалению, приходится признать, что с большинством русских писателей происходит с возрастом такая вещь — им хочется обратиться к пафосу прямого высказывания. Им надоедает плести разнообразные финтифлюшки, а хочется им непосредственно высказаться о жизни, об общественно-политической ситуации, о Боге — в общем, начать наставлять. Об этом довольно точно говорил Гумилёв. Он сказал: «Аня, если я начну пасти народы, придуши меня во сне».
Я считаю, что «Выбранные места из переписки с друзьями» — это и есть отчасти ненаписанный второй том «Мёртвых душ». Во всяком случае, о его идейной составляющей мы можем судить по этой книге. И я очень хорошо понимаю, вообще говоря, гоголевское настроение в этот момент. Эта книга, конечно, ужасно написана, чего говорить, там масса глупостей, потому что гений не обязан быть умён. Это довольно смешная книга. Он сам же писал Белинскому, что размахнулся в своей книге таким Хлестаковым, чего никак не мог предположить. Как симптом, как комплекс, как болезнь она необычайно показательна. И в этом плане она, конечно, гениальна.
Кроме того, есть мысли очень здравые в этой книге, очень важные. В частности, там есть совершенно великое письмо, адресованное, насколько я помню, Аксакову (хотя там, как вы понимаете, оно всё зашифровано под псевдонимами, под инициалами). Это письмо о том, что славянофильство пагубно, потому что славянофильство и западничество, как раз вот это роковое разделение русской мысли, с которого и начались все русские катастрофы, — это рассматривание с двух сторон одного и того же дома. Вот есть его торец, есть его фасад, а люди описывают его по-разному, и поэтому друг друга ненавидят. Это очень точное замечание о разделении русского духа, о том, что это разделение окажется роковым, что после него, скорее всего, невозможно будет восстановить прежнюю цельность.
И, конечно, то, что там сказано о славянофильстве, те достаточно горькие слова, которые там сказаны о церкви, — это вызвало резкую критику. Помните… точнее, вспомните, что книгу Гоголя гораздо резче критиковали славянофилы, ей гораздо больше прилетало от его, казалось бы, идейных союзников, чем от Белинского. И я бы не назвал эту книгу ни реакционной, как писали потом в советские времена, ни обскурантистской. Конечно, там довольно много глупостей. Знаменитая цитата Белинского: «У какого Ноздрёва, у какого Собакевича подслушали вы свои цитаты?» («Ах ты, невымытое рыло!»). Конечно, это там есть. Помните эти знаменитые слова (это, слава тебе, господи, я наизусть помню): «Проповедник кнута, апостол невежества, панегирист татарских нравов — что Вы делаете?! Взгляните себе под ноги: ведь Вы стоите над бездною. Или Вы больны, и Вам надо спешить лечиться; или — не смею досказать моей мысли…».
Но не будем забывать и того, что там точнейшие мысли о растлении русского духа: о коррупции, о том, что «дрянь и тряпка стал теперь всяк человек», о том, что повальное воровство. Там мысли есть великие. Как бы вам сказать? Заблуждение Гоголя интереснее, чем достаточно пошлая правота его оппонентов. Я не верю Белинскому, и я совершенно не согласен с тем, что Белинский так уж тяжко грешен перед Богом. Я считаю, что и письма, и «Выбранные места…» — это замечательные элементы, замечательные эпизоды истории русского духа. И то, и другое представляется очень принципиальным и важным.
Здесь поступил замечательный, на мой взгляд, вопрос. Я, как вы знаете, перемешиваю сейчас вопросы форумные и почтовые, так мне просто удобнее. С почты очень интересный вопрос о том, нет ли главной проблемы русского духа в том, что мы живём в некрасивой обстановке, что среди хрущоб, среди брежневских спальных районов практически невозможно сохранить красоту души.
Знаете, я не могу с этим согласиться. Я понимаю, что я сейчас навлекаю на себя очередные упрёки в совковости. Наверное, это так. Но я очень люблю эти спальные районы.
В этих спальных районах,
В их пайковых пирах,
В этих липах и клёнах,
В простых во дворах.
Это мир моего детства. И если бы я попал в рай, то не знаю, какой другой рай они бы выдумали. Мне очень нравятся… Ну, я не могу сказать, что мне нравятся хрущёвки, потому что жизнь в хрущёвках была довольно-таки невыносима. Эти блочные советские здания любви не вызывают. Но московские спальные районы — это всё-таки мир моего детства, и не такой уж это был мир уродливый.
Понимаете, тут вот в чём штука, я попробую это сформулировать. Ведь мы любим не то, что эстетически прекрасно, а мы любим то, среди чего мы, к сожалению, возросли, поэтому мне так понятна нежность к коммуналкам. Тут давеча к матери моей совершенно неожиданно пришёл в гости человек, с которым они в коммуналке росли. И меня поражает нежность их общих воспоминаний на эту тему. Это, конечно, была адская жизнь, но для них она… Ну, что поделать? Нам нечего любить, кроме своей биографии, кроме своего детства. Поэтому, по всей вероятности, это и будет нашим таким золотым культурным фондом.
Очень многие спрашивают (по крайней мере, три вопроса таких пришло на почту) насчёт того, что я сейчас в Штатах, и что будет с Трампом.
Я, как вы понимаете, не эксперт в этой области, в литературе я понимаю больше. Главный вопрос связан с тем, в какой момент его бортанут и бортанут ли его. Я наблюдаю тенденцию очень странную. Есть такая замечательная прослойка людей — очень меня пугающая прослойка, очень для меня болезненная, она мне представляется очень опасной. Это, как в армии, из самых чмошных первогодок, из самых чмошных «слонов», условно говоря, получаются самые лютые «деды». Так и люди, которых, казалось бы, советский опыт, российский опыт должен был приучить к демократии, приучить уважать права меньшинств и так далее, — эти люди парадоксальным образом, дорвавшись до свободы, становятся страшными адептами «сильной руки». И уже сейчас… Ну, я думаю, что до этого не дойдёт, конечно. Мы знаем, что традиционно значительная часть российских эмигрантов голосует именно за республиканцев, причём чем эти республиканцы более антисоветски и антирусски настроены, тем им это больше нравится.
Но я думал, что до Трампа не дойдёт. Оказывается — нет. Оказывается, сейчас уже есть люди, которые говорят: «Ну а что? Неплохо. Нормально. В конце концов, он крушит политкорректность, он убедительно говорит о защите прав большинства. Он на самом деле здравый и умный человек, заработал большие деньги». И почему-то очень многим кажется, что если человек заработал большие деньги, то это критерий его ума. По этому критерию я круглый идиот, и я не могу с этим согласиться. Я не думаю, что Трамп — это та «диктатура здравого смысла», о которой мечтают многие.
Если вы помните, очень многие адепты Владимира Путина всю жизнь говорили, долго говорили (во всяком случае до Беслана и после), что прагматизм, здравый смысл — это прекрасно. Но мне-то как раз кажется, что прагматизм сам по себе не может заменить убеждений. Более того, это довольно опасная вещь. Человек — это такое существо, которому прагматизм противопоказан. Он любит всё бессмысленное: выдумывает вокруг примитивнейшего размножения целую гигантскую мифологию любви, вокруг выживания — гигантскую мифологию культуры, и так далее. Так что прагматизм мне не кажется достойным человека. И здравый смысл трамповский мне кажется очень относительным. Он, конечно, не клоун. Я думаю, что он ввязался из чистого азарта, потом увидел, что это сейчас востребовано, и постепенно начал думать: а чем чёрт не шутит? Но я глубоко убеждён, что вся эта история как-то прервётся, как-то она в какой-то момент остановится. У меня есть ощущение, что тут можно доиграться.
Трамп предсказан абсолютно чётко у Стивена Кинга, предсказан он в замечательном романе «Мёртвая зона», там его зовут Грег Стилсон. Помните, когда Грег Стилсон идёт и кричит: «Я пойду на них вот так!» — имея в виду чиновников и бюрократов Белого дома, и обещает всему населению горячие сосиски, и под этим лозунгом побеждает. Ну, почти побеждает, потому что Джонни Смит сумел ему помешать. Я надеюсь, что американский Джонни Смит — интеллигент — он бессмертен, и что у него всё получится, и Трамп в результате не приведёт человечество к заслуженной давней катастрофе.
Много вопросов… Я совершенно не хочу в эту тему углубляться. Очень много вопросов о том, считаю ли я нужным цензурировать новости, касающиеся теракта на «Октябрьском поле» (это сейчас можно называть терактом), или считаю я нужным любой ценой это давать в эфир.
У меня довольно сложное отношение к этой истории. Я, безусловно, как вы понимаете… В полемике Навального и Познера, я думаю, вы можете догадаться, чью сторону я беру — именно потому, что, как мне представляется, аргументы Навального здесь более рациональные. Хотя, когда оба оппонента переходят на личности, мне это не нравится. Я полагаю, что когда в стране происходит событие такого масштаба, об этом надо говорить.
Но больше всего, знаете, что меня… не скажу, что убивает, но во всяком случае очень пугает, очень тревожит? На сегодняшний день две самые обсуждаемые в новостях фигуры — это Надежда Савченко и эта… террористка она или шизофреничка (я думаю, что, конечно, душевная болезнь некая здесь имеет место и прослеживается). Просто у меня всегда было представление, что если женщина становится главным солдатом и главным террористом, как сейчас это происходит, то это какой-то страшный сдвиг, какое-то непомерное смешение ролей. И то, что Савченко оказывается единственным мужчиной…
Меня, кстати, тут тоже спрашивают, как выглядит герой нашего времени. Мне кажется, он выглядит, как Илюша Новиков — честный и достойный адвокат, знаток, мой приятель давний, тот, чьей дружбой я горжусь, очень хороший человек. Вот он адвокат, который в этом абсурдном процессе олицетворяет тот самый настоящий здравый смысл — не популистский, а, я бы сказал, юридический. Я с очень большой любовью слежу за тем, что он делает. Соответственно, сама ситуация, сама коллизия, когда Савченко оказывается единственным мужчиной, она мне кажется, конечно, патологической. И у неё начались уже, конечно, мне кажется, реакции, которые прямо самоубийственные. Вот эта сухая голодовка, которую она объявила, — это последний аргумент — швырнуть свою жизнь в пасть.
По-моему, и то, и другое… Хотя это явления абсолютно разного порядка: одно явление — героическое, другое явление — мерзкое и болезненное. Но и то, и другое свидетельствуют о том, что женское начало в нашем обществе как-то болезненно и страшно искажено. Если вы помните, в прошлый раз я читал лекцию про Стругацких, про «Бессильных мира сего», про последний роман Бориса Натановича. Там как раз есть этот образ страшной девочки. Помните, злая девочка, которая уничтожит мир? Это страшное пророчество. То, что в литературе многое стало, к сожалению, указывать на приоритет женского начала, — это, по-моему, катастрофа. Причём начала не просто материнского, или любящего, или, я не знаю, природного. Это было бы счастье. Нет, это именно начало воинское, воинствующее. И вот это меня пугает очень сильно — прежде всего потому, что в этом образе страшной девочки я угадываю какое-то главное извращение: то, чему надлежит давать и оберегать жизнь, становится главным оружием. Вот этого я по-настоящему очень боюсь.
Довольно любопытный вопрос от Андрея пришёл на почту, где он спрашивает меня о том, какова будет главная жанровая тенденция в массовой культуре. Вот была эпоха фэнтези, была эпоха антиутопии. Что будет сейчас?
Вы не поверите, но ровно на эту тему я разговаривал с американскими школьниками вчера, у меня была встреча с ними. Вы знаете, что ни один профессиональный учитель не может пройти мимо школы, ему интересно туда зайти, посмотреть, что там делается, поговорить со старшеклассником на его какие-то ключевые темы. И вот я поговорил. Там мы обсудили, там было три позиции. Вообще, конечно, дети феноменально умны, начиная с 12 лет, я повстречался с ними. И у меня есть ощущение, что три позиции имеют наибольшие перспективы.
Первая. Одна девочка замечательно сказала, что жанр «фэнтези» действительно умер, но жанр «антиутопия» возродился, потому что конец света очень близок или во всяком случае носится в воздухе, поэтому военные антиутопии, техногенные антиутопии будут в ближайшее время занимать позиции доминирующие. Меня это очень пугает. Может быть, такие антиутопии, как «Хищные вещи века». Это может быть. И меня это, конечно, очень огорчает.
Вторая тенденция, которая мне кажется скорее позитивной. Один ребёнок там замечательно сказал, что самые продаваемые книги в мире — это поваренные книги и книги, которые дают советы, как жить. Это постепенное сращение художественной литературы с пикаперской. В конце концов, я сам написал «Квартал» ради этого. Ну, то есть чтобы это спародировать, но тем не менее такое явление есть. Это очень горько, а вместе с тем очень интересно, потому что это появление любовных советов — «как за три дня выйти замуж», условно говоря. Вот это, может быть, будет главным литературным жанром — появление таких художественных учебных пособий, достаточно талантливых. Такая перспектива есть.
И третий жанр, который мне показался самым перспективным, — это появление большого количества новых религий. Это высказал ребёнок, который мне показался самым умным. Он сказал, что, по всей видимости, прежние религии скомпрометированы, и отсюда — массовый религиозный кризис. И ИГИЛ — это явление, конечно, кризисное, потому что это показывает вырождение религиозного сознания, его превращение в какую-то апологию сумрачного зверства. Поэтому, по всей вероятности… Ну, мы уже переживали, собственно, этот этап формирования новых квазирелигий — рерихианства, антропософии, теософии Блаватской, разных попыток так или иначе пересмотреть христианство. Это всё делалось. Действительно очень сильна тоска по какому-то новому духовному опыту. Мне бы не хотелось, чтобы это было засильем лжеучений, чтобы это было, как Мандельштам называл теософию, какой-то «плюшевой фуфайкой, душегрейкой», чтобы это не было имитацией.
Но хотелось бы, как ни странно, какой-то всё-таки религии нового гуманизма. Я думаю, что до этого рано или поздно дойдёт. Я не очень себе представляю, как это будет выглядеть, но я сильно подозреваю, что в ближайшее время мы увидим большой поток литературы о поисках какого-то нового духовного опыта. Я понимаю, что это звучит очень идеалистически и, может быть, прекраснодушно, но тоску по этому я чувствую страшную, потому что ну невозможно всё время говорить о стратегиях взаимного истребления. Это ужасно надоедает и… Не могу даже объяснить, почему это так надоедает. Наверное, потому, что в этом нет никакого прорыва, нет никакого будущего, а хочется немного вздохнуть.
Вот мы всё время говорим, что если сейчас в России произвести какую-никакую либерализацию, то сразу массово начнутся зверства, откат в ещё большее воровство. Нет, мне так не кажется. Говорят, что после революции всегда идёт гражданская война. Я хотел бы возразить. По-моему, гражданская война — это сейчас. Это очень горько, но это ситуация холодной гражданской войны и разрухи. Потому что то, что произошло в Воркуте, — это разруха. И эта разруха во многом уже. Она и в умах, и в калабуховском доме. Поэтому мне кажется, что люди, как казаки у Шолохова, истосковались по работе, по земле, по семье — грубо говоря, по здоровью, по какой-то надежде и по возвращению в нормальный быт. От взаимной ненависти все уже чрезвычайно устали.
Спрашивают меня, естественно, как я отношусь к победе ДиКаприо. Хороший вопрос, многие интересуются этим.
Это тот случай (довольно частый, к сожалению), когда роль явно более слабая, чем многие предыдущие его роли, награждается в виде компенсации за всю горькую жизнь. Мне не нравится «Выживший», и я об этом говорил. Ну, не то чтобы не нравится. Это героическая работа, но я не вижу в ней прорыва. Но то, что его наградили — это хорошо. И, конечно, довольно забавна (хотя, по-моему, грубовата) шутка Мединского, выложенная по этому поводу. Ну, приятно уже и то, что министр пошутил, что он может не только негодовать по поводу клеветы на русский характер, но может иногда и сострить.
У меня есть такое ощущение, что это победа, присуждённая по очкам, а не ввиду нокаута. Какого-то эстетического нокаута здесь нет. Вот «Бёрдмэн» — это был фильм, на мой взгляд, гораздо более бесспорный и, если угодно, гораздо более интересный. Что я думаю о фильме «В центре внимания»? Я пока его не видел. Я очень хочу его посмотреть, мне интересна ситуация. Она, как вы понимаете, действительно сейчас в центре внимания, поэтому мы все в очередной раз спорим, должны ли журналисты показывать то и сё. Но я этого пока не видел. Те отзывы, которые я слышал, крайне позитивные и наводят на очень хорошие ожидания.
Спрашивают меня, что я думаю о романе Сиггерса [Эггерса] «Сфера».
Это роман, который вышел по-русски в прошлом году в переводе Грызуновой, в «Фантоме» он вышел. Спасибо «Фантому», что он присылает мне регулярно на рецензию свои произведения. Это роман, в котором достаточно недвусмысленно прочитывается намёк на Apple Corporation, на айфоны, на новую религию, связанную с айфонами. Это такая антиутопия прозрачного общества — на мой взгляд, более слабая, чем «Мы» Замятина, и вторичная. Но поскольку я ненавижу социальные сети, эта книга мне скорее симпатична. У меня к ней ровно две претензии.
Первая касается, к сожалению, перевода. Перевод там довольно неуклюжий, довольно квадратный. Может быть, это сознательная стратегия, чтобы сделать чтение несколько более шершавым, но мне представляется, что там много неудачного, неловкого, неорганичного. Что касается самой книжки, то вы будете смеяться, но она затянутая. Казалось бы, кто бы говорил. Это немножко напоминает «Фирму» Гришэма, уже теперь классическую. И у меня возникает ощущение, что у автора замах получился больше удара — слишком много сил потрачено на слишком примитивную мысль.
Засим я, видимо, попробую сейчас аккуратно откланяться на три минуты на время новостей и попробую выйти по Skype, если у меня это получится. Если нет, то продолжим по телефону. Оставайтесь, как говорится, с нами.
РЕКЛАМА
Д. Быков― Алло! Здравствуйте. Если я правильно понял, мы продолжаем разговаривать. Приходится говорить по-прежнему по телефону, потому что по Skype нам никак не удаётся соединиться. Но чудо уже и то, что мы разговариваем хотя бы так. Сейчас я уже наконец, слава богу, добрался до стационарного компьютера. Но всё равно — мы так друг от друга далеко, а вот разговор наш вопреки всем препятствиям идёт. Поэтому ещё раз я всех полуночников приветствую!
«Дмитрий Львович, с чем связан ваш оптимизм относительно светлого послезавтра? Ведь 86 процентов никуда не денутся, не прозреют, не поумнеют и не подобреют. Станислав».
Станислав, я столько раз уже на эту тему говорил, что мне даже как-то стыдно повторяться. Но раз повторяется вопрос, то приходится говорить. Нет абсолютно никакого вот этого 86-процентного большинства. Есть огромная инертная масса, которая наблюдает. Иногда — в критические моменты истории — она вовлекается и начинает иметь собственное мнение. Сейчас она его не имеет. Это инертность, это наблюдение. Я не думаю, что эти люди зомбированные, злобные, желающие ужасного. Ужасного желают процентов 5, прекрасно — процентов 10. А остальные 85, как уже было сказано, наблюдают и ждут, чью сторону взять. Вот и всё.
«Андрею Миронову скоро исполняется 75 лет! Он сокрушался, что вынужден играть обаятельных проходимцев, а по-настоящему любил только роли в фильмах «Фантазии Фарятьева», «Сказка странствий» и «Мой друг Иван Лапшин». Нравились ли вам герои Миронова в этих фильмах?»
Во-первых, любил он больше всего роль Маркиза в фильме «Достояние республики». Хорошо помню, как он об этом говорил когда-то в интервью журналу «Пионер». И действительно, Маркиз — это такой компромисс между героем и обаятельным негодяем, очаровательный человек, которого он очень убедительно сыграл. «Фантазии Фарятьева» ему как раз не очень нравились, потому что пришлось играть юродивого, а юродивый — это не его герой. Зато ему очень нравилась действительно роль в «Иване Лапшине», потому что это была попытка совершенно нового типажа. И сцена, когда он пытается застрелиться, казалась ему просто самой мучительной и самой сильной из всего им сыгранного. Конечно, я думаю, что Миронов рождён был играть интеллигента, сопротивляющегося пошлости, интеллигента, сопротивляющегося вот этому диктату всемерного свинства, но такую роль ему не предложили. Отчасти он это сыграл в «Фигаро», конечно.
«Расскажите про Михаила Успенского. Был ли он провинциалом? Почему и зачем в этом веке появился Жихарь и его история?»
Успенский сам когда-то на мой вопрос о том, в чём он видит главное обаяние Евгения Лукина, сказал: «В прелестной провинциальности». Но под провинциальностью он имел в виду, конечно, не второсортность, а имел он в виду внимание к потайной внутренней жизни России, которая всё-таки в провинции проистекает. И действительно, Лукин — замечательный летописец. В какой степени провинциален был сам Успенский, я сказать не возьмусь (в этом же опять-таки смысле). Он, конечно, эту внутреннюю жизнь русской души — не столичную — знал очень хорошо, но провинциален по большому счёту он не был, потому что он писал о той реальности, которой нет. Он писал не о Красноярске, в котором он всю жизнь прожил, а он писал о прекрасном мистическом внутреннем русском пространстве, о пространстве собственной души. И Жихарь, и Колобок — это всё автопортреты. Поэтому, конечно, Успенский — это сказочник в чистом виде, это явление совсем другое.
«Как вы относитесь к Стихи.ру? Это явление или патология поэтической отечественной ментальности?»
Патологией это не может являться. Патология такой распространённой не бывает. Тут уже возникает вопрос: а что есть норма в таком случае? Но, конечно, патологично одно. У меня нет этому объяснений. Если у вас есть — предложите. Хотя нет, вру, у меня есть объяснение, сейчас я вам его расскажу.
Для меня до сих пор абсолютная загадка: почему занятие литературой в России до сих пор так фантастически престижно? Мы живём во времена, когда литература, казалось бы, из мира уже ушла, когда её вытеснили абсолютно визуальные искусства, когда её вытеснили компьютерные игры, когда самая распространённая тенденция — читать «Hunger Games» и тут же в них играть. То есть другие жанры появились. А в России до сих пор самое престижное дело — писать стихи.
Ответ на этот вопрос может дать старое стихотворение Кирилла Ковальджи, очень хорошего поэта, у которого было сказано: «После моей смерти переставят мою мебель, разберут мои вещи, раздадут мои костюмы». И заканчивается этот верлибр словами: «И только слова, которые я расставил в известном порядке, останутся в том же порядке». Видимо, в России прочен только порядок слов, потому что всё остальное можно отобрать, поэтому занятие литературой остаётся не только самым престижным занятием в России, но я бы сказал — единственным занятием в России. Кто бы чем ни занимался, иметь свою книгу, иметь свои стихи так же необходимо, как и иметь свою визитную карточку. Это очень интересно.
«Кому на Руси жить хорошо?»
Хороший риторический вопрос. Если говорить совсем серьёзно, если на шуточный и риторический вопрос отвечать серьёзно, то хорошо в России только человеку, у которого есть своё дело и который умеет его делать. Такой человек незаменим, у такого человека как бы есть прибежище. Компетентность, профессия — последнее прибежище. Профессионализм — это последний островок совести и ответственности. Хорошо на Руси жить профессионалам — людям, без которых невозможно. Без всех остальных возможно, и они легко тасуются. Даже Сталин некоторых военачальников всё-таки выпускал, когда в них появлялась острая нужда.
«Почему вы считаете, что «Протоколы сионских мудрецов» — это выдуманное произведение, а не перевод текста, найденного Нилусом? Какие основания не верить Нилусу, ведь это не он писатель?»
Основания очень простые. «Протоколы сионских мудрецов» — это многажды изученный и подробно исследованный текст. Известно, что это плагиат трактата… Забыл сейчас автора, потом посмотрю. Трактат французского политического журналиста, дай бог памяти, 1856 года. Есть подробное исследование Владимира Бурцева — знаменитого русского разоблачителя, журналиста-расследователя, сыщика, который раскрыл Азефа когда-то в своё время, — подробное исследование о том, как охранка изготовила «Протоколы сионских мудрецов» и что это вообще за подшивка. Это не вопрос мнения, сомнения, доверия, недоверия. Это вопрос научного знания. И в этом смысле всё давно известно. К сожалению, нечем мне вас обрадовать.
«Прочитал первый том дневников Чуковского. Впечатление странное, словно «человек без свойств» снимает слепки с того, что он увидел. Материал бесценный, но не хватает личности автора».
С Чуковским вот какая была история. Я думаю, что из всех когда-либо напечатанных воспоминаний о Чуковском неожиданно самые зрелые и самые умные (а этот автор вообще был человек очень прозорливый) — это тексты Евгения Львовича Шварца, его записи о Чуковском, которые объединены в очерк «Белый волк». Объединены уже после его смерти, потому что сам он это писал просто как мемуары в свою записную книжку. Он понял трагедию Чуковского.
В чём эта трагедия заключалась? Я могу отчасти и к себе, наверное, это нагло применить. Чуковского действительно в мире ничего, кроме литературы, не интересовало. Это была его религия. Я даже больше скажу. Он даже уже в 20 лет, когда он ещё вместе с Жаботинским работал в одесской подёнщине, он тогда выдумал теорию, которую тогда же и описал. Сводится она к тому, что человеку удаются (я об этом уже говорил) только непрагматические задачи, человеку удаётся только то, что не имеет прямого грубого смысла. Сам он формулировал это в старости очень изящно: «Пишите бескорыстно. За это больше платят». Так и здесь: чем меньше у вас корысти, тем больше шансов, что вы достигнете определённого успеха.
Он был чистый эстет, поэтому так любил Уайльда, Уитмена. Он наслаждался по-настоящему только общением с людьми, которые были этой же болезнью заражены, а остальные люди его мало интересовали. Он поэтому и прожил почти 90 лет, что он умудрялся от чудовищных обстоятельств своей жизни отвлекаться, прятаться в искусстве. А обстоятельства были действительно чудовищные: смерть Мурочки, любимой дочери, постоянные ссылки и аресты старшей дочери Лиды, безумие жены (назовём вещи своими именами — Мария Борисовна просто впала под старость лет в тяжёлую душевную болезнь), постоянные критические проработки. Я не говорю об угрозе ареста, но его просто смешивали с грязью, его травили: и Крупская травила, и формалисты травили не в последнюю очередь, Шкловский ему всяческие палки вставлял в колёса. Любил его только Тынянов. То есть страшная жизнь, каторжная, посвящённая труду невероятному. Но он этой каторжной жизнью, этим каторжным трудом заслонялся от опасностей куда более грозных.
Хорошо, вот у вас возникло ощущение, что он как бы не жил. А жить-то стоит ли вообще? Мне кажется, человек должен заниматься работой, должен заниматься искусством. А жить, то есть возиться с грязью быта — а стоит ли это делать? Когда-то Лидия Корнеевна… Я сложно к ней отношусь, но не могу ею не восхищаться, прежде всего как писателем. Когда-то Лидия Корнеевна — действительно писатель абсолютно герценовской силы — написала кому-то в письме: «Вы упрекаете меня в том, что я не люблю жизнь, — чуть ли не Давиду Самойлову она это писала… Нет, по-моему, кому-то ещё. — Жизнь я действительно не люблю, потому что любить жизнь — это всё равно что любить толстый зад кучера». Что это? «Румяная и дебелая бабища», как это называл Сологуб. А что собственно любить-то? Я не очень понимаю тех людей, которые предпочитают жизнь литературе. Литература — там, по крайней мере, понятно, кто прав, а кто виноват, там есть какие-то закономерности, там есть добро и зло, критерии качества, критерии профессионализма. А, простите меня, в жизни, как правило, побеждает наиболее противный или наиболее живучий. Поэтому Чуковский всё делал правильно.
«Ваше мнение о режиссёрских работах Ренаты Литвиновой?»
Я вообще очень люблю Ренату Литвинову. Моё отношение к ней претерпело значительные перемены, но я её люблю. Её режиссёрские работы мне по большей части кажутся беспомощными, но это прекрасная беспомощность. Это беспомощность человека, который не претендует на ремесленность, на умелость, но какие-то штуки ловит очень точно. Знаете, что мне нравится в Литвиновой тоже? Её бескорыстие. Она немножко ахматовская такая фигура. «Вот я такая, какая я есть» («Какая есть. Желаю Вам другую…»), «Я такая, какая я есть. Или терпите меня такой, или мне ничего от вас не надо. В общем, я ни на что не рассчитываю». Ну, такое прекрасное бескорыстие, которое иногда бывает в манерных женщинах. Но в её манерности очень много мужества, поэтому я скорее за неё.
«В романе «Оправдание» запомнился образ сержанта, во взгляде которого — жестокость ради жестокости, — спасибо. — Видел сам такие глаза в казарме. Как лечить эту болезнь?»
Ну, если бы я знал, как лечить эту болезнь, уже бы я, наверное, решил главную проблему человечества. Есть намёки, как мне кажется, в романе «Трудно быть богом» и в фильме Германа: как может Румата спасти Арканар, можно ли вообще спасти Арканар, и есть ли у спрута сердце? Единственное, что можно сделать для этих людей, — это погибнуть у них на глазах. Ничем больше их не проймёшь. Я могу вас утешить одним. Как мне кажется, жестокость ради жестокости нравится очень небольшому проценту, очень небольшому количеству людей, а большинство людей — всё-таки здоровые. Жестокость — это душевная болезнь, и я совершенно с этим солидарен.
И потом, вот что ещё хорошо. Понимаете, мерзавцы с большим трудом солидаризируются. Люди созидательного плана, люди творческие, как правило, легко находят общий язык: встретились, познакомились и начали вместе работать. А вот люди примитивно злобные, как правило, больше заинтересованы во взаимном истреблении. И это очень неслучайно. Поэтому зло до сих пор ещё не объединилось, поэтому оно и не может победить. Понимаете, они никак не могут договориться, кто из них хуже.
«Действительно ли Стрельников вдохновлён Маяковским? Какова основная черта, их объединяющая?»
Ну, имеется в виду Паша Антипов (Стрельников — это его псевдоним) из «Доктора Живаго». Там довольно ясно написано, какая основная черта, их объединяющая. Это жёсткость, максимализм, отсутствие милосердия. Маяковский, правда, был немилосерден прежде всего к себе, такая достаточно самурайская была у него этика. Ничего не поделаешь, да, это такая бескомпромиссность радикальная, некоторая упёртость; может быть, такая донкихотская в какой-то степени, даже благородная, но приводящая в пределе к очень большой жестокости и нравственной неразборчивости. Поэтому — да, это их общая черта, конечно.
Вот Александр Табаков, я ждал этого вопроса: «Дмитрий, здравствуйте! В прошлом эфире вы заявили о намерении прочесть заблудшим атеистам лекцию о бессмертии, — нет, для заблудших атеистов я никакой лекции не собирался прочесть. Они не заблудшие, они так думают, и это их право. — Если не кривить душой, что вам доподлинно известно о нейрофизиологии процесса умирания? — ничего абсолютно! Саша, наслаждайтесь! Я не собираюсь говорить о нейрофизиологии, это не моя профессия. — Для ознакомления с ортодоксальной позицией о бессмертии души — смотри первоисточник. Сомневаюсь, что вы подробно изучали «Бардо Тхёдол», раз, будучи христианином, огульно смешиваете две в корне противоречащие друг другу культуры — тибетское вероучение о реинкарнации и христианскую теорию о Боге-творце».
Саша, это вы их смешиваете! Когда я говорил о реинкарнации, я же предлагал этот термин трактовать как метафору. Я говорю о том, что в российской циклической истории в одни и те же моменты появляются одни и те же ролевые ниши. Это можно называть реинкарнацией, а можно называть это просто одним и тем же ролевым каким-то началом, одними и теми же ролевыми нишами, которые втягивают человека и требуют от него матричного поведения. Никакого отношения к переселению души это не имеет.
«Интересуюсь, на каком эмпирическом фундаменте базируется ваша уверенность. Упаси вас господь от распространения лжесвидетельств».
Саша, я очень рад, что вы заботитесь о моей душе. Того же вам желаю применительно к себе. Одно вам могу сказать точно: на эмпирическом фундаменте это базируется, безусловно. Я чувствую, что я больше, чем моё конкретное Я. Ну, есть у меня способность поступать вопреки собственным интересам, есть способность писать стихи, которая сама по себе свидетельствует каким-то образом о божественном творческом начале, которое в миро разлито. Это эмпирическая уверенность. Если вам хочется думать (и тоже вы исходите при этом из эмпирического опыта), что душа смертна, я не могу у вас отнять вашего отчаяния. Главное — не терять отчаяния. Оставайтесь на этой позиции, ради бога. Просто почему вам непременно надо, чтобы всё человечество разуверилось во всём хорошем? Это было бы неправильно.
«Довелось ли вам посмотреть документальную ленту «Борис Добродеев. «Мосфильм» на ветрах истории»?» К сожалению, не довелось.
«Вам нравится цикл передач Игоря Волгина «Игра в бисер»?»
Я вообще очень люблю всё, что делает Игорь Волгин. Стихи его мне нравятся, особенно стихи 70-х годов — немногочисленные, но сильные. Мне нравятся его книги о Достоевском. И мне нравится его программа «Игра в бисер», потому что это один из немногих глотков свободы и ума на современном телевидении.
Вот очень хороший вопрос: «История даёт богатый материал литературе, но не всегда литература остаётся на уровне истории. Например, личность Петра Первого. Неистовый Романов часто изображается картонным мифологическим великаном. Кто из писателей лучше справился с изображением императора? И возможен ли адекватный его портрет?»
Мне кажется, что лучше всех справился Тынянов в «Восковой персоне». Там есть картина смерти Петра, потрясающе сильная! Я очень люблю эту книгу вообще. И примером критической слепоты и обидчивости Ходасевича (он же ни черта в ней не понял) мне представляется его скептический и прямо оскорбительный отзыв о «Восковой персоне». Написать, что это «игра слов и стилистическое упражнение», мог только человек, который ну вообще не понял, про что эта вещь написана. А ведь образ умирающего Петра, которому некому оставить страну, — это ситуация русских 30-х годов один в один.
Мне кажется, что у Горенштейна в «Детоубийце» получился очень хороший Пётр, очень похожий. И подчёркнутая нейтральность его интонации в некоторых сценах совершенно гениально воплощена была в спектакле Фоменко — ледяной Пётр, вымороженный изнутри. Я имею в виду спектакль «Государь ты наш, батюшка…».
Что касается Алексея Толстого. Алексей Толстой был хороший и обаятельный беллетрист, во всяком случае в 30-е годы. Он вылепил обаятельного персонажа, народолюбца, который ничего общего с реальным Петром не имел — ни в фильме, где его замечательно сыграл Симонов (помните, в фильме Петрова, по-моему, 1938 года), ни в романе. Это тот Пётр, которого хотелось Толстому, который годился Сталину. Это была попытка подсунуть Сталину такую идеологему. Но потом, как правильно писал Пастернак, «стиль вампир востребовал Ивана, а не Петра». В рассказе «День Петра» гораздо больше… Это ранний рассказ, по-моему, 1924 года. Там Пётр более похож на себя и более страшен.
«Если вы читали книги Елены Катишонок «Жили-были старик со старухой» и «Против часовой стрелки», хотелось бы услышать вашу оценку».
Знаете, когда-то я прочёл очень точную рецензию на книгу одного известного советского прозаика, мастера городской прозы. Не буду называть имён. Там было написано: «Прочитав первую страницу, я понял, что автор умеет писать. Прочитав остальные шестьсот страниц, я к этому пониманию ничего не добавил». Боюсь, что это можно сказать и о прозе Елены Катишонок, у которой есть, безусловно, нарративный талант, но, по-моему, она как-то по темпераменту несколько недотягивает. Хотя «Жили-были старик со старухой» — это хорошее произведение.
«Могли бы вы рассказать об истоках американской литературы XIX века в лице таких авторов, как Генри Торо, Уолт Уитмен, Натаниэль Готорн, Ральф Эмерсон и т.д. Большое спасибо за ответ!»
Дорогой gonzo, все авторы, которых вы перечислили, как правило, огульно подвёрстываются под понятие американского романтизма. Туда же подвёрстывается и Мелвилл, туда же подвёрстывается и Эмили Дикинсон (во всяком случае, в хрестоматиях они объединяются по этому параметру). Но, в принципе, их перечислять через запятую совершенно невозможно, это люди разные. Объединяет их одно — некоторый культ природности, который есть и у Торо, и у Уитмена; культ душевного здоровья, здорового человека, свободы, простора, пространства и, в общем, того, что нам дано. Вот нам дано от Бога очень много: нам дано замечательное пространство, дана замечательная страна, дана свобода, которую мы выбрали. Это такое самовосхищение некоторое и восхищение мощью той земли, на которой они живут.
Это тонкая и трудно формулируемая вещь. У меня всего две минуты остаются на то, чтобы её сформулировать, но я попробую. Когда-то Бродский очень хорошо сказал: «Ключевое слово в разговоре об Америке — «много». И действительно, всего очень много. Но это количество, обещанное и данное уже, оно что-то сейчас, как мне кажется, в течение XX века не перешло в новое качество. И поэтому депрессии и запои многих американских прозаиков (а депрессия — это профессиональная болезнь американского писателя в диапазоне от Стайрона до Капоте, от Хемингуэя до Фолкнера), алкоголизм, творческое молчание, уход из литературы, кризисы, срывы — они как раз и связаны с тем, что это количество не перешло в качественный скачок. Мне это стало особенно наглядно на примере Франзена. Вот я прочёл уже его третий роман. Я прочёл «Поправки» («The Corrections») — и это было гениально. Прочёл «Freedom» — это было похуже. Прочёл «Purity» — это неплохо, но это уже обыкновенно. Нет рывка, нет скачка.
И на этом фоне (только не подумайте, что я впадаю в великодержавный шовинизм!) русская литература XX века, может быть, за счёт гораздо больших катаклизмов, она превратилась, она прыгнула. Двадцатилетние люди написали эту литературу. Бабель написал «Конармию» и «Одесские рассказы»; Артём Весёлый — «Россию, кровью умытую»; Пильняк — «Голый год»; Леонов — «Вора» (неплохую вещь, сколько бы её ни ругали); Шолохов написал «Тихий Дон» (или не Шолохов, но явно молодой человек). В России эта качественная эволюция происходила несколько раз. Она произошла в 20-е годы, она произошла в 60-е. Такие явления, как Окуджава, Стругацкие, Трифонов, — это тоже прыжок.
В американской литературе мне не хватает именно рывка. Она свой рывок сделала в XIX веке, а в XX она до него не дотянула. Это очень горько говорить, но ничего сравнимого с такими фигурами, как Мелвилл… До сих пор американская литература не вышагнула из «Моби Дика». Вот был написан великий американский роман — «Моби Дик». И «Радуга гравитации» Пинчона — это просто «Моби Дик» номер два. Он сложнее, но он больше. Знаете, это как голливудский фильм, в который вложено очень много денег, и он стал от этого очень сложным, но лучше он от этого не стал. Я понимаю, что говорю ужасные вещи. Надеюсь, что мои американские друзья меня не слышат.
А мы вернёмся через три минуты.
НОВОСТИ
Д. Быков― Продолжаем разговор. Спасибо всем большое. Простите ещё раз, что, может быть, не очень хорошо слышно. Ну, кроме как по телефону нет у меня никакого шанса с вами связаться. Но, даже не видя друг друга, мы друг друга прекрасно слышим и чувствуем.
Начинаю отвечать на вопросы, приходящие по почте.
Вопрос Кости Каверина. Привет, Костя! Что я понимаю под пошлостью в литературе?
Костя, на самом деле я высказывался много раз на эту тему и мне стыдно повторяться. Ну а что делать, ребята? Я ничего нового не придумал. Как сказано у Маяковского: «Больше я, может быть, ничего не придумаю». Пошлость — это несоответствие между говорящим и говоримым, это желание угодить чужому представлению, это любая деятельность, направленная на формирование мнения о себе, а не на удовлетворение каких-то собственных потребностей. Понимаете, можно быть фашистом, мерзавцем, но при этом не пошляком. Вот это искренний мерзавец, он хочет быть мерзавцем, и ему даже это нравится. А можно быть пошляком, играющим в мерзость, тишайшим человеком, которому хочется себя спозиционировать как зверя, таким комнатным стратегом.
Горький был очень чуток, вообще говоря, к пошлости чужой, а собственной он часто не замечал. У него есть абсолютно пошляческие высказывания и пошляческие тексты. Ну, он вообще очень много делал для репутации, для формирования чужого мнения о себе. Это плохо, но ничего не поделаешь. Вот он писал о Сологубе, что всё время у него были какие-то демонические стихи, садические мотивы, а сам он имел внешность тишайшего учителя (он и был учителем, как мы помним), больше всего любил мармелад, и когда забрасывал его себе в рот, то подпрыгивал от удовольствия. Знаете, после этого уже всякие демонические мотивы Сологуба как-то перестают восприниматься всерьёз. Хотя Сологуб был большой писатель — не меньше, а может быть, и побольше Горького. Вот именно несоответствие между внутренним побудительным мотивом и самовыражением — это и есть пошлость. Это когда вы хотите произвести впечатление, а не решить внутренний вопрос.
«Каково ваше впечатление от романа Стивена Бакстера «Proxima» и Питера Уоттса «Ложная слепота»?»
Роман Питера Уоттса я читал. Я согласен с мнением Лазарчука и Успенского, что такое мог бы написать обкурившийся Лем. А «Proxima» не читал, к сожалению. Мне вообще нравится американская фантастика последнего времени, и нравится именно своей усложнённостью, но качественного рывка я там не вижу. По-моему, качественный рывок был сделан Кларком, Брэдбери и Азимовым. Всё, что было после этого, к сожалению, не дотягивает до уровня, до масштаба. Да и вообще всё, что было после 60-х годов в фантастике, было по большому счёту выработкой уже открытых месторождений.
«Как по-вашему, почему по вопросам экономики, политика и права в эфирах высказываются в основном не профильные эксперты, а писатели, публицисты, режиссёры — люди с живым, подвижным, но зачастую воспалённым воображением?»
Это спрашивает sandrtokarev. Я вам с удовольствием отвечу. Дело в том, что вопросы политики и права интересны не только экспертам. Это такая область, которая волнует всех. А писателю политика и право особенно важны, потому что писателю нужна свобода, гарантии. Помните, у Пушкина сказано: «Но если ты затейливо язвил // Пугливое его воображенье». У писателя пугливое воображение, воспалённое, вы правильно говорите, но именно благодаря этому воспалённому воображению он умудряется какие-то тенденции почувствовать заранее. Вот самое воспалённое воображение было у Мандельштама, но именно благодаря этому он умудрился почувствовать трагедию 30-х годов раньше всех. Никто ещё не понял, а он уже написал: «Мы правим свою китайщину… Страх стучит на пишущих машинках». Это цитата, по-моему, из четвёртой или пятой главы «Четвёртой прозы», совершенно точная. Вот этот страх: «Приказчик обвесил — убей его! Машинистка ошиблась — убей её! Жми, нажимай, дави!» — он это почувствовал. Воображение у писателя должно быть воспалённым, чтобы он раньше других успел испугаться.
«Знакома ли вам книга Мишеля де Монтеня «Опыты»? Что вы можете сказать по поводу этого произведения?»
Знакома, но почему-то я никогда, страшно сказать, не черпал в этой книге мыслей мне близких. Ну, может быть, что-то в интонации Монтеня меня настораживало. Понимаете, «Исповедь» Блаженного Августина мне всегда была очень близка, и я много оттуда брал для себя, из девятой книги в особенности, а Монтень почему-то с моей душой не перекликается. Наверное, это потому, что Блаженный Августин собой недоволен всё время, а Монтень считает себя человеком довольно правильным, то есть он менее рефлексивен, он более морален. Даже рискну сказать — он более морален, чем Блаженный Августин, субъективно мне так кажется, по интонации. На самом деле, может быть, я просто не то читал.
«Хотелось бы услышать лекцию об Уильяме Голдинге».
Мне бы тоже хотелось. Но, видите ли, Голдинг — нобелевский лауреат и, конечно, великий сказочник — это писатель того класса, к лекции о котором надо сильно готовиться, здорово готовиться. Это нельзя ограничиться «Повелителем мух». Это надо брать и тетралогию, это надо брать, конечно, и «Хапугу Мартина», и в огромной степени «Наследников» (в гениальном, на мой взгляд, переводе Хинкиса). Многие люди, которых я знал и любил, называли «Наследников» самым сложным философским текстом в прозе XX века — более сложным, чем Пруст, потому что имитация пещерного сознания там очень интересная. Это надо подготовиться.
«Не так давно в передаче «Своими глазами» Максим Шевченко с пеной у рта доказывал, что отрезать голову человеку гораздо гуманнее, чем его расстрелять, — не думаю, что он такое доказывал. Думаю, что вы здесь что-то как-то воспроизводите в своём исполнении. — Прошу вас дать морально-этическую оценку высказываниям Шевченко».
Понимаете, в чём дело? Мне очень трудно давать морально-этические оценки высказываниям моих друзей. А Шевченко долгое время был… я не скажу, что моим другом, но товарищем, приятелем. Понимаете, Максим Леонардович Шевченко мне ровно по одному параметру интересен и симпатичен — он действительно так думает. В нём нет пошлости, он абсолютно искренне думает и говорит то, что думает. Он такой утопист, мечтатель, радикал. Конечно, многие его убеждения, многие его контакты и его среда меня отвращают чрезвычайно сильно, но я верю в то, что он подставляется добровольно во многих отношениях. И хотя бы за эту наглядность его можно уважать.
«Фильм Луи Маля «Лакомб Люсьен» (по сценарию Модиано́) построен на парадоксе: юный герой без тени сомнения выбирает карьеру карателя. Что хотели сказать авторы? Ведь сознание Люсьена совершенно невинно».
Вот они это и хотели сказать. Я, кстати, до сих пор не знаю, как правильно ставить ударение — Модиа́но или Модиано́. Но из всего, что сделал этот нобелевский лауреат, включая даже недурной роман «Улица Тёмных Лавок», мне больше всего нравится сценарий «Лакомба Люсьена», кстати, как говорится, основанный на фактах и изложенный в двух актах. Это о том, что невинное сознание для фашизма уязвимее всего, и невинные люди становятся карателями. Эволюция простого человека-конформиста в карателя в «Лакомбе Люсьене» показана. Я смотрел когда-то эту картину. Это, в общем, классическое кино.
«Что вы думаете о творчестве Гаспара Ноэ?»
Я не люблю Гаспара Ноэ, мне очень стыдно. Я не люблю «Необратимость», которая сделана талантливо, но она явно… Знаете, это как «Сало́, или 120 дней Содома» у Пазолини: человек удовлетворяет личные порочные страсти за счёт антифашизма, за счёт правильных, как ему кажется, идей. Это, конечно, жестокое кино, оно мне очень не нравится. И совсем мне не понравилась «Любовь» в 3D. Потому что это удовлетворение своих страстей, в лучшем случае визионерских, в худшем — простите меня, просто садических. Сцены, когда Венсану Касселю ломают руку или когда героиню Моники Беллуччи девять минут насилуют в подземном переходе, не делают читателя, слушателя и зрителя моральнее.
Знаете, среди людей, одержимых жестокостью в кинематографе, людей, которые действительно хотят сделать зрителя соучастником, серьёзен, по-моему, один человек — это Ханеке. Вот когда Ханеке снимает, например, «Скрытое» или особенно «Жестокие игры»… «Белая лента» — это другой жанр. Ну, возьмём «Жестокие игры». Или как он называется точно? Я сейчас не вспомню. [«Забавные игры»]. Ну, где двое мальчиков убивают семью. Я вижу, что он мучается. Я вижу, что он не получает удовольствия от происходящего. Он тычет меня в это носом! Он говорит: «Смотри! Смотри! Не отводи глаз! Ты обязан это видеть, ты обязан в этом жить». Мне кажется, что Ханеке мучается, это снимая, а Гаспар Ноэ любуется, это снимая. И его стилистические упражнения не представляются мне столь ценными, чтобы стоило ставить такие этические эксперименты. Ну, не нравится, ничего не поделаешь.
«Избранный вами формат общения со слушателями (вопрос — ответ) стал меня несколько тяготить. Может быть, стоит продлить время ваших «лекций» или развёрнутых комментариев?»
Понимаете, Аня (это annapurna), я бы с удовольствием делал это как сплошные лекции, но я могу существовать только в режиме диалога, и без ваших вопросов мне не интересно. Я слишком много читаю лекций в обычное время — в институте или в «Прямой речи». Здесь мне хочется поотвечать. Мне нравится энергия этого общения.
Про Дейва Эггерса я сказал. Я перепутал, кажется, немного его фамилию. Да, Эггерс, роман «The Circle».
«В своё время после неудач в ракетно-космической отрасли вы разразились укоризнами — «у вас ракеты не летают». Следом последовали досадные неудачи у американцев, а вы на это не откликнулись. На днях американская ракета опять не взлетела, а наш корабль благополучно вернулся. А вы — молчок. Неужели ждёте нашей неудачи?»
Нет, я не жду нашей неудачи. Если бы я был американским поэтом, я бы реагировал на американские проблемы. Меня волнуют проблемы русские, про американцев пусть пишут американцы. Если американцы сделают что-то (и они делают, и я на это отзываюсь периодически), что оскорбит мои нравственные чувства… Ну, вы же слышали, как я сейчас резко, жёстко, бескомпромиссно высказывался о Трампе, я бы даже сказал — просто бесстрашно высказывался! При этом нахожусь сейчас в Америке. Так что не волнуйтесь, американские проблемы меня тоже занимают. Когда у них плохо, я об этом говорю. Но почему-то меня в Америке за это меня не объявляют ни врагом, ни «пятой колонной», ни отыскивают в моих мотивациях «мидовских печенек». Да они вообще, по-моему, не очень обращают на это внимания.
«В своё время вы назвали Игоря Стрелкова самым достойным гражданином России в XXI веке…»
Нет, ничего подобного я не говорил. Я говорил, что Игорь Стрелков — это единственный перспективный политик (на тот момент). Сейчас, мне кажется, он отчасти растерял эту перспективность, потому что сделал несколько вещей, которые подорвали его популярность. Да она и объективно была подорвана ходом вещей, ходом эволюции самого проекта «Новороссия». Меня, кстати, просят не употреблять слово «Новороссия». Вот пишет житель Донецка: «Пока вы тут говорите про Новороссию, я тут сижу, и по мне стреляют». Это, видимо, человек, который, находясь в Донецке, не разделяет ценностей Новороссии. Ну, что поделать? Термин есть, и его приходится пока за неимением лучшего употреблять. Хотите — будем говорить «ДНР».
Стрелков кажется мне единственным принципиально новым типом в российской политике последнего времени, но он совершенно меня в этом качестве не привлекает. Я никогда не говорил, что это самое ценное или самое лучшее. Моя оценка не носит характера модальности. Субъективно это, разумеется, человек очень глубоко мне антипатичный и очень глубоко мне враждебный, но это новый тип, который надо как-то отрефлексировать, предсказанный отчасти во многих текстах, в том числе и в «ЖД». Но то, что надо с этой реальностью как-то взаимодействовать, по-моему, совершенно очевидно.
Что я думаю об аресте в Тюмени блогера Кунгурова?
Я солидарен с позицией Александра Петровича Никонова, друга моего, уже высказанной им в блогах, что за слова арестовывать не следует, на мой взгляд. За что арестован Кунгуров — я пока не знаю. Я не читал его блог, видел некоторые отдельные публикации. Естественно, что сейчас, когда человека арестовали, высказываться о тоне и стиле этих публикаций, я считаю, некорректно. Прежде надо, мне кажется, всё-таки добиться его освобождения или, по крайней мере, соблюдения его прав, а потом уже…
«Что вы думаете о Томасе Харрисе? По-моему, главная заслуга в истории принадлежит Энтони Хопкинсу».
Принадлежит, конечно. Если бы он не сыграл доктора Лектера, этот роман не был бы так известен. Но не будем забывать, что Томас Харрис вообще написал довольно много всего. И Харрис, и Крайтон, да и вообще американские мастера качественной беллетристики, Гришэм разумеется, Ле Карре (правда, он не американец, но тоже англоязычный автор) — это авторы беллетристики, которая переходит на какой-то качественно новый этап. Это беллетристика такого класса, что она выше своего жанра. Это в любом случае мне очень симпатично. Так что я не думаю, что дело тут в Хопкинсе. «Молчание ягнят» очень хорошо придумано. Взять только историю с Билли Рубином, если вы помните, когда он зашифровал. Это же очаровательно!
«Скоро выходит в прокат картина Сокурова «Франкофония». Что вы думаете о Сокурове как о режиссёре и человеке?»
Как человека я его не знаю. «Франкофонию» пока не видел. Как режиссёр он в некоторых картинах мне очень нравится, а в некоторых не нравится совсем. Мне не нравятся фильмы «Телец» и «Молох», потому что мне кажется, что там исследование идеологии подменяется исследованием патологии. Но мне очень нравится «Солнце», очень нравятся «Дни затмения», очень нравился (давно не пересматривал) фильм «Скорбное бесчувствие», совсем не нравится «Спаси и сохрани» («Мадам Бовари») и очень нравится его документалистика. Я думаю, что в документалистике у него есть фильмы, действительно создавшие новую школу. Это замечательно. А вообще моё отношение к нему сложное. Больше всего мне нравится «Русский ковчег».
«Как вы относитесь к творчеству Михаила Тарковского? Знакомы ли вы лично?» Ранние его рассказы и повести нравились мне, последние не нравятся. Стихи не нравятся совсем. Лично мы, к сожалению, не знакомы.
«Каково ваше отношение к решению Святейшего Синода о Льве Толстом? Считаете ли вы отлучение Толстого от церкви справедливым или нет?» Что называть справедливым? То, что Толстой отпал от той церкви (в каком состоянии она тогда была?), по-моему, очевидно. Но следовало ли его отлучать — я не думаю. Я уже об этом говорил, помните, цитируя рассказ Куприна «Анафема». Отлучение Толстого мне кажется шагом и оскорбительным, и недальновидным.
«Кого из представителей русской интеллигенции поставили вы бы для себя, не дай бог, в пример поведения в местах заключения?» Домбровского. Может быть, Марченко, но Марченко был слишком бескомпромиссен, а я таких людей как-то уважаю вчуже. А так мне кажется, что такая личность, как Домбровский.
«Я наивно полагал, что истинное христианство признаёт невмешательство Бога. Прав ли я?» Нет. Ну как же? Бог вмешивается, только он вмешивается посредством нас. Мы — его орудие.
«Хотелось бы услышать лекцию по творчеству Чингиза Айтматова». Попробуем, хотя творчество его крайне неровно. В массе своей это очень высокое творчество, а особенно первые 15 лет, первые повести — примерно в диапазоне от «Прощай, Гульсары!» до «Ранних журавлей». И очень мне нравится «Пегий пёс, бегущий краем моря». Анализировать такие тексты, как «Плаха», я не возьмусь, их надо перечитать. И я боюсь, что они вне контекста уже непостижимы.
«Увидите Лукьяненко — передайте привет от Артура, с которым он летел из Алма-Аты в 1994 году». Лукьяненко, если ты меня слышишь, то передаю тебе привет от Артура! Хотя вряд ли ты помнишь всех, с кем летел.
«Мне кажется, вы могли бы быть так же удачливы на поприще более ответственном, чем то, которому вы отдаётесь. От таких людей, как вы, хочется политической отваги по отношению к заблудшим 86 процентам». Лида, понимаете, я пытаюсь это делать доступными мне средствами, потому что мне кажется, что просвещение должно идти не по линии разоблачения пропаганды, а по линии насаждения сложности. Эту сложность я пытаюсь посильно насаждать, посильно защищать.
«На мой взгляд, политическая система России зашла в тупик, — это вы поздно, дорогой korol, спохватились, потому что мне кажется, что она в шестнадцатом году зашла в тупик. — Выход один: упразднить все политически партии в России, — послушайте, это давно уже сделано. — В органы законодательной власти избирать только по одномандатным округам, а на должности в исполнительной власти отбирать претендентов на конкурсной основе в результате общероссийских тестов, типа ЕГЭ». Это интересная история, но боюсь, что такая автоматизация процесса невозможна, потому что ЕГЭ уже показало свою несостоятельность, мне кажется, в большинстве сфер, а в литературе и вовсе отменено.
«Жестокость в подростковом коллективе — явление естественное, или всё зависит от стечения обстоятельств? Что подсказывает вам педагогический опыт?»
Нет, не естественное. Понимаете, сорняки в саду — явление естественное, если никто не культивирует культурные растения, более того, если их вытаптывает. Жестокость в подростковом коллективе возникает ровно при трёх обстоятельствах.
Первое — если этому коллективу нечего делать; если он, вместо того чтобы работать, занят выяснением отношений. От безделья возникает жестокость, подкалывают друг друга, когда в переполненной камере людям настолько нечего делать, что они начинают выяснять, кто из них в законе, а кто не в законе, и начинают лишать кого-то воровского куска. Это достаточно грустная история.
Вторая вероятность, когда возникает подростковая жестокость, — когда для удобного управления коллективом сержант, учитель или надзиратель (любой начальник, но чаще всего сержант) прибегает к такому нехитрому приёму: все травят одного. Ему кажется, что тогда люди становятся более управляемые. Это направленная, вымышленная, индуцированная жестокость. Это глупость, конечно, и ничего хорошего из этого не получается. Я не советовал бы людям к этому приёму прибегать.
И третий вариант, когда эта жестокость проявляется, — это когда условия жизни в этом коллективе чудовищные; когда, как в казарме, людям жрать нечего, холодно, когда постоянно их угнетает всё. Почему-то думают, что это закаляет. Это не закаляет, а это растлевает. Я считаю, что людям всё-таки не нужно жить в искусственно созданных антитепличных условиях.
«Что хотел сказать или передать во второй части «Фауста» Гёте?»
Братцы, Пуришев Борис Иванович вёл по второй части «Фауста» семинар в течение года, а вы хотите, чтобы я за три минуты это рассказал. Один из парадоксов второй части заключается в том, что когда Фаусту чудится, будто копают канаву, на самом деле это лемуры роют ему могилу. Никто не понимал, что Гёте имел в виду, пока не случился XX век. В XX веке просвещение упёрлось в фашизм, упёрлось в смерть, упёрлось в саморазрушение. Об этом уже Манн написал «Доктора Фаустуса» — о том, как из фаустианского духа вырастает дух фашистский, о том, как из духа, казалось бы, познания, эксперимента, творческой воли вырастает Леверкюн. Это один из страшных парадоксов второй части «Фауста»: ты думаешь, что это они копают канаву, а они тебе роют могилу.
«Каких специалистов по творчеству Алигьери вы могли бы посоветовать?» Я в этой области совершенно не специалист. Про Данте лучшее, что написано из известных мне текстов, — это «Разговор о Данте» Мандельштама.
«Что вы думаете о творчестве Николая Наседкина? Очень мрачные вещи, но думаю, что такие произведения читать необходимо, хотя хочется напиться в хлам». Не читал, к сожалению. Теперь почитаю. Хотя напиться в хлам, к сожалению, не могу по причине невозможности.
Вот хороший вопрос: «Правильно ли будет сказать, что Пушкин и Лермонтов писали о дуэлях с тем же постоянством, с каким Маяковский и Есенин писали о самоубийстве?»
Конечно, и Пушкин, и Лермонтов во многом избрали самоубийственную стратегию. Во всяком случае, история Лермонтова — это чистое самоубийство, абсолютно. Почему возникает эта тема — понятно. Потому что у поэта нет другого способа сохранить лицо. У Пушкина не было другого способа сохранить лицо. Иногда надо поставить эту точку пулей или восклицательный знак пулей, сказал бы я. У Маяковского точно никаких выходов не было. Насчёт Есенина не знаю, там саморазрушение продолжалось в последние годы. Но что касается Маяковского, то это был единственный вариант.
Пишут, что когда переходишь в категорию «дед» (пишет rash), становится действительно проще поверить в бессмертие души. Ну, вам тут же скажут, что это страх смерти. Я пока ещё не перешёл в категорию «дед», но, в принципе, я психологически к этому готов. Не говоря уже о том, что в категории «дед» я был в 1989 году в Советской армии.
«Вопрос по следам разговоров о душе. Что вы думаете об искусственном интеллекте? Чем он будет отличаться от человека? Или он невозможен в принципе?» Я над этой проблемой очень много думаю в последнее время: возможна ли алгоритмизация свободной воли? Не верю я в это дело, потому что воля — это не сумма интеллекта, это не переход количества в качество. Воля — это нечто изначальное, чего у машины, по-моему, быть не может. Но я могу быть неправ.
«Случайно наткнулся на ваше выражение о Красноярске: «Не знаю как вам, а мне здесь…», — ну, грубый аналог выражения «нравится». Не помню у себя такого выражения. Видимо, я кого-то цитировал.
«Не могли бы вы прочесть «Дискуссию в парламенте» Леонида Филатова?» Не знаю я этого текста, к сожалению. Если хотите, то найду.
«Есть ли книга, реалистично описывающая загробный мир?» Нет. И вряд ли будет написана.
«Действительно ли главный теоретический антистукач Оруэлл на практике стучал и писал доносы на Чарли Чаплина, в результате чего того выдавили из Штатов?» Нет конечно. Какое отношение Оруэлл имел к выдавливанию Чаплина и к маккартизму в целом? Насколько я знаю, подобного не было. Но теперь вы меня взбудоражили, и я буду искать такие факты.
«Вас не интересует судьба российских граждан, которых незаконно держат в тюрьмах Омериги? Которых там пытают! Как это странно, что вы беспокоились за Борю Урагана, — а кто такой Боря Ураган? — а за других людей напрочь забыли! Вам наплевать? Я бы сказал, что это не по-людски, не по-человечески!»
Странная какая-то корреляция: абсолютно безграмотный пост, грубый и лживый. Вот как сочетают безграмотность, грубость и ложь! Это наглядный пост. Спасибо вам за него, дорогой vadim027. Меня интересует судьба российских граждан, которых содержат «в тюрьмах Омериги». Не знаю, законно или незаконно, но меня она волнует. Я за то, чтобы все российские граждане были возвращены в Россию. Ну, я не имел возможности с ними встретиться, к сожалению. Ещё раз говорю: меня больше волнует судьба российских политзаключённых. Я бо́льшую часть времени провожу в России.
«Как по-вашему, почему Лев Толстой в холодную февральскую ночь убежал из дома? — ночь была октябрьская, дорогой Илья, в февральскую ночь он бы не убежал. — Что это было? Протест, ужас от супруги, которая его достала? Женщина — это мотивация для мужчины…»
Ну, долгий вопрос. Спасибо вам, что слушаете. Это постоянный слушатель. Почему Толстой убежал? Примерно потому же, почему Анна Каренина ушла из дома. И тоже на железной дороге умер. Это такая попытка пойти против предопределённости, против «железной дороги русской жизни». Видите ли, мы все думаем, что если мы уйдём из дома, то мы спасёмся. А шутка заключается в том, что если мы уйдём из дома, то мы умрём. Пример Толстого это доказывает, пример Анны Карениной это доказывает. Это была такая революция в масштабе одной семьи. Вот Толстой ушёл из дома — он устроил революцию и умер на железной дороге. Это такой наглядный финал, такое страшное предупреждение! Но оно не было тогда прочитано, а все говорили, что великий старец сбежал от графини. А великий старец сбежал от уклада.
«Где нам, люденам, искать друг друга?» А зачем нам искать друг друга? Народ голованов знает Льва Абалкина. Зачем же искать Льва Абалкина? Мы знаем о существовании друг друга — и достаточно.
Очень большой вопрос, на который я не успеваю уже ответить, причём повторённый трижды. Ещё какой-то вопрос про Макаревича, тоже очень длинный и тоже очень гневный. Большое количество скрытых вопросов…
«Нравится ли вам «Ледяная трилогия» Сорокина? И в чём её смысл?» Я не очень люблю «Ледяную трилогию». Мне кажется, Сорокин, гениально разбирая чужие конструкции, когда пытается создать свою, у него получается велосипед.
«Не провести ли лекцию о Шервуде Андерсоне и «Winesburg, Ohi»?» Прекрасная заявка! Когда мы с Веллером познакомились, оказалось, что у нас с ним общий любимый писатель — это Шервуд Андерсон. Я в следующий раз с удовольствием про него расскажу, а сейчас прервусь.
РЕКЛАМА
Д. Быков― Алло! Продолжаем разговор, последняя четверть. Привет ещё раз всем полуночникам. Я всё-таки по большинству писем склонился к лекции о Бабеле, тем более что мне сейчас то же самое предстоит рассказывать по-английски, и я как бы отрепетирую. Но на пару-тройку вопросов я ещё успеваю ответить.
«Когда в каком-нибудь учреждении я прохожу мимо уборщицы или охранника, у меня появляется ощущение, будто я делаю что-то не то, и мне хочется начать оправдываться, что я здесь по делу, а не спроста. Знакомо ли вам это ощущение? Или это проблема с моим психическим здоровьем?»
Нет, это норма. Знаете, Ярослав Смеляков, не самый мой любимый поэт, прямо скажем, написал когда-то… Там какая-то молодая поэтесса восхитилась железнодорожными работницами, и он написал:
А я бочком и угловато
и спотыкаясь на ходу,
сквозь эти женские лопаты,
как сквозь шпицрутены, иду.
У меня есть всегда ощущение неловкости, когда я прохожу мимо людей физического труда. Я утешаю себя тем, что я тоже, в общем, довольно много занимаюсь и занимался в жизни, в армии в частности, всяким ненужным и обременительным трудом, на той же даче. Да и вообще, понимаете… Ну да, перед людьми физического труда я всегда испытываю определённую вину — комплекс неполноценности. Я как-то Кушнера спросил, есть ли у него такое. Он сказал: «А у меня зато ненормированный рабочий день. Я работаю не восемь часов в день, а каждый день и круглосуточно. Я думаю. Я что-то пытаюсь делать. У меня нет выходных». Другие люди тоже мне говорили, что в конце концов тут чувство вины надо испытывать (испытывать его надо), только не нужно считать, что оно объективно. Оно полезно само по себе. Как амбра у кашалота — это тоже может быть признаком болезни. Испытывать его надо, а верить, доверять ему не следует. Интеллигенция всегда испытывает чувство вины перед народом, без этого она впадёт в самодовольство. Но доверять этому чувству совершенно не надо.
«Прокомментируйте информацию о перелёте Гесса. Больше в этом прагматизма или мистики? Гесс умер последним из всех нацистов. Зачем он совершил перелёт в Великобританию?» Я считаю это одной из величайших тайн XX века и не знаю, почему он это сделал. В то, что он это сделал без ведома нацистского руководства, я не верю. Мне кажется, что это была какая-то операция, какой-то заброс.
«Видели ли вы фильм «Новейший завет»? Многие хвалят». Мне не понравилось. Мне показалось, что это недостаточно радикально, недостаточно смешно и недостаточно гуманно, хотя и есть некоторые там замечательные прорывы.
Спасибо за добрые слова…
«Что вы думаете о поэте Алексее Хвостенко?» Поэзия его мне не нравится. «Верпа» — хорошая книжка, она трогательная очень, но мне это как стихи не нравится. Мне нравятся его песни. Он был такой соловей, птица певчая, гениальный музыкант.
«Как вы относитесь к творчеству Гайто Газданова?» Очень сложная тема. Пожалуй, сделаем когда-то о нём лекцию. Понимаете, человек без почвы, без родины, человек, сделавший из этого главный сюжет своей литературы… Даже у Набокова почвы больше, а Газданов абсолютно в какой-то пустоте висит. И стиль такой же — предельно сухой. И зверства очень много, жестокости. А что противопоставить этому зверству, он не понимает.
«Расскажите о романе «Час Быка». Перечитаю — расскажу, безусловно.
И вот вопрос, после которого я перейду уже к лекции: «Все радикальные российские перемены производились радикальными культурными новациями. Волна западной — польской — культуры, накрывшая Россию при Алексее Михайловиче. Серебряный век — перед событиями семнадцатого года. Видите ли вы потенциал культурных изменений, который сегодня бы указывал на грядущие радикальные перемены в русском государстве?»
Нет. Миша, спасибо вам за этот вопрос. Ответ: нет. Помните, как у Воннегута: семнадцатый том собрания сочинений Боконона состоял из одного слова «нет». Я вижу другое. Я вижу культурный и интеллектуальный взрыв. Он есть. Я вижу новое прекрасное поколение. Оно есть, безусловно. Я вижу студентов, которые лучше меня читают лекции. Вот скоро Костя Ярославский про Ницше будет читать, а Лиза Верещагина — про Франкла. Я бы на эти темы говорить не взялся. Но я не вижу пока культурного взрыва. Это объясняется очень просто: труба пониже, дым пожиже. Всё, что было в XX веке — в чётном веке — всегда происходило в огромном масштабе. У нас сейчас и своего Серебряного века нет. У нас есть даже не Бронзовый, а у нас Каменный. У нас есть отдельные очень талантливые люди, но это отдельные голоса в густой тьме. А почему вы думаете, что конкретная культура может быть бессмертной? Она тоже умирает, если её вытаптывать столько лет и травить сероводородом. Помните, как у Валерия Попова сказано: «Никакая любовь не выдержит, если её поить одной ртутью». Боюсь, что-то подобное у нас произошло.
А теперь — про Бабеля.
В чём причина его поразительной аттрактивности, его привлекательности? «Беня говорит мало, но он говорит смачно. И когда он говорит, хочется, чтобы он сказал что-нибудь ещё». Вот Бабель сказал мало, но смачно, и хочется, чтобы он говорил ещё. И русская литература живёт надеждой обнаружения его текстов, изъятых при аресте в 1940 году. Но дело в том, что феномен Бабеля пока ещё не освещён, не разработан. Я сейчас буду говорить вещи опасные, крамольные. Не хотите — не слушайте. В них, наверное, есть какой-то вызов, но мне так кажется.
Один из главных парадоксов — то, что у меня в книжке про Маяковского названо «шоком 20-х» — заключается в том, что главным героем 20-х годов стал не победивший пролетарий или не сопротивляющийся белый, а главным героем 20-х годов стал плут. Расцвет пикарески, расцвет плутовского романа. Я знаю только одну, к сожалению, работу на эту тему (сейчас я на неё сошлюсь), но совершенно точно могу сказать, что не пролетарий, а именно Хулио Хуренито, или Форд из замечательного романа Берзина, или, допустим, Невзоров из «Ибикуса» стали главными персонажами литературы 20-х. Почему? Потому что клоп, таракан выживает в любом катаклизме. Но не только в этом дело.
Дело в том, что Беня Крик, например, — главный бабелевский герой, герой «Одесских рассказов» — это герой такого нового ветхозаветного эпоса. Ведь что произошло в «Одесских рассказах»? Это в основном и в сценарии «Беня Крик», и в гениальной пьесе «Закат», которую Маяковский так любил вслух читать. Там история о том, как рушится ветхозаветный мир, как дети восстают на отца, как мир отца, только что построенный или давно построенный, но шатающийся, как он рухнул и накрыл собой всех. Есть подробная работа Миленко «Плутовской герой советской прозы». Это единственная известная мне работа, где прослежены типологически эти герои-плуты: Хуренито, Ибикус, Бендер, конечно и в первую очередь, и Беня Крик, он из той же породы.
Дело в том, что это (страшную вещь сейчас скажу!), конечно, в жанре высокой пародии выполненная, пародийная, травестийная версия Евангелия. И тогда получается, что Евангелие по отношению к Ветхому Завету — это первый плутовской роман в литературе. Это не значит, что Христос — это образ плута, трикстера. Нет, это значит, что он — образ великого нарушителя, «великого провокатора», как называют Хулио Хуренито. Хулио Хуренито с учениками — конечно, христологическая фигура.
И Беня Крик — это такая же фигура, такая же попытка заменить отца, попытка выжить в мире, в котором отца больше нет. Он же ниспровергает отца, по сути дела, вместе с братом своим. И в результате он, кстати говоря, как и Бендер, как и Хулио Хуренито, — это фигуры жертвенные, фигуры обречённые. Беня Крик обречён погибнуть. Почему? Потому что в мире, лишённом отца, нет больше закона и нет места ему. Он со своим трикстерством, со своим плутовством не может удержать расползающийся мир, поэтому в сценарии он и гибнет. Беня Крик порождён этой революцией. И Беня Крик — жертва этой революции.
Что касается стилистики Бабеля, которая так привлекательна и так неотразима. Я думаю, это тоже стилистика на 90 процентов ветхозаветная. Бабель получил талмудическое образование, прекрасно знал Библию, многому у неё научился. Я думаю, что бабелевский стиль — это синтез французского натурализма Мопассана, Золя (но Золя, конечно, в большей степени натуралист) и ветхозаветной стилистики. То есть это, грубо говоря, французский натуралистический роман, грубый и жестокий, изложенный в стилистике Ветхого Завета с такими долгими тяжеловесными периодами. Как-то христианства, мне кажется, Бабель не чувствовал вообще. Отсюда и его достаточно кощунственные тексты, вроде, например, «Сашка Христос» или «Иисусов грех». Я думаю, что настоящее христианство он не то что не любил, он просто не чувствовал его. Но главная тема Бабеля, конечно, главная трагедия Бабеля — это патриархальный мир, в котором рухнул отец, в котором нет больше отца.
В чём отличие мира «Одесских рассказов» от мира «Конармии»? Главное различие в том, что в мире «Конармии» все друг другу чужие, а в мире «Одесских рассказов» все свои. Налётчики дружелюбно грабят, даже дружелюбно убивают. Ну, как-то действительно все друг другу свои. Желая получить от Тартаковского выкуп, Беня отправляет ему любезное письмо, он пишет: «Если вы не заплатите, с вами случиться такое, что это неслыханно, и вся Одесса будет о вас говорить». А Тартаковский ему отвечает: «Беня, если бы я знал тебя за идиота, я бы написал тебе, как идиоту, но я знаю тебя за умного». То есть они все находятся, как говорил Искандер, «в едином строматическом бульоне» — все плавают в атмосфере благодушия, праздности, воровства, бандитизма, торговли, южной лени, секса и так далее. Все друг другу свои. Мир «Одесских рассказов» — это мир, зачаровавший Бабеля общей патриархальной культурой.
Вот эта культура рухнула. Рухнул мир, в котором все могли договориться. И начался страшный мир «Конармии», в котором Бабель, притворяющийся Кириллом Лютовым (под этим псевдонимом он писал в «Красном кавалеристе»), хочет стать своим, хочет добиться, чтобы люди перестали смеяться вслед ему и его лошади, с помощью убийства гуся в «Моём первом гусе» он пытается стать своим для людей. Евреи чужие всем — и полякам, и конармейцам. Украинцы чужды русским. Белые ненавидят красных и не могут договориться. Между начдивами постоянные конфликты. Это мир тотального отчуждения, в котором только жестокостью можно купить какую-то легитимность.
Возьмите семью в рассказе «Письмо», где по семье прошла трещина, где сначала дети пытают отца, а потом отец пытает детей. «Хорошо было Сашке в ваших лапах? Вот теперь вам будет плохо в моих, папаша!» И страшные эти люди со страшными вытаращенными глазами! И скромный маленький еврей Гедали, мечтающий об Интернационале добрых людей, он не может этот Интернационал найти — ничто никого не связывает. Вот это же ощущение взаимного мучительства проходит и в совершенно замечательном рассказе Бабеля «Иван-да-Марья», когда там: «Меня царапай, — говорит главный герой, — но Россию ты оскорблять не можешь!» И в этой же самой России такие же русские, как он, убивают его, потому что нет никакой общей основы, никакого нового базиса, на котором можно было бы договориться.
Мне кажется, что типологически Бабель наследует Гоголю. Просто он не успел написать своих «Выбранных мест из переписки с друзьями», но, безусловно, он к этому шёл. Мне кажется, что Бабель, как и Гоголь, обладает повышенной способностью к созданию художественных топосов, к созданию и формированию миров. Вот как Бабель создал Одессу, так же Гоголь создал Диканьку, выдумал Украину. До сих пор вся Украина разговаривает фразами из Гоголя. Соответственно, фразами из Бабеля разговаривает вся Одесса, живёт в рамках созданного им мифа.
Аналогом «Конармии» мне представляется «Тарас Бульба». Почему я пришёл к этой мысли? Как раз благодаря одному из ваших вопросов, где меня спросили: «Ведь Гоголь ненавидит по большому счёту жестокость. Почему же он упивается характером Тараса?» А это попытка интеллигента полюбить зверство, попытка интеллигента полюбить жестокость. Гоголь не восхищается нравами Сечи, но он как Гомер российской словесности, как его называли, пытается беспристрастно воспеть величие, воспеть зверство. И всё равно у него не получается! Всё равно у него получается, что А́ндрия жалко, и Остапа жалко, который погибает, и Тараса жалко. Всё равно жалость к убитой, изуродованной, утраченной жизни побеждает. И всё равно у Гоголя жалко всех. Точно так же и когда какого-нибудь начдива — с огромными ногами, с огромными каблуками, мощного такого кентавра! — воспевает Бабель, мы всё равно чувствуем в «Конармии» больше жалости к людям, нежели упоения зверством. Это попытка интеллигента полюбить и воспеть силу.
Как правило, эта попытка заканчивается довольно трагически, заканчивается она довольно беспросветно. И «Тарас Бульба» — трагическое произведение. Оно, конечно, и о русской силе, и о русской воле, но и о трагизме, и о бессмысленности жертвы, и о бессмысленности гибели. Всё равно это там есть. И всё равно А́ндрия жалко, ничего с этим не сделаешь. И когда Гоголь говорит: «Найдутся ли на свете такие огни и муки, которые переселили бы русскую силу?» — мы понимаем его восхищение. Но пониманием и то, что всё-таки человечность, гуманизм в нём сильнее этого трудного звука, этого звона литавр, на котором вся эта вещь и стоит. И, конечно, прав Антон Чиж в своём исследовании… Нет, не Антон, вру. Прав Владимир Чиж в своём исследовании о «Тарасе Бульбе», что во второй редакции уже больше демагогии, а меньше человечности. Мне кажется, что и в «Конармии» Бабель всё время пытается заставить себя полюбить чужое — и не может. Всё равно он не выйдет из своих интеллигентских убеждений, как бы он ни пытался их сломать.
В «Конармии» он об очень многом проговорил. Ведь именно в «Конармии» появилось это замечательное выражение «извилистая кривая ленинской прямой» — совершенно точный образ ползучего ленинского прагматизма. Я уже не говорю о том, что замечательный бабелевский лаконизм, замечательные бабелевские лакуны, недоговорённости — это тоже способ писать такую литературу, которая, формально оставаясь очень просоветской, всё о катастрофе, о зверстве гражданской войны рассказала.
По-моему, самый лучший и самый страшный рассказ Бабеля — это «Иваны». Это рассказ о двух ликах русского народа — о дьяконе Иване Акинфиеве [Аггееве] и о конвоирующем его другом Иване, который постоянно стреляет у него над ухом, проверяя его глухоту. Дьякон дезертировал, и вот его поймали… То есть вру я. По-моему, там фамилия дьякона другая, а Иван Акинфиев — это конвоирующий его как раз солдат. Ну, у меня сейчас нет перед глазами текста. Это два Ивана, два лика народа, один из которых — несчастный беглец, который просит отписать супруге в Касимов, что его замучили, а второй — тот самый злобный казачок. Помните: «Стоит Ваня за комиссариков. Ой, стоит…», — когда этот Акинфиев кидается, якобы контуженный, он рвёт на себе рубашку и кричит: «Кровиночка ты моя горькая, власть ты моя советская! — и дьякону говорит: — Я себя порешу, но и тебя порешу!»
Вот эти два лика Бабель запечатлел с абсолютной чёткостью и зоркостью, которые доступны только чужаку. Потому что он сюда пришёл, конечно, как чужой. Он пришёл из Одессы, где совсем другой мир, и попал в этот страшный лёд взаимного отчуждения. Мне кажется, что прав Искандер — тоже фигура, типологически наследующая и Гоголю, и Бабелю. Искандер абсолютно точно сказал: «Почему большинство сатириков и юмористов южане по происхождению? Потому что южанину на севере ничего, кроме юмора, не остаётся». Юмор — это след, который оставляет человек, заглянувший в бездну и отползающий обратно. Бабелевский юмор — это юмор южанина на севере. И, конечно, покидать юг не следует. И не следовало бы представителям Южной школы переселяться в Москву, но, к сожалению, в Одессе было не выжить. Поэтому и Бабель, и Катаев, и Олеша поехали в Москву для того, чтобы всю жизнь тосковать по Одессе.
Мне хотелось бы отметить напоследок два бабелевских текста, которые как-то выпадают обычно из поля зрения читателей и историков литературы. Это замечательная пьеса «Мария», где Мария ни разу не появляется. Это тот образ грозной воинственной женщины, о котором я говорил в первой четверти программы, страшной женщины, по сути дела. И, конечно, это его последнее произведение — сценарий «Старая площадь, 4».
Это сценарий о том, как старого большевика назначают руководить заводом дирижаблей. Дирижабли эти взлетают, но не садятся, потому что нет связи между головой и хвостом, не срабатывает руль. Там очень прозрачная метафора. Этот старый большевик собирает для строительства дирижаблей людей — социальных аутистов, аутсайдеров, маргиналов, абсолютно выброшенных из жизни. И конструктор этого дирижабля — сумасшедший старик-учёный, типа Циолковского. И поварихой он берёт старую, трогательную и никому не нужную еврейку. И комсомолка там идейная (такой прообраз девочки Нади из шпаликовского сценария), слишком идейная, чтобы быть с большинством, слишком романтичная. И вот дирижабли могут строить только такие люди — люди не то что не укоренённые в жизни, а люди маргинальные по своей природе. Такая воздушная летающая вещь, как дирижабль, не может быть построена прагматиком, не может быть построена нормальным человеком.
«Старая площадь, 4» — это очень хорошая повесть. Я всю жизнь мечтал этот сценарий поставить. То, что главный, лучший сценарий Бабеля (помимо «Бени Крика») не поставлен до сих пор — это, по-моему, большое упущение. У нас потому так мало всего романтического, воздушного и летающего, что мы не привлекаем маргиналов к главному. А только маргиналы на самом деле могут создать что-то превосходное и воздушное.
Простите за такое качество звука, ребята. Я уже в следующий раз буду сидеть в студии, и разговаривать мы с вами будем напрямую. До встречи через неделю. Пока!
*****************************************************
11 марта 2016
-echo/
Д. Быков― Здравствуйте, дорогие друзья! На этот раз, слава богу, в студии, а не по телефону, Дмитрий Быков.
Чрезвычайно интересные вопросы в этот раз, поэтому была у меня идея вообще посвятить вопросам и ответам все два часа, но многие просят лекцию. Пока конкурируют два варианта. Одни очень просят повторить как-то лекцию про Высоцкого и Бродского, доклад, читанный сейчас в Штатах. Сведения о нём доползли до отечества, и некоторые, кстати, слышали черновой вариант этой лекции, уже читавшейся в ЕКЦ. Я готов об этом говорить, если вам интересно. Есть другой вариант — очень многие просят лекцию по творчеству Роберта Рождественского и его отражению в романе «Таинственная страсть» Аксёнова. И, наконец, просят — совершенно неожиданно для меня — многие поговорить о Трифонове. Вот эти три лидера, даже четыре, строго говоря, принадлежат к пику развития советского проекта, а именно к 70-м годам, как мне кажется. Выбор за вами. Либо это будут Бродский и Высоцкий (их взаимоотношения, динамика этих отношений, соположений и так далее), либо это будет Трифонов, либо это будет Рождественский. Как хотите, так и голосуйте.
Вопрос: где в ближайшее время можно будет какую-то лекцию послушать, или какие выступления где будут? 19 марта будет большой вечер в Петербурге, он называется «Счастье», там будет только лирика (во всяком случае, 90 процентов читаемого будет лирикой), это в петербургской капелле. И 14 марта, в понедельник, я жду всех желающих на лекцию про Киплинга в ЕКЦ на Большой Никитской, 47 — в Еврейском культурном центре, который нас, в общем, охотно туда приглашает. Приходите, попробуем поговорить. Билеты, по-моему, есть, хотя не знаю. Ну, если нет, то волшебное слово «Один» вас проведёт.
Начинаю отвечать на форумные вопросы, которые опять-таки на 90 процентов имеют характер литературный. Но мне интересно сегодня проанализировать те, которые имеют нелитературный характер. Ну, многие упрекают слушателей в том, что они слишком ко мне ласковы. Я попытаюсь сегодня осветить как-то тех, кто неласков, потому что они мне в этом контексте даже более интересны, интересен психоанализ некий, вот что ими движет.
Но пока просят рассказать… «Расскажите о творчестве писателей Дмитрия Горчева и Льва Лукьянова».
Василий, понимаете, это совершенно несопоставимые вещи, на мой взгляд, и люди разных поколений. Лев Лукьянов — это автор так называемой сатирической фантастики. Из его текстов я читал только «Вперёд к обезьяне!». И, по-моему, это очень плохо, простите меня. То есть это как бы политический памфлет такой 70-х годов (1979 года, что ли). В жанре памфлета были шедевры в советской литературе. Например, «Старик Хоттабыч» — тоже ведь в известном смысле политический памфлет. Или, например, замечательный текст Александра Шарова «Остров Пирроу». Но роман Лукьянова мне кажется слабым.
Что касается Димы Горчева, Дмитрия Анатольевича, которого я хорошо знал и очень любил. Горчева перевёз в Петербург, фактически вытащив из Казахстана силком, Александр Житинский, который обратил внимание на его прозу и дал ему работу иллюстратором в «Геликоне», в своём издательстве. Житинский вообще многих открыл: и Букшу, и Горчева, и вашего покорного слугу. Горчева многие называют продолжателем Хармса, хармсовской традиции, но, на мой взгляд, это не совсем так, потому что Горчев написал сравнительно мало абсурдистских вещей. Например, «Енот и папуас» — прелестный рассказ. Но основной жанр Горчева — конечно, это такие замечательные маргиналии, заметки на полях жизни, это жанр ЖЖ на 90 процентов. Сейчас, кстати, в «Геликоне» вышел полный двухтомный ЖЖ Горчева, замечательный. Желающие могут его, видимо, как-то заказать.
Я даже не знаю, чем он был силён. Понимаете, боюсь вот так сразу сформулировать, в чём была сила Горчева. Наверное, он удивительно точно называл вещи своими именами. И при вот этой невероятной точности и, даже я бы сказал, жестокости его зрения, он умудрялся сохранять милосердие. Его главная интонация — это такое несколько брезгливое сострадание. Вот поэтому, собственно, Горчева так смешно читать. Это именно пафос открытого называния вещей своими именами, но всё это на фоне такой остаточной глубокой нежности, глубокой жалости ко всем этим существам. А особенно хорошо, мне кажется, писал он о любви, о женщинах. Это у него как-то выходило удивительно нежно и при этом и трезво, и горько, и жестоко.
Я считал Горчева, наверное, самым остроумным из писателей его поколения и при этом самым трагическим, вот это удивительно у него сочеталось. И поэтому так он и прожил мало, потому что его, видимо, надрывало очень сильно изнутри это противоречие. Если бы он просто смеялся над людьми, жить было бы проще, но в нём… Ну, это как в Ильфе и Петрове. Понимаете, в нём жила всё время вот эта пронзительная страдальческая нота. Я, конечно, очень люблю его читать и перечитывать. Мне кажется, что Горчев из всех писателей своего поколения был самым одарённым. Не потому я это говорю, что он уже умер (я и при жизни ему это говорил), а просто мне очень нравилось вообще его общество и нравилось, что он так прекрасно, так обаятельно умеет всем говорить гадости, потому что это были гадости, с любовью сказанные. Это даже были не гадости. Просто мы все очень нуждаемся в трезвом взгляде. Вот взгляд Горчева был отрезвляющим.
«Поделитесь вашим мнением о пьесе Мартина Макдонаха «Pillowman» («Человек-подушка»)».
Я вообще не люблю Макдонаха. Понимаете, я в этой программе стараюсь говорить о том, что люблю. Но Макдонах, очевидно, талантливый человек. Он представляется мне таким английским Вырыпаевым, но без вырыпаевского стилистического прорыва, без вырыпаевской оригинальности. Дело в том, что Макдонах, конечно, достаточно сценичный драматург, что там говорить. Но культ патологии — это проще всегда, чем норма. Рассказывать о патологии гораздо естественнее, гораздо понятнее. Ну, просто она заметнее. Макдонах, конечно, талантлив, кто бы спорил, но он ставит себе лёгкие задачи, как мне представляется. Напугать зрителя, шокировать зрителя, описать патологию всегда нетрудно, а ты попробуй заинтересовать его страстями нормального человека, которые описываются гораздо труднее. Вот Горчев, например, был силён именно тем, что он видел внутренние парадоксы и противоречия этой самой нормы, видел её условность и относительность. А Макдонах — это такая летопись безумия, и достаточно кровавого безумия. В общем, всё время мне хочется сказать «он пугает, а мне не страшно», как говорил Толстой о Леониде Андрееве.
Хороший вопрос насчёт Стайрона: «После ваших рассуждений о выборе дьявола, вернее об отказе делать такой выбор, не могу ответить себе на вопрос: что же делать с таким выбором в жизни?»
Ответ очень простой: переформулируйте его. Потому что если вам предложен такой выбор, он заведомо… Ну, если вас ставят, как фашист в романе «Выбор Софи», перед таким императивным выбором, вам приходится его делать. Просто надо понимать, что при этом вы продаёте душу дьяволу, но спасаете ребёнка. А в жизни вообще, если у вас всегда есть выбор «или…, или…», надо всегда отвечать — «и…, и…», любой ценой избавляться от этой рогатки, потому что вас подлавливают. Надо об этом помнить. Вообще природа всего хорошего на свете — природа синтетическая, синкретическая. Надо синтезировать, а не выбирать. Если вам всё время предлагают, например, выбор между свободой и порядком, надо просто помнить, что без свободы не бывает порядка. Вот и всё.
«Хочу спросить о ревности. Что это — неотъемлемая, естественная часть человеческой природы или тёмное чувство, почти извращение, разрушающее человека? Собственнический инстинкт или комплекс неполноценности? Нужно ли с ней бороться, или она закладывается на генном уровне? Неужели есть свободные, счастливые люди, не знающие ревности?»
Они есть, но я не назвал бы их свободными и счастливыми. Это люди, у которых отсутствует какая-то очень важная врождённая способность. Я не вижу, к сожалению, никакой возможности без ревности обходиться. Если Шекспир правильно называл её «зеленоглазым чудовищем», то это не повод без этого чудовища обходиться, от него избавляться. Понимаете ли, как мы знаем из «Двадцать седьмой теоремы этики», человек себя перепрограммировать не может, человеку имманентны некоторые качества. Вот избавление от этих имманентностей — в принципе, и есть главный сюжет человеческой истории. Но проблема в том, что, избавляясь от них, мы неизбежно чем-то жертвуем. Вот тут, например, уже второй брат Вачовски стал сестрой. Прекрасная независимость от гендера, это всегда приятно. Но, наверное, что-то он существенное утратил, помимо тех чисто физиологических параметров, которых он лишился априори.
Тут ужас именно в том, что, к сожалению… Вот об этом я много говорил после премьеры «Аватара». Это, к сожалению, не всегда находило понимание у слушателей. Избавляясь от некоторых имманентностей, ты избавляешься от очень существенной привязки к роду человеческому. Например, любой космополит, который не привязан к конкретному месту на земшаре, наверное, свободен, чувствует себя лучше и в каком-то смысле независимее, но при этом он теряет очень существенную краску в этом эмоциональном спектре.
Должен вам сказать, что при всей моей любви к Америке, например (в особенности к Америке университетской, по которой я сейчас проехался с докладами), я чувствую огромную радость и страшную свободу всегда, когда попадаю в российскую пробку, на российскую улицу, в дом, где я вырос, и так далее. И мне гораздо больше нравится вести с вами разговор из этой студии, нежели, как в прошлый раз, когда он вёлся из прекрасного, цветущего портлендского сада. Там всё цветёт, мокрые деревья, только что весенний дождь прошёл, роса играет, кругом доброжелательные люди! И всё равно я люблю находиться здесь.
Ревность — это что-то вроде этого. Понимаете, к сожалению, избавление от неё несёт нам какое-то существенное оскудение эмоционального спектра. И для меня любовь без ревности так же бессмысленна, как жизнь без мысли о смерти. Это необязательно страх смерти, но напоминание о ней должно присутствовать. Это как яд в столе (по кушнеровской метафоре), как какое-то терпкое зерно в вине. Без этого невозможно. И поэтому я не думаю, что люди без ревности свободны и счастливы. Другое дело — бывают, конечно, патологии, и они общеизвестны. Как чрезмерная любовь к Родине, когда ты ненавидишь всё, кроме неё, точно так же и ревность очень быстро перерождается в полную противоположность любви. Я знал людей, которые из-за ревности сошли с ума. Я знал людей, которые из-за ревности пытались убить объект этой ревности. Ну, простите, если вам возвратные токи, побочные эффекты любви заменяют саму любовь, то это, конечно, болезнь. Поэтому — ничего слишком. Понимаете, это как плесень в сыре не должна заменять собой весь сыр.
Про роман Бориса Житкова «Виктор Вавич» ничего не могу сказать, потому что я никогда не любил эту книгу. Это хорошо написанная книга, но, кроме стилистического чуда, я там не видел никаких особенных достижений.
«Как вы относитесь к Игре в жизни художника? Стоило ли, например, Клюеву придумывать свой русский образ?»
Это так называемое «жизнетворчество», по терминологии Ходасевича, он этот термин внёс в наш обиход. Это неизбежный атрибут художника Серебряного века и вообще художника модерна, потому что, в конце концов, главной палитрой художника, главным его холстом становится либо город, либо его собственная жизнь. «Улицы — наши кисти. Площади — наши палитры», — как формулировал Маяк. Видимо, в какой-то момент человек… ну, искусство, во всяком случае, достигает того уровня, когда оно начинает вырезать непосредственно по собственной кости, когда оно выходит в жизнь.
Как я отношусь к жизнетворчеству Клюева? Общеизвестен изложенный Георгием Ивановым эпизод (не знаю, насколько он достоверен). Вообще Георгий Иванов весь недостоверен. Тут меня, кстати, спрашивают, почему я считаю, что все его стихи после «Отплытия на остров Цитеру» были слабыми. Неправда, я никогда этого не говорил. Главный его сборник — это «Розы». Другое дело, что в «Портрете без сходства» и в предсмертном дневнике уже есть и самоповторы, и некоторая жидкость, разжижение мысли. Ну, что вы хотите от человека, который умирает в деградации, нищете, который уже написал о собственном распаде «Распад атома»? Это скорее уже клинические документы. А вот «Розы» — первоклассный, превосходный сборник. «Отплытие на остров Цитеру» — это ранний Иванов, про которого Блок замечательно сказал: «Георгий Иванов научился писать прекрасные стихи. Если бы он научился при этом думать, было бы совсем хорошо».
Так вот, что касается воспоминаний Георгия Иванова об этом знаменитом эпизоде, когда Клюева застали, читающим Гейне в оригинале, и он спрятал книгу, виновато заметив: «Маракую малость по-басурмански». Это, по-моему, прелестное свидетельство и прелестный эпизод (если он был). Я люблю, в общем, жизнетворчество, потому что это жертвенное занятие, потому что как сказано в известном фильме «Генерал делла Ровере» (тоже моём любимом): «Художник всегда заигрывается в жизнь и начинает расплачиваться за свои игры».
И Клюев также расплатился, потому что он человек европейский, образованный, просвещённый, достаточно высокомерный, всю жизнь играл в простоватого олонецкого крестьянина и в конце концов погиб, заигравшись. Но при этом не будем забывать, что непосредственной причиной его уничтожения всё-таки была «Погорельщина» — поэма потрясающей силы (и, кстати, поэма очень культурная). Это всё равно что спросить: правильно ли делает поэт, когда его убивают за стихи? Ну, поэт так устроен, что он какие-то вещи не может не сказать. Мандельштам прекрасно понимал, что стихи «Мы живём, под собою не чуя страны» в конечном итоге будут стоить ему жизни, но он не мог это не сказать, если он это понимал. Это такое устройство поэтической души. Именно про это знаменитая сказка про то, что у царя Мидаса ослиные уши.
«Творческий тандем Дунского и Фрида — пример блестящего соавторства. Судьба художников сложилась непросто. Какие их фильмы вам близки?»
Ну, не только фильмы. Я восхищаюсь и непоставленными их сценариями, и их кинематографической прозой (потому что их сценарии — это, конечно, пример замечательной прозы), и особенно, конечно, книгой Фрида «58 с половиной». Валерий Семёнович был моим старшим… не скажу, что другом, но наставником и очень важным для меня духовным авторитетом. И предпоследний вечер в своей жизни провёл он тоже в большой компании, где был я. Я очень любил Фрида. Дунского я не застал, к сожалению, живым. Для меня Фрид был в некотором смысле идеалом спокойного и весёлого мужества. И не зря он говорил, что лагерь подействовал на него далеко не с той силой, с какой подействовал американский кинематограф и прежде всего «Касабланка», которую он так блистательно перевёл. Фрид был таким ковбоем, и в нём много было действительно ковбойского, гордого, вызывающего.
Мне очень нравились его, точнее их совместные сценарии: конечно, классический «Служили два товарища», очень нравился «Экипаж». Я очень люблю Николая Лебедева, но видит бог, я не понимаю, почему этот талантливый мастер должен был делать ремейк «Экипажа» Митты. Может быть, это будет картина более продвинутая в техническом отношении. Но зачем пить то вино, которое уже однажды пили? Зачем переделывать картину, которая, вопреки советскому отставанию от Голливуда, была сделана в лучших традициях блокбастера на медные деньги, в общем? Почему надо это переделывать? Почему Лебедев не снимает собственное кино, которое он блестяще умеет делать, судя по «Змеиному источнику» и «Поклоннику»? Ну, я не буду сейчас… Просто Лебедев — один из любимых моих людей в российском кинематографе. Я ещё не видел всю картину, а видел пока, конечно, только проморолики, надо посмотреть её целиком. Может быть, это гениально, не знаю.
А что касается Дунского и Фрида. Видите ли, не самые известные их сценарии, например, такие как… Кажется, «Бабы» [«Вдовы»] он назывался. Это фильм Микаэляна про двух старушек, которые непрерывно ссорились. Я сейчас уточню. Это был, конечно, автобиографический, автопортретный сценарий. Надо сказать, что при всей своей крепчайшей дружбе Дунский и Фрид конфликтовали непрерывно. Они ссорились в процессе работы чуть ли не до драки. Фрид выбегал, писал новый вариант, приходил к Дунскому и язвительно спрашивал: «Ну, может быть, это тебя устроит?» Они работали в непрерывной дикой конкуренции и в постоянных спорах, это рождалось в диких столкновениях.
Конечно, лучшее их прозаическое произведение, я вам горячо его рекомендую — это рассказ «Лучший из них», который Ярослав Смеляков назвал «лагерной Кармен», «сибирской Кармен». Почитайте, это выдающаяся новелла. Просто чудо языка, хотя сами они считали это всего лишь упражнением на владение блатной феней. Потрясающей силы текст! Кроме того, мне очень нравились их экранизации. Я считаю, что львиная доля успеха «Шерлока Холмса и доктора Ватсона» — это найденная ими ироническая интонация первых серий. Они были такие люди странные. Вообще их после лагеря ничего не пугало, то есть они действительно ничего не боялись. Я, кстати говоря, очень хорошо помню свою реакцию на чтение «58 с половиной», когда я там прочёл, что они бутылку спирта хранили в бюсте Сталина, потому что это было единственное место, которое все боялись трогать, чтобы он, не дай бог, не упал. Вот это их характеризует как-то очень сильно.
Действительно, это люди, которые умудрялись веселиться на грани гибели. Когда Фрида спросили… Ну, он дал уже признательные показания, понял, что сопротивляться бесполезно. Он признался, что они готовили покушение на Сталина. И тут выяснилось, что квартира, где они готовили это покушение, выходила окнами не на Арбат, а на угол. И его спросили: «А как же вы, Фрид, готовили это покушение?» Он ответил: «А у нас еврейские гнутые ружья, которые стреляют из-за угла». Его спросили: «Фрид, как вы думаете, сколько мы вам дадим за этот ответ?» И он с блестящим спокойствием ответил: «Хватит на одного еврейского мальчика». Понимаете, это прелесть.
Фрид же весь был в шрамах. Я видел его однажды без рубашки, он в жару меня встретил. Шрамами он был весь исполосован. Я говорю: «Откуда у вас это?» — «Я там подрался, и меня миской оловянной порезали, потому что я на пересылке краснопресненской отказался делиться молоком, сказал «своих едоков хватает». Вот он там подрался. Хотя он был и мускулистый, и сухой, и поджарый, был такой красавец, и при этом весь дико изрезанный, люто. И вот эти шрамы всегда чувствовались в том, что они писали. Они были очень мужественные ребята. Хотя действительно ни один творческий тандем не бывает гладок.
Всякие добрые слова. Спасибо. Про Рождественского вопрос я по мере сил осветил.
«Дмитрий Львович, помню впечатление от «Истории одного города»: книга переполнена эротическим подтекстом (например, сцена съедения фаршированной головы). Неужели Салтыков-Щедрин ещё не совсем прочитанный автор?»
Андрей, слушайте, об эротических подтекстах у Салтыкова-Щедрина, как и у Чернышевского, как и у даже таких неожиданных авторов, как Писемский… Очень много пишут американские слависты как раз про эротические тексты Щедрина. У меня была долгая дискуссия с одним прекрасным американским аспирантом. Хотя ничего подобного, клянусь вам, у Салтыкова-Щедрина нет. Он писатель абсолютно асексуальный, и он в ужас приходил от «Нана», и страшно ругал эту книгу за откровенность. Его, видимо, волновали другие вещи. Если вы видите эротический подтекст в сцене съедения фаршированной головы… Там не съедение, а просто у Брудастого (у «Органчика») оказалась фаршированная голова. Он с помощью этой головы произносил два слова — «разорю!» и «не потерплю!» — и этого было совершенно достаточно для управления городом. Если вам кажется, что здесь эротический подтекст, то поневоле мне вспоминается анекдот про солдата. «О чём вы думаете при виде кирпича?» — «О ней». — «А почему?» — «А я всегда о ней думаю». Понимаете, Андрей, это понятное дело. Я тоже хотел бы быть в тех годах, когда всегда думаешь о ней.
«Зачем Гоголю потребовался мотив античной Греции, когда Чичиков вспоминает Диогена на балу у губернатора?» Понятия не имею. Понимаете, у Гоголя же барочная, такая ветвистая речь — кого хочет, того и вспомнит.
«Как вы думаете, почему Андрей Дементьев отказался в 70-е годы печатать в журнале «Юность» стихи Владимира Высоцкого? Боялся гнева чиновников или просто не увидел в Высоцком поэта?»
Ну а что вы от Дементьева ждёте какого-то эстетического прорыва или прорыва редакторского? Я вообще не очень люблю этого поэта, не очень хорошо отношусь к нему как к редактору. Дело в том, что… Не буду сейчас личных никаких вещей вспоминать. Просто Дементьев — он же не герой, не борец. Для того чтобы напечатать Высоцкого в 70-е годы, от журнала «Аврора» и от альманаха «День поэзии» требовались какие-то подвиги, что-то титаническое. Я в «Новой газете» писал, что для того, чтобы легализоваться в качестве поэта, Высоцкий даже к Хрущёву поехал, хотя Хрущёв уже ничего не решал. Ему это очень было важно, он говорил: «Это мой гражданский долг». А почему-то люди этого не делали. И чем спрашивать, почему Дементьев не печатал то и то, вы лучше спросите себя: а почему сегодня большинство главных редакторов не печатают ну очевидных вещей, не говорят их вслух? Если сегодня, когда людям по большому счёту ничего не грозит, так трудно сказать слово правды, почему мы должны с Андрея Дементьева что-то спрашивать? Дай бог ему здоровья.
Вернёмся через три минуты.
РЕКЛАМА
Д. Быков― Продолжаем разговор в программе «Один».
«Дмитрий Львович, скоро лето. А пускают ли в шортах в Принстонский университет, или там для профессоров особые условия? Не сочтите за грубость, но всегда умиляла ваша простота в одежде, даже некая небрежность. Не мешает ли вам это в жизни?»
Не мешает абсолютно. Тем более летом в Принстонском университете что делать? Весенний семестр заканчивается 1 мая. Но честно вам скажу, что я в шортах стараюсь перед студентами не появляться — не потому, что это неэстетично, а потому, что есть некие традиции. В остальном же мне кажется, что шортам в российском обществе придаётся какое-то преувеличенное значение. Я помню, что одной из первых прорывных публикаций Владимира Яковлева (впоследствии основателя «Коммерсанта», «Возраста счастья», «Сноба» и так далее — в общем, одного из величайших российских журналистов) была публикация о том, как он в шортах ходил по Москве, а его все милиционеры почему-то задерживали, хотя ничего неэстетичного в этом не было. Это 1985 год. Я совершенно не понимаю, почему некоторых людей шорты так болезненно поражают, так мучают. Ну, как мини-юбка в своё время: «Люди надели мини-юбки — и приблизились последние времена». Мне кажется, всё-таки в одежде надо считывать какие-то другие коды. А краткость или длинность штанов — это ужасная архаика.
«4 марта ушёл из жизни замечательный Пэт Конро́й, — согласен, замечательный. Ко́нрой. — Самое время поговорить о нём». Давайте я подготовлюсь всё-таки. Я давно не перечитывал и не пересматривал фильмов, надо сказать, хотя помню, что «Повелитель приливов» очень мне понравился именно как роман.
«Дмитрий Львович, а если всё-таки ЭТО надолго? Если это до 2024 года и дальше? Когда я школу заканчивал, он президентом стал, а теперь у меня двое школьников растут».
Когда Дмитрия Дмитриевича Шостаковича спрашивали после 1963 года, когда казалось, что вернулась сталинщина, после встречи с деятелями культуры спрашивали: «Надолго ли это?» — Шостакович в своё манере, скребя щёку, говорил: «Тёмные века. Века! Вы понимаете, века!» Вот это очень характерно. Это большие исторические расстояния. Добро всегда побеждает, но на больших исторических расстояниях. По разным причинам я согласен с Нилом Сорским, что история ускоряется. Мне кажется, что ни о каком времени, обозначенном вами, тут речь идти совершенно не может. Но, с другой стороны, часто возникает вопрос «а будет ли лучше?». Нет, лучше не будет. Всё сделано возможное (и делается, и будет делаться) для того, чтобы потом было хуже. Период реабилитации, избавления от матрицы будет очень болезненным, очень драматическим.
«По вашему тону улавливаю, — спрашивает Александр Табаков, — что вы раздражаетесь от моих вопросов, — да нет, что вы? — поэтому дважды благодарю, что зачитываете, — и вас благодарю. — У Фрейда есть концепция эдипова комплекса, формулирующая привязанность ребёнка к родителю противоположного пола. У христиан наблюдается зависимость от небесного папы, который сильнее, мудрее, выше и прочее. Способен ли самокритичный человек разглядеть в этом свой инфантилизм?»
Я сейчас должен сказать вещь, которая, наверное, наживёт мне некоторых оппонентов, но ничего не поделаешь. Ко всем фрейдистским объяснениям сущности религии я отношусь с большой долей скепсиса, cum grano salis [«с крупинкой соли»], что называется. Мне кажется, что Фрейд — великий мастер объяснения высоких, побудительных мотивов, высоких мыслей низменными причинами. «Тотем и табу» — очень изящная работа, но нельзя объяснить религиозные чувства одним лишь синдромом навязчивых ритуалов, поскольку религиозные чувства к ритуалам не сводятся. Фрейд — большой мастер объяснения некоторых простых вещей именно низменными мотивами, но сводить к низменным мотивам отношение к небесному отцу… Понимаете, вы же иногда хотите поблагодарить Бога не потому, что вы его боитесь, а потому, что вам нравится окружающий мир и вы не способны его вместить; вам хочется кому-то сказать «спасибо» за его бесконечное богатство и разнообразие. Разные есть варианты. Поэтому я не стал бы усматривать в религии ни последствия синдрома навязчивых состояний, ни последствия эдипова комплекса.
«За что вы любите «Рюмочную» на Никитской? Место милое, но цены отнюдь не для рюмочной. Расскажите историю этого места».
Насколько я знаю, это тот самый кабак, в котором когда-то дрался Есенин неоднократно, рядом с издательством «Земля и фабрика», одно время размещавшемся на Никитской. Кроме того, у этого места вообще замечательная традиция: что бы ни пытались сделать в этом месте, в нём всегда почему-то людей тянуло выпить очень сильно. И в конце концов решили не противиться карме и сделать рюмочную. Почему я люблю это место? О ценах я мало думаю. Вы же знаете, я не пью. Я там в основном ем. Еда там вкусная, с домашним запахом. Мы там любим собираться, потому что оно в центре, потому что оно имеет такой милый советский вид. А ещё потому, что туда ходят… Ну, это воспоминания о детстве всё-таки, о таких забегаловках московских. И ходят туда в основном люди консерваторские, а консерваторских я люблю. Люблю их за романтику, люблю за то, что там иногда можно послушать или скрипичное соло, или хоровое пение. Никогда не забуду, как Сергей Стадлер мне там с музыкальными иллюстрациями прекрасно объяснял некоторые тонкости музыкальной поэтики Шостаковича. Это было очень здорово.
«Слышали ли вы или читали ли последнее слово Савченко? Какое у вас впечатление? Может, это и есть та самая в хорошем смысле слова русская баба, которая и коня на скаку, и в избу горящую? В чём вы видите логику этого показательного судилища? Испугать? Но кого?» Второй вопрос от того же Ильи: «Как вы относитесь к роману «Человек, который смеётся»?»
«Человек, который смеётся» — по-моему, лучший роман Гюго. Конечно, он не так масштабен, как «Отверженные», но он лучше написан, он самый интересный. И вы знаете, эта бесконечно долгая глава, где он с девочкой (две жертвы — он, жертва компрачикосов, и девочка брошенная), когда они вместе идут, Гуинплен и девочка, по снежной пустыне — это так страшно, так здорово сделано! Меня, конечно, раздражает в Гюго его стилистическая избыточность, но он с годами в последних вещах стал немножко как-то в этом смысле аккуратнее. И «Девяносто третий год» мне нравится, и нравится мне очень «Человек, который смеётся». Я до сих пор помню, что в большом пятнадцатитомном собрании это были десятый и одиннадцатые тома, и я начал читать Гюго именно с них.
Мне когда-то Иван Киуру — муж Новеллы Матвеевой, очень хороший поэт и человек очень просвещённый, европейски просвещённый — он мне говаривал, что именно Гюго был ориентиром для Толстого (и я потом в этом убедился, подробно сравнивая композицию «Войны и мира» и «Отверженных»). И вообще он говорит: «Да, у Гюго, может быть, плохо местами со вкусом. Да, Гюго избыточен. Да, Гюго слишком пассионарен. Но не забывайте, что, когда вы читаете Гюго, вы воспитываете в себе прекрасные душевные качества. Вот как-то это у него получается». Вас могут раздражать бесконечно длинные отступления про епископа Мириэля, совершенно ненужные. Вас может раздражать это огромное мясо текста, которое на тоненьких рёбрышках фабулы виснет в «Отверженных». Вас могут раздражать его патетические, немножко старомодные, такие традиционно-романтические убеждения. Но просто помните, что, когда вы читаете про Мариуса и Козетту или про Гуинплена, или когда вы читаете у него даже «Наполеона Малого», вы всё равно воспитываете в себе неожиданно прекрасные душевные качества. А может быть, этот словесный избыток и нужен для того, чтобы как-то прошибить скучного читателя?
Когда-то очень хорошо писал кто-то из критиков (кажется, Нея Зоркая, хотя я не убеждён), что вот ставить Гюго, например, в театре — это колоссальная ответственность; если вы не заставите зрителя рыдать, вы его насмешите. И действительно, «Эрнани» или «Король забавляется», или «Рюи Блаз», который был в детстве моей любимой стихотворной пьесой («Мне имя Рюи Блаз! И я простой лакей») — когда это читаешь, это смешно. Но когда об этом вспоминаешь, то всегда почему-то со слезами. Тут действительно есть крайности. Поэтому я люблю иногда безвкусную прозу, если она своей избыточной силой всё-таки действует на какие-то очень тонкие и очень важные читательские нервные окончания. Поэтому мой вам совет (совет ещё от Ивана Киуру): желайте воспитать в себе человека, читайте Гюго.
Теперь про главный вопрос. Я думаю, что это главный вопрос сегодняшней программы. Что я думаю о Надежде Савченко? Это вообще заслуживает довольно подробного, я бы сказал, семиотического исследования. Я, конечно, не стал бы её сравнивать с Жанной д’Арк, но сравнил бы, например, с Надеждой Дуровой, другой Надеждой. Вот тут все говорят, что Савченко производит впечатление неадекватного человека. В «Собеседнике» выйдет во вторник моё интервью с Ильёй Новиковым, другом моим, её адвокатом. Он говорит: «Главное, что она адекватна самой себе». Вот с этим я согласен. Адекватность чему вы имеете в виду? Адекватность каким нормам?
Тут несколько (не побоюсь этого слова) подонков… Ну, просто я знаю их подонские дела, я исхожу не из их роли в процессе Савченко, а из предыдущих их действий. Несколько подонков усиленно выкладывают истории, свидетельствующие о её безумии или лживости, истории о том, что она приписывала себе несуществующие заслуги. Другие пишут, что она производит впечатление истерички. Например, Сергею Лаврову не нравится её… Наш радиослушатель Сергей Лавров, как говорится, ему не нравится её поведение в зале суда. Вот если бы она хорошо себя вела в зале суда, к ней бы допустили врачей. А она плохо себя вела, и к ней поэтому врачей не допустили. Это очень хорошее, очень наглядное поощрение за хорошее поведение. У нас все люди ведут себя хорошо, и с ними можно делать всё что угодно, поэтому, когда их будут выкрадывать и судить без вины, к ним будут допускать врачей, и они не будут никому показывать средний палец. Вы сначала спросите себя, адекватно ли то, что делают с Савченко, а потом уже говорите о том, адекватно ли она себя ведёт. У меня есть сильные подозрения насчёт того, что в ситуации с Надеждой Савченко, на её месте оказавшись, никто из людей сколько-нибудь нормальных, обладающих чувством собственного достоинства, не вёл бы себя смиренно.
Что касается её действительно очень резкого последнего слова и её неуважения к российскому суду. Как доказал в своё время Лев Успенский, уважать надо за что-то, такова лингвистическая природа этого слова. Особенных причин для уважения к российскому суду (особенно к тому, который не принимает ни одного адвокатского ходатайства, отклоняет экспертизы, спорит с очевидностями), больших причин для уважения здесь, на мой взгляд, нет. Спрашивают, почему я не подписал воззвание ПЕН-центра. Потому что я не член ПЕН-центра. И я вообще не люблю эту организацию, потому что она раздираема противоречиями, у неё нет никакой общей базы, она скандалит беспрерывно. Я вообще не член ни одной писательской организации, и мне это не нужно.
Что касается самой Савченко. Понимаете, женщина на войне — это особая и довольно сложная тема. Воюющая женщина (как та же Надежда Дурова), к сожалению, обретает черты, резко отличающие её от жеманных современниц. Это только в пьесе Гладкова «Давным-давно» Шурочка Азарова могла быть прелестной в качестве салонной кокетки и удачлива на войне. Надежда Дурова производила впечатление просто гермафродита. Пушкин написал, например, что, когда он поцеловал ей руку, она вырвала руку со словами: «Я так давно отвык от этого!» Понимаете, «отвык». То есть это черты… я не скажу, что гермафродитизма в физиологическом смысле, а это черты психики, как минимум уже надгендерной, трансгендерной. Если женщина долго на войне, то совершенно естественно, что особой женственности мы от неё ожидать не вправе. И, наверное, да, если женщина хочет пойти на войну («О, сколько счастлива мужчины судьба!» — как в классической этой песенке), наверное, у неё есть определённый склад характера, который отличает её от традиционной женщины-матери, женщины-хозяйки.
Но давайте опять-таки вспоминать о том, что и Жанна д’Арк тоже в своё время защищала Родину, и многие упрекали её в том, что она носила мужское платье, и именно за это она была сожжена. Но тем не менее вот ей хотелось спасать Францию, её участь пастушки не удовлетворяла. Наверное, многим её современникам казалось бы, что лучше бы она пасла овец, а Франция бы как-нибудь справилась и без неё. Но почему-то получается, что в критические моменты именно женщина (как в своё время знаменитая старостиха Василиса) берёт на себя какие-то мужские обязанности. И это как раз показатель того, что нация отличается и зрелостью, и силой. И давайте не будем забывать, что абсолютный эталон женственности и красоты — Лия Канторович. Когда убили командира, санинструктор Лия Канторович повела роту в атаку. И рассуждать при этом о том, насколько она была женственна, я думаю бессмысленно и просто подло.
У меня нет прогноза по ситуации Савченко, но у меня есть очень мрачный диагноз. Когда я сейчас писал книжку про Маяковского, я заметил: в 1923 году очень многие лирики перешли на другие жанры или просто замолчали. Это связано отчасти с отсутствием читателя, поскольку поэзия — явление концертное. Искусство — вообще явление концертное. Это не моя формула, а формула Льва Мочалова, петербургского искусствоведа. Когда нет восприятия, когда нет зрителя, искусство умирает. Это, конечно, не значит, что на необитаемом острове надо прекратить писать, но это будет другая литература, у неё будут другие стимулы, это будет аутотерапия. А вот для того, чтобы воспринять подвиг, нужна аудитория. Уже у Маяковского в 1930 году не было читателей, способных воспринять его самоубийство. Самоубийство тоже требует читателя, это тоже текст, это тоже послание. И когда он застрелился, все обсуждали только, действительно ли у него был сифилис, из-за которого он якобы застрелился, сколько он оставил денег и в каких отношениях находился с Брик и Полонской. Как совершенно правильно писал в своём дневнике один из современников: «Если бы выставили труп серийного убийцы, его точно так же пошли бы смотреть». Огромная толпа к гробу Маяковского — это не была толпа поклонников, это была толпа любопытствующих. Вот что сделала деградация 20-х годов. Это надо понимать, об этом надо говорить. Героический жест требует людей, способных это адаптировать, способных это воспринять, адаптировать это к своему пониманию.
Сегодня же героический жест вызывает в основном насмешки. Вот все хохочут, вспоминая Васисуалия Лоханкина, все хохочут над тем, что Савченко голодает, и когда она уже кончит голодать, и голодает ли до обеда или только до ужина. Вы поголодайте сами дня три (я про сухую голодовку не говорю, я говорю про воздержание от пищи), и я посмотрю на вас, издевающихся, таких весёлых, таких бодрых! Любой героический жест сегодня — будь то выход на демонстрацию, будь то попытка заявить свой votum separatum [особое мнение] на фоне тотального единомыслия… Она воспринимает прежде всего смех, смех подонков. Надо вам сказать, что смех, унижение, издевательство — это вообще очень часто реакция подонка. В лучшем случае, если вы не принимаете этого, тут можно посострадать человеку, который, по-старому говоря, заклёпан во узы. Человеку, который находится в тюрьме, вообще на Руси было принято сострадать вне зависимости от того, виноват он или нет, потому что по российским условиям та тюрьма, которая есть в России, превышает любой грех, в общем (конечно, кроме греха садистского убийства, я надеюсь).
Так вот, у меня есть такое ощущение, что, когда человек голодает, желая доказать свою правду, тут надо думать не о том, как ему проносят тайно котлеты или воду, а о том, что на ваших глазах совершается героический жест. Без уважения к героическому жесту нет культуры! Об этом прекрасно сказано у Искандера в «Стоянке человека»: «Пока есть героический жест, не утеряно человеческое достоинство».
Конечно, мне возразят: «А как же вы относитесь к тем, кого Савченко убила, на кого она наводила огонь?» Во-первых, я достаточно подробно знаком с опубликованными, в том числе на «Эхе», доказательствами, с экспертизой, что Савченко физически не могла в тот момент наводить огонь на журналистов. Но скорблю ли я по убитым журналистам? Да, безусловно. Я вообще считаю… Вот здесь я, пожалуй, за свои слова отвечаю. Я считаю, что конфликт России и Украины — это и есть величайшая геополитическая катастрофа. Не распад Советского Союза, а вот этот конфликт. Я, правда, ненавижу слово «геополитика». Вы знаете, есть несколько терминов, после которых с человеком не надо дальше говорить: это «геополитика», «англосаксы», «Хартленд» и так далее. Но если повторять термин, повторять цитату первого лица, то, конечно, это геополитическая катастрофа. Ну, скажем иначе: это нравственная и человеческая катастрофа. То, что это произошло вообще — это чудовищно (безотносительно к случаю Савченко)! Мы будем расхлёбывать последствия этого весь XXI век. И до многого, я надеюсь, не дожить.
Но если говорить о случае Савченко, то (безотносительно, ещё раз говорю, к степени её виновности) её поведение на этом суде не должно вызывать насмешек, не может вызывать насмешек. Вы можете её ненавидеть, но вы не можете над ней насмехаться, потому что насмешка фактически над самоубийственным поведением — это реакция подонка. Вот просто с этим надо смириться. Конечно, можно смеяться над всем, смеяться можно над многим. Это может быть вашим выбором, да. Смеяться можно, например, над российской пропагандой с её чудовищными садическими фейками. Смеяться можно над украинской пропагандой. Много вообще смешного в этой истории. Пранкеры тоже забавляются — они звонят Фейгину от лица Порошенко. Наверное, и над поведением Порошенко в этой истории стоит посмеяться. Но над женщиной (над женщиной! — что тоже важно подчеркнуть), которая бросает свою жизнь в пасть врагу, мне кажется, смеяться не стоит.
Хотел бы я видеть Савченко в своих друзьях? Наверное, нет. Смог бы я общаться с Савченко? Наверное, нет. Но это неважно. Понимаете, это всё равно, что на ваших глазах, допустим, злодейски убили человека, а вы рассуждаете о том, что он был некрасивый. Очень может быть, что он был некрасивый, но в данном случае это нерелевантно. Вот это то, что я хотел бы здесь сказать.
Понимаете, когда вы будете пытаться как-то… Я обращаюсь не к подонкам, конечно, а я обращаюсь к обманутым. Когда вы будете пытаться защитить своё достоинство и у вас для защиты этого достоинства будут только откровенно самоубийственные шаги, над вами тоже посмеются. И посмотрю я тогда на вас. Эмпатии не хватает. Не хватает того, чтобы поставить себя на чужое место.
«Почему наши современники невнимательны к воспоминаниям Разгона, Петкевич, Гинзбург, не говоря о Солженицыне? Это выборочная аберрация памяти или нежелание грузить себя негативом?»
Ну как? Они внимательны, но просто им кажется, во-первых, что всё это преувеличено. Во-вторых, им кажется, что всё это было не с ними, хотя народ, нация — всё-таки единое тело. А в-третьих, большинству из них (и вот это очень наглядно) кажется, что эти люди были сами виноваты. Ну, просто так же не сажали? Ведь их дедушку не посадили. Значит, сажали не всех. Лев Эммануилович Разгон виноват — он еврей. Солженицын виноват — он писал другу письма соответствующего содержания. Петкевич виновата — потому что она Петкевич. Ну, можно же всегда причину найти. Большинство людей уверено: просто так не посадят же, верно? И пока с человеком этого не произойдёт, он и сам уверен. Как Солженицын был уверен до его ареста. Солженицын же очень жёстко о себе молодом написал. Он пишет в «ГУЛАГе»: «Мы способны обнять ту часть правды, в которую упёрлись рылом». Это жестоко сказано. Да, к сожалению, пока человек не начнёт на собственном примере наблюдать бесчеловечность тех или иных русских закономерностей или законов просто, он будет думать, что зря не сажают.
«Рассказ Горького «Испытатели» — о русских мужиках, ставших из любопытства вором и убийцей. Знал ли Горький правду о простом человеке и как мирился с этим знанием?»
Видите ли, это вообще инвариант Горького, по-умному говоря, его сквозная тема, когда человек испытывает пределы божьего или человеческого терпения, или терпения фатума, судьбы. У Горького есть несколько сквозных инвариантов, таких сквозных тем. Я не буду их перечислять, хотя они очень занятные. Но один из самых наглядных — это человек, лишённый нравственного чувства и проверяющий пределы божественного терпения. Самый наглядный здесь пример — это рассказ «Карамора». Помните, герою снится сон о том, что над ним нависает маленькое, твёрдое, плоское небо, серое, как бы жестяное? Вот он не чувствует неба, он видит плоскую картинку. Точно так же и здесь. Карамора почему предавал? Ему что, нравилось предавать, что ли, или корысть какая-то? Нет, ничего подобного. Он испытывал предел, он думал: когда он предаст вот этого или убьёт вот этого, или заставит повеситься вот этого, — когда он всё это сделает, в нём совесть заговорит или нет? Она не заговаривает. Вот Горького очень смущало, что есть такие люди. Боюсь, что сам он был один из них. Неслучайно, когда ему сообщили о смерти Максима, сына его, он побарабанил пальцами по столу и сказал: «Это уже не тема», — и продолжил разговор на другую тему.
«Важно ваше мнение. Не является ли атеизм Стругацких, о котором они часто говорили, причиной кризиса их представлений о возможном развитии человечества?»
Нет, тут дело не в атеизме, дело в проблемах Теории воспитания. Дело в том, что Стругацкие разочаровались в Теории вертикального прогресса и вообще задумались о том, является ли прогресс смыслом истории. По всей видимости, нет. Поэтому Борис Натанович и написал про «проклятую свинью жизни» в последнем романе, которая уничтожает все тенденции — о том Иуде, который губит замысел любого кружка. Но, может быть, именно благодаря этой «проклятой свинье жизни» человечество и живо до сих пор.
И потом, понимаете, в чём разница? Стругацкие всё время говорили: «Способность человека быть человеком проверяется его отношением к непонятному и неприятному». Вот каждый полюбит хорошего человека, а ты поди полюби Флору. А если ты видишь Флору и тебе хочется её уничтожить, в тебе что-то не так. Кстати, с Савченко сходная история. Савченко не обязана быть приятной. Борец вообще не обязан быть приятным. Мне БГ когда-то сказал поразившую меня мысль: «Святые в большинстве своём были очень неприятные люди». Мать Тереза в частности. Так что стоит подумать. Одной из задач Стругацких было научить людей терпимо относиться к ненавистному.
«Есть ли у вас «разгрузочные» периоды после серьёзной прочитанной литературы, когда вам нужно отдохнуть на «несерьёзной»?» Я обычно отдыхаю на дневниках и биографиях, потому что это моё самое любимое чтение. «Бывает, что на детской литературе?» Нет, к сожалению, не бывает.
Мне очень нравится один вопрос: «Вы скакали с плакатом «Не раскачивайте лодку, нашу крысу тошнит!». Большинство скакунов сейчас уже разъехались. Не пора ли и вам?» Вот на этот вопрос я отвечу подробно буквально через каких-то три минуты.
НОВОСТИ
Д. Быков― Продолжаем разговор. Ещё немножко я поотвечаю.
Этот вопрос прелестный (когда же наконец я свалю?) меня очень умиляет. Проще всего сказать «не надейтесь». Конечно, не надейтесь. Я же сказал уже: я очень люблю Родину. Но меня интересует другое. Какими чувствами руководствуются люди, задающие этот вопрос? Какими чувствами руководствуются люди, измывающиеся над всем героическим сегодня, пытающиеся всем приписать низменные мотивы (Навальный выходит за американские деньги, пикетчики все едят печеньки из госдепа, даже Зюганов бегает к послу Теффту) — это всё понятно мне, тут есть логика. А вот вопрос: почему я не хочу ехать и уеду ли я? Неужели вы думаете, что вам чего-то больше достанется? Когда один тоже, в общем, подонок писал, что Окуджава и другие шестидесятники должны уступить им место, Окуджава спрашивал: «Ну как же я могу им уступить моё место?» Он действительно с высокомерием английского лорда, как говорил Астафьев, очень точно ответил на этот вопрос. Совершенно понятно, что вам не достанется ничего больше, если я уеду.
Но тут, видимо (вот я долго анализировал), срабатывает такая матрица. Вы думаете, что если мы уедем, все, кто вам не нравится, то мы там переживём очень сильные унижения: мы там будем мыть посуду в Макдоналдсе (хотя там это делает машина), мы там будем мыть сортиры, и нас в них будут мочить. Кто-то уже написал очень хорошо, когда Татьяна Лазарева написала: «Если Савченко уморят голодом или она сама себя уморит, я не смогу здесь больше жить». Появилось довольно большое количество людей, которые с таким темпераментом шавок стали кричать: «Да когда же вы все уедете наконец?» Вот что движет ими? Разумеется, не то, что здесь воздух станет чище без Лазаревой. Потому что всех инакомыслящих увезти — так это всё население России придётся увозить. Здесь синхронно мыслящих людей нет. И главное, что мнение российского гражданина меняется довольно часто в зависимости от обстоятельств.
Проблема в другом. Автору этого вопроса действительно, видимо, хочется, чтобы я там не нашёл работы, был там тотально осмеян и вообще пережил какой-то кризис идентичности, потому что когда я здесь нахожусь, то я за ваши деньги якобы жирую, занимаясь никому не нужными вещами, типа литературы. Ещё раз хочу напомнить вам, что книги меня не кормят, меня кормит в основном журналистика. Но вам и журналистика, наверное, представляется бессмысленным делом. Вопрос: а что осмысленно? Мешки ворочать? Ну, тогда надо понять, зачем, куда и мешки с чем. Физический труд вообще очень почётен в России, и это понятно. Потому что любой труд, кроме физического, не нужен, он не ведёт к прокормлению и усталости. Мерилом работы считают усталость. Но вы, вероятно, полагаете, что после того, как я с этой русской халявы уеду, где я за русские деньги жру русский хлеб, я переживу очень серьёзный crisis identity [кризис идентичности], потому что я буду там заниматься грубой физической работой за американские печеньки. Это не так! То есть этот ваш мотив неверен. Я найду там себе работу — такую же примерно, как и здесь. И у меня есть этот шанс. Есть он и у Лазаревой. То есть мысль о том, что все нежелательные вам персонажи после отъезда из России будут жить хуже — это мысль ошибочная, поэтому вам не следует так радостно призывать их к отъезду. Они изменят свой статус со знаком «плюс».
Вы спросите: почему же они здесь остаются? По двум причинам. Первая — уже названная мной физиологическая зависимость от Родины. «Родина — есть предрассудок, который победить нельзя», — писал Окуджава. Мне кажется, что смысл здесь есть ещё и в другом. Мы — во всяком случае, люди, называющие себя и считающие себя моими единомышленниками — мы понимаем, как здесь будет потом хорошо, то есть мы видим положительную перспективу. Не спрашивайте меня конкретно, как она осуществится. Но я знаю всегда, что в российской истории «чем ночь темнее, тем ярче звёзды, чем глуше стон [глубже скорбь], тем ближе Бог». Мне кажется, что в очень скором времени Россия, оттолкнувшись от дна, покажет миру примерно то, что она показала при Александре Освободителе — взрыв культурный, эмоциональный, научный, философский, безусловно, и вообще чисто поведенческий, психологический. Потому что не одних же террористов плодила Россия в это время. Ведь и Юлия Вревская, погибшая на русско-турецкой войне от тифа, ведь и добровольцы, которые ехали спасать братьев-славян, и блистательное поколение нигилистов, из которого выросла всё-таки элита русской науки, а не только русского террора, — это всё 50-е, 60-е и 70-е годы [XIX века]. Я живу в ожидании этого культурного взрыва и приметы его вижу. Это причина того, что я не уезжаю.
Ну и потом, я люблю вас очень! Вот вас, автора этого вопроса. Я вас люблю глубоко, потому что я вам небезразличен — вы думаете обо мне, вы слушаете меня ночью. Кому я ещё так же нужен? Конечно, я нужен некоторым американским студентам, которые сейчас три часа со мной спорили после доклада о Бабеле, но не так. Вот ночью они бы не стали слушать, а вы слушаете. Значит, я вам необходим.
«Читали ли вы произведения Роальда Даля? Что можете о нём сказать?»
Он очень хороший писатель, продолжатель уайльдовской традиции — в том смысле, что его тоже интересуют разные парадоксы человеческой совести. Как он сам о себе говорил: «Мои книги — это сборники добрых советов человека, не лишённого некоторой вредности». Я его за это очень люблю.
«Что вы думаете о творчестве Анатолия Гладилина? Потянет ли этот автор, кумир шестидесятых, из одной «обоймы» с Аксёновым и Кузнецовым, на лекцию?»
Нет, не потянет. И дело не в том, что я не считаю Гладилина сильным писателем, но это писатель мне не близкий, не интересный. Мне интересен только его роман «Евангелие от Робеспьера», на который, впрочем, была гениальная пародия «Робеспьер прохилял в конвент». Но в целом это хороший и симпатичный писатель.
Тут вопрос о Крыме, отдельно потом поговорим.
«Сияние» Кинга ил «Сияние» Кубрика — чьё высказывание, на ваш взгляд, сильнее?»
Знаете, визуальное сильнее в одних отношениях, а литературное — в других. Мне больше нравится роман Кинга, сразу вам скажу. При том, что некоторые замечательные визуальные находки, некоторые кадры, иллюстрации у Кубрика блистательны, но в целом картина провисает. Там, по-моему, темп не выдержан. Понимаете, там скучное начало. А вот у Кинга — замечательно зловещее такое обаяние!
«Герои германовского «Лапшина» — это и есть поколение сверхлюдей, о которых вы как-то упоминали? Я сам часто чувствую, что эти люди имели необыкновенные задатки».
Знаете, у меня сложное отношение конкретно к «Лапшину». Я говорю не про фильм, а именно про «Жмакина» и «Лапшина», из которых впоследствии Юрий Павлович Герман сделал «Один год». Я считаю, что наиболее достойные тексты об этих сверхлюдях — это очерк Галича про Лию Канторович, уже упомянутую; это роман Бондарева «Выбор», где, глядя на Илью Рамзина, на его подростковую фотографию, дочь главного героя, художника Васильева, говорит: «Это же полубоги!» Кого-то удивит, что я хвалю Бондарева — писателя вроде бы идеологически мне совершенно враждебного. У Бондарева много плохой прозы, но «Тишина», «Родственники», «Выбор»… «Берег» — в меньшей степени. «Выбор» — конечно, это блистательный роман. Это как раз роман о том, что такое Родина, и об этом поколении. Поколение действительно трагическое, участь этого поколения была трагической. «Выбор» — сильный роман. Мне кажется, что его стоило бы перечитывать сегодня. Это не была искренность, как вы пишете, это не была наивность. Вернее, наивность героев этого поколения не была их главной чертой. Что, наивен был, что ли, Лёва из трифоновского «Дома на набережной»? Может быть, наивен был, скажем, герой Нагибина? Нет конечно. Они не наивны. Они рано созревшие и трагические пережившие ранний опыт. Это такие первые акселераты.
«Как это сочетается с блестящим новым поколением, о котором вы частенько говорите? Не будут ли они такими прожжёнными циниками, как сегодняшние?»
Нет, прожжёнными циниками они не будут. Они не будут циниками потому, что они формировались не во времена двойной морали, а во времена уже морали совершенно одинарной. Вот сегодня двойной морали нет. Сегодня никто не врёт. Сегодня зло заявляет о себе откровенно нагло.
«Ваше отношение к творчеству Вячеслава Кондратьева?» Очень люблю Кондратьева, в особенности «Отпуск по ранению», почему-то так совпало.
«Ваше мнение о фильме Алессандро Пепе «Моя честь называется верность. Лейбштандарт»?» Увы, я не видел эту картину. Ну, теперь посмотрю.
«Считаете ли вы Дональда Трампа возрождённой версией Гитлера? — Боже мой, нет конечно! — Согласны ли вы с мнением Хиллари Клинтон, что американцы — самые креативная и самая трудолюбивая нация в мире?»
Нет конечно. Конечно, это русские. Понимаете, Хиллари Клинтон положено говорить про американцев. Но я принадлежу к нации советской, я воспитывался ещё в Советском Союзе (сегодня эта нация называется российской), и я считаю, что более креативной и более перспективной нации, чем россияне, нет. Другое дело, что они, может быть, не так трудолюбивы, но трудолюбие никогда не казалось мне большой заслугой. Ну, что это такое «любить труд»? Труд — это первородное проклятие человека, как писали и Шаламов, и Горький, и как, кстати говоря, думали герои Серебряного века. Не труд, а творческая работа, переосмысление мира творческое, вот это. Творчество — да. И в этом смысле россияне — безусловно, самая творческая нация. И я жду от них величайших свершений, хотя и американцев очень люблю. Я говорю, каждый кулик своё болото хвалит. Хиллари Клинтон любит американцев. Но я ведь и не собираюсь стать американским президентом. А она собирается, и ей надо так говорить.
Лекция о Тютчеве — очень смешная пародия от deche. Спасибо.
«У меня был давно спор на тему того, является ли Высоцкий равным Бродскому». Хорошо, давайте об этом поговорим, пожалуйста.
«Как по-вашему, почему Чапаев выбран бодхисатвой в романе Пелевина «Чапаев и Пустота»?»
Выбран же не Чапаев из романа (я, кстати, не думаю, что Пелевин читал), а выбран Чапаев из анекдотов. Он — действительно гениальное средоточие народных добродетелей, такого народного буддизма. И мне очень многое нравится в этих анекдотах про Чапаева. Замечательный Евгений Марголит обосновал в своё время, что и сам фильм «Чапаев» — это сборище анекдотов, он построен по такому новеллистически-ироническому принципу, в отличие от романа. И, конечно, это фольклорный жанр абсолютно.
«Лекция про Бабеля получилась забавной, но натянутой в части поиска его истоков в творчестве Гоголя. Кажется, в значительно большей степени источником и примером обработки одесского фольклора для Бабеля является творчество Шолом-Алейхема».
Никакого отношения к одесскому фольклору Шолом-Алейхем не имеет. Во-первых, он никогда не жил в Одессе (во всяком случае, подолгу). Бывать — наверное, бывал. Во-вторых, Шолом-Алейхем интонационно, тематически, ритмически — как угодно — он никакого отношения к корням Бабеля не имеет. Корни Бабеля — это Талмуд, Ветхий Завет, с одной стороны, и проза французских натуралистов, с другой.
Лекция о Григории Чхартишвили и других его ипостасях? Недостаточно читал, но люблю его очень самого.
«Прослушал вашу лекцию о русском конспирологическом романе. Там вы утверждаете, что авторы и читатели достоинство тех или иных групп, которых обвиняют в заговорах… выставляют сплочённость, умение критически мыслить как главные достоинства сплочённых групп. А нет ли здесь обратной зависимости? Может быть, обвиняя евреев, конспирологи расписываются в том, что будь у них возможность, они бы поступали именно так?»
Я всегда говорил о том, что врагу приписываются желательные качества. Когда врага упрекают в сплочённости, то это значит, что ужасаются недостатком собственной сплочённости. Когда врага упрекают в хитрости, то это значит, что расписываются в недостатке собственной хитрости. Я однажды одного такого (не буду его называть, чтобы не делать лишний пиар) «проповедника геополитики» спросил: «Вот вы говорите всё время про коварных англосаксов. Неужели русские так глупы, что англосаксы всё время их обводят вокруг пальца?» Он говорит: «Нет! Русские — добрые, а англосаксы — злые. Поэтому мы ничего не можем им противопоставить». Конечно, это желание быть плохим.
«Читали ли вы «Миррский цикл» Максима Шапиро?» Никогда, к сожалению. Да и самого Максима Шапиро никакого я не читал, кроме известного, Царствие ему небесное, филолога Максима Шапира, но явно имеется в виду не он.
«Можно ли требовать от талантливых и совестливых людей обязательного активного участия в разрешении национальных проблем?»
Вот Искандер считает, что нужно, потому что без участия интеллигенции во власти возникает ситуация взаимной безответственности. Я тоже думаю, что требовать от художника активной гражданской позиции можно. От художника вообще всего можно требовать. Мне кажется, что чем больше от него требуют, тем больше демонстрируют своё небезразличие, свой горячий интерес. Да, я считаю, что художник, учёный, мыслитель должен быть социально ответственным, вот так мне кажется. Во всяком случае — социально заинтересованным.
Последний вопрос: «Если вы инакомыслящих валите в одну кучу, можете меня из друзей исключать. Мне не нравится Савченко. И что, теперь мы все подонки, с ваших слов?»
Нет. Ну что вы, Таня? Ерунду какую-то вы пишете. И главное — сами понимаете, что это ерунда. Просто неважно, нравится вам Савченко или нет, вот что я хочу сказать. Мне тоже очень многие не нравятся, но закон должен существовать, должны учитываться и приобщаться к делу экспертизы. Понимаете, для меня вообще не такая драма будет — исключить вас из друзей. Таня, ну что вы так считаете, что если я вас исключу из друзей, то моя жизнь кардинально обеднеет? Да ничего мне не сделается! Я не почувствую этого даже! Я не знаю, кто вы. Но проблема-то в другом. Я вас не видел никогда, но это не значит, что я безразличен к общественному мнению. Я просто вам хочу сказать, что не надо мне угрожать исчезновением из моих друзей. Это как мне когда-то одна подруга замечательная сказала: «Я любовников теряла! Что мне ты?»
Так вот, Таня, чтобы мне вас всё-таки не терять, не обижать. Я же называю подонками не тех, кому не нравится Савченко. Она очень многим не нравится. Я просто называю подонками тех людей, которые вместо уважительного отношения к чужому страданию (любому, но всё равно к страданию) подвергают его осмеянию. Вот не над чем здесь смеяться! «А когда же она наконец помрёт? Она голодает, голодает — и всё никак не умрёт!» — вот это реплика подонка. Точно таким же подонством было бы осмеяние смерти журналистов. Вообще осмеяние смерти — это не всегда хорошо. Я в этом смысле не Charlie. У меня есть ощущение, что… Ещё раз говорю: смеяться можно над фейками пропаганды, смеяться можно над имиджами. А смеяться над страданиями человека, который трагически отстаивает свою правоту — один против огромного большинства! — я не вижу здесь поводу для смеха. А особенно я смерть не считаю поводом для смеха. Над своей личной смертью можно смеяться, а над чужой совершенно не нужно. Подумаешь, господи помилуй, расфрендят они меня! Ёксель-моксель! Ребята, ну? Это какое надо иметь гипертрофированное представление о собственной значимости! Простите меня, пожалуйста.
«Прочитал биографию, написанную Максим Чертановым. Не ожидал, что биография может быть так интересно и плотно написана». Да, Чертанов (он же Маша) очень плотно пишет, действительно. Спрашивают, как с ним связаться. Через издательство «Молодая гвардия» — совершенно запросто.
«Не могли бы вы объяснить ваше негативное отношение к эмигрантской поэзии 30-х годов [Георгия Иванова]?» Уже объяснил. Приятно, что повторяются вопросы.
«Какой автор, на ваш взгляд, точнее сделал жизнеописание Пушкина?»
Трудно мне сказать. Тынянов не закончил книгу. Наверное, всё-таки… Сейчас. Ну, Вересаев собрал свод свидетельств «Пушкин в жизни». Биография Владимира Новикова прослеживает только какие-то главные черты. Хорошей книги о Пушкине нет, потому что написать такую книгу мог бы человек в чём-то ему конгениальный, в чём-то равный. Грамотного описания биографии я не нахожу практически нигде. Ну, разные романы были, разные тексты, разные подступы. Трудно мне сказать. Из всего, что написано о Пушкине, наиболее мне интересными кажутся работы Щёголева, статья Эйдельмана о 1826 годе (и вообще, конечно, всё, что писал Эйдельман), и работы Цявловских. Даже при всём сложном отношении к статье Цявловской «Храни меня, мой талисман» я всё равно считаю, что это выдающееся произведение. Да, работы Мстислава и Татьяны Цявловских. Ну, много есть великих пушкинистов в России. А «Пушкинские штудии» Ахматовой? «Пушкин и «Уединённый домик на Васильевском», «Пушкин, «Сказка о золотом петушке» и Вашингтон Ирвинг», вот эти все работы — это просто выдающиеся произведения, абсолютно.
Так, отвечаю на столь многочисленные вопросы из писем читательских.
«Что вы думаете об убийстве на Почтамтской улице? — что-то много пошло вопросов про Георгия Иванова. — Действительно ли Жоржик Адамович был участником убийства?»
Я про Жоржика Адамовича ничего такого не знаю. Я знаю, что эта публикация в своё время действительно наделала сенсаций. Во-первых, я не уверен, что это не мистификация, сразу вам скажу. Мне кажется, что это стилизация, потому что на стиль Георгия Иванова это мало похоже. Во-вторых, всё, что написал Георгий Иванов, является беллетризованными мемуарами, и верить ему нельзя абсолютно (на мой взгляд, во всяком случае) точно ни в чём, с огромной долей скепсиса его надо воспринимать. А история о том, как, хлюпая кровавой тряпкой, Жоржик Адамович замывает следы расчленения трупа, мне кажется, отдаёт какой-то дешевейшей литературщиной. Другое дело, что у Адамовича много собственных грехов в русской литературе — например, он достаточно плохо писал о Цветаевой. Но, по-моему, он был человек всё-таки нравственный.
«Как вы относитесь к научно-популярной литературе?» Очень уважительно. Даже я не выделяю её в отдельный род литературы.
«Перечитывая вашу лекцию о Царскосельском лицее, нашла там размышления о социализации. Невзирая не безусловную важность этого процесса, слово вызывает у меня зубовный скрежет. Родители тоже поверили в её важность и пытаются своих кровинок социализировать изо всех сил».
Я понимаю ваш скепсис. Но понимаю я и то, что без социализации, к сожалению, ребёнок обречён потом на гораздо горшие страдания. Можно спорить о том, как проводить эту социализацию. Может быть, в лицее действительно сломали биографию Кюхельбекеру. Мы же не знаем, как сложилась бы его судьба, если бы он туда не попал («Дробя стекло, куёт булат»). Пушкин сформировался в лицее, Матюшкин сформировался, Пущин сформировался. А Кюхле, может быть, нечего там было делать, или Корсакову, или Илличевскому — каким-то людям, которые были более уязвимы или, наоборот, более конформные. Кстати, ведь Горчаков тоже там сформировался. А могу ли я сказать, что я в восторге от личных качеств Горчакова? Они вызывают у меня серьёзные сомнения. В общем, тут есть о чём поговорить. Но социализация необходима, Катя, как хотите, ничего не поделаешь.
«Чем вам так нравится «Сказ о Саблукове»?»
Имеется в виду поэма Нонны Слепаковой. Нравится тем, что там сформирован тип национального героя — человека, который не рассчитывает на личное воздаяние. И потом, она просто написана очень хорошо. Если бы у меня было время, я бы прочёл «Сказ о Саблукове», это три минуты. Ну, давайте в следующий раз.
Вот хороший вопрос, дельный: «В ваших произведениях часто встречаются местные, ольмеки — народ, обладающий тайным знанием, но ввиду неагрессивности рассеянный и порабощённый. Наибольшего развития идея о таком народе получила в «ЖД», но местные не всегда связаны с Россией — см. «Маатскую обитель», — да, есть у меня такой рассказ, «Подлинная история Маатской обители». — Как родилась такая идея? И почему вы сейчас к ней возвращаетесь?»
А вот спросите себя, как родилась такая идея. Просто она родилась из наблюдений над исторической судьбой российской народа, который не заморачивается политикой, который не включает личную волю, а который относится ко всему происходящему как зритель, откупаясь от власти с помощью коррупции и занимаясь своими делами, тихими и умными делами коренного населения — такое творчество своеобразное. Приводит ли это к некоторому развращению? Да, наверное, привыкаешь. Помните, как сказано у Карамзина: «Он сам виновник всех своих злосчастных бед, // Терпя, чего терпеть без подлости — не можно…». Даже Иван Денисович — такой классический русский персонаж — он тоже терпила. И Солженицын любит не его, а любит он кавторанга или Алёшку-сектанта. Но коренное население обладает другими замечательными преимуществами, и это интересное, творческое население. Вот почему я о нём так много думаю.
Кроме того, понимаете, в «Маатской обители» не одно, а два коренных населения, и в этом интересность коллизии. К сожалению, этот роман не поняли… то есть этот рассказ. Его не поняли, потому что как-то было не до него, в него не вчитывались. Вот в «ЖД» вчитывались даже слишком, а «Подлинная история Маатской обители» как-то прошла малозамеченной. И даже наиболее мной любимые люди, критики, которым я верю, они не поняли, о чём там речь. Поэтому если вас действительно интересует эта тема, почему для меня значима тема коренных и местных (а она для меня значима ещё и потому, что я всё-таки очень люблю Латинскую Америку, много времени там провёл, наблюдал вот эту двойную колонизацию — сначала инкскую, а потом испанскую), если вас интересует моё отношение к этой теме, генезис и вообще перспективы российской деколонизации, то вы почитайте «Подлинную историю…». Я довольно много вложил в этот рассказ. Знаете, он был написан сразу после «Остромова» на ещё не иссякшем напоре, на остатках. Дело в том, что я «Остромова» писал с очень сильным вдохновением, с подъёмом настоящим. И вот на остатках этого подъёма написана «Маатская обитель».
«Как вы относитесь к монологу Евгения Павловича из «Идиота» о русских либералах? Почему отношение к либералам в России не меняется на протяжении ста лет?» Видите ли, я говорил о Достоевском достаточно много. Если хотите, давайте как-нибудь посвятим. Это, в общем, не жалко.
«Перечитывая роман Мамлеева «Шатуны», наткнулась на такую фразу: «Самая ненавистная в жизни вещь — это счастье? И люди должны объявить поход против счастья».
Эта мысль была популярной в 70-е годы. Если вы прочтёте… Я не провожу никаких параллелей между «Шатунами», например, и Кавериным, но если вы прочтёте «Летящий почерк» Каверина, который я считаю его лучшей повестью, самой глубокой и самой неоднозначной… Вот там, помните, дед Платон говорит этому своему внуку — очень правильному, очень доброму, очень счастливому мальчику, — он ему говорит: «Бойся счастья. Счастье спрямляет жизнь». Это интересная мысль, а особенно от старика Каверина, который прожил жизнь довольно счастливую, но страшно внутренне трагическую, если почитать «Эпилог». И если вы прочтёте… Почему я рекомендую «Летящий почерк»? Поздние каверинские повести — «Загадка», «Разгадка», «Верлиока», «Двойной портрет», «Косой дождь» — они как-то прошли мимо внимания критики. Ну, старик и старик, патриарх и патриарх. И сказки его — лучшее, что он написал. Глубочайшие, серьёзнейшие его сказки, которые он мечтал писать с детства, а написал, только раскрепостившись в старости, они совершенно не интерпретированы, а на них выросли многие хорошие писатели (вот Ксюша Букша в том числе, мы как-то обсуждали с ней). Ну, «Верлиока» — действительно великая книга.
Вы прочитайте «Летящий почерк». Она почти забытая такая вещь, но там есть этот мальчик счастливый, добрый, он любит свою Марину, у него с ней получается хорошая любовь, он добрый, он всем помогает. И когда это читаешь, всё равно закрадывается какое-то дурное чувство. И вот на фоне его судьбы его дедушка — по всем параметрам абсолютный лузер, который всю жизнь любил одну женщину и с ней мысленно разговаривал, а видел её одну неделю в молодости и два часа в старости, — на его фоне абсолютно проигравший. Но вот эти слова «счастье спрямляет жизнь» — это неглупые слова. Почитайте. Хотя я-то как раз за то, чтобы быть счастливым.
«Последнее время в кино и сериалах всё чаще подымается вопрос о том, что Бог нас покинул. Можно ли это считать симптомом упадка веры и утратой религиозного чувства?» Нет. Упадок веры — это когда говорят «Бога нет». А «Бог нас покинул» — это очень даже небезнадёжно.
«Вы много раз говорили о том, что Россия должна выйти из циклического пути развития, но при этом нужно перестроить национальную матрицу. Рискуем ли мы при этой перестройке потерять лучшие черты и вообще нацию?»
Наверное, рискуем. Мы всегда рискуем. Но, понимаете, если мы не рискуем, то нас просто нет. Помните, есть замечательная у Метерлинка, любимая моя фраза: «Те, кто пойдут с детьми, умрут. А те, кто не пойдут с детьми, умрут на несколько секунд позднее». Вот это надо почаще вспоминать, мне кажется. Потерять матрицу мы не рискуем. Мы рискуем в результате долгого гниения потерять её. Вот тогда — действительно.
«В одной из телепрограмм вы рассказывали о вашем трагическом опыте, связанном…» Ну, «трагическом». Подумаете. Жив же? «Вы говорили, что с бывшими одноклассниками встречались и убеждались в их деградации. Может ли человек травящий пойти по дороге исправления?»
Может! Ещё как может. Что может его исправить? Если он сам окажется на месте травимого — нет, это не помогает. Видите, есть чудеса преображения всё-таки, чудо веры. Ну, Савл же уверовал — и стал Павлом. Явился ему Христос и просил: «Савл! Что ты гонишь меня?» Я думаю, что он это спросил с иронической интонацией, потому что для человека, явившегося живым на дороге в Дамаск после смерти, что там травля какого-то Савла? Подумаешь, травят. Я думаю, он насмешливо его об этом спросил. О том, что Евангелие — это первый плутовской роман, роман в этом жанре, роман в жанре высокой пародии, я уже говорил много раз. И я думаю, что это было произнесено с иронией. И вот после этой иронии он ослеп и прозрел.
Конечно, люди, которые когда-то кого-то травили, получив другое… Вы знаете, чаще всего вот что помогает. Когда-то Валерий Попов сказал: «Величайший усилитель — дети». То, что с вами происходит, вас не всегда учит. А то, что происходит с вашими детьми, — всегда. Вот если ваших детей начнут травить, вы превратитесь, преобразуетесь. То есть, если то, что вы делали когда-то с одноклассниками, повторится на ваших детях, вот тогда вы прозреете. Жестокая истина, жестокая! Но жизнь — вообще жестокая вещь.
«В 1917 году массами двигали идеи окончания войны и социальной справедливости, в 1991 году — идеи демократии и рыночной экономики. Сейчас страна опять на переломе, но никто не даёт ответа на вопрос: куда теперь двигаться?»
Милый Саша, не двигали массами никакие марксистские идеи. Они двигали ничтожным количеством пролетариев, которые тогда очень быстро были истреблены, наиболее сознательные. Как писал Горький: «Щепотка сознательных пролетариев растворилась в болоте, как соль». Что касается идей демократии. Я хорошо помню 1991 год. Какие идеи демократии?! Никем они не двигали! Людьми двигала одна идея: «За-дол-ба-ло! Хватит!» Вот эта идея всегда движет массами: «Хватит! Достаточно!» Помните тогдашнюю замечательную песню Кима… «Уходите, ваше время истекло! И уходите под сукно и за стекло!» «Вы страшно надоели!» — вот эта идея движет массами. «Ну задолбали, правда. Ну, сколько можно-то? Чего вы с таким серьёзным видом думаете это продолжать бесконечно? Ребята, ну хватит, хватит! Уже завоняли всё живое пространство!» Вот какая идея двигала массами в 1917 году. Она же и в 1991-м. Эта идея гораздо живучее, чем марксизм и демократия.
Через три минуты услышимся.
РЕКЛАМА
Д. Быков― Пошла последняя четверть эфира «Один». В зрительском голосовании с огромным отрывом, к моему изумлению, победили и не Бродский, и не Высоцкий, и уж подавно не Рождественский, хотя три голоса набрал, а Трифонов, набравший восемнадцать. Это некоторый шок. Я сейчас буду об этом говорить. Но сначала ещё пара вопросов, но важных, действительно важных.
«Мне семнадцать лет. Я люблю одну девушку, вроде Офелии. Разумеется, безответно, — ну почему же безответно? Офелию он любил как раз очень даже ответно. — Не производят впечатления умные разговоры, которые я с ней вёл. Она говорит, что я умный и хороший, но хочет со мной просто дружить, что она ещё не готова. Ей тоже семнадцать. Я не могу с ней просто дружить, потому что понимаю, что если она не любит сейчас, то не полюбит и потом, а я такую, как она, ещё не встречал, и боюсь — не встречу. Что мне делать? Прошу вас помочь. Я уже два раза чуть не повесился, но резиновый провод порвался».
Судя по ироническому тону письма и его абсолютной грамотности, Дима, вы тоже принадлежите к блистательному поколению, которому сейчас семнадцать лет и у которого огромное будущее. Три пункта, Дима.
Первое. Невзирая на то, что вы в семнадцать лет уже очень умный, смею вас уверить: в вашей жизни столько ещё будет девушек, и ни одна из них не стоит того, чтобы вешаться (даже на резиновом проводе). Это первое.
Второе, что кажется мне более важным. Я не стал бы слишком легкомысленно относиться к вашим словам, потому что действительно иногда в семнадцать лет встречаешь девушку, подобной которой нельзя отыскать в природе, лучше которой потом никогда не будет. Что делать в этой ситуации? Лучший ответ содержится в киноповести Михаила Львовского про Клаву К.: «Что же мне делать?» — «Страдать». Ваше страдание по поводу любви может оказаться для вас более плодотворным.
И, наконец, третий важный пункт. Сейчас страшную циничную вещь скажу. Некоторые люди полагают, что вот если не любит, то это конец. Завоевать можно любую женщину, если вы, конечно, не безнадёжный идиот. Даже если вы квазимодо, вы можете её завоевать. Самый циничный и самый лёгкий способ (трудный, но надёжный, скажем так) абсолютного завоевания женщины описан у Веллера в новелле «Любит — не любит» в романе «Приключения майора Звягина». «Приключения майора Звягина» — вообще очень циничная книга. Там описана и технология убийства, и технология обмана. Вы нёбо сильно обожжёте этим глотком. Но если вам действительно надо эту девушку завоевать, потому что вы не можете без неё жить, прочитайте эту главу, там всё написано. Кстати, многие люди, мне хорошо известные, женились по руководствам, обозначенным Веллером в «Разбивателе сердец» и в «Майоре».
Видите ли, в чём проблема? Можно спорить о политических воззрениях Веллера (и давайте о них спорить, ради бога), можно спорить о его филологических вкусах, достаточно прихотливых, «но в чём он был истинный гений, что знал он твёрже всех наук» — так это способы тонкого, циничного, жестокого психологического воздействия. «Любит — не любит» — это, наверное, один из самых циничных текстов в русской литературе, но это сделано так, что это работает. Если вам действительно любой ценой нужно вашу Офелию завоевать, что я вам могу сказать? Вперёд! А то вечно стонать-то — что за история? Давайте!
«Никогда не слышал вашего отзыва о Хаксли. Не кажется ли вам замечательной антиутопия «О дивный новый мир»?»
Я больше люблю «Контрапункт», читал его ещё в переводе 1934 года, по-моему, старом. Конечно, он замечательный. «О дивный новый мир» — всё-таки это гораздо примитивнее, чем Оруэлл, но интересно. Ощущалки — это прекрасная идея.
«Человеку, который недоволен собой, обычно предлагают два рецепта. Первый — изменить себя. Второй — не менять себя, но смириться. Какой способ вам кажется наиболее правильным?»
Я считаю, что если вы недовольны собой, значит у вас есть перспективы, и значит всё правильно. Вот человеку, который доволен собой, я предложил бы много рецептов: совершить путешествие, влюбиться, попасть в кризисную ситуацию. А человеку, который недоволен собой, ничего делать не надо. Другое дело, если ваше недовольство переходит в депрессию — тогда надо лечиться. А если вы просто недовольны собой, то что же в этом плохого?
«Времени мало, и нужно всегда об этом помнить, не расходовать время даром. Надо жить, как будто времени вагон, или надо суетиться?»
Надо жить, как будто времени вагон. Классический принцип — это слова Андрея Синявского: «Хорошо, когда опаздываешь, немного замедлить шаг». Не торопитесь. Лучший способ успеть — это не торопиться.
«Алексей Ремизов, «Крестовые сёстры» — самое мрачное, что доводилось читать в русской литературе. Хотелось бы услышать ваше мнение и оценку».
Знаете, Дарья, вы первый человек, у которого совпало мнение с моим. Я очень высоко ценю эту вещь, я люблю эту повесть. Я считаю Ремизова гениальным русским писателем. Это одно из самых мрачных, самых сильных, самых стилистически цельных произведений русской литературы. У Ремизова вообще мне всё нравится: и «Кукха: Розановы письма», и безумно мне нравится у него… Да на одно объяснение того, что такое «кукха», могла бы уйти вся программа (вот эта звёздная влага жизни, звёздная сперма, влажность). Безумно нравится мне и «Подстриженными глазами», и «Взвихрённая Русь». Меньше нравятся «Пруд», «Часы» и вообще его ранняя беллетристика. «Крестовые сёстры» — книга, на которой он переломился, книга, с которой он начался. Вот Глотов и Маракулин — наверное, два самых важных персонажа русской прозы десятых годов (она, по-моему, ещё 1908 года), помимо «Петербурга» Белого. У меня в цикле на «Дожде» «Сто событий — сто лекций» будет про Ремизова, но позже, про более позднего Ремизова.
Но всё равно «Крестовые сёстры» — вы правы, это совершенно гениальный текст. Мрачный, да, потому что Ремизов вообще мрачный, больной. Его жанр — это молитва, и молитва жалобная. Ремизов жалобный. Вот он не боится быть слабым и жалобным. Как он всю жизнь жил за спиной своей Серафимы Павловны Довгелло, которая была его женой и защитницей. Как он ослеп в старости, беспомощный и нищий. Как он еле выживал в эмиграции. Это всё жалобная судьба. Как он в женской кофте своей спасался в Петрограде во время голода и холода, выдавал всем эти свои документы «Обезвелволпала» («Обезьяньей Великой и Вольной Палаты»). Это бесконечно трогательный человек, художник прекрасный! Вот Ремизова я люблю какой-то человеческой любовью, у меня глубочайшая нежность к нему. И, конечно, стилист он не хуже Белого (а может, и лучше). Так что вы правы, это надо, конечно, перечитывать беспрерывно.
А теперь пошли про Трифонова.
Трифонов мне представляется, если говорить об инкарнациях, такой странной инкарнацией Чехова, потому что он преодолел, как и Чехов, себя раннего и открыл новый способ писания прозы. Вот чеховские рассказы лишены фабулы. Возьмите, например, «Архиерея» — это музыкальное чередование нескольких мотивов, которые в результате дают читателю не мысль, а состояние, ощущение. Вот нечто подобное делает Трифонов. Он не мыслит, он не мыслитель. Хотя, конечно, у него есть и мысли напряжённые, и интереснейшие историософские наблюдения, и прекрасная документальная повесть «Отблеск отца» об отце. Но Трифонов не даёт рецептов, не ставит диагнозов и не предлагает формул. Трифонов вызывает ощущение — как в рассказе «Самый маленький город» вот это страшно, остро переживаемое чувство смерти, как в рассказе «Игры в сумерках», который я вслед за Жолковским считаю эталонной русской новеллой. Это рассказ, где из чередования некоторых мотивов и умолчаний получается потрясающая картина хрупкости, бренности жизни, страшной исторической смены. Вообще главная тема Трифонова — история и то, что она оставляет от человека. Главный вопрос Трифонова: что остаётся?
И главный рассказ Трифонова, который я люблю соотносить с аксёновской «Победой», — это почти одновременно, год спустя написанный «Победитель». Дело в том, что концепция победы тогда пересматривается. По Трифонову победил тот, кто выжил. Кстати говоря, тут мне сейчас пришла в голову достаточно неожиданная мысль: почему не любят читать Разгона, Солженицына, Петкевич и других? Ну, Шаламова — особенно. Один крупный поэт мне говорил: «Нельзя читать писателя с отмороженными мозгами!» Почему? Тут есть ещё элемент такого врождённого недоверия к выжившим. Тадеуш Боровский — автор «Прощания с Марией» и «У нас в Аушвице…» — замечательно сказал: «Кто выжили — все предали». Это такой императив: нельзя выжить и не предать. Вот такое отношение к выжившим очень характерно, поэтому их мемуарам не верят. Если ты выжил — значит, ты продался. Поэтому с таким сладострастием распространяют мнения о том, что Солженицын был стукачом под псевдонимом Ветров (что ложь). Ну, он подписал, но ни на кого не стучал. И то много подложных документов о нём было нафабриковано. И говорят: «Раз они выжили — значит, они сами предали». Есть такая мерзкая точка зрения, особенно мерзкая у тех, кто сам не сидел. Потому что у сидельцев её понять можно, у других — нет.
Вот точно так же и в случае Трифонова. Ведь рассказ «Победитель» — это рассказ о человеке, который бежал когда-то на Парижской олимпиаде 1900 года и прибежал последним, но он говорит: «Я — победитель». А почему? А потому что 1963 год идёт, ему 93 года, и он говорит: «Они все умерли, а я всё ещё бегу». И тогда в его потерянных тусклых глазах что-то зарождается, как старая лампа накаливания. Это великое дело, великая мысль. Братцы, я это и хочу сказать. Новая концепция победителя — тот, кто выжил, кто дожил. Надо выжить и доказать. Это сложный трифоновский взгляд на историю, и это скорее эмоциональная реакция. И в рассказе он оставляет вопрос, открытый финал: кто прав — Базиль, который проживает свою жизнь, жжёт свечу с двух сторон (там Юлиан Семёнов описан), или прав вот этот старик, который до сих пор сохранил способность слышать этот треск горящих сучьев, обонять их, видеть вот эту искорку звезды в окне? Нет ответа. Но вопрос, по крайней мере, впервые в русской литературе поставлен.
Что касается трифоновского художественного метода. Он сформировался очень поздно. Трифонов начал с хорошо написанного, но очень советского романа «Студенты», который всю жизнь мечтал переписать с начала до конца и фактически переписал в «Доме на набережной» (это такие анти-«Студенты», «Студенты» наоборот). Он выработал действительно новый стиль — поэтику умолчаний. Это не к Хемингуэю восходит совсем, потому что у Хемингуэя ведь не было необходимости обманывать советскую цензуру, поэтому он всё загонял в подтекст для того, чтобы создать новую модернистскую поэтику. У Трифонова своего рода советский символизм, как это называли поэты круга Глеба Семёнова, Слепакова в частности. Это поэтика умолчаний, когда читатель должен по одной диагонали достраивать весь куб, по нескольким штрихам достраивать эпоху. И у Трифонова таких штрихов, таких исторических деталей страшное количество.
Но есть у него, конечно, и собственная сквозная (тоже инвариантная) тема, которая наиболее важна, которая впервые формулируется в «Обмене». «Обмен» — мне кажется, вообще очень важная книга. Когда Твардовский брал её в публикацию, он говорил: «Ну выкиньте вы оттуда этот кусок про посёлок старых большевиков, без него будет отличная бытовая проза. Зачем вам вот это?» Трифонов отказался. На что Твардовский ему сказал: «Какой-то вы тугой». И действительно он был тугой, неподъёмный, неуговариваемый, неупрашиваемый, я бы даже рискнул сказать, что несгибаемый.
Что он имеет в виду? Зачем там этот кусок про посёлок старых большевиков? Я не хочу сказать, что Трифонов в какой-то степени отстаивает идеалы отца, хотя для него и для всего поколения «Дома на набережной» идеалы отцов были священны. Как сказал Окуджава: «Мы любили родителей, а родители любили коммунистическую идею. Вот почему мы ей следуем и её исповедуем, а вовсе не потому, что мы идейные коммунисты». Но Трифонов делил историческое существование, историческую жизнь героя на жизнь собственно в истории, то есть жизнь осмысленную, жизнь деятельную, и на жизнь, лишённую этого начала.
И вот другая жизнь (в этом, собственно, и смысл названия повести), неожиданно подступила другая жизнь — жизнь, в которой нет направления, жизнь органической материи, которая слепо наслаждается, слепо радуется простым вещам: дачам, ягодам, квартирам, покупкам. Доставала появляется в «Доме на набережной», который может мебель достать люблю. Но на самом деле ужас-то весь в том, что из этой жизни ушёл стержень, ушёл смысл. Жизнь старых большевиков прекрасна не потому, что они были марксистами, а потому, что она была осмысленной. И когда там мать героя говорит ему: «Ты уже обменялся» (имея в виду, конечно, подмену личности, подмену стержня), — это совершенно верный диагноз. Ведь 70-е годы могут представляться идиллическими и тем, кто не жил там, или тем, кто жил, как я, ребёнком, потому что это был культурный взлёт. Да, действительно, такие фигуры, как отец Александр Мень, как Эйдельман, другой проповедник истории, как Трифонов, как Стругацкие, как Окуджава, Тарковский, Авербах — это было счастье. Но надо же помнить, чем окуплены были их художественные прорывы, как рано они умирали, как все они действительно погибли, не дожив до середины 80-х или впали в крайнюю депрессию в 90-е, как Окуджава. Дело в то, что это были рыбы глубоководные, но они за свою глубоководность платили и депрессиями, и отчаянием.
Проза Трифонова сформировалась под страшным гнётом, под гнётом умолчаний, и главное — под гнётом этого быта зловонного, унизительного. Когда Трифонову говорили, что он «поэт быта», он бесился, вставал на дыбы! Он говорил: «Я не понимаю, что такое быт!» На самом деле, конечно, Трифонов — не бытописатель. Конечно нет. Трифонов — описатель другой жизни, выродившейся жизни. Он хроникёр конформизма, забвения простейших вещей. Люди забывают о смерти, они забывают о смысле, и они живут миражами, доставанием.
Очень хорошей, кстати говоря, была повесть в то время «Уличные фонари» Георгия Семёнова. Это такой тоже ученик Трифонова, прозаик 70-х годов. По-моему, Искандер — единственный, кто высоко ценит Георгия Семёнова и продолжает оценивать его прозу по гамбургскому счёту. «Уличные фонари» заканчиваются сценой, когда герои на новой машине едут по Кольцевой и ликуют, и им кажется, что они с огромной скоростью мчатся, но они не понимают, что они мчатся по кругу. Это был портрет 70-х годов, страшного времени. И в этом смысле Трифонов — конечно, он хроникёр другой жизни, из которой вынули смысл, из которой вынули стержень. В героях этого времени (в Сергее, герое «Другой жизни»), конечно, живёт понимание, что когда-то эта жизнь была другой, в них живёт тайная боль, фантомная. Но герой поэтому и умирает так рано — в 40 лет — от сердечного приступа, что он задыхается. И потом, когда героиня выходит замуж за другого и смотрит с высоты (помните, финал — огромный город, меркнущий в ожидании вечера), мы понимаем, что для неё уже возврата нет, для неё другая жизнь наступила и засосала её навеки.
Чем Трифонов этой энтропии противостоял? Прежде всего — образцово качественным письмом. На вопрос о том, какая литература успешна, всегда надо отвечать: успешна хорошая литература. Вот и всё. Критерии хорошей литературы абсолютные. Трифоновская плотность именно трифоновской прозы — отсутствие проходных слов, невероятно точная, плотная концентрация каждого слова — это и есть его ответ на вызовы эпохи, его ответ на расслабленность, пустоту, вялое жизнеподобие. Он отвечает на слабость силой собственного письма. В этом смысле наиболее показательны, конечно, его рассказы.
И, конечно, я бы всем рекомендовал «Голубиную гибель». Я уже назвал «Победителя», назвал «Самый маленький город». «Игры в сумерках» — безусловно. Но «Голубиная гибель», а особенно в полном, неподцензурном варианте, где понятно, кем работал главный герой когда-то, — это рассказ поразительной мощи! Там детали всё говорят. И Трифонов действительно очень чуток к детали, она у него всегда функциональна. И дело даже не в этом. Дело в то, что в одно предложение — плотное, бесконечно глубокое, развёрстанное на несколько абзацев иногда — помещается огромное количество точных реалий и мыслей. То, что Трифонов умудряется на одной странице рассказать больше, чем другие на двадцати, — это и есть его принципиальная позиция. Его художественный метод, который заключается вот в таком изящном, точном, невероятно фактологичном, фактографичном письме, он немножко сродни художественному методу Трумена Капоте в «In Cold Blood». Когда вы перечитываете «Хладнокровное убийство», вы поражаетесь: ведь всё население Голкомба вместилось! В одной фразе может содержаться целая биография какого-нибудь почтальона. Вот это изящество, плотность упаковки — это, конечно, и есть трифоновский ответ на энтропию эпохи.
Плюс к тому, конечно, очень важны типажи, которых он вывел и которых до него не было. Во-первых, он описал тоже блистательное поколение сверхлюдей, описал их ностальгически — это мальчики 30-х годов. Огромное количество людей, которые ненавидят всё выдающееся, говорят: «Да ну, это комиссарские детки, которые были элитой, которые жили в Доме на набережной». Понимаете, во-первых, они далеко не были элитой в нынешнем смысле, они жили довольно скудно. А во-вторых (и вот что главное), ненависть к элите — это рабская, мещанская черта. В России так складываются обстоятельства всегда, что только у элиты сохраняется какое-то чувство собственного достоинства. Тамара Афанасьева когда-то писала: «Все цитируют шварцовскую фразу «Балуйте детей, господа, — тогда из них вырастут настоящие разбойники», но почему-то все при этом забывают, что только из маленькой разбойницы и вырос приличный человек». Это к вопросу об элитах. Это очень глубокая мысль.
Я считаю, что никогда не надо на элиту списывать собственные грехи. Борьба с привилегиями — тоже рабское занятие. Мне кажется, что вот эта элита советского общества, дети её, такие как Камил Икрамов, как Окуджава, как упомянутый Трифонов, Коршунов, Лёва Федотов (хотя сам Федотов не был никаким сыном элиты, он случайно затесался в эту среду и стал её лидером) — это всё подчёркивает, что на самом деле вот эти молодые львы, описанные им — дети писателей, вождей, околовождей — они на самом деле обладали выдающимися задатками. В том числе и потому, что у них чувство собственного достоинства было необычайно острым, и им был свойственен демократизм и любовь к труду, потому что люди, которые повседневно всё время занимаются трудом и живут в демократизме, всего этого любить не могут. Это вещи спорные. Хотите — соглашайтесь, хотите — нет.
Трифонов воспел вот этих детей, во-первых. Во-вторых, он очень точно описал в Вадиме Глебове тип конформиста — человека, который выдумывает себе массу причин для того, чтобы не быть собой, и становится в результате убийцей. В «Доме на набережной» это есть. Кроме того, он описал особенно наглядно в «Исчезновении» тип старого большевика — человека, который ошибается, но у которого есть совесть. И он приглашает нас почувствовать, как сказал Георгий Полонский в «Доживём до понедельника», «высокую самоценность этих ошибок». Он говорит: «Да, Шмидт заблуждался во время революции 1905 года, но он повёл себя как герой». Вот в чём дело. Уважение героизма, во имя чего бы этот героизм ни был. Это не сталинский бюрократизм, это не палаческое усердие, а это самоотверженность, которая есть как раз и в романе «Старик», есть во всех этих героях, которые жертвовали собой, как мы сейчас понимаем, во имя ложных идеалов. Но идеалы тут не важны. Здесь важна жертвенность, готовность отдать свою жизнь, а не подтолкнуть чужую.
Засим расстанемся, прости! Услышимся через неделю.
*****************************************************
18 марта 2016
-echo/
Д. Быков― Здравствуйте, добрый вечер, доброй ночи, дорогие полуночники! Я со своей стороны всё-таки называю программу «Оди́н» — к скандинавскому божеству она никакого отношения не имеет. Хотя к одиночеству тоже имеет весьма отдалённое, поскольку нас тут много.
На лекцию поступили следующие заявки. Очень много почему-то просят рассказать об Андрее Платонове. Мне это трудно, хотя это, в общем, чрезвычайно близкий мне писатель и симпатичный, но и ненавистный в некоторых отношениях (ненавистен, потому что мучительный для меня). И я готов о Платонове поговорить, но есть и ряд других предложений. Всё-таки остаётся в силе предложение говорить о Роберте Рождественском. И даже люди, сегодня меня дважды остановившие на улице, об этом неожиданно попросили. И, кроме того, есть совершенно неожиданная для меня просьба поговорить о любовных романах, в которых поднимается тема ревности, — та тема, которая в прошлой программе вызвала достаточно большой спор. Я со своей стороны склоняюсь к Платонову, но у вас есть время проголосовать. Платонов, Рождественский и ревность — ряд потрясающий и весьма перспективный.
Пока отвечаем на форумные вопросы.
Первый вопрос — довольно пространный от Натальи (здравствуйте, Наташа!) по поводу поэмы Пушкина «Анджело»: почему он, транслируя, переводя шекспировскую «Меру за меру», изменил финал? Почему Дук прощает в результате, у Шекспира торжествует справедливость, а у Пушкина — милосердие?
Видите ли, Пушкин называл «Анджело» своей наиболее важной поэмой, а вовсе не «Медного всадника». И Благой в своей статье, насколько я помню, «Загадочная поэма Пушкина» напрямую увязывает её с задачей добиться прощения декабристов. Наверное, так оно и было. Во всяком случае, я много раз уже говорил о том, что все тексты, по крайней мере русской литературы, делятся чётко на три категории: написанные за власть, против власти и, самое интересное, для власти. Скажем, для власти написана пьеса Леонова «Нашествие». Текст её, посыл её совершенно понятен: «Ты считаешь нас врагами народа, а мы считаем тебя благодетелем и готовы за тебя умирать. И в критический момент именно мы тебя выручим, а не твои верные сатрапы». И Сталин считал это послание, и Леонов получил Сталинскую премию, которую немедленно передал на самолёт. Точно так же для власти написан, мне кажется, роман Булгакова «Мастер и Маргарита». Безусловно, для власти написана книга, в которой сказано: «Да, мы готовы многое терпеть, но желали бы чуть-чуть человеческого отношения». И так далее.
«А́нджело» пушкинская — это поэма, написанная… «А́нджело», «Андже́ло»? Я думаю, «Андже́ло» всё-таки. Это поэма, написанная, естественно, для Николая — в расчёте на то, что милосердие царя выше закона, потому что главную часть поэмы составляет драматический диалог об этом, немного тяжеловесный (Пушкин вообще не очень любил писать шестистопным ямбом). Но, по всей видимости, он понимал, что вкусы Николая консервативны, и в таком виде он легче это усвоит. Он несколько раз писал тексты, имевшие целью добиться прощения.
Нет! Он с подданным мирится;
Виноватому вину
Отпуская, веселится;
Кружку пенит с ним одну.
Это «Отчего пальба и крики в Питербурге-городке». «И памятью, как он, незлобен», — просит он быть его в «Стансах». И так далее. Это, конечно, достаточно безнадёжная задача, но Пушкину было важно знать, что он сделал то, что мог, а художественная сторона вопроса его волновала меньше.
«Посоветуйте что-нибудь лёгкое и доброе, поднимающее настроение, из советской прозы, схожее с такими произведениями как: «Апельсины из Марокко», «Эффект Брумма», «Самая лёгкая лодка в мире».
Наверное, я бы вам мог посоветовать Валерия Попова, хотя это не очень лёгкое чтение и не всегда поднимающее настроение. Но «Две поездки в Москву», «Наконец-то!», «Ювобль», «Поиски корня», «Южнее, чем прежде», «Любовь тигра», «Соседи», «Остров рай», «Сон, похожий на жизнь», «Сон, похожий на смерть» — вот это те рассказы и повести поповские, которые мне представляются если не поднимающими настроение, то, по крайней мере, как-то радикально обновляющими душу, обновляющими её взгляд. Из советской полузабытой прозы — вот такая прелестная повесть Майи Данини «Ладожский лёд», и «День рождения» у неё прекрасная была повесть.
Понимаете, что нас веселит и радует? Когда нам промывают зрение, когда мы новыми глазами начинаем смотреть на мир. Вот это мне всегда казалось важным. Я лучше знаю питерскую литературу, потому что я, собственно, диплом по ней писал, да и в общем, я как-то печататься начинал в Питере. Очень много у меня связано с этим городом и с этой прозой. Среди москвичей, наверное, в общем, некоторую такую релаксацию (и при этом достаточно умную, не слишком, так сказать, отупляющую) можно получить над повестями и рассказами Георгия Семёнова, мне они кажутся… Ну а особенно я люблю «Уличные фонари» и «Сладок твой мёд». В общем, я вам это рекомендую.
«Расскажите о Баратынском. Кто ему подобен в XX веке? Стихотворение «Последняя смерть» — это предупреждение в эсхатологической традиции или пророческий возглас?»
И вам тоже спасибо. Нет, это довольно распространённая в русской литературе (и в английской тоже, вспомните «Сон» Байрона) традиция изложения кошмарного сна. Это, конечно, предупреждение эсхатологическое. Но дело в том, что Баратынскому вообще очень был присущ эсхатологизм, мрачное мировоззрение (вспомните, «Последнего поэта»). Он вообще поэт уверенный, и уверенный не без основания, что на нём заканчивается традиция. Я думаю, что она даже на Батюшкове закончилась. Он — последний сын гармонии. Дальше начинается дисгармония, дальше начинается распад такой.
Кстати, Тютчев — это уже поэт катастрофы, поэт распада. При том, что его личная жизнь и карьера, и его политические взгляды, они все наводят на мысль об успехе, о безопасности. Ну, разве что он пережил, конечно, тяжёлую личную трагедию из-за влюблённости в Денисьеву и её смерти. Но когда ему 40, например, у него всё благополучно, а он пишет самые трагические стихи в русской поэзии. Вот Баратынский предчувствовал какой-то страшный распад, страшную трещину, которая прошла по русской литературе в 40-е годы. Вот этот эсхатологизм его мышления, он же был и Гоголю очень присущ в это же самое время. Баратынский — поэт желчный, мрачный, скорбный.
Я не знаю, как могла бы выглядеть его реинкарнация в XX веке, я просто не очень представляю себе, кого можно с ним сопоставить. Мне кажется, что он чувствовал некоторую тупиковость своего пути и свою, не по-русски говоря, последнесть, свою какую-то предельность. Он понимал, что и второго такого не будет, и за ним никого не будет. Ну, Бродский считал себя в какой-то степени его продолжателем. У Кушнера есть очень много ноток Баратынского, но Кушнер, мне кажется, скорее всё-таки наследует Тютчеву с его, с одной стороны, культом счастья, а с другой — сознанием катастрофизма. Баратынский не повторился. Баратынский — такая страшная, страшноватая во всяком случае, чёрная дыра русской поэзии. Хотя такие стихи, как «Дядьке-итальянцу», они всё-таки несут в себе некоторый свет внутренний.
Конечно, Баратынский — поэт не для всех. «Ты прав, поэт, ты для немногих». Он действительно обращается к меланхоликам, ипохондрикам, одиночкам. Но бывают состояния души, когда он совершенно необходим. Может быть, Ходасевич. Знаете, я так подумал сейчас: может быть, в какой-то степени Ходасевич — его такой желчный литературный двойник. Собственно говоря, как умер Баратынский в 44 года, так в 44 года Ходасевич перестал писать. Да, есть между ними некоторое сходство, пожалуй. Хотя, конечно, Баратынский, на мой взгляд, масштабнее.
«Почему зло неправильно рассматривать как совокупность психических отклонений и неудачно повлиявших внешних факторов?»
Такая точка зрения имеет место, stillstone дорогой. Многие считают зло болезнью, но, видите ли, это такой немножко манихейский взгляд. Мне представляется, что в человеке не так-то легко разделить добро и зло. Тут был хороший вопрос: а зачем вообще нужен Слизерин, почему недостаточно какого-нибудь Гриффиндора, почему нужен вот этот факультет снобов и вообще довольно малоприятных ребят, что говорить? Потому что, понимаете, добро само по себе, к сожалению, не существует, оно очень тесно сплетено. Если всё зло считать болезнью, то чем тогда считать отдельные проявления ярости у Пьера Безухова, скажем, или проявления снобизма и холодности у князя Андрея — в общем, вполне милых людей?
«Читали ли вы «Трактат о принципах человеческого знания» Беркли?» Нет, увы.
«Какой совет вы могли бы дать человеку, который хочет написать книгу?»
У Анатолия Рыбакова над столом висела надпись: «Чтобы написать, надо писать». Мне кажется, что нужно сначала покрыть бумагу достаточным количеством знаков — и тогда всё получится. Понимаете, есть авторы, которые как бы взялись ниоткуда. Вот Виктория Токарева — она же сразу дебютировала очень ярким рассказом «День без вранья» и впрыгнула, как она говорит, в «последний вагон оттепели». Но только близко знающие её люди знают, что она исписала перед этим два чемодана прозы, которые потом торжественно сожгла. До своего дебюта она десять лет училась писать, с подросткового возраста, а в 26 лет явилась готовым писателем. Покройте большое количество бумаги печатными знаками — и всё у вас получится.
«Что вы думаете о Мединском и о перспективах его отставки?»
Знаете, когда человека травят (или, во всяком случае, когда человек находится под ударом), вы от меня плохих слов про него не услышите, даже если это человек мне во всех отношениях или посторонний, или враждебный. С Мединским, кроме того, я вообще достаточно давно знаком, ещё по МГИМО. И он был несколько раз гостем моего эфира, и это всегда были довольно интересные разговоры, ещё на «Сити FM» блаженной памяти, в программе «Разговоры на свободную тему». Мне интересно было читать «Стену». И вообще мне нравится, когда министр культуры пишет. Хорошо пишет, плохо — неважно. Важно, что министр культуры не должен быть только администратором. У меня к Мединскому очень много претензий, но сейчас, когда расследуется дело в отношении его заместителей, я не хочу про него плохо говорить.
Тут уже пошли какие-то доносы совершенно абсурдные, люди уже даже просто не задумываются о смысле делаемого ими. Некий тульский чиновник, отправленный в отставку при прежнем губернаторе, пишет, что по требованию Мединского меня приглашали в Тулу читать лекцию, после чего я ужинал с губернатором и получил гонорар в 800 тысяч рублей. Я очень бы желал, чтобы мне платили такие гонорары, потому что я бы тогда смог отказаться от других видов заработка. Это было выступление в рамках фестиваля «Сад гениев», который был устроен в Туле. Пригласила меня Юлия Вронская, которая в «Ясной Поляне» отвечает за литературные проекты этого музея. Никаких консультаций с Мединским у меня при этом не было, а губернатор вряд ли вообще знал о моём приезде. А ужинал я после этой лекции (за которую мне заплатили сумму, вполне доступную провинциальному музею, очень скромную) с поэтом Димой Филатовым, памятным вам по встрече Нового года. Он там приехал с дачи меня послушать. Так что есть и свидетели, в случае чего. И, естественно, как всегда, «Прямая речь» заключила договор на это выступление, и плата всегда может быть всем предъявлена.
Люди такую чушь несут сейчас про Мединского! Ну что же мы будем, так сказать, ему ещё ставить какие-то дополнительные палки в колёса? Многое в его деятельности вызывает у меня весьма серьёзные вопросы, со многим я категорически не согласен. Но ещё раз говорю: есть время для критики, а есть не время. Мало кто так мне не нравился, как Юрий Лужков. Но когда Юрия Лужкова убирали из власти, я считал за лучшее всё-таки отзываться от него без лишнего яда, да и вовсе, может быть, не говорить о нём дурного.
«Талантливому российскому народу нужно сильное и свободное государство». Да, совершенно с вами согласен. Более того, сила и свобода, они друг другу не противопоставлены.
«Периодически вы пренебрежительно отзываетесь о труде, ссылаясь на классиков, мол, «кто на нас с Шаламовым и Горьким?» Силой одной творческой мысли материи не создашь. Чтобы проложить трубопроводы, нужны руки, ноги и сила».
Да, я совершенно с вами согласен. Но ведь дело же в том, что Шаламов и Горький отзывались так о труде бессмысленном, рутинном, но ни в коем случае не о творческом. Потому что масштаб творческих свершений Шаламова, масштаб его работы по формированию собственного стиля наводит на мысль о подвиге, о совершенно титаническом задании, которое человек сам себе поставил. Поэтому давайте различать подневольный труд (первородный грех, за который человек расплачивается тем, что в поте лица своего ест хлеб свой) и радостный, праздничный труд творца, который уподобляет человека Богу.
«Известны ли вам случаи, когда люди изменялись, меняли собственный сложившийся образ? Например, лентяй становился трудягой, скромник — бабником, мямля — рассказчиком, ненадёжный — ответственным и т.п.».
Кирилл, мне такие случаи известны. Но, знаете, «Двадцать седьмая теорема этики» гласит, что система не может перепрограммировать сама себя, «медный таз не может по собственной воле стать деревянным». Наверное, при желании можно себе представить человека, радикально перевоспитанного. Вопрос: не утратит ли он при этом чего-то очень важного, не лишится ли он собственной индивидуальности? Это довольно страшный вопрос. Понимаете, многие завязавшие алкоголики, может быть, спасают себе жизнь и спасают семью, но лишаются того единственного, за что их стоило терпеть — таланта, широты, обаяния. Точно так же человек может себя переделать (может, такие случаи бывали), но чего он лишается на этом пути, как он платит за радикальность этой переделки — это отдельная и достаточно мрачная тема.
Я, в общем, стою на позициях Шоу. Когда Уайльд вышел из тюрьмы, и вышел оттуда нищим, разорённым, проповедующим милосердие и гуманность (а когда-то до этого он пренебрежительно отзывался о любой морали), Шоу сказал абсолютно точно: «Уайльд вышел из тюрьмы точно таким же, каким туда попал». В нём всё было, достаточно перечитать ранние сказки. И моральность, и сентиментальность, и уважение к людям труда — всё это было в нём всегда. Поэтому я думаю, что где-то в самой глубине, в позвоночнике, в основе личности человек не меняется, он живёт таким, каким родился.
«Исповедь сына века» и «Что делать?» Чернышевского — 1836 и 1863 гг. — два романа со схожими концовками, но совершенно разными сюжетами. Не думал ли Николай Гаврилович в отместку написать «Исповедь сына «нового» века», и так родилось «Что делать?»?»
Нет конечно. Что вы? Это очень изящная мысль, она мне никогда не приходила в голову. Безусловно, Чернышевский читал Мюссе, потому что Мюссе все тогда читали, «Исповедь сына века» — это модный роман. Но Чернышевский в романе своём пользуется совершенно другими литературными техниками — литературными техниками романа-фельетона. Он подражает остросюжетной прозе с интригами, убийствами, изменами, таинственными исчезновениями, роковыми персонажами. Даже сам Рахметов выряжен в такого героя рокового, чтобы его идеи как-то донеслись. «Что делать?» — это абсолютно пародийное произведение, и мне это как раз в нём очень симпатично.
«По-моему, лучший фильм Эльдара Рязанова — «Гараж». Там в одном месте собраны все представители общества и высмеиваются все его пороки. Если бы вам предложили сценарий ремейка, каких прототипов вы имели бы в виду?»
Во-первых, я не стал бы участвовать в ремейке совершенно точно, потому что я вообще к практике ремейков отношусь резко отрицательно. Но если бы мне понадобилось сегодня собрать все пороки… Это интересный вопрос на самом деле: где бы я их собрал? Наибольшая концентрация пороков у Рязанова — вокруг кормушки. «Гараж»: институтское распределение благ, распределение диссертаций. Где сейчас распределение благ и наибольшая концентрация пороков? Наверное, я описал бы какую-нибудь андимайданную структуру околовластной кормушки, где все друг друга втайне ненавидят. Ну, что-нибудь вот такое. Это было бы смешно, мне кажется, и типично. Потому что ведь типично, как мы помним из Святополка-Мирского, не то, что распространено, а то, что выражает эпоху.
«Мог бы из Пелевина получиться интересный ведущий данной программы?»
Конечно, мог бы. Только зачем ему это? Я думаю, что из Пелевина мог бы получиться кто угодно. Он гениальный рассказчик, прекрасный манипулятор. Он мог бы всё делать, за что берётся (во всяком случае, всё в области языка), но зачем же ему вести радиопрограмму, если он может вещать непосредственно из космоса?
«У меня сложилось неоднозначное мнение о популярных фильмах Астрахана «Ты у меня одна» и «Всё будет хорошо». Режиссёр беспощадно смеётся над наивными героями. Был ли Астрахан адекватно понят в 90-х?»
Нет конечно. Астрахан умеет работать в технике массовой культуры. Он вообще хороший режиссёр. Мне кажется, он иногда теряет грань, иногда он начинает к собственным пародиям относиться слишком серьёзно — тогда появляются фильмы вроде «Жёлтого карлика». Но, в принципе, и «Ты у меня одна» — безусловная пародия, а «Всё будет хорошо» — ну это просто фарс. В этом же жанре, кстати, в фильме «Любовь, предвестие печали» совершенно гениально сработал Виктор Сергеев, Царствие ему небесное, прекрасный ленфильмовский режиссёр, постановщик «Гения», если помните. Вот это по-питерски иронично преломлённая такая гламурная история о новых русских, посреди которой я помню прекрасный эпизод. Молодая мама говорит: «Представляете, мой мальчик только что заговорил. Такая душечка! И его первое слово было «дерьмо». Это очень точно, кстати, определяло всю эстетику фильма.
«В «Таинственной страсти» Аксёнова — Роберт Рождественский… Обаятельный образ. Была ли эпоха милосердна к этому доброму человеку?»
Он был добрый, конечно. Если проголосуют за лекцию про Рождественского, я с удовольствием про него расскажу. Он был добрый, но он был одним из олицетворений, одним из самых ярких представителей того тупика, в который упёрлось шестидесятничество. Это не я придумал, а Лев Александрович Аннинский, когда писал «Ядро ореха». Он первым, по-моему, высказался о том, что шестидесятничество упёрлось в тупик не на уровне цензурном. Совершенно прав Андрей Шемякин, который сказал: «Оттепель закончилась по причинам не цензурным, а метафизическим». Они упёрлись в тупик собственного мировоззрения, оно не развивалось. И там есть о чём поговорить. Если хотите, поговорим.
«В чём феномен успеха фильма «Москва слезам не верит»? Сценарист Валентин Черных сочинил горькую сказку. Близок ли вам жёсткий взгляд на жизнь этого писателя?»
Я вообще люблю Черных, он очень хороший сценарист. А что касается этой горькой сказки и в чём секрет успеха фильма — он в меньшовской интонации. Меньшов вообще очень точно воплощает одну особенность русского взгляда на вещи — это взгляд иронический, иногда циничный. Мы любим высмеивать, любим подкалывать, иногда любим высмеивать даже святое, потому что некоторое такое кощунство входит в рецепт анекдота, в рецепт частушки, в рецепт русской сатиры вообще. И такие фильмы Меньшова, как «Любовь и голуби», например, который весь стоит на лубочной, пародийной, гротескной стилистике… Мне кажется, он наследует Шукшину. Я даже думаю, что он единственный наследник Шукшина. Потому что Шукшин ведь тоже о своих «чудиках» или о своих любимцах — сельских мыслителях — он говорит горько и иронически. А Егор Прокудин — какой самопародийный образ в этой сцене, где народ для разврата собрался? А совершенно изумительные «Печки-лавочки»? Вот это гротескная нота, нота такой жёсткой, насмешливой любви.
«Москва слезам не верит» — это абсолютно пародийная картина с розовой героиней, с розовым героем, но там есть масса прелестных насмешек внутри, есть второй слой. Вот почему это прекрасная история. Американцы вообще «Оскара» просто так не дают. Они очень любят картины, где идёт двуслойное повествование. Возьмите, я не знаю, «Крамер против Крамера» или «Алиса здесь больше не живёт». Там есть мелодрама и есть… Или «Ordinary People» — уж самый наглядный пример, экранизация Джудит Гест. Они берут абсолютно мелодраматические ходы и сами их высмеивают по ходу.
Тут есть вопрос, что я думаю о Франзене. Франзен — блистательный сатирик, который тоже штампы американского сознания, американского романа высмеивает. Точно так же здесь высмеивает американские штампы замечательно Меньшов, и американскую мечту, и русскую мечту; вот провинциалка осуществилась, вот она сумела благодаря самодисциплине и таланту переломить обстоятельства (правда, она чем-то пожертвовала); вот явился заслуженный ею изумительный герой. Понимаете, одной стороны, умиляешься, а с другой — насмехаешься. И это очень точно. Это интонация такой русской песни-баллады, народной любовной баллады, в которой всегда есть место жёсткому юмору.
«Дима! Вы тут недавно рыдали по поводу суда над карательницей Надькой». Где? Когда я рыдал? Я вообще не имею привычки рыдать. «А вам ответили, — что-то не помню, чтобы мне такое ответили, — что что-то не было слышно вашего рыдания по поводу убийств детей на Донбассе! Вы в это время успешно ржали в эфире! Что можете сказать по существу?»
Когда я это успешно ржал в эфире во время убийства детей на Донбассе? Насколько я помню, о русско-украинском конфликте (назовём его конфликтом, хотя он часто переходил в полноценную войну, а на духовном уровне давно в неё перешёл) я с неизменной скорбью говорю. Понимаете, хохочете вы. Я обращаюсь к автору вопроса — vadim028. Во-первых, я вам не Дима, меня зовут Дмитрий Львович. В крайней случае — Дмитрий, если вы мне ровесник. Дорогой Вадим, вы же мне не Вадька, слава тебе господи? Я побрезгую вас так называть — может, подумают ещё, что вы приятель мне. Меньше фамильярности, дорогой. И меньше издёвок. Тема эта действительно серьёзная и трагическая. Я говорил, только подонок может измываться над этой темой. Относитесь к ней серьёзно. Не будьте гороховым шутом. Не будьте балаболкой. Стыдно! Вы взрослый человек.
Вернёмся через три минуты.
Д. Быков― Продолжаем разговор. Дмитрий Быков в студии, программа «Один».
«Дмитрий Львович, герой Высоцкого из фильма «Служили два товарища», Брусенцов — беспощадный человек с обугленной душой. Высоцкий изобразил обречённого белого рыцаря или психически больного убийцу?»
Мне кажется, что вы здесь, Андрей, немножко смешиваете Слащёва… то есть, простите, Хлудова, если уж на то пошло, реального Хлудова из «Бега» и Брусенцова из фильма Карелова по сценарию Дунского и Фрида. Хлудов — действительно человек с обугленной душой. Брусенцов? Во-первых, он младше. Во-вторых, он не командующий, на нём гораздо меньшая ответственность. В-третьих, он, как мне представляется, судя по лирической линии с Ией Саввиной, довольно трогательный человек, для которого ещё не всё потеряно. И его самоубийство доказывает, что он ещё не выжжен до конца изнутри. Он как раз человек больной совести. Назвать его белым рыцарем я тоже не могу, потому что белый рыцарь — это персонаж, который рисовался Марине Ивановне Цветаевой. Вот это её лев, её Сергей Эфрон, её герой, которому она посвятила «Лебединый стан», вот вся эта парадигма — лев, лебедь, белый рыцарь. Это, по-моему, нереальный абсолютно, это вымышленный персонаж. А вот на самом деле психически больной убийца — тоже крайность. В основном это были люди, которые отравлены неверием в своё дело, и люди отчаявшиеся, конечно.
«Давно мучает меня вопрос о «Повести непогашенной луны». Он, как Мандельштам, не мог не отразить время, пусть ценой жизни? Или это была допустимая фронда середины 20-х?»
Я в книжке про Маяковского довольно подробно рассматриваю этот эпизод, который редактору «Нового мира» Полонскому стоил должности. Полонский, к счастью для него, успел умереть своей смертью в 1933 году. Но, конечно, история с Пильняком, она и лефовцами часто использовалась для травли Полонского. И вообще это была не очень красивая история.
Во-первых, тогда ещё границы фронды не были определены, всё было зыбко, это 1926 год. Во-вторых, понимаете, какая штука? Пильняк — он же человек, который очень во многом зависит от мнения интеллигентного читателя, и фронда для него — очень важный способ достижения успеха. Для Пильняка вообще важно успеть первым. Вот такая у него была немножко журналистская черта. Меня это скорее в нём привлекает. Не потому, что я сам журналист и ценю журнализм, но прежде всего потому, что мне кажется, что проза должна вообще работать с современностью.
Всё-таки Пильняк первым сказал вслух то, о чём все говорили шёпотом. Это важная добродетель для писателя, важное достоинство. Есть люди, которые физически не могут промолчать, когда они открыли какую-то важную закономерность или удачно сформулировали мысль. Тогда происходит вот этот феномен «а у царя Мидаса ослиные уши». Хоть кому-то цирюльник должен об этом рассказать, и он нашёптывает об этом дудочке, и дудочка начинает это петь. Кто-то должен был сказать, что гибель Фрунзе не была случайной. Это один из самых точных портретов Сталина. И это довольно мрачная вещь. Она не столько точна в расстановке сил в оппозиции, в партии, а она точна в описании атмосферы — вот этой ночной атмосферы сталинской Москвы.
Тут всякие добрые слова. Спасибо.
«Роман «Камера обскура» воплощает древнюю мысль «любовь слепа». Каково ваше мнение об этой книге?»
Нет, не любовь слепа. Ну что вы? «Любовь слепа», — это там произносит один из самых пошлых персонажей. Тема слепоты вообще у Набокова очень важна, но Кречмар слепнет физически. Он слеп именно потому, что он не видит второго дна жизни. А видит его Горн — отрицательный персонаж, мерзкий. Вот если бы можно было взять Горна и представить его себе творцом настоящим, а не просто такой пародией на творца, наверное, мы получили бы. Но у Набокова почти нет таких героев. Ну, есть, наверное… Боткин в «Бледном огне», пожалуй, но ведь Боткин безумен. Поэтому трудно сказать, есть ли у Набокова такой герой. У него очень много таких героев, как Куильти, как Горн, как Герман в «Отчаянии» (даже и зовут их похоже — Горн, Герман). Они именно пародисты творчества, пародисты жизни, мрачные и гротескные. Ну, как Фердинанд в «Весне в Фиальте», муж Нины. А вот чтобы представить себе зрячесть человека доброго и разумного… Пожалуй, только Цинциннат Ц. И то как-то, знаете, Цинциннат подозрительно слаб, подозрительно хрупок. Хотя, конечно, зрением он наделён.
«Хотелось бы узнать ваше мнение о книгах Марии Семёновой. И лекция о «Сандро из Чегема».
О «Сандро из Чегема» — пожалуйста, найдём время. Это действительно важная книга. Что касается Марии Семёновой. Я не могу это читать, это совершенно не моё. Но я знаю, что субъективно Мария Семёнова — в общем, хороший человек. Проза её мне совершенно не близка. И славянское боевое фэнтези — это ну очень от меня далеко. Но у неё есть талантливые идеи, и с ней очень интересно разговаривать.
«Как вы относитесь к творчеству Вячеслава Шишкова? Ещё в советские времена я прочитала его повесть «Странники». Было и грустно, и смешно, и страшно».
Вы совершенно правы, он действительно мастер смешного и страшного. Конечно, «Угрюм-река» — на мой теперешний взгляд, это непростительно олеографическое произведение. И мне кажется оно, знаете, особенно по сравнению с «Тихим Доном», которому оно в какой-то степени, конечно, подражает… Естественно, шишковская Анфиса — это такая копия не очень удачной шолоховской Аксиньи; и Прохор похож очень на Мелехова; и сама романная структура; и называется в честь реки — «Угрюм-река». У меня даже была идея, что, может, «Угрюм-река» — это как бы такая попытка Шишкова намекнуть, что он настоящий автор «Тихого Дона». Но, к сожалению, это немыслимо, потому что «Угрюм-река» написана на порядок жиже. Но в детстве моём это была одна из любимых книг. Мне мать её дала, когда мне было лет девять. Помню, я читал про эту Синильгу, помните, таинственную лесную колдунью Синильгу, и для меня это было просто вообще замечательное таинственное чтение.
Мне очень нравится его повесть «Алые сугробы» — наверное, лучший русский текст о Шамбале и самый интересный. Совсем не нравится его роман о Пугачёве, но тут уж ничего не поделаешь, это старческое уже произведение. А в принципе, конечно, настоящий Шишков — это 20-е годы, когда он и насмешлив, и изобретателен. Хороший писатель. Повести и рассказы его очень хорошие. И, конечно, упомянутая вами повесть про беспризорников совершенно чудесная.
«Как вы относитесь к творчеству Феликса Розинера и его главному роману «Некто Финкельмайер»?»
Знаете, «Некто Финкельмайер» — по-моему, всё-таки не главный его роман. Мне больше всего нравилось то, что он писал для детей, писал для эмиграции: «Слушал пение струнных своих, и ударных своих, и своих духовых». Я забыл, как называлась у него эта книга, там просто старого музыканта. «Некто Финкельмайер» — хорошая книжка. Но вообще Розинер — мне кажется, он писатель всё-таки не того масштаба, чтобы помещать его в первые ряды. Понимаете, как бы это сказать? Что ли, недостаёт этой книге той высоты взгляда, той степени омерзения к человечеству, например, которая продиктовала Горенштейну «Место». Вот вы сравните прозу Розинера и прозу Горенштейна. Розинер добрый, а Горенштейн человеконенавистник, просто желчь каплет со страниц его книги. И он был человеком гораздо более противным, видимо. Но проза его гениальна, а о прозе Розинера этого сказать нельзя. Вот ритма в ней нет — того ритма, который так пленяет у Горенштейна, почти библейского ритма.
«Расскажите о «Лестнице Якова» Людмилы Улицкой и вообще поговорите об Улицкой».
Хорошо, давайте сделаем об Улицкой лекцию в следующий раз. Понимаете, мне у Улицкой больше всего нравится одна часть «Кукоцкого» — та часть, где безумие, где странствие этой жены, пребывающей в безумном состоянии, в таком полудетстве, где она странствует по какой-то выжженной планете мысленно. И мне безумно нравились её ранние рассказы. Книга «Девочки», которую печатали в «Синтаксисе»: «Бедная счастливая Колыванова»… Ну, вот эти все. Ранняя Улицкая — это чудо. Не говоря о том, что вообще мне сама Улицкая как человек очень симпатична. Она подвергается сейчас хорошей такой травле с разных сторон, ведёт себя очень достойно. Хороший человек, безусловно, сделавший очень много для русской прозы.
Понимаете, ведь каждый писатель приносит какую-то свою новую сферу либо свою территорию, как принёс Искандер свою Абхазию, либо свою проблематику. Улицкая — она действительно физиолог же по образованию. Вот она принесла очень серьёзную проблему: в какой степени человек обусловлен физиологически, а в какой он хозяин себе, в какой он психологически обусловлен, в какой вся его психология зависит от работы каких-то клеточек, каких-то веществ? Она очень физиологичный человек. Мне очень запомнилась из «Казуса Кукоцкого» вот эта сцена, где препарируют мозг мыши, эти два крошечных белых полушария. Это здорово написано! Улицкая действительно очень физиологична. Но вопрос, который она задаёт, — это обоснованный, серьёзный вопрос. И ответа нет на него.
Видите ли, проще всего было бы сказать, что Улицкая — это такой жестокий и трезвый реалист. Но ведь именно она написала «Даниэль Штайн, переводчик» — книгу о том, что всё-таки божественное в человеке есть, и оно физиологически не может быть объяснено. Во всяком случае, не хочется ей сводить божественное к набору фобий и маний. Кстати, «Даниэль Штайн» мне кажется очень отважным экспериментом, очень интересным опытом в жанре документального романа — при том, что там много документального, а многих людей, о которых там идёт речь, я просто знал лично. Поэтому Улицкая — непростой писатель. Может быть, давайте сделаем лекцию о ней.
«Поделитесь вашим мнением о романе Мишеля Уэльбека «Покорность». Какие произведения этого писателя вы бы рекомендовали прочитать?» В первую очередь, конечно, «Элементарные частицы» и стихи. Его стихи, особенно в переводах Кормильцева, прекрасны. А что касается «Покорности» — я её ещё не читал. Я примерно знаю, про что, и не очень хочу это читать. Ну, придётся, наверное.
«Присоединяюсь, давайте по Искандеру». Да, давайте по Искандеру, с удовольствием.
«Фильмы Шахназарова, такие как «Город Зеро» — для меня что-то вроде предохранителя. А что же он говорит сегодня? Я помню песню про большой секрет и лошадей, которые умеют летать, и мне никак не зайдёт в голову, что их автор пишет сегодня. Как они умещают это в пределах одной натуры, ведь это как вода и масло?»
У меня были такие стихи, сравнительно недавние:
Мне в этом и видится почерк соседства в едином уме
Раздувшихся мартовских почек и почек, отбитых в тюрьме.
А как у вас помещается в уме то, что Бог — это одновременно и насилие, и эти пейзажи; и смерть, и рождение; и цинизм невероятный, и подлость, и чудеса самопожертвования? Вот если вы вмещаете в мире эти крайности, то как же вы не вмещаете их в отдельно взятом писателе?
Почему это происходит? Шахназарова я продолжаю, честно говоря, любить. И мне кажется, что его творчество никак не пострадало от эволюции его убеждений. Эволюция эта мне кажется довольно поверхностной. Он из тех людей, которые действительно, чтобы им дали спокойно работать, готовы иногда говорить то, что надо, как мне кажется. Всё равно он для меня автор «Дня полнолуния», он автор «Курьера», он автор «Цареубийцы». Я уж не говорю, по-моему, о великом фильме «Палата № 6», который, страшно сказать, в чём-то конгениален литературному материалу, ну просто по радикальности художественного решения — сделать mockumentary из «Палаты № 6». А Жарков там какой! Нет, как хотите, но это грандиозное явление. И, конечно, потрясающая там сцена, когда этот Никита, сторож, появляется в ореоле в храме, как Бог. Это так страшно! Вот образ русского Бога. И финал, конечно, невероятно страшный. Нет, молодец Шахназаров. А что касается упомянутого вами автора песни про большой секрет. Здесь давайте проявим милосердие. Мне кажется, здесь самое время проявить милосердие.
«Почему о Бабеле вспоминают только в связи с Беней Криком? Если не нравится такая классика, как «Доктор Живаго» и «Великий Гэтсби» (герои кажутся невыразительными), значит ли это, что я что-то не поняла?»
Нет. Ну, про Бабеля я говорил уже, у меня была лекция о нём в позапрошлый раз. Что касается невыразительных героев. Здесь вы не правы в том, что это такой приём художественный. Понимаете, иногда в центр повествования помещается «Энигма», чтобы читатель мог его додумать, чтобы герои вращались вокруг такой пустоты, и из их телодвижений, из их отношения постепенно формировалось заполнение этой пустоты. Ну, знаете, как гипсом заливают пустоты в помпейском пепле. Там люди истлели, и вот наполняется гипсом это — и мы получаем человеческую фигуру. Вот такие пустоты — это Гэтсби и особенно Юра Живаго. Юра Живаго — не безвольный человек и не пустой, но он так сделан, что мы наполняем его собой, мы как бы вкладываем этому герою своё прошлое, свои реакции. Это очень хитро сделано у Пастернака, что Юра Живаго испытывает главным образом отвращение к разным фальшивым людям. Это он так апофатически дан. А что же он любит собственно, что он хочет? Вот эту чистую холодную воду христианства, самый чистый и холодный воздух среди страшной духоты XX века.
Я думаю, что именно из-за отвращения к дуракам, к садистам, к пошлякам рождается в нас вот это тонкое ощущение божественного присутствия, которое есть в докторе. А особенно наглядно это сделано, конечно, у Германа в «Хрусталёве», где мальчик начинает молиться именно потому, что его давит плоть этого мира, просто душит. Она до такой степени дошла, что ну куда-то, куда угодно прорваться отсюда, из этого омерзения! Что касается Гэтсби, то здесь нарочно герой сделан пустышкой, потому что он же и есть пустышка, в общем, но эта пустышка получила огромные деньги и стала роковой.
Очень интересные соображения deche о «Театра Чехова». Действительно есть такой парадокс. Чехов всегда говорит: «В драме, герой, или женись, или застрелись», — и говорит он с отвращением. Тем не менее, герой у него или стреляется (как Треплев или Иванов), или женится (как Артынов или Серебряков), так что большого разнообразия концовок не придумано. Ну, поздний Чехов, начиная с «Трёх сестёр», уже уходит от всех драматических условностей. Его спрашивают: «Почему убили Тузенбаха?» — и он отвечает: «Потому что жребий так выпал».
«Посоветуйте качественную художественную литературу про девяностые годы, если такая есть».
Ребята, страшный парадокс: её нет. А я вам скажу, почему её нет. Потому что для того, чтобы в хаосе девяностых годов сориентироваться, нужны были очень высокие нравственные позиции, нужно было смотреть с достаточной нравственной высоты, нужно было осудить очень многое в том, что полагалось приветствовать: и садизм, и расчётливость бандитов, которых называли «новыми русскими», и пошлость меценатов, и беспомощность интеллигенции. Я могу назвать, пожалуй, двух авторов, точнее два авторских коллектива, которые с этим справились.
Во-первых, то, что писали вдвоём Гаррос и Евдокимов — в особенности, конечно, замечательная повесть «Чучхе», очень точная, «Серая слизь», «Головоломка», «Фактор Фуры» — это про девяностые. Тем более они рижане, и там это всё было ещё обострено, потому что добавлялась проблема русского меньшинства. Ну, то, что они написали о жизни, о стиле жизни девяностых годов — это было не поверхностно, это было не по-журналистски, а это была достаточно глубокая проза. Очень жалко, что сейчас они пишут поврозь, хотя то, что делает Гаррос, и то, что делает Евдокимов, мне интересно всё равно. Но их совместные сочинения были просто люто интересны! Они обжигали очень, и они были очень динамичные и жестокие. Это был такой прекрасный русский нуар.
Второй текст — это, конечно, сценарий «Бригады». Он выходил несколько раз книгой. Сейчас «Бригаду» как-то позабыли, её стараются не очень показывать. Десять лет вообще, по-моему, почти не показывали, потому что там гэбэшник уж очень похож на нынешнюю элиту России, в исполнении Андрея Панина. Панин и играл, собственно подобную роль. Мне кажется, что «Бригада» — это просто первоклассный роман. Во всяком случае, один из его авторов, замечательный режиссёр Саша Велединский, мне кажется, мог бы такую прозу написать о девяностых. Да и зачем? Он, в сущности, её и написал. «Бригада» как роман, «Бригада», выходившая книгой, только не фальшивая, а настоящая «Бригада», настоящий сценарий, — это блистательная литература.
Наверное, девяностые как-то причудливо отражены в прозе других очень талантливых авторов, тоже сценаристов — Луцика и Саморядова. Но они пишут скорее не о реальности девяностых, а скорее о таком мифе девяностых. «Дюба-Дюба», «Праздник саранчи», в значительной степени «Там, внутри…», из которого получилась «Лимита», — это очень социально точные зарисовки. Ну, «Дюба-Дюба» — это вообще, из этого вышел весь перестроечный кинематограф и вся перестроечная реальность. Луцик и Саморядов умели писать реальность. Она начинала подчиняться их лекалам, их сюжетным ходам, их темпераменту. В известном смысле и «Простые люди» (как назывался этот сценарий, из которого получилась «Окраина»), и «Дикое поле» — это тоже очень точная литература. «Гонгофер» — безусловно. Но мне кажется, что в наибольшей степени это «Праздник саранчи» и «Там, внутри…». Вот это то, что о девяностых годах написано хорошо. Но эти люди обладали действительно очень глубокой укоренённостью в русском мифе. Вот Бахыт Килибаев с его замечательным кинороманом «Громовы», который я вам очень рекомендую. Бахыт Килибаев — по-моему, крупный режиссёр, а помнят его все по АО «МММ». А он действительно крупный режиссёр, замечательный писатель.
«Видели ли вы свежий фильм Коэнов «Хайль, Цезарь!»? — видел. — Мне он понравился, — мне тоже. — Почему, на ваш взгляд, так легко манипулируемы люди с высоким интеллектом (вроде европейской элиты накануне и даже после Второй мировой войны)? Это с их стороны циничное «кто платит, с тем и танцуем»? Или их так легко было очаровать болтовнёй?»
Видите ли, ответом на этот вопрос служит «Доктор Фаустус» Манна, конечно. Интеллигента очень легко очаровать почвенностью, кровью, это всё кажется ему подлинным. То, что он давно преодолел, кажется ему святыней. То, от чего он давно оторвался, то, что давно отошло в безнадёжное прошлое… Вот эта архаика крови и почвы для интеллигента очень очаровательна, очень приманчива.
Ну и потом, конечно, я не устану повторять этот тезис: для писателя, имеющего отношение к иерархиям (эстетическим, художественным), для него иерархия, для него соблазн властью — очень важная вещь. Жолковский объясняет это иначе. Кстати, Глуховский недавно об этом лекцию читал. Он говорит, что писатель сам всегда хочет быть властью, поэтому он чувствует с властью определённые сходства и тайное родство. Как сказано у Пастернака:
Как в этой двухголосой фуге
Он сам ни бесконечно мал,
Он верит в знанье друг о друге
Предельно крайних двух начал.
У художника есть соблазн быть властью, говорить с властью. А если ему предлагают ещё и какие-то со стороны власти задания, то он готов их выполнять, потому что ему кажется: «Лучше это буду я, чем какой-нибудь сатрап». Но в результате мы знаем, что получается. Как правило, если Маугли идёт в джунгли (если это реальность, а не киплинговская история), то из Маугли получается волк. А чтобы из волка получился человек — такое не вышло даже в «Острове доктора Моро». Тоже, кстати, роман, посвящённый мрачному ответу на утопию Киплинга. Но поди объясни это художнику.
Вопрос такой: «Можете ли вы вменяемо изложить цель своего психопатического кликушества? Кто, по вашему мнению, должен сменить Путина, когда и каким образом? Раскройте свою политическую платформу, желательно без патологической русофобии и детсадовского словоблудия», — спрашивает Алекс.
Нет, Алекс, ну как же я без патологической русофобии? Куда же я без детсадовского словоблудия? Есть один человек, который может без детсадовского словоблудия и патологической русофобии. Это вы. Приходите сюда и раскройте свою политическую платформу, а я на вас посмотрю. Но так, чтобы обходиться при этом без патологического лизательства и омерзительной мизантропии, которая слышится мне в вашем довольно наглом вопросе.
На самом деле вопрос «Если не Путин, то кто?» (или его такая сатирическая трансформация — «Если не Путин, то кот?») — мне кажется, что это вопрос достаточно праздный. Ну неужели вы действительно считаете, что среди 150 миллионов российского населения нет ни одного человека, который мог бы хоть отдалённо сравниться с нынешним российским президентом? Смешно мне это слышать. Вот вы высказываете русофобию, потому что, по вашему русофобскому мнению, в России один есть человек, достойный её возглавлять. Более циничной русофобии я ещё не встречал, простите. Я даже не буду больше пиарить этот ваш странный вопрос.
«Дмитрий Львович, почему, если меню телефона и любого аппарата с интерфейсом переставить с русского на английский, становится на порядок понятнее и информативнее?» Нет. Знаете, когда я читаю свою прозу в переводе на английский, мне тоже кажется, что она стала как-то лаконичнее и дисциплинированнее, но это просто мы экстраполируем на английский язык наши представления. На самом деле, уверяю вас, не меняется ничего.
«Я тоже за «Сандро из Чегема». Хорошо, учтём.
«Оцените творчество Юрия Дружникова».
Я не могу оценивать его прозу, потому что его повесть (или роман) «Ангелы на кончике иглы» о жизни советской редакции мне кажется довольно вторичной и вообще скучной. Но его расследование про Пушкина («Заложник Родины», или как оно там называлось?) и, конечно, его исследование о Павлике Морозове — это книги очень важные и для своего времени, и для нынешнего.
«Хочу предложить вам прочитать лекцию о Рильке». Как же вы, дорогой Тимур, хорошо обо мне думаете! Куда мне до Рильке? Хотя писатель гениальный.
Вернёмся через три минуты.
НОВОСТИ
Д. Быков― Доброй ночи! «Один», в студии Дмитрий Быков. Продолжаем разговор. На этот раз я уже отвечаю на вопросы в письмах, которые на этот раз чрезвычайно увлекательные.
«Голосую за лекцию о Рождественском». Спасибо, попробуем.
«Поддерживаю решение рассказать о шестидесятниках и их кризисе». Попробуем.
«С удовольствием читаю Брэдбери по вашему совету». Спасибо.
«Будет ли продолжение ваших диалогов с сыном в «Новой газете»?» Будет. На этот раз — про книжки.
«Сейчас расформировывают факультет экономики и прочего волшебства в институте им. Мориса Тореза. Чувство амбивалентное. С одной стороны, я рад развалу постсовковой действительности, с другой — мне страшно, так как я студент четвёртого курса, и осталось месяца три. Что вы посоветуете делать творческой личности, учащейся на полумёртвом факультете (внимание!) экономики?»
Митя, я вообще плохой советчик в таких вещах, и я не знаю, что делать человеку, который учится на факультете экономики. Но вам я могу пожелать одно: всегда, если вы чувствуете в себе силы писать (а вы их чувствуете, судя по этому письму), идите в газету, в хорошую газету, или в хорошее информационное агентство электронное, или в хорошее электронное издание, или куда-то в бумагу. Сейчас большой дефицит экономических обозревателей. Я думаю, вы впишетесь.
«Голосую за Платонова». Учтём.
«Здравствуйте, Дмитрий Львович! В отличие от своих сверстников, я не могу найти себе девушку. Это связано с тем, что мне с ними скучно, а найти ту самую Офелию я до сих пор не могу». Вот видите, Гамлет тоже не мог. Гамлет нашёл Офелию, но ему с ней было скучно. «Нормально ли это? Может быть, мне надо в себе что-то изменить?»
Да нет, Миша. Знаете, когда вы почувствуете настоящую необходимость насущную, вам будет уже никуда от себя не деться и никак себя не изменить. Главное, вы не оглядывайтесь на сверстников, это большая глупость. Я замечал много раз в бассейне, когда я плыву, я очень замедляю плавание, когда смотрю на соперников. А когда смотрю вниз на эти плитки кафельные или вверх на часы, то я плыву быстрее. Человек хорошо себя чувствует, когда он не оглядывается на других. Девушка, которая думает: «Ах, все подруги уже замужем, а я всё ещё не замужем!» Юноша, который думает: «Ах, у всех уже девушки, а у меня ещё нет!» Понимаете, как учил нас Честертон: чем выше организованность, чем более организованное перед нами существо, чем выше его структура, тем дольше длится его детство. Надо действительно к этому относиться спокойно.
Очень интересное письмо от учительницы, которая просит не называть её имени. Я не буду, конечно, называть её имени. Я располагаю присланным мне приказом. Спасибо, что вы его прислали. Там речь идёт о том, что сгоняют завтра школьников принудительно на празднование присоединения Крыма
В этом нет ничего удивительного. Как я к этому отношусь? Я думаю, что если вы работаете в школе и учите детей какому-никакому добру, ваш долг — просто аккуратно им объяснить, что происходит. Ну, так, чтобы не заставлять их ярко фрондировать, не заставлять их демонстрировать свой нонконформизм, потому что из этого ничего хорошего не получится, но просто мягко объяснить им, что происходит действительно. Понимаете, я не призываю вас жить «применительно к подлости» (по формулировке Щедрина, которую вы знаете, конечно), я призываю вас просто давать детям понять.
Знаете, как это можно? Если бы вы историю преподавали… Так-то вы гуманитарий. История — тоже ведь гуманитарная вещь. Если вы преподаёте историю, объясните: «Это вам дано, ребятушки, для того, чтобы вы могли наглядно убедиться в некоторых вещах. Вы как бы изучаете историю изнутри, да, ничего не поделаешь». Конечно, сейчас мы это рассматриваем в довольно смешном варианте. Мог бы быть страшный. Но надо объяснить, что смешное в каком-то смысле тоже страшное, потому что оно развращает больше. Если люди сами не верят ни во что, если они сами с колоссальным цинизмом относятся к собственной политической пропаганде и тут же сменят всё это по первому требованию… Я сегодня, кстати, обедал с Гусманом (у нас сегодня у обоих эфир здесь), и он прекрасную вещь сказал — 90 процентов нынешних пропагандистов, если прилетят марсиане, побегут на улицу с криком: «Я — сын Аэлиты!». Вот это действительно так. Просто надо об этом помнить, и всё. Это очень наглядно и интересно.
«На Масленицу в Краснодарском крае группа молодых активистов сжигала на костре книги Генри Миллера, изъятые из библиотеки. Здесь вопрос не про сжигание книг, а здесь вопрос литературный про Генри Миллера».
Интересная история. Понимаете, Генри Миллера оказался как бы таким чучелом зимы, которое обычно в таких случаях сжигают. «Прощай, Масленица!» — помните, как в фильме «Снегурочка»? Почему, собственно говоря, «Прощай, Масленица!»? Какой они вкладывали в это смысл? Перед Великим постом мы избавляемся от греховности в себе, мы прекращаем жрать блины, мы начинаем поститься. И вот Генри Миллер — это такие своего рода блины.
Я не люблю Генри Миллера. Ужасно об этом говорить. Ну как? Автора жгли, а я буду говорить, что я его не люблю? Я его не люблю. Я его читать не могу. Я люблю у него только одну книгу — «Время убийц» («The Time of the Assassins»), она посвящена Рембо. Она есть, кстати, в Интернете. Ну, я её когда-то по-английски читал. Когда я писал «Маяковского», мне негде было взять русский текст, и я её купил даже, потому что про Рембо Миллер написал гениально, он очень точно его понял. Это на Маяковского всё ложится, на такого нашего Рембо. Я абсолютно уверен, что если бы коммуна победила, Рембо писал бы «Окна РОСТА», а если бы революция в России проиграла, Маяковский стал бы коммивояжёром. Что бы ему ещё оставалось?
Короче, Генри Миллер был очень хороший литературовед, а писатель, по-моему, посредственный. Но жечь книги? Действительно, что там говорить… Понимаете, просто очень смешно, что людям так нравится быть дрянью. Ну вот испытывают они наслаждение от этого! Это и есть sinful pleasure.
«В каком возрасте вы решили связать свою судьбу с литературой? И не случалось ли у вас моментов, когда хотелось кардинально поменять профессию?»
Я не связывал свою судьбу с литературой, она как-то сама связалась. Я ничего другого не умею, кроме литературы и преподавания литературы. Ну, что-то умею — там, водить машину, но этому как раз я научился. Что касается того, чтобы кардинально сменить. Честно вам скажу, Саша, я всю жизнь мечтал снимать кино. И в возрасте примерно от 8 до 30 лет мне казалось, что я могу это делать. Мне и сейчас так кажется, но сейчас уже у меня нет сил и нет денег на это. Если бы я снимал, мои фильмы были бы похожи немножко, наверное, на фильмы Хуциева. Вот я чувствую с ним наибольшее стилистическое родство, так мне кажется. Но это очень высокая планка.
«Как побороть стеснительность? И вообще возможно ли это?»
Возможно. Но как сказано у Пушкина:
Но боюсь: среди сражений
Ты утратишь без следа [навсегда]
Прелесть [скромность] робкую движений,
Чувство [прелесть] неги и стыда!
Ну, я немножко переврал, но так или иначе. Я боюсь, что вы можете что-то утратить, преодолевая стеснительность. И надо ли её преодолевать? В принципе, существует множество пикаперских техник для преодоления стеснительности, часть их пародийно изложена в романе «Квартал». Почитайте, там это всё довольно смешно. А можно серьёзно. Ну, есть такая техника — например, войти в метро и запеть. Но я боюсь, что это скорее приведёт вас к заиканию и к психологическому надлому. Обычно стеснительность хорошо преодолевается с помощью девушки хорошей. Найдётся такая понимающая и добрая девушка — и вы с ней легко преодолеете стеснительность.
Тут, кстати, очень много почему-то вопросов: как найти девушку, как произвести дебют? Я, видимо, выгляжу таким учителем-психотерапевтом. Я могу только одно сказать. Понимаете, вот очень точно у Нагибина написано, что «этот шаг нелёгок для всякого значительного юноши», потому что бессмысленно размножаются только животные, а человеку значительному всегда нелегко преодолевать барьер в общении, нелегко откровенно говорить с друзьями, нелегко впервые сексом заняться. Это трудно, что там говорить. Это очень приятно потом становится, но поначалу это трудно. Трудно сломать барьер своего Я, вот эту скорлупу. Но, собственно говоря, а кто обещал, что будет легко? Просто я вам хочу сказать, что ваше состояние нормальное. Если бы вы не боялись этого рубежа, если бы вы не комплексовали из-за этого, вы были бы животным. Человеку дан стыд, дана застенчивость, человеку дана стыдливость. «Божественной стыдливостью страданья», — сказано у Тютчева. И если этого нет, то о чём говорить? А если есть, то всё у вас хорошо.
«Дмитрий Львович, дайте совет. Какие есть книги о женских изменах в браке? Меня эта тема волнует. Хочется преодолеть в себе тягу к новому. В 17 лет повстречала будущего мужа, вот уже 11 лет мы вместе. Это мой единственный мужчина в жизни, как и я в жизни своего мужа единственная женщина. Но в последнее время начала платонически, как девочка, влюбляться в других мужчин, которые оказывают мне знаки внимания, и чувствую себя предателем отношений с мужем. Спасибо».
Ира, советов давать не буду, я не психотерапевт, и я, так сказать, не нанятый психолог. Но книга, которая вам может помочь — это «Мадам Бовари». Вот там всё про это написано. Правда там очень жестока. И вообще мрачная книга. «Воспитание чувств» неплохое, того же автора.
«Не могли бы вы поделиться своим мнением о творчестве Орхана Памука и Юкио Мисимы».
Эк, куда метнули! Слушайте, это два совершенно разных писателя. У Мисимы мне очень нравится «Исповедь маски», скорее нравится «Golden Shrine [Pavilion]» («Золотой храм»). И, собственно, всё. Я, честно, пытался читать тетралогию по совету одного своего студента-японца — не пошло совсем. Хотя третий том интересный. Понимаете, Мисима — очень хороший стилист, стиль его превосходен. Он динамичен, лаконичен, он увлекательно рассказывает. Но мысли его… Ну, только комментарии к «Хагакурэ» мне нравятся разве что.
Что касается Орхана Памука, то я очень люблю этого человека, мне симпатичен его человеческий облик, авторский облик, что во время интервью с ним только подтвердилось. Кстати говоря, его фотография украшает нашу «Рюмочную», он её посетил однажды. Но, в принципе, я не очень как-то люблю его прозу. «Снег» мне представляется самым интересным из его сочинений.
«Как вы считаете, стала ли поэзия пережитком прошлого?» «Стихи — архаика. И скоро их не будет», — писал Кушнер. Но нет, конечно, не стала, она всегда останется.
«Знакомы ли вы с Шевчуком? Как оцениваете его творчество?» Знаком с Шевчуком, очень его люблю.
«Уделите минуту внимания. Хотелось бы выслушать вашу критику в адрес моего собственного творчества». Подождите, найду время — почитаю.
«Как вы оцениваете творчество Сильвии Плат, в частности её роман «Под стеклянным колпаком»?»
Сильвия Плат, которую называли «серебряным соловьём американской поэзии», нравится мне как лирический поэт. Роман «Под стеклянным колпаком» кажется мне хорошей, но довольно заурядной прозой, впрочем, с таким лёгким оттенком суицидальной безуминки. Проза Джудит Гест мне нравится больше, честно вам скажу, она похожа. Сильвия Плат — хороший писатель. Ну, Карсон Маккалерс, мне кажется, ещё лучше — тоже алкоголичка такая полубезумная, но гораздо более резкая и талантливая («Сердце — одинокий охотник» или «Баллада о невесёлом кабачке»). Сильвия Плат сильнее в стихах именно. Вот в стихах она замечательна.
«Очень люблю «Глазами клоуна».
Я не люблю совсем, потому что читал в молодости. Катя, вот вы пишете, что вам 22 года. Когда мне было 22 года, мне Бёлль казался дико скучным! Ну, может быть, потому, что «Бильярд в половине десятого» входил в программу, и поэтому как-то совершенно он не произвёл на меня впечатления. «Групповой портрет с дамой» тоже я не мог никак прочесть. Вот Гюнтер Грасс мне нравился, особенно «Анестезия», а Бёлль — почему-то никогда. Но давайте я перечитаю «Глазами клоуна» и попробую с вами поговорить. То, что вы говорите о богоцентризме главного героя, очень интересно.
Длинный вопрос, не успеваю…
«В Википедии в статье «Липограмма» сказано, что в России известные липограммы и опыты с ними были у Державина и у Довлатова. Где у Довлатова?»
У Державина был опыт написания стихов без буквы «р». Нет, не «р», а какой-то другой. «На бледно-голубом эфире // Златая плавала луна…» Ну, без какой-то буквы. По-моему, без «м», но не уверен, надо посмотреть. Липограмма — это когда нарочно пишется стихотворение без какой-то буквы. У Довлатова иначе — у Довлатова никогда не начинаются с одной и той же буквы слова в предложении. Мне это не представляется интересным опытом.
«Как вам Саша Филипенко? «Бывший сын» показалась неплохой книгой». Посмотрю. Я ничего о ней не слышал.
«Что изображено на вашей майке? В Сетевизоре плохо видно». Эдгар Алан По изображён на ней.
«В фильме «Трасса 65 [60]» прозвучала интересная мысль о том, что в литературе и мифологии любой страны, кроме почему-то Америки, есть режиссёр, исполняющий желания. Это может быть одушевлённый старик Хоттабыч или Золотой шар. Самое интересное, что наибольшее количество таких персонажей именно в русской литературе (Хоттабыч, Щука, Золотой шар, Конёк-Горбунок, Цветик-семицветик), а в американской мифологии почему-то такого персонажа нет».
Есть. Почему же? Страна Оз — это же Баум, это американская история. И как раз Изумрудный город и исполнение желаний — это всё оттуда. Волков это только развил, а придумал-то как раз эту Страну Оз Баум. Я сейчас попробую навскидку вспомнить. В Америке же вообще очень мало литературных сказок, не так их много. Да, там действительно чаще всего герою приходится исполнять свои желания самостоятельно.
Но там есть очень хороший (не помню чей) рассказ — чуть ли не Вашингтона Ирвинга, хотя надо проверить — насчёт исполнения желаний. Есть три желания у старухи, она потребовала колбасу… В общем, у них было три желания, у старика и старухи. Старуха была голодная и попросила колбасу. Старик в отчаянии воскликнул: «Да чтобы она к носу твоему приросла, эта колбаса!» — и она приросла. И тогда, жалея её (она умоляла очень), он попросил, чтобы пропала колбаса. И они остались и без колбасы, и без желаний.
Видимо, дело в том, что Америка лучше понимает: бойся своих желаний, они осуществляются. И неслучайно в знаменитом романе Капоте «Answered Prayers» («Услышанные молитвы») эпиграф: «Бойся услышанных молитв больше, чем проигнорированных». Наверное, это очень неслучайно.
Вот очень интересное письмо: «В Интернете тиражируется история про бабушку, которая отучила хулиганов гадить в подъезде, закармливая их пирожками и добротой. В посёлке у нас тяжёлый контингент, редкая особь бесплатно подвезёт в попутном направлении. Хозяйственностью называют откровенную жадность, выбрасывание мусора под забор соседа проходит по статье «чистоплотность». Я четыре года в своём посёлке в роли идеального соседа помогаю, выручаю, выслушиваю, вожу бесплатно. С одной соседкой сошлись близко, она заскакивала на огонёк, скучно им тут жизнь поживать. И отказа не было от меня, подарки и прочее. В итоге как раз она стала резко искать повод поссориться, а потом, найдя его, месяц не здоровалась и не разговаривала. Вопрос: можно ли развратить добром?»
Оля, можно, но не в этом дело. Наверное, эти люди чувствовали, что вы их не любите. И вам их любить не нужно. Не надо всех любить. Зачем вам заставлять себя любить этот посёлок? Будьте сложнее — и люди к вам потянутся. Не пытайтесь их развратить пирожком. Вы лучше сделайте так, чтобы они к вам тянулись, потому что вы недоступны, вы закрыты. Попытайтесь стать желанным объектом. Это очень важная и трудная вещь. Потому что добром можно не то что развратить, добром можно себя обесценить.
Понимаете, какая штука, Оля? Я очень люблю у Цветаевой одно её письмо Бессарабову. Она говорит: «Вы пытаетесь добром откупиться. Вам дан дар, у вас есть душа. Вам надо заботиться о собственной душе. Вот о ней заботьтесь. А вы откупаетесь от главной своей задачи». Ну, это как у того же Кушнера: «То, что мы должны вернуть, умирая, в лучшем виде». Надо заботиться о своей душе, она же вам не просто так дана. Она вам дана, как драгоценность, она вам дана, как фрукт, который надо как-то растить, взращивать. Не надо никого покупать добром, потому что люди будут чувствовать, что это умозрительно. Я не люблю слово «искренность», но дело не в этом. Просто не пытайтесь понравиться, не пытайтесь добром воздействовать.
«Что вы скажете о синклите в финале «Потерянного дома» Житинского? Мне показалось, что там не всё хорошо со вкусом».
Наверное. Но этот синклит там нужен, потому что для Житинского литература была одной из форм религиозного служения. И поэтому загробное существование текста для него — это такой прообраз бессмертия души. Многие, в том числе Новиков в первой рецензии на этот роман писал о том, что синклит написан плохо, хуже, чем остальное. Окуджава, Ахматова, Блок — они слишком узнаваемы, во-первых, и слишком хрестоматийны, во-вторых. Понимаете, у Галича тоже не очень хорошо написаны «Литераторские мостки». Галич, когда говорит о литературе, всегда хрестоматиен. Но меня это в Житинском не раздражает. У него вообще безупречный вкус, он пишет именно очень изящную прозу (в хорошем, прекрасном смысле). Но если уж ему понадобилось этот синклит туда вставить, и он не убирал его, невзирая на все редакторские замечания — значит это для него было важно, значит это для него такой прообраз бессмертия очень интересный.
Вот про «Эвакуатор». Спасибо. «Как быть, если Игоря рядом нет, да и сама ты не Катька?»
Благодарить судьбу! Если бы рядом с вами был Игорь, ваша жизнь превратилась бы в ад. Ну, вы прочтите эпилог к «Эвакуатору». Есть у меня такой рассказ, который называется «Князь Тавиани», это как послесловие к «Эвакуатору», десять лет спустя. Я люблю Игоря, но я не хотел бы быть Игорем. И я не хотел бы, чтобы рядом со мной был такой человек, совсем нет — игрок, жестокий игрок, игруля, как это сказано у Попова.
Ещё одна просьба о Бёлле. С удовольствием.
«Что вы можете сказать о творчестве Криса Бохджаляна?» Ничего. Извините, правда не знаю.
«В лекции «Техника текста» Самуил Лурье говорил о необходимости писателю слышать свой внутренний голос и добавлял, что это не так-то просто. Что вы думаете об этом? И можно ли прислать текст?» Текст прислать можно, я всегда этому рад.
Как вам сказать? Я это не так формулирую. Писатель, наверное, должен слышать свой внутренний голос, это хорошо для эссеиста, но надо уметь слышать чужие голоса, надо уметь слышать чужую жизнь. Вот это не последнее дело. Вообще писатель должен слышать какофонию внутренних голосов, он должен слышать своего Джекила, своего Хайда, а свой внутренний голос… Понимаете, а где у вас гарантия, что это именно он? Точно так же, как когда вы видите ангела, где гарантия, что это не бес? Внутренний голос важно слышать лирическому поэту. Как говорил Окуджава: «Я перестал писать стихи, потому что мне надоел мой лирический герой». А вот прозаику надо слышать хор. Мне кажется, это гораздо важнее.
Сейчас, подождите, тут ещё ряд важных соображений. Много добрых слов, спасибо вам.
«Не было ли у вас ощущения, что Сикстинская капелла, расписанная Микеланджело, — это грандиозный кич?»
Никогда не было. Просто нам сейчас часто… Я знаю много людей, которым всё классическое, всё великое, всё когда-то бывшее кажется кичем. Ну, я слышал, как одна писательница, негодуя, говорила Дмитрию Александровичу Пригову: «Ну что такое ваш Сорокин? Я тоже могу писать, как Сорокин!» На что он ей отвечал: «Теперь, когда так пишет Сорокин, уже писать так не штука. Вопрос был, чтобы научиться так писать до». Микеланджело кажется кичем, когда он уже открыл то, что открыл. Но в момент, когда он это открывал, это было абсолютным открытием, абсолютной новизной и небывалым свершением.
«Что русскую литературу отличает, например, от немецкой или американской, кроме того, что она написана на русском языке?»
Она очень молодая и по-подростковому в хорошем смысле наглая. И её любимый приём — это взять западную форму, как берётся такая хорошая лайковая перчатка, и набить её изнутри мосластым огромным кулаком так, чтобы она трещала по швам. Так формы и приёмы Диккенса берёт Достоевский, который вообще охотно берёт то, что плохо лежит. (Многие, кстати, просят лекцию по Достоевскому. Не готов я сейчас портить отношения с таким количеством его фанатов. Хотя, конечно, рано или поздно это придётся сделать.) Так Толстой берёт форму романа Гюго и наполняет её своим корявым, непостижимым содержанием. (В следующую субботу буду об этом лекцию читать в Англии.) И точно так же обстоит дело с Пушкиным, который ориентируется на Байрона, с Лермонтовым, который ориентируется на Гёте, во многих отношениях с Жуковским, который ориентируется на английских сентименталистов. У каждого есть такой ориентир, и каждый выворачивает эту перчатку наизнанку, если угодно.
«Как попасть на ваш вечер в субботу?» Очень просто. Пароль — волшебное слово «Один». Вечер будет в ленинградской капелле.
«Чем можно объяснить зависание в Интернете зрелых людей? «Оцифрована, околдована, с Интернетом навеки повенчана, ты сидишь, к монитору прикована, хотя с виду ты взрослая женщина!» Или это только в нашей стране?»
Нет, что вы? Во всём мире погружение человека в мир социальных сетей гораздо глубже, но только там эти социальные сети нужны не только для общения, но и для совершения самых дешёвых покупок, для поиска оптимальных скидок. Это у нас в Интернете так раздут болезненно политический и литературный сегмент. Во-первых, потому что практически нет быта или бытовая часть развита хуже. Во-вторых, потому что 90 процентов российского населения, по моим ощущениям, выбирают товар в магазине, а не в Интернете, а процентов 30 вообще в Интернет не вхожи. Мне кажется, ещё причина в том, что в условиях отсутствия публичной политики и какой-никакой гласности Интернет берёт на себя слишком большую нагрузку. А поскольку «в подполье можно встретить только крыс», как мы помним от генерала Григоренко, Интернет накладывает ещё и очень серьёзный отпечаток подпольности.
«Что вы думаете о Джонатане Франзене?»
Уже сказал. Считаю его великолепным сатириком, но довольно посредственным мыслителем. Понимаете, когда он берётся писать социальную сатиру, жестокую, с элементами фантасмагории, то получаются «Поправки». А дальше он чувствует себя обязанным соответствовать уровню «Поправок» и пишет сначала «Свободу» (неплохой роман, но уже вязкий), а потом «Purity» — роман, где есть прекрасные страницы, но как целое эта идея чистоты, по-моему, не состоялась. Что он имеет в виду под «purity»? Я не убеждён, что это концепция растущей невинности, простоты, даже глупости, может быть. Вот если бы этот роман назывался «Innocence» («Невинность»), было бы, наверное, смешнее. Я не очень понял, какое содержание он вкладывает в это понятие, что для него олицетворяет героиня. Хотя читается это очень хорошо, это очень забавная книжка.
«В советское время произведение Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву» оценивалось высоко. На ваш взгляд, эта книга понятна современным школьникам? Чем объясняется скептическое отношение к ней со стороны Пушкина и Достоевского?»
Ну где же у Пушкина, простите, скептическое отношение? Он, наоборот, пытался в «Современнике» напечатать своё «Путешествие из Москвы в Петербург», блистательную статью, но ему это запретили, сказав, что имя Радищева справедливо забыто и не надо о нём напоминать. Он пытался таким образом напомнить.
Два очень важных и ценных аспекта имеет книга Радищева. С одной стороны, это интересное приключение жанра — приключение жанра травелога, превращённого в страшный обзор русской внутренней жизни; путешествие из Москвы в Петербург как путешествие по России… Вернее, из Петербурга в Москву. Почему это путешествие из Петербурга в Москву? Потому что он абсолютно точно заметил вектор: петровская Россия, европейская Россия скатывается в азиатчину. И хотя, конечно, параллель между Петро Примо и Катариной Секундой была очевидна не только на постаменте памятника, а многие говорили о некоторой параллельности, но, конечно, её вектор был противоположен. Она, конечно, тащила Россию в Азию, в глубь, в рабство, ничего не поделаешь.
«Messieurs, — им возразила
Она, — vous me comblez», —
И тут же прикрепила
Украинцев к земле.
Перечитывать надо А.К. Толстого. Поэтому мне кажется, что «Путешествие из Петербурга в Москву», во-первых, точно угадывает вектор.
Во-вторых, потрясающий образ автора — трогательного, беспомощного! Не забывайте, что Радищев — самоубийца. Вот тоже не может не сказать человек. Всё видит, всё понимает, понимает свою участь, но не может не сказать. Пылкий, неумелый, риторический, архаичный, наивный до слёз, но прекрасный автор! Радищев — одна из самых трогательных фигур в русской литературе.
«Поскольку вы бывали в Южной Америке, — ну не так уж я там и бывал, я кроме Перу и Венесуэлы бывали очень мало где, — у меня вопрос про Мексику, — вот там никогда не был. — В американских фильмах её часто показывают как страну-кошмар: без закона, с коррупцией, властью мафии. В то же время от знакомых я слышал, что им там очень нравится — полная свобода. Что же такое Мексика на самом деле?»
Знаете, из того, что я читал про Мексику, лучшая книга — это роман одного из моих любимых авторов, Хьортсберга [Hjortsberg]. Он написал «Падшего ангела», из чего получилось «Сердце ангела». Хьортсберг — вообще очень хороший автор. Это его последний, новый роман «Mañana». Он такой тихий автор, литературный затворник, его мало кто знает. Но, ребята, такой Латинской Америки, которая описана там, я просто нигде не встречал! Он ужасно точный. Это такой роман, как сновидение. Там даже непонятно, насколько реально всё, что происходит с героем, очень уж легко он убивает. И вообще сильная книга. Понимаете, даже сюжет её не важен, а важна вот эта атмосфера жаркой, туманной, влажной, преступной, неловкой, детской страны. В общем, очень здорово!
Услышимся через три минуты.
РЕКЛАМА
Д. Быков― Ну, ещё пара-тройка вопросов — и переходим к Платонову, которым абсолютным большинством (28 против 15 и 10) победил.
«Ваше мнение о творчестве Жюля Верна? Его предсказания по поводу оружия массового уничтожения сбылись? А ведь капитан Немо — это люден. Правильно ли я понимаю?»
Во всяком случае это человек, значительно опередивший своё время. Он как раз человек очень традиционной культуры, он индус, но он как раз показал (вот это великолепная догадка Верна), что, непосредственно шагая через головы современников, будущее прорастёт из архаики. Вот корни русского модерна, например, в иконе, корни русского авангарда в XVIII веке. И капитан Немо — человек предельно традиционной культуры, который вот так шагнул в будущее. Может быть, как раз низкий старт архаической культуры является лучшим стартом для прыжка в будущее. Ну, как японцы, например, как Акутагава, который, отталкиваясь от традиции, улетел так высоко. Да, наверное.
«Как вы оцениваете «Александрийский квартет» в частности и Лоренса Даррелла в общем?» Никогда не мог читать. Слушайте, странное что-то. Ну вот так скучно! Наверное, потому что я никогда не был в Александрии. Надо съездить.
«Как вы относитесь к роману Войнич «Сними обувь твою» («Сними свои башмаки»)?»
Мне когда-то очень нравилось, вообще нравилась вся трилогия об Оводе. «Прерванная дружба» нравилась. Но, конечно, «Овод» — это детская проза, совершенно. И не стоит отдельную лекцию об этом делать. Судьба ужасно интересная. Евгения Таратута вдруг открыла, что автор знаменитого «Овода», которая вдохновляла Островского, жива, и вступила с ней в переписку, и даже, помнится, пыталась её привезти в Советский Союз. И понятия она не имела, что для Николая Островского «Овод» был самой вдохновляющей книгой. Да, это интересная история, но я ничего про неё такого интересного сказать не могу.
«По Домбровскому, Запад пытался прикрыться от Сталина Гитлером. Пытается ли он Путина прикрыться Трампом?»
Очень интересная мысль. Нет, я не думаю, что Запад пытался прикрыться от Сталина Гитлером, хотя эта концепция Домбровского, взятая из романа «Обезьяна приходит за своим черепом», довольно изыскана. Но, конечно, суть не в этом. И Домбровский, и Эренбург написали об одном и том же — о том, что западная цивилизация оказалась пуфом, она оказалась хрупка, её победил фашизм поразительно легко. А вот советскую цивилизацию он не победил. Сейчас, мне кажется, наблюдается принципиально другая история: советская цивилизация, как всегда, оказалась уязвимой для внутреннего врага, а американская — у неё прочный иммунитет от Трампа. Вы не беспокойтесь, Трамп не будет президентом. В противном случае, как мы уже знаем, четверть Америки эмигрирует.
«Вы говорили о Пратчетт, Адамсе, Вудхаусе. Читали ли вы в оригиналах или в переводах?»
Естественно, я Вудхауса читал в оригинале, потому что мне интересно было понять, что делает с ней Наталья Леонидовна Трауберг, Царствие ей небесное, потому что она гениальный переводчик, и, может быть, она сумеет, казалось мне, как-то из этого абсолютно жидкого текста сделать шедевр. Но это не удалось даже ей. Я не люблю Вудхауса, он как-то меня страшно… Я не понимаю, как можно это читать. «Вот он был ангел». Ну, если ангелы таковы, то не знаю. Действительно, в раю — климат, в аду — общество.
«Нападение на Каляпина — это плевок в правозащитников или в президента?» Да это вообще плевок против ветра.
«Ваше мнение о творчестве Бориса Виана?»
Серёжа Козицкий, друг мой и прекрасный переводчик, когда-то мне сказал, что лучший роман Виана — «Осень в Пекине». В общем, я должен признаться, что это так. Но я больше всего люблю «Пену дней». А мне нравится и «Сердцедёр» очень сильно. Вообще, как вам сказать? Он такая сентиментальная, трогательная фигура. Я песни его обожаю, в особенности «Барселону», ну и знаменитого «Дезертира», конечно, и «Я сноб» («J’suis Snob»). Нет, ну Виан прелестный, его нельзя не любить. Он такой длиннолицый, такой издевательский, насмешливый, беспомощный, сентиментальный. Вот «Пену дней» я знаю наизусть. Я прочёл рецензию Адмони — и тут же кинулся добывать эту книжку в журфаковской библиотеке в гениальном переводе Лунгиной. А «Пожарники» — какой рассказ! Слушайте, нет, Виан — это чудо! Если есть люди, которые его не читали, то немедленно бегите и открывайте это для себя!
«В «Судьбе человека» пьянство вызывает восхищение врага и спасает герою жизнь. Аналогичная ситуация есть в «Ветре» Лавренёва. Случайное ли это совпадение?»
Я не думаю, что Шолохов читал Лавренёва. «Ветер» написан до «Судьбы человека», насколько я помню. Нет, мне кажется, что неслучайно. Просто очень часто в России пьянство становится спасением, таким мифом. Понимаете, когда тебя вербуют в стукачи, всегда говоришь, что ты пьяница, — и от тебя отстанут. Собственно Шолохов спивался, и Сталин его спросил: «Пьёте, как скотина, товарищ Шолохов!» — «А жизнь такая, товарищ Сталин!» Это очень интересно!
«Не могли бы вы прочесть лекцию о «Часе быка» Ефремова?» Давайте, но надо перечитать.
«Вы благосклонно отзывались о книгах Мальгина и Доренко, написанных в жанре политического памфлета, — отзывался. — Читали ли вы подобные вещи Станислава Белковского?»
Ну как же не читал? Конечно, читал. Я считаю, что Белковский — прекрасный писатель! Лучший писатель, чем аналитик. Мы ещё много раз подивимся его… Понимаете, у него отношение к миру литературное. Он и политику воспринимает с точки зрения ритма, циклов, с точки зрения слов, стиля, каких-то дуновений. Он не аналитик ни в какой степени, он прекрасный писатель. И я очень его приветствую.
«Что вам известно о молодёжной антисоветской организации в романе Терехова «Крымский мост»?»
Я очень высоко ценю этот роман, который изначально назывался «Недолго осталось», а потом стал называться «Крымский мост»…То есть он не «Крымский мост» называется, конечно, а «Каменный мост», так что вы не совсем правы. Роман «Каменный мост» непосредственно отсылает, конечно, к Трифонову — и стилистически, и по названию. «Дом на набережной» — это его продолжение, как река времени, наступившего после. Так называемое «дело волчат», вот этот антисоветский центр среди советской элиты — было ли это, не было ли этого, сейчас вам уже никто не скажет. И версия, которую Терехов там выстраивает, для меня лично совершенно не убедительна, но она художественно очень интересна. Это жутко интересно! И самое интересное, что именно в среде элиты всегда ищут антисоветский заговор, потому что именно в среде элиты чувство собственного достоинства таково, что здесь возникает протест.
«Когда лекция о Балабанове?» Будет.
Последний вопрос: «Что вы можете сказать о дневниках Георгия Эфрона, о нём и его отношении к войне, к матери? Можно ли снять про него фильм? И имеем ли мы право читать вещи, написанные не для чужих глаз?»
Георгий Эфрон — один из героев моего романа «Июнь», но там он очень сильно замаскирован, как и сестра его Аля, главная героиня этой книги. Я к Георгию Эфрону отношусь с глубочайшим состраданием. Так получилось, что действительно сложные существа, высокоорганизованные существа имеют затянувшееся детство. Он был инфантилен и жесток по-детски с матерью и отцом. Сестру он любил очень. Но он начал взрослеть после смерти матери быстро, и у него появилось сострадание, широта и доброта. Если бы вы знали, как я сочувствую Муру 1942 года, Муру в Ташкенте, который начал воровать, и его поймали на этом. И он имел мужество и честность описать это в дневнике и с потрясающей силой это пережить! Он вырос бы крупным писателем, я думаю, великим писателем. И он человек больной совести. И он всё время пишет: «Как я теперь понимаю Марину! Как я понимаю Марину Ивановну». Я думаю, он был немножко такой с Аспергером. Действительно, то, что он называет её Мариной, а не матерю… У него было очень сильное отстранение, он был эмоционально холодноват. Но под гнётом страшных испытаний, которые в его душе так осуществились, он стал другим человеком, конечно.
Тут ещё очень важный вопрос: почему я плохо отношусь к «Евангелию» Толстого, из которого изъято чудо? Объясню вам. Потому что для меня чудо — это важнейший способ воспитания человека. Понимаете, человека воспитывает шок, потрясение. Это может быть трагический шок, например, как в случае Георгия Эфрона, Мура. Это может быть шок радостный от чуда. Но без чуда воспитание не может произойти. Чудо — это мощнейший инструмент формирования человека. Если этого чуда не происходит, не происходит человек. Поэтому изъять чудо из Евангелия — это значит изъять из него позвоночник.
Ну а теперь поговорим об Андрее Платонове.
Андрей Платонов — может быть, действительно единственный настоящий гений русской прозы XX века. Не потому, что он создал собственный стиль, а потому, что он приковал взгляд читателя к новому феномену. Это феномен массы. Главный герой Платонова — масса. Главная жажда, главное намерение всех его персонажей — это слиться в единое коллективное тело, как бы ионизироваться, превратиться в этот ионизированный газ, войти в то состояние, которое… ну, в такую человеческую плазму, если угодно, которая есть четвёртое состояние вещества. Когда одиночки становятся толпой, даже перестают быть толпой — это особый вид толпы, это такой действительно коллективный телесный персонаж, коллективный разум, единое тело. И всегда, как это ни удивительно (а особенно это русское явление, конечно), Россия к этому безумно стремится — вот в это состояние впасть. Она им опьяняется, она им восторгается. У Абдрашитова и Миндадзе был гениальный фильм «Магнитные бури» о том, как ионизируется эта масса, а на следующий день забывает, что с ней было («А что это мы делали?»), вообще не понимает.
Платонов ранний, весь до «Епифанских шлюзов», ещё имеет дело с личностями. Но недостаточность личностей — это одна из главных его тем. Личность слишком физиологична, слишком физиологически обусловлена. Отсюда — его отношение к сексу, который делает человека… который рисуется ему рабством, если угодно, потому что зависимость от тела для него мучительна. Надо преодолеть эту зависимость в слиянии, в этом коллективном экстазе!
Его главная тема, рискнул бы я сказать, — это превращение людей в народ и стартовые условия этого превращения. Понимаете, вот то, что мы любим у Платонова, как правило — рассказы об отдельных людей, такие как «Третий сын», «Река Потудань», «Фро», — это всё-таки поздний, такой сжиженный Платонов. Настоящий Платонов — это «Чевенгур», конечно, высшая точка, «Чевенгур» и «Котлован». Это история об удачном, неудачном, неважно, но о стремлении массы превратиться в этот единый, идеальный газ, в единую плазму. Ионизация же не всегда происходит, так сказать, по позитивному сценарию и только в результате коллективного какого-то вдохновения. Иногда она проходит под действием толпозности, стадности, желания травли и так далее. Просто наслаждение от этого таково…
Понимаете, ведь Новороссия — тоже платоновская тема. Это мучительная, пусть с негодными средствами, но это попытка опять стать народом, вот высечь из себя эту искру. И наша ли вина, что это заканчивается так, и что это так происходит, и что это всегда сопряжено с достаточно серьёзными человеческими жертвами. Иногда это же бывал и ещё экстаз коллективного строительства, коллективного созидания, а не только война, не только захваты, не только вторжения. Иногда это бывало, как это описано в «Чевенгуре», — попытка создать небывалое государство. Там тоже, кстати, к сожалению, это закончилось истреблением кулацкого элемента. Но ужас весь в том, что есть эта жажда коллективного Чевенгура, жажда осуществиться. Без очередной дозы Чевенгура страна как бы впадает действительно в ломку, она просто не успевает слезть с иглы. Я, кстати, думаю, что некоторые элементы состояния Чевенгура можно найти во Франции, например, времён Великой революции. Но в основном это, конечно, наше.
Я в своей статье, которая вышла сейчас в «Дилетанте», как раз там Платонов… Видите, почему-то интерес к нему совпал у вас и у редакции. Вообще, сейчас очень многие перечитывают Платонова, видимо, пытаясь в нём увидеть какой-то ответ на современные вопросы. И действительно мы жаждем стать плазмой. Не Путин виноват, мы жаждем вот этого экстаза. Он тоже, конечно, много сделал для того, чтобы люди испортились. Но их жажда слиться — это необязательно порча. Это желание освободиться от Я, потому что Я смертно, Я ответственно, а русские очень любят этот коллективный экстаз, желание превращаться в эту единую плоть. Я прекрасно понимаю, что говорить о Платонове в рамках десятиминутной лекции бессмысленно, потому что люди жизнь посвящают этому человеку. Но я говорю о том, что меня больше всего в нём напрягает и волнует.
Прежде всего, конечно, все обращают внимание на трагедию платоновского языка. Как говорил Бродский: «Трагедия — это не когда гибнет герой, а когда гибнет хор». Это зацитировали точно так же, как зацитировали его хрестоматийное сравнение насчёт того, что Набоков с Платоновым соотносятся так же, как канатоходец со скалолазом. На самом деле мне кажется, что там, где Набоков исследует запредельные, тонкие свойства личности, там Платонов исследует свойства массы. Я бы не стал кого-то одного ставить выше другого. Просто Платонова читать труднее, а Набокова приятнее. Вот сразу и получается, что Платонов лучше. Но на самом деле, конечно, я бы их не стал как-то…
Для меня, конечно, платоновская трагедия языка состоит именно в таком же превращении речи в плазму, в смешении всех слоёв. Действительно, это такая смесь нейтрального европейского слога (вот если взять «Епифанские шлюзы»), официозного языка, галлицизма, какой-то любовной и пейзажной лирики. Можно процитировать:
«На планшетах в Санкт-Петербурге было ясно и сподручно, а здесь, на полуденном переходе до Танаида, оказалось лукаво, трудно и могущественно. Перри видел океаны, но столь же таинственны, великолепны и грандиозны возлежали пред ним эти сухие, косные земли. Овсяные кони схватили и понесли полной мочью, в соучастие нетерпеливым людям».
Вот эта языковая плазма, которая отражает стремление народа так же слиться, — она и есть главная отличительная черта платоновского почерка. А главный конфликт «Епифановских шлюзов» буквально двумя фразами задан:
«Казалось, что люди здесь живут с великой скорбью и мучительной скукой. А на самом деле — ничего себе».
Вот это и есть самое точное определение русской жизни: «На самом деле — ничего себе». То ли потому, что привыкаешь, то ли потому, что вид этих просторов сам служит лекарством, то ли потому, что здесь иначе жить нельзя. Эта русская жизнь страшна, но по-своему уютна. Вот это ощущение страшного уюта где-то глубоко в Платонове живёт.
В «Епифанских шлюзах» высказана очень точная мысль. Ведь там что происходит? Там, когда начали строить эти каналы, пробили глину, пробили водоносный слой — и после этого вода ушла, и одни пески засасывают. У Платонова высказана страшная мысль, мне кажется, о том, что какой-то косный слой русской жизни («косные земли»), что этот слой революция пробила, и что-то безвозвратно ушло, вода ушла — и теперь мореходство по этим землям быть не может.
Что касается «Чевенгура», то это такой сложный синтез разных текстов, разных жанров: тут и «История одного города», тут и роман-странствие «Кому на Руси жить хорошо», и вообще все странствия Серебряного века, начиная с «Серебряного голубя» и кончая скалдинским или чаяновским путешествиями. Помните, у Чаянова было «Путешествие моего брата Алексея в страну крестьянской утопии»? Вот это тоже такое предвестие «Чевенгура». Все герои этих текстов стремятся действительно выйти из себя, смешаться с толпой, превратиться в часть коллективного государства.
Чевенгур — это общность совершенно нового порядка. Здесь человек преображается физически, и он становится иным, и ему нужен другой мир с другими физическими законами. Это страна блаженных, в таком классическом смысле, страна юродивых, идиотов. С точки здравого смысла (вот как Сталин пытался читать Платонова), «Чевенгур» читать вообще нельзя: это гротеск, абсурд, насмешка. Сталин и Горький в частности, они видели издевательства там, где была апология. Им казалось, что Платонов издевается, а он это возвеличивает, он этим упивается на самом деле! Даже в «Котловане». Ведь «Котлован» — это антиутопия только потому, что там изображена вот эта русская жизнь, из которой ушёл её плодоносный, водоносный слой. Там всё насильственно, всё поперёк.
А Чевенгур — это же добровольная, прекрасная утопия, это такой позитив. Это русская концепция счастья. Во-первых, в Чевенгуре не надо работать: труд ненавистен самой человеческой природе. Вот Дванов пытается сделать машину, которая будет работать за всех (а Дванов — как раз самый позитивный герой). Она не работает, но она в идеале у Платонова должна. Во-вторых, нет традиционной семьи — все со всеми. И в-третьих, периодически надо кого-то убивать, потому что без этого нет настоящего счастья: коммунизм без горя не бывает, без крови ничего не делается.
И если мы увидим вдумчиво русскую утопию, то её черты постоянные: презрение к труду, отказ от семьи во имя коммуны, презрение к сексу, предпочтение интеллектуальной и классовой близости — и сверх того вера в творческую и связующую силу крови. Убивать как-то получается действительно интересней, чем строить:
«Теперь жди любого блага, — объяснял всем Чепурный. — Тут тебе и звёзды полетят к нам, и товарищи оттуда спустятся, и птицы могут заговорить, как оживевшие дети, — коммунизм дело нешуточное, он же светопреставление».
Вот тут возникает вопрос: а кто те таинственные казаки, которые в конце концов захватили Чевенгур и убили Копёнкина? Просто русская утопия всегда заканчивается тем, что прибегают какие-то таинственные всадники и уничтожают всех. Я подозреваю, что это так предугадан так называемый «русский реванш» — реванш националистических, косных и зверских сил в 30-е годы. А Чевенгур сам по себе — это 20-е. Чевенгур — это страна той утопии… «Я вижу конские свободы и равноправие коров» Хлебникова, Заболоцкого. Можно будет действительно построить новый мир — мир, в котором всё управляется словом.
Время там действительно не движется, сюжет стоит. И вообще очень быстро возникает такое чувство в Чевенгуре, что ты попал в тифозный бред русского мастерового. И даже есть такая версия, что Дванову это всё привиделось действительно. Но если какая-то проза и способна отразить русскую мечту, то — вот:
«Кирей знал, что ему доверено хранить Чевенгур и весь коммунизм в нём — целыми; для этого он немедленно установил пулемёт, чтобы держать в городе пролетарскую власть, а сам лёг возле и стал приглядываться вокруг. Полежав сколько мог, Кирей захотел съесть курицу, однако бросить пулемёт без призора недопустимо — это всё равно что передать в руки противника, — и Кирей полежал ещё некоторое время, чтобы выдумать такую охрану Чевенгура, при которой можно уйти за курицей».
Вот это и есть такая утопия. Понимаете, при всей её наивности, видимо, призыв её силён, потому что мы всё время жаждем слиться в коллективное тело, ощущая свою человеческую недостаточность. Вот Платонов — поэт этого слияния. И пока жива эта мечта, жива и эта утопия.
Услышимся через неделю.
*****************************************************
25 марта 2016
-echo/
Д. Быков― Добрый вечер, дорогие друзья! В студии «Один», вместе с вами Дмитрий Быков.
Что нам сегодня ждёт? Я очень долго думал над выбором темы лекции. Пожеланий много. Много пожеланий, чтобы она была длиннее. Спасибо. Но мне как-то больше хочется отвечать на вопросы, поэтому она остаётся достаточно короткой. Ничего не поделаешь, живого контакта с родной аудиторией сейчас у всех не так много. Но было одно пожелание для меня, которое… Знаете, как «Эта книжка небольшая // Томов премногих тяжелей», так для меня одно пожелание иногда перевешивает сотни других. Позвонил мне Евгений Марголит, мой учитель в кинематографе (ну, в кинокритике, во всяком случае), наверное, главный российский киновед, хотя не хочу его ссорить с коллегами, и, во всяком случае, главный специалист по советскому кинематографу. И он спросил меня, что я думаю о творчестве Ивана Катаева, которого, оказывается — узнал я об этом с ужасом! — в постсоветское время вообще не переиздавали.
Он был репрессирован, вы знаете. Даты его жизни: 1902–1937 гг. Он был перевалец. Это была такая попытка сохранять верность литературе, оставаясь формально на советских позициях. Довольно известна его ранняя повесть «Сердце» (на мой взгляд, не очень удачная). Совсем забыта, но, по-моему, гениальная новелла «Ленинградское шоссе», о которой мы будем говорить. Довольно много у него рассказов очень высокого качества. Он был репрессирован, его травила критика всю жизнь.
И почему я собственно о нём вспомнил? Мы говорили о Платонове. И вот Марголит сказал поразившую меня вещь, что в некотором смысле Катаев — это альтернатива Платонову, хотя это тоже честный писатель. И я поговорю сегодня о нём, потому что воскрешение этого совершенно забытого имени, совершенно затенённого однофамильцем… Хотя они даже ни разу не родственники. Иван Катаев был двоюродным братом академика Колмогорова, математика. Но, конечно, об этой фигуре, совершенно забытой, мне кажется, гораздо более важно поговорить сегодня, поэтому лекция будет о нём. Просто хочется привлечь внимание, страшно сказать, к грандиозному и страшно недооценённому писателю. Я вообще очень редко завидую другим авторам, но, когда я по совету Марголита перечёл «Ленинградское шоссе», то каждая строчка вызывала у меня просто лютые комплексы! Может быть, это очень полезное для писателя состояние.
Я начинаю с конца отвечать на форумные вопросы, потому что к концу сконцентрировались, как всегда, самые интересные.
«Что вы можете сказать о президенте Назарбаеве как о политике и человеке?»
Ничего, к сожалению. Я не знаю его лично как человека, а как политика, слава богу, тоже, потому что я не имею опыта… Слава богу — потому что, понимаете, я не имею опыта жизни в других республиках, и мне поэтому вполне хватает моего российского опыта. Я о Назарбаеве судить не берусь. Ну, может быть, я сейчас подчитаю — и тогда выражу некоторое мнение.
«Может ли графоман быть талантливым?»
Может быть даже гениальным. Понимаете, Андрей, в чём здесь штука? Я много раз цитировал это высказывание Луначарского, где он говорит: «Если бы Хлебников родился в другое время, он не был бы замечен вовсе». Иногда человек, которого считают безумцем (как Хармса, например), может оказаться в 30-е годы гением, потому что, как и многие безумцы, он с гораздо большей чуткостью и гораздо раньше ощущает катастрофические перемены. Родись в другое время Ахматова, она могла бы просто не состояться. Родись в другое время Маяковский, он мог бы стать правильным поэтом… И у него были такие шансы, его ранние стихи такими и были. В общем, никогда не поймёшь, никогда не знаешь. Поэтому то, что сегодня кажется графоманией, завтра может быть объявлено гениальным. Очень многое из того, что проходило по разряду «графомания» в 70-е годы, позднее оказывалось шедеврами. Я уже не говорю о том, что такая проза, как, например, проза Павла Улитина, или, допустим, проза любого из петербургских авангардистов, или стихи их — это могло показаться клинической графоманией в 40-е и 50-е годы.
Тут вопрос о Владимире Уфлянде, как я к нему отношусь. Я считаю, что Уфлянд — хороший иронический поэт, абсурдист. Скажем, Иртеньева я считаю гораздо более сильным поэтом, но Уфлянд — это такой чуть менее советский представитель пятидесятников, вот этого пятидесятнического послеоттепельного поколения, который в 60-е, на мой взгляд, ничего равного своим первым стихам не создал. Но вот Уфлянд по меркам 40-х годов котировался бы наравне, например, с Глазковым, которого одни считали гением, а другие — безумцем и графоманом. Здесь, к сожалению, границы размыты. Я считаю, что графоман очень часто может оказываться гением.
«Ваше мнение о фильме «Орлеан»?»
Роман Арабова нравится мне больше. Он, по-моему, стилистически более целен. Но Прошкин-младший поставил себе задачу — размыть границы стиля, — и поэтому, наверное, вся эклектика этой картины, даже некоторая китчевость её, входила в авторскую задачу. Я хорошо отношусь к фильму «Орлеан» — во всяком случае лучше, чем к фильму «Левиафан». Он кажется мне, так сказать, более интересным, более экспериментальным, более весёлым просто.
«В последнее время вы часто говорили о Юрии Домбровском. Я наткнулся в Сети на фильм «Шествие золотых зверей», где в титрах стоит имя Домбровского, и в сюжете есть следы его мотивов, хотя фильм — откровенная совковая белиберда. Как мог появиться такой фильм?»
Он очень запросто мог появиться. Понимаете, у Домбровского действительно… Я видел этот фильм ещё во времена, когда он только вышел. Мне было одиннадцать лет, и я вынужден был его смотреть, потому что в пансионате, где я отдыхал, других развлечений (по вечерам, во всяком случае) не было. Я посмотрел эту картину. До сих пор помню, что там речь идёт о похищении скифского золота или чего-то вроде этого. Это такой детектив, при этом люто скучный и действительно люто советский.
Но, видите ли, у Домбровского было три формы советского заработка. Одна — иногда печатали его очерки о художниках, по преимуществу алма-атинских. Вторая — печатали его статьи для иностранной прессы, где он пытался объяснить, популяризовать как-то… Ну, была такая форма заработка тоже — популяризаторские статьи для иностранцев. И он там умудрился протащить очень многие свои мысли, в частности свои замечательные взгляды на эволюцию цыган. А третья форма заработка… Да, ещё я забыл внутренние рецензии, потому что Домбровский очень многие прекрасные тексты успел спасти как внутренний рецензент.
И ещё одна форма его советской, так сказать, легальной работы была — это сценарии к советским документальным или художественным лентам. И он действительно написал как абсолютную халтуру этот сценарий «Шествие золотых зверей», от которого осталось очень мало. Но он был на съёмочной площадке, и его там все обожали. И об этом, кстати говоря, содержится упоминание в рассказе «Ручка, ножка, огуречек». Помните, редактор фильма, которая ему звонит и спрашивает, жив ли он. Это действительно след его работы над этой картиной. Домбровский очень искренне пытался вписаться в советское кино. Если бы этот сценарий был поставлен так, как он написан, могла бы быть прекрасная картина.
«Михаил Веллер, выступая на «Эхе», высказался о классической русской литературе и её преподавании в школе. Хотелось бы услышать ваше мнение. Русская литература в наши дни действительно ничему не может научить?»
У меня была статья «Молчание классики», где говорилось о том, что эта Атлантида действительно уже утонула, во всяком случае это уже отколовшаяся льдина. И очень многие проблемы русской классики действительно нам сегодня недоступны — прежде всего потому, что мы безнадёжно измельчали. Как вы знаете, нанотехнология как раз занимается свойствами, которые изменяются в зависимости от размера кусочка вещества. Некоторые нанокуски обладают совсем другими свойствами, нежели макро. И мы — такая нанопыль в отношении героев русской классики. Среди нас есть нано-Раскольниковы с совершенно другими свойствами, нано-Печорины.
Но я думаю всё-таки, что я тогда поторопился, потому что большинство коллизий, хотя и с поправкой на масштаб, сохраняют свою актуальность. Так, например, наиболее актуальный автор сегодня — Достоевский с его как раз еврейским вопросом, восточным вопросом, статьями о балканском вопросе, о русской проблематике. Очень много подпольных людей вылезли наружу и стали диктовать правила. Можно сказать, что подполье сегодня из маргиналов уверенно перешло в большинство, и эти подпольные типы, достаточно забавные, начинают сегодня диктовать культурную и эстетическую нормы. Вот этот социальный феномен показывает, что русскую классику (во всяком случае, в её публицистической части) рановато списывать со счёта. Другое дело, что роман «Бесы», например, сейчас читается совершенно иначе. Ну и так далее.
«Если вера в чудо является неотъемлемой частью каждой религии, что, по-вашему, стоит ближе к подлинно религиозному чувству: вера в эксцессы, то есть нарушение «естественного» хода вещей, или вера в чудо самого миропорядка, то есть восприятие обыденного как чуда?»
Блистательный вопрос! Спасибо вам, badeaux. Когда-то Кушнер об этом написал довольно точно:
Какое чудо, если есть
Тот, кто затеплил в нашу честь
Ночное множество созвездий!
А если всё само собой
Устроилось, тогда, друг мой,
Ещё чудесней!
Мне ближе восприятие эксцесса, отвечаю честно. Мне кажется, что восприятие обыденности как чуда — здесь очень велик момент самоубеждения, самогипноза. Чудо тем и чудо, что оно выбивается из обыденности и отличается от законов природы. Здесь мне близка пастернаковская точка зрения:
Найдись в это время минута свободы
[У листьев, ветвей, и корней, и ствола,]
Успели б вмешаться законы природы.
Но чудо есть чудо, и чудо есть Бог.
Когда мы в смятенье, тогда средь разброда
Оно настигает мгновенно, врасплох.
Я именно против понимания чуда как обыденности. Я уверен, что чудо — это то, что оказывает, кстати говоря, сильнейшее нравственное и эстетическое действие. И вообще, кстати говоря, эстетика ближе к чуду, чем этика. Чудо — это явление эстетическое, это нарушение законов жанра. И я больше всего люблю вот этот момент внезапного чуда, потому что я убеждён: только с помощью чуда можно воспитать этику. Иногда это бывает жестокое чудо. Но если человек может им восхититься или с ним примириться, или попытаться его понять, а не начинает сразу его топтать ногами, тогда он воспитуем, тогда у него есть перспективы.
На вопросы о себе я стараюсь сейчас не отвечать (в смысле — о своих сочинениях), потому что тут интереснее про другое.
Спрашивает dsa1962: «Какие только вопросы не ставит и не пытается на них ответить литература. И «что такое хорошо и что такое плохо?», и «что есть истина?». А вот ответ на главный, с моей точки зрения, — «зачем это всё?» — я нашёл только у Лимонова. Да и не ответ это, конечно, а предположения. Не подскажете ли, кто ещё предпринимал такие попытки?»
Знаете, попытки предпринимали все. Лимонов, конечно, не единственный, кто ответил на вопрос «зачем всё?». Мне кажется, что лучше всего на этот вопрос ответил Блаженный Августин, уж если на то пошло. Я вам рекомендую девятую, одиннадцатую книги «Исповеди», где он подходит напрямую к ответу на этот вопрос. Излагать я его не буду — просто потому, что это лишить вас удовольствия от чтения. Если вам интересует моё мнение, зачем всё, то оно очень простое: умножать количество человеческого в последовательно бесчеловечном мире. Человек — не часть мира; он противопоставлен ему. И надо как-то по мере сил, мне кажется, этому противостоять.
Достаточно интересный вопрос: «Увидел в Харькове афишу…» — спрашивает iskremas. Приятно, что человек смотрел «Гори, гори, моя звезда» Митты. «Увидел в Харькове афишу «Гражданина» на 27 марта с вашим именем, купил билет. Слушал рекламу проекта — Ефремов есть, Орлуша есть, а ваше имя не называется. Я вообще-то собирался идти на вас. Проясните, пожалуйста. Виктор».
Дорогой Виктор, дорогой iskremas, поясняю. Я давным-давно не работаю в проекте «Гражданин поэт». У нас есть с Ефремовым другой проект — «Стихи про меня», — где я комментирую стихи, а он их читает. Иногда по старой памяти мы принимаем заказы из зала и пишем какие-то стихи во время этих вечеров (я пишу), но это, как правило, уже стихи не политические, а заказывают теперь в основном какие-то лирические или филологические экзерсисы. И я с удовольствием всегда это делаю, потому что людям приятно смотреть на процесс импровизации, и это тоже одна из таких чисто эстетических радостей. Если она доступна, почему этого не сделать, фокус такой? Но наши с Ефремовым выступления теперь называются «Стихи про меня», а проект «Гражданин поэт» существует сам по себе. Он существует с Орловым. И, по-моему, он неплохо себя показал.
Кстати, очень многие тоже обсуждают вопрос: можно ли сейчас ездить выступать на Украину? Вот перечисляется список людей, в том числе моих кумиров, которые едут на Украину выступать. Понимаете, если запретить людям выступать на Украине, то это очень далеко можно зайти. Вот я собираюсь, кстати, устроить в июне, как уже было, бесплатный поэтический вечер в Одессе, в «Зелёном театре», чтобы за билет никто не платил (больше 2 тысяч человек тогда пришло) и чтобы я ничего за это не получал — не потому, что я боюсь упрёков в корысти, а потому, что мне хочется в Одессе читать стихи, это само по себе награда. Отрубить от себя эту часть аудитории — украинскую, как раньше грузинскую — мне кажется, это неплодотворно.
И мне кажется, что люди, пытающиеся за это подвергать остракизму других, а иногда и провоцировать их напрямую, как было в случае с Земфирой, — ну, это свинство, по-моему. Когда какое-нибудь доверенное лицо или любимец одного из региональных лидеров (не будем называть имён) едет выступать в ночном клубе на Украину за деньги — значит, это хорошо, потому что он человек лояльный. А стоит человеку сколько-нибудь независимому поехать туда выступать — и сразу начинаются совершенно огульные упрёки со стороны очень небольшой, но очень громкой, очень вонючей части аудитории, которая кричит: «А там вот людей жгли! А там вот убивали стариков и детей! И ты едешь перед ними выступать?»
Во-первых, всю Украину превращать во врагов — это, мне кажется, просто ещё одно развитие вот этой же националистической тактики: всё хорошее немедленно превратить в противоположность, всё немедленно изувечить, страшно увеличить количество зла в мире; не слушать американцев, не слушать англичан, объявить Led Zeppelin «музыкальными графоманами», как сделал недавно автор одного хита 70-х или 80-х годов. В общем, это нормально, конечно, но это значит просто превратить сероводород уже в доминирующий газ в атмосфере. Не нужно этого.
И когда я слышу со всех сторон, что «ещё один национал-предатель поехал выступать на Украину»… Простите, но люди, которые это делают, мечтали бы свою зловонную нору, нору своего сознания распространить на весь мир. Мне кажется, что это чудовищно. И все эти разговоры, что «едут за бабками на Украину». Едут на Украину просто потому, что там огромная часть аудитории, и очень важная.
Вот мне, например, тут пишет ещё один автор… На этот вопрос мне хочется ответить отдельно. Сейчас, подождите, я его найду, потому что он попадался мне совершенно точно. Ой, господи… Я должен его найти, чтобы зачитать буквально, потому что уж очень это на самом деле характерно. Там речь шла о том… Сейчас, может быть, я просто не найду этот вопрос конкретно. А, вот!
Некто aksfor: «Дмитрий, неделю или две тому назад я спросил вас о незаконности и последствиях отторжения Крыма Украиной в 1954 году. Вы до сих пор не ответили». Действительно ужас! Как же я посмел? «Учитывая, что у вас сейчас выступления в Украине, готов снять свой вопрос». Не снимайте, у меня сейчас выступление перед вами в прямом эфире. Но это я не потому говорю, что хочу отделиться и отречься от выступающих там Ефремова и Орлуши, совершенно нет. И у меня там выступлений нет, таков акт. «Любой ваш ответ был бы неуместным». Ну конечно! При таком вопросе, как ваш, любой мой ответ неуместен на фоне вашей правоты. «Если бы Вы согласились со мной, это противоречило бы вашим прежним сочинениям, вы испортили бы свою репутацию и бизнес в Украине, вас туда просто бы не пустили».
Друг милый, какой бизнес в Украине у меня? Вот расскажите, пожалуйста, о нём поподробнее, мне это действительно очень интересно. Мало того что у меня нет никакого бизнеса в Украине, я стараюсь сейчас все свои выступления в Украине сделать бесплатными, чтобы ни одна, простите… Ох, не хочу этого! Ну, чтобы ни одно… Опять! Ну, чтобы ни один… живущий (простите, пожалуйста) не мог бы меня упрекнуть в корысти. Вот именно поэтому. Я вообще-то считаю, что труд писателя, художника, лектора должен оплачиваться. Я не обязан бесплатно распинаться перед всеми желающими, которые послушают-послушают, а потом ещё и обругают. Нет конечно. Но я хочу сейчас, чтобы мои выступления в Украине (или на Украине, как вам больше нравится) выглядели абсолютно по этой части прозрачными, и даже не просто прозрачными, а идеалистическими, я бы сказал, то есть чтобы вообще там не было никаких гонораров и чтобы вы всегда могли это проверить.
Я ещё раз говорю… Как сказано в «Фаусте» (которого вы, конечно, не читали): «Нам ваше общество — вознагражденье». А может, читали, но просто не поняли, потому что иначе вы бы не задавали этого вопроса. А особо мне понравилось насчёт «вас туда бы просто не пустили». Вы много знаете случаев, когда в Украину не пускали бы людей, которые считают Крым нашим? Ну, расскажите мне об этих случаях, правда. Разве что они начинали бы это кричать на таможне.
«Несогласие с моими очевидными утверждениями, — конечно, все ваши утверждения очевидны! — поставило бы вас в глупое положение. Но вы можете хотя бы убрать из своих произведений опрометчивые упоминания Крыма». Вот завтра сяду и начну вычёркивать! Завтра! Понимаете, это просто будет моя первостепенная задача! Написал человек на форум «Эха Москвы» — и я немедленно кинулся вычёркивать из моих произведений все упоминания Крыма! Почему глупость и самомнение всегда ходят об руку? Ну объясните мне это, пожалуйста! «Очень жаль, что ваш блестящий и живой ум оказался в плену заблуждений. А вдруг вы решитесь и ответите?» Решился и отвечаю.
Кстати, мне особенно нравится «отторжение Крыма Украиной в 1954 году». Это потрясающая терминология! Можно по-разному оценивать это решение, которое далеко не только Хрущёв легитимизировал, и не только Хрущёву оно принадлежало. Но «отторжение Крыма Украиной в 1954 году»? Дорогой слушатель, совершенно явно вы очень сильно путаетесь в теории.
А что касается того, кого могут туда пустить, не пустить, у кого там бизнес. Понимаете, иногда всё-таки не нужно приписывать оппоненту самые низменные мотивировки. Иногда люди просто хотят общения с аудиторией. И люди, которые ездят выступать туда сейчас (в Киев или в Харьков), как раз поступают согласно провозглашённой доктрине объединения Русского мира. Русский мир хочет слушать русские стихи, русские песни. Русский мир хочет сохранить общих кумиров и общие ценности. А те, кто этому мешают, они как-то другой мир строят — какой-то антирусский.
Очень смешной вопрос про загадку «Евгения Онегина», про то, что семьи Лариных и Онегиных находились в давней вражде, заложниками которой оказались Евгений и Татьяна.
«Знакомы ли вы с «Миррским циклом» Максима Рабиновича?»
Не Рабиновича, а Шапиро. Я не знаю, может быть, его настоящая фамилия Рабинович, но тогда я не совсем понимаю, с чего бы ему брать такой псевдоним. Как в известной фразе «два мира — два Шапиро», принципиальной разницы нет. «Каково ваше отношение к принципам, которые озвучены в этих рассказах?»
Я не люблю «Миррский цикл». Я когда-то по чьей-то наводке это прочёл, и мне это не понравилось совсем — просто потому, что это, на мой взгляд, плохо написано. Что касается попыток социальной фантастики, которые решают земные проблемы на неземном материале. Мне кажется, что раннее социальное фэнтези Юлии Латыниной уже закрыло эту нишу. «Миррский цикл» просто для меня эстетически настолько неубедителен, что все здравые мысли, там содержащиеся, если они там есть (я в этом не уверен), мне кажутся в достаточной степени скомпрометированными чрезвычайно плоским изложением.
«Все говорят, что надо референдум в Крыму с наблюдателями, — что-то Крым у всех зачесался страшно. — Скажите, кто россиян спросит, нужен ли нам Крым? Ведь это дотационный регион, и деньги идут из нашего бюджета. Почему же мы, россияне, должны их кормить?»
Было «Хватит кормить Кавказ!». Был такой тезис, осуждаемый всеми. И я тоже его осуждаю. Теперь появился тезис «Хватит кормить Крым!». И это понятно, потому что кризис всех накрыл, достал постепенно. Братцы, я скажу, наверное, страшную вещь. Дело в том, что референдум в России (недавно об этом Ольга Крыштановская совершенно правильно написала, но не совсем об этом, а вообще о кризисе российской социологии) сейчас, мне кажется, не может верифицировать ни одно решение, потому что либо этот референдум проводится неправильно, либо он проводится с нарушением закона, либо он проводится с такой формулировкой вопроса, что она предполагает готовый ответ.
Мне кажется, что сейчас не референдумами будет решаться судьба. Для того чтобы референдум мог быть сколько-нибудь легитимен и сколько-нибудь релевантен, он должен, по крайней мере, проводиться в стране, где уважают чужое мнение, где это мнение хоть раз что-то решило, где хоть раз общественный протест что-то изменил. А пока маргинализация всех протестов приводит нас к тому, что большинство автоматически формируется телевизором. Мне кажется, что в этих условиях о референдуме говорить неверно.
«Чем терроризм савинковского толка отличается от современного, если брать не идейную составляющую, а именно как приём? — спрашивает manaslu. — Тот факт, что «Народная воля» действовала против государственных лиц, чиновников, определяло лишь то, что на тот момент это имело больший резонанс. Позже вся их идеология была оправдана советской властью. Как относились к ним современники?»
Отношение современников вам известно, главным образом благодаря Леониду Андрееву. Тут интересно другое: почему главной фигурой в повести… вообще в русской повести о терроре стал провокатор? Вот это самый интересный вопрос. Не потому, наверное, что Азеф — такая уж фигура привлекательная. Внешность его была не героическая, откровенно противная, а поведение — того хуже. Я думаю, причина в ином. И вот об этой причине, равно как и о разнице между тем терроризмом и этим, мы с вами поговорим через три минуты.
РЕКЛАМА
Д. Быков― Доброй ночи! Продолжаем разговор в «Один».
Мне тут очень понравился пришедший только что на почту вопрос: «Только что видела вас в кафе на Новом Арбате, вы сидели с Эткиндом. Но ведь этого быть не может! Он в Америке». Нет, Эткинд не в Америке. И я действительно сидел с ним. Что же вы не подошли? Ему было бы очень приятно, что узнали его. Тут спрашивают о моём отношении к нему.
Александра Эткинда я считаю крупнейшим современным российским мыслителем — именно мыслителем, не только филологом, не только психоаналитиком, не только историком, хотя он пишет преимущественно как историк. Его книга «Хлыст» или биография Буллита, вышедшая в издательстве «Время» и сейчас выходящая по-английски, или его гениальная, на мой взгляд, книга (сколько я ни разбрасываюсь этим словом, но не могу от него отказаться) о внутренней империи, о паразитической империи. Я считаю, что Эткинд — это сегодня крупнейшее явление и в литературе, и в общественной мысли.
Собственно, завтра можно будет его послушать просто живьём. Во-первых, он не в Америке, а в Италии, если уж на то пошло, он во Флоренции преподаёт. А во-вторых, можно будет послушать его завтра, насколько я понимаю, в «Мемориале», это в Каретном Ряду. И потом он обещал пойти в «Фаланстер». Он приехал презентовать книгу, которая называется «Кривое горе» (кажется, «Кривое горе», потому что я читал её по-английски), «Кривая скорбь» — о непохороненных, о комплексах, связанных со страданием и смертью в белорусской, русской, украинской культурах, в славянских культурах. Вообще это очень интересно. Видимо, действительно там можно будет его потрогать и убедиться, что — да, это он.
Продолжаю отвечать на вопрос о тогдашних террористах.
Понимаете, ничего общего у террориста того с террористом нынешним нет, потому что всё-таки надо анализировать не сходство методов. А методы, кстати, были у них всё-таки совершенно другие. Они же не устраивали взрывы в местах массового скопления людей в надежде запугать русскую цивилизацию. Ничего подобного они не делали. Они уничтожали точечно отдельных врагов режима, которые провинились, допустим, какими-то особенными зверствами, типа: высечь несовершеннолетнюю или оскорбить как-то страшно, заставить всех вставать политических при появлении надзирателей и так далее. Ну, разные были унижения и разные поводы для мести. Или действительно они пытались сделать террор по возможности не слишком травматичным для ни в чём не повинных масс.
Но если говорить о принципиальной разнице, то это… Помните, как внучка декабриста сидит у окна в Петербурге… в Петрограде 1917 года и спрашивает горничную: «Голубушка, что там на улице шумят?» — «Да митинг, чтобы не было богатых». — «Как странно… Мой дед хотел, чтобы не было бедных». Это такой классический русский коан, я бы сказал.
Точно так же и здесь. Понимаете, если сегодня террор направлен против цивилизации, против свободы, против доверия, главная цель террора — распространить на весь мир всё ту же свою зловонную нору, то тогда это было не так, тогда вектор был прямо противоположный. И люди, которые тогда шли на террор, отличались, в общем, конечно, наивной и по большей части глубоко ошибочной, но верой в то, что главной целью человечества является социальный прогресс. Вот они пытались социального прогресса добиваться такими способами — запугивая сановников.
Это, конечно, привело в результате к тому, что действительно самой востребованной, самой знаковой фигурой в литературе стал провокатор. Это человек, которому абсолютно очевидна ошибочность и того, и другого учения; он понимает обречённость царизма, но понимает он в каком-то смысле и обречённость революционного дела. Вот этот мудрый змий, про которого та же Слепакова… Я часто её цитирую, но что поделаешь, это мой любимый поэт и учитель. Вот у неё как раз сказано о провокаторе:
Сам над собою вельзевулясь,
В геенну гонит лихача…
Подпольщик, тонкий конспиратор,
Чтоб замести свои следы,
Заняться вынужден развратом —
Употреблением еды.
Это такое абсолютно издевательское стихотворение о тонком конспираторе, который «в геенну гонит лихача». Это человек, который любуется собой прежде всего (горьковский Карамора). Это человек, который наслаждается своей сложностью, который играет, конечно, и этой игрой наслаждается — и актёрской, и политической. В очерке Алданова «Азеф» как раз очень точно показаны внутренние механизмы этой личности. Поэтому по-настоящему интересная фигура в России — это медиатор, промежуточный этот случай, который измывается и над теми, и над этими.
Как раз вчера я в Лондоне с Акуниным об этом поговорил. Я спросил, кто прототип Пожарского в «Статском советнике». Он сказал, что прототипов много, но вернее всего — Судейкин. Судейкин как такой человек, который играет и нашим, и вашим, который замечательно описан, кстати, у Давыдова в «Глухой поре листопада», — это интересная фигура для русской литературы. Фигура очень подлая. Но она потому интересна, что фанатик патриотического свойства, лояльный, фанатик-лоялист и фанатик-террорист одинаково плоски и одинаково обречённые. Вот об этом, пожалуй, стоит задуматься.
А то, что тогдашний террор ничего общего не имеет с нынешним террором — это, по-моему, совершенно очевидно. И те люди, которые оправдывают сегодняшних террористов (а есть и такие, вы не поверите), тревожа при этом святые тени Сазонова (Авеля) или Марии Спиридоновой, — ну, ребята, это просто какой-то… Как говорил Пушкин: «Ничто так не враждебно точности суждения, как недостаточное различение».
«Недавно прочёл «S.N.U.F.F.» Пелевина и начал читать «Любовь к трём цукербринам». Мне неприятно говорить такое о любимом авторе, но всё последнее в его творчестве слабее. Неужели наша реальность стала настолько абсурдной, что её лучший «камертон» теперь транслирует собственные фантазии вместо разоблачения существующих реалий, хотя и абсурдных?»
А что толку разоблачать сегодняшние реалии? Сегодняшние реалии разоблачают сами себя. В некотором смысле Пелевин, как раз транслируя собственные фантазии, героически противопоставляет этому вырождению какие-то свои попытки что-то сделать. Другое дело, что эти попытки мне, например, так же скучны, как и пересказ чужих галлюцинаций. Но всё-таки это лучше, чем по сотому разу повторять разоблачения реальности. Реальность сама себя уже разоблачила. Что о ней говорить? По-моему, это уже совершенно неинтересно.
«В прошлой передаче обсуждался вопрос, сколько в нас от нас, а сколько — от природы (работа клеток, гормонов и так далее). Сколько в нас от нас, а сколько — от родителей? Начинаю всё больше замечать в себе черты папы, мамы (хорошие или плохие — неважно), само наличие которых приводит в смятение. Как так? Вроде ты личность — а вдруг уже орёшь на кого-то, попутно вспоминая, что в таких ситуациях и папа всегда ругался».
Знаете, с годами особенно это проступает. С годами особенно начинаешь понимать какие-то свои черты, их отражение, начинаешь находить в себе гены и с ужасом думаешь: «Я столько раз говорил, что я никогда не повторю того-то и того, а повторяю!» Знаете, это всё равно что зарекаться стареть. Говорят: «Я никогда не буду старым». Будешь, голубчик! И всё, что сопутствует старости, ты будешь делать. Я думаю, что это не столько поколенческое, не столько генетическое даже, а сколько просто возрастное. Поневоле вспоминается:
Я обычно как напьюсь,
Головой об стенку бьюсь.
То ли вредно мне спиртное,
То ли просто возрастное.
— как сказал замечательно Иртеньев. Ничего страшного нет в том, чтобы зависеть от генов. Да, я считаю, что примерно на две трети мы предопределены генами, а на треть — свободной волей, средой, обстоятельствами и так далее.
Я вообще уверен… Я знаю, что многие сейчас не согласятся. Ну, что же делать? Иногда надо выражать какие-то свои мысли. Я говорю, что человек рождается в значительной степени готовым. Я, наблюдая за развитием собственных детей, это понял. Практически все черты, которые они проявляли до двух лет, ещё даже толком не заговорив… Уже их характер был готов, был предопределён, уже всё про них было понятно.
И я не думаю, что человек настолько хозяин своей судьбы. Я недавно девятому классу (вру, десятому) объяснял различие между роком и судьбой на примере «Мороз, Красный нос» — поэмы о русском роке. И удивительно, что им это очевидно. Вот я говорю, умные пошли дети. Они сразу говорят: «Судьба — это то, чего ты можешь быть хозяином». Судьба — это твой инструмент. Ты лепишь её. Но рок (во всяком случае, в античном понятии) — это нечто непреодолимое. Мне кажется, что то, что мы родились — это уже непоправимо. Ну и ничего такого плохого.
«Как вы отличаете хороший перевод от добротного, особенно если это поэзия?»
Видите ли, если переводчик старается «переиродить Ирода» (транслируя старое выражение Шекспира), я это всегда чувствую. Не буду называть имён, но это всегда понятно. Если переводчик разбивается в лепёшку, чтобы его не было видно, а видно было автора, как делает Голышев, — вот это, по-моему, идеально. Как делал Владимир Харитонов — изумительный переводчик, в частности Фицджеральда. Как делал это, например, Стенич. Мне кажется, что это высокая, жертвенная профессия — вложиться в перевод так, чтобы видно было автора. Блистательным переводчиком в частности был Иван Киуру, когда он переводил Тудора Аргези. Аргези — очень трудный автор для перевода (я подстрочники-то видел). Гениально переводил, кстати говоря… Ну, я не буду выстраивать такой ряд, потому что с чем сравнивать несравненное, как говорится. Но Пастернак, переводящий Рильке, — это какое-то чудо самопожертвования! Потому что весь синтаксис Пастернака меняется, когда он переводит «По одной подруге реквием». Это действительно гениальный перевод, величайший!
Из поэтических переводчиков лириков я мог бы назвать, наверное… наверное, мог бы назвать… Сейчас, подождите. Подскажите кто-нибудь (хотя я могу сейчас, конечно, по Сети посмотреть), кто переводил лирику вагантов и написал совершенно блистательный роман «Разбилось лишь сердце моё». Фамилии всё-таки я иногда забываю, потому что, понимаете, когда есть iPhone, зачем так много помнить? Сейчас я это наберу. Но вообще поэтический перевод демонстрирует очень часто всё-таки высокое самоотречение. Михаил Яснов, переводящий Аполлинера, — действительно, по-моему, совершенно блестящий переводчик. И Яснова не видно, а видно Аполлинера…
А, Лев Гинзбург, конечно! Лев Гинзбург. Вот говорят, что Гинзбург был невероятно тяжёлым человеком. Не могу об этом говорить. Хотя я с дочкой его, кстати, хорошо знаком — с Ириной Гинзбург, женой замечательного композитора, не будем уж называть… Ну, всё-таки признаюсь, что Журбина. Лев Гинзбург был очень непростым человеком. Ну, если опять-таки не путаю ничего. Если путаю — поправьте. Гинзбург был человеком очень непростым, но тем не менее его переводы лирики вагантов — это какое-то феноменальное перевоплощение. И «Валленштейна» Шиллера он совершенно замечательно переводил и радовался, как крепко, как по-народному у него это получилось.
Я уже не говорю о том, что пастернаковский перевод «Фауста», хотя на нём лежит, конечно, сильная тень (вот в этом случае лежит) и пастернаковской лексики, и пастернаковских интонаций, но Гёте у него впервые заговорил по-русски. Послушайте, ну не Холодковского же читать, в конце концов, не Брюсова же. Перевод Холодковского очень хорош, но он невыносимо тяжеловесен. А посмотрите, что сделал из этого Пастернак:
Им не услышать следующих песен,
Кому я предыдущие читал.
Круг посвящённых стал с годами тесен,
И, признаюсь, мне страшно их похвал,
А прежние ценители и судьи
Рассеялись, кто где, среди безлюдья.
Может, я тут вру что-то, но всё равно вот это — голос Гёте, ничего не поделаешь, его ни с чем не перепутаешь. Так что чем меньше переводчика в тексте, тем это и лучше.
«Как вам Александр Амфитеатров?»
Я неожиданную вещь, наверное, вам скажу: он был неплохой прозаик. И поэтому когда, желая меня оскорбить, меня с ним сравнивают, говоря о плодовитости, о беллетризме, о журнализме… Во-первых, он был довольно храбрым фельетонистом. Не буду уж вам напоминать про «Господ Обмановых», это фельетон не первого разбора. Но Амфитеатров был неплохой прозаик, между нами-то говоря (во всяком случае, значительно лучше, нежели Боборыкин). Я, честно, изучал второй ряд русской литературы, и даже третий. Когда-то Леонид Филатов сказал: «Такие фигуры второго ряда, как Станюкович, могли бы составить славу любой европейской литературе». Могли бы, да. Потому что у нас много всего, мы богатые.
Я согласен, что Амфитеатров — это интересное явление. Ну, явление не меньшее, чем в своём жанре Аверченко, чем Тэффи, чем Потапенко даже. Хотя, когда начинаешь читать Потапенко после Чехова, это всё равно, что после моря бродить по болоту. Но Амфитеатров — интересный, неплохой. Да даже Крестовский — неплохой автор. Крестовский был, конечно, в конспирологических своих построениях полным, прости господи, кретином. Вот этот его «Кровавый пуф» — знаменитый роман о том, как полячишки и жиды губят Российскую империю. Но, в конце концов, его «Петербургские трущобы» — это далеко не худший образец конспирологического и, если угодно, даже уголовного романа. И всё-таки Крестовский заслужил свои часы, подаренные ему императором. «Кровавый пуф» интересно читать. К тому же он был, насколько я помню, когда-то то ли главным полицейским в Варшаве, то ли ещё каким-то важным чином. В любом случае он знал материал. Он забавный такой был.
Дальше мы идём. Извините, у меня постоянно здесь сбиваются всякие полезные настройки, и поэтому я иногда просто не попадаю на форум. Но я, тем не менее, сейчас поотвечаю на крайне интересные вопросы, пришедшие в письмах, потому что почта сегодня настолько увлекательная и, по-моему, гораздо более интересная, чем все наши форумные посиделки. Да, тут ещё, естественно, спрашивают меня очень многие, готов ли я поехать выступать в Грузию. Да, готов. Почему же? Я даже рассчитываю там быть на поэтическом фестивале в мае. Мне кажется, это очень важно, чтобы и там слушали.
«Ваше мнение о современной молодёжной поэзии, в частности об Ах Астаховой?»
Ну, Ах и Ах. Что тут скажешь? Я знаю, что Ах Астахова высказала обо мне какое-то хорошее мнение, и я вроде как теперь её ругать не должен. Но, в конце концов, не всегда же надо платить взаимностью? Ах Астахова существует примерно в том же жанре, что и Андрей Дементьев. Это, наверное, почётно. Пусть лучше люди читают её, нежели не читают ничего, но к литературе, на мой взгляд, никакого отношения это не имеет. Сергей Лавров тоже хорошие стихи пишет.
Катя Зильберг: «При чтении комментариев меня не оставляет ощущение некой шизофреничности авторов, во всяком случае расщеплённости их сознания. Группа берёт из общего контекста одну фразу и начинает её мусолить в абсолютном отрыве от всего сказанного. Это особенность расщеплённости современного бессознательного?» Екатерина, друг мой, это назвал Алексей Иванов «пиксельностью», такой раздробленностью мышления. Ничего в этом дурного нет, мне кажется, ничего ужасного, ничего ненормального.
«Ваше отношение к поздней лирике Вознесенского, в частности к поэме «Casino «Россия»?»
Я не вижу большой разницы между ранней и поздней лирикой Вознесенского. И та, и другая, по-моему, очень тщательно отбирали реалии… в общем, работали с современностью, работали с современными реалиями, вплавляли их в стихи. Я Вознесенского люблю и считаю его большим поэтом. Очень плохо отношусь к людям, которые поверхностно, не зная его толком, обзывают его то «витриной советского шестидесятничества», то «экспортным вариантом авангарда», то «наследником третьесортного футуризма».
У Вознесенского было несколько стихотворений исключительно высокой пробы. Я скажу даже странную штуку. Совпадаю я здесь, кстати, с другим очень хорошим критиком, часто мною упоминаемым — Владимиром Ивановичем Новиковым. Я люблю у Вознесенского… Это как сказано у Вознесенского: «Я люблю в Консерватории не Большой, а Малый зал». Я люблю у Вознесенского не ранние вещи, не поздние, а 70-е годы, больше всего — сборник «Соблазн». Я люблю его трагические стихи, стихи времён глубочайшего экзистенциального кризиса, когда он написал, например, «Уездную хронику» — стихотворение, которое, кстати говоря, мой сын включает в свои чтецкие программы с моей тяжёлой руки. По-моему, он единственный человек, который правильно это читает. Ну, бог с ним. Всё равно он меня сейчас не слышит, и испортить его этой похвалой я не могу.
Я очень люблю эти стихи, иначе я бы не стал их никому навязывать. «Уездная хроника», «Девочка с удочкой, бабушка с удочкой». Потом, по-моему, совершенно гениальные стихи о Михаиле Рощине:
Как божественно жить, как нелепо!
С неба хлопья замёрзшие шли.
Они были темнее, чем небо,
и светлели на фоне земли.
Мне очень нравится его поэма «Андрей Полисадов», в которой отрефлексировано удивительным образом русское религиозное чувство и предсказаны многие проблемы нынешнего православия. Вот это:
И летят покойники и планеты по небу:
«Господи, услышь меня, услышь меня кто-нибудь».
Это ж твой ребёнок, ты ж не злоумышленник.
Мало быть рождённым, надо быть услышанным.
Это совершенно первоклассная вещь. Если меня сейчас слушает Георгий Трубников, который составил совершенно прекрасный двухтомник Вознесенского в «Библиотеке поэта», то он, конечно, я думаю, со мной солидарен.
И вообще мне кажется, что Вознесенский — поэт недопрочитанный и недооценённый. Потому что внешние какие-то проявления — крик Хрущёва, полускандальность его славы, ученичество у Пастернака — в общем, биография немножко его заслонила. Хотя он всю жизнь говорил, в том числе и мне в интервью, что он старался быть поэтом без биографии, чтобы было видно не его, а стихи. Вместе с тем я думаю, что по-настоящему нам предстоит ещё позднего Вознесенского прочесть, потому что… Ну, помните:
Вот две башни, как два пальца,
Над Москвой торчат, грозя.
Уркаган блатной пытается
Небу выколоть глаза.
Это очень классно! Нет, он был молодец. Я любил его весьма.
Просят лекцию о Шефнере. Я читал много Шефнера уже в программе. Я попробую. Кстати, если вас действительно интересует живой Шефнер, то сейчас вышла в Петербурге прекрасная книга Александра Рубашкина, она называется «В доме Зингера» (или «Вокруг дома Зингера», точно не помню). Александр Рубашкин — очень хороший петербургский филолог, критик. Там про Абрамова интересно, про которого тут тоже спрашивают. Интересно про Бродского. Но самое интересное там про Шефнера. Вот я там его почувствовал живого, хотя я знал его живого и видел много раз. Конечно, вы не достанете эту книгу, потому что там тираж какой-то совершенно смешной, но если мимо вас поплывёт книга воспоминаний Рубашкина, вы там про Шефнера прочтёте удивительно точные и добрые вещи.
Очень много вопросов про Владимира Бортко и про «Собачье сердце». Сразу скажу, тут есть очень интересный вопрос, где сказано, что Бортко не показал себя сталинистом, потому что он им и был. Я попробую… Ну, имеется в виду — был, когда он экранизировал «Собачье сердце», потому что это вещь… Вот это очень глубокая мысль. Спасибо вам, Олег, за это соображение. Потому что действительно… Ох, это большая тема! Ну, мы её начнём до перерыва, а потом продолжим.
Понимаете, вечный вопрос о том, почему был разрешён «Тихий Дон» — книга ведь антисоветская по самой сути своей. Кстати говоря, во многих отношениях с нынешних позиций, пожалуй, что даже и русофобской можно было её назвать. «Тихий Дон» был разрешён, как замечательно сформулировал один мой школьник, потому, что это наглядная демонстрация. Если с вашей бочки снять стальной обруч, она мгновенно превратится вот в это, она рассыплется. Если у вас не будет царя, ваше общество превратится в кровавую кашу. «Вам необходим я, потому что иначе вы при первом сигнале срываетесь в самоистребительную бойню». И в этом смысле Сталин мог понять «Тихий Дон» как роман о необходимости авторитарной власти. Да, такой ход мышления у него мог быть. Он поэтому и разрешил.
Я думаю, что Булгаков вообще стоял на монархических позициях и на абсолютно сталинистских. Конечно, объектом ненависти в «Собачьем сердце» являются Швондер и компания — то есть идейные большевики, в значительной степени евреи, вот эта вся комиссарщина 20-х годов, которая так ненавистна людям 30-х годов. Страшно сказать, но у Пастернака ведь есть эти же ноты. Там сказано, что он ликвидировал «предшествующего пробел»:
Уклад вещей остался цел.
Он не взвился небесным телом,
Не растворился, не истлел…
Уклад вещей при Сталине остался цел. Грех себя цитировать, но у меня же было там сказано: «Когда людям 30-х кажется, что это вправляют вывихи, на самом деле это ломают кости». Конечно, позиция Булгакова абсолютно совпадает со сталинской. Это позиция профессора Преображенского, который сделал из собаки человека, а потом переделал обратно. И русская история — такой профессор Преображенский, преображающий всех вокруг себя — она ровно это сделала в 30-е годы. Кстати говоря, предсказала это именно Зинаида Николаевна Гиппиус, которая сказала:
И скоро в старый хлев ты будешь загнан палкой,
Народ, не уважающий святынь!
И это произошло — в диктатуру обратно, в тиранию обратно загнали всю страну; Преображенский опять расчеловечил свою собаку, потому что с псом ему показалось проще. Понимаете, он понял… Ну, я не знаю, что он понял. Может быть, он понял, что Шариков необучаем. А может быть (и это гораздо печальнее), он понял, что его способностей, способностей Борменталя и способностей Зины не хватает на то, чтобы этого Шарикова чему-то обучить.
И когда Бортко называет себя Шариковым — это не самоуничижение, а это как раз довольно глубокое понимание булгаковской повести. Во всяком случае то, что эта повесть сталинистская, скажем так, бессознательно сталинистская, векторно сталинистская — я, пожалуй, готов с этим согласиться, хотя это звучит жестоко. В общем, как всегда всякая правда в литературе звучит жестоко, но с этим приходится согласиться.
Продолжим через три минуты.
НОВОСТИ
Д. Быков― Продолжаем разговор. «Один», Дмитрий Быков. Я отвечаю на вопросы в письмах.
Даниил спрашивает: «Знакомы ли вы с творчеством таких авторов, как Джозеф МакЭлрой [McElroy], Уильям Гэсс [Gass] и Роберт Коовер [Coover]?»
Вы, конечно, выбрали самых сложных авторов, пишущих сегодня по-английски, рискну сказать — по-американски, потому что это, конечно, американская metafiction, американский гиперроман. Что вам сказать? Понимаете, я вас должен разочаровать. Джозеф МакЭлрой — это явно не герой моего романа. Дай бог ему здоровья, ему будет скоро 86 лет. Эти авторы все живы. И даже Гэсс в прошлом или позапрошлом году, уже на пороге девяностолетия, издал роман «Middle C», который я не смог читать при всём желании. Ну, это мы сейчас обсудим.
Я знаю, что главным произведением МакЭлроя и, насколько я помню, 16-м в мире по длине, если брать количество страниц в романе, считается его роман «Мужчины и женщины». Я затрудняюсь, честно вам скажу, назвать человека (во всяком случае, живьём я такого не видел), который бы этот роман читал. Там в 70-е годы жизнь одного нью-йоркца, который живёт рядом с девушкой, которая его соседка в таком многоквартирном доме или пансионе. Они там снимают квартиру, он снимает одну, она — другую. И он один раз решился к ней постучаться, но передумал. И так они и не встретились. Весь роман — 1300 страниц — о том, как они не встретились. Там гигантские флешбэки из 1830-х годов про строительство каких-то первых американских фабрик (кажется, оружейных), там и начало XX века.
В общем, это гигантская книга, в которой часть глав про современный Нью-Йорк — это рассказы, написанные МакЭлроем в разное время и премированные за лучший рассказ, и собранные в результате в такой конгломерат. Другая часть — это главы, в названии которых есть слово «breathe» («дышать»). И эти Breathers (дыхатели) — это ангелы-хранители, которые пытаемы людьми, мучаемы ими, и которые от своего лица всегда в будущем времени повествуют о судьбах. Честно, ни одну из этих глав я не осилил, потому что они написаны длиннейшими фразами.
Кстати, тут поступил вопрос, кто такие Narcons в новом романе Данилевского. Narcons — просто они инопланетяне, которые ведут повествование, такие невидимые существа, которые проникают как бы в структуру текста и в межличностные отношения. Это, конечно, позаимствовано, мне кажется, вот из этих Breathers.
В чём цель написания этого романа, я понять не могу. И даже я вам скажу страшную штуку, Даня. Как мне кажется, иногда бывает сложность ради сложности и объём ради объёма. Вот эту книгу можно было бы остановить на любой странице. Иногда сложность авторского мышления, сложность концепции (как у Уоллеса, например) порождает малочитаемость текста. Классический пример — роман Гэддиса «J R», который, как пьеса Бродского «Демократия!», состоит весь из реплик, непонятно кому принадлежащих, и читатель должен сам это понять. Это внутренний диалог мальчика с раздвоением личности, примерно как в «Школе для дураков», но при этом это ещё и диалоги массы народу (его отца-миллиардера, ещё кого-то). По крайней мере, понятно, что сложность концепции романа диктует сложность его формы. Или как Джойс, который сочиняет «Поминки по Финнегану», потому что он дневной мир описал, а теперь он хочет найти ночной язык. Зачем, с какой стати МакЭлрой конструирует вот эту сложнейшую схему, в общем достаточно произвольную (для меня произвольная — это всегда ругательство) — это один бог ведает.
Что касается Гэсса. Из перечисленных вами авторов Гэсс, конечно, самый интересный. Может быть, потому, что он скорее мыслитель, философ, филолог, нежели писатель. «Туннель» — это считается такой magnum opus, 25 лет сочинявшийся. Это роман про нациста, который гораздо лучше, мне кажется, чем «Благоволительницы» Литтелла. Роман про нациста, который, с одной стороны, роет туннель, с другой стороны — это туннель в его собственной памяти. Это довольно сильное сочинение, грязное, отталкивающее, трудно написанное. Ну, во-первых, оно гораздо короче, всё-таки там 600 страниц. Я не могу сказать, что я прочёл его, ничего не пропуская (и прочёл тоже по настоянию коллег американских), но это сильная книга.
И то, что пишет Гэсс как филолог, то, что он пишет о философской природе метафоры — это интересно, это мысли сложные, но интересные. Они все немножко там больны, конечно, Витгенштейном, но это бог с ним. Витгенштейн — всё-таки, по-моему, единственный настоящий мыслитель XX века, потому что он ставит проблему языка впереди всех других проблем: «прежде чем мы будем спорить о сути, давайте договоримся о языке». Гэсс — очень интересный человек. Третий роман, «Middle C», я не прочёл, сразу вам говорю, ничего не поделаешь (ну, просто есть предел моих способностей), но «Туннель» — это книга выдающаяся. И в ней есть страницы (во всяком случае, ближе к финалу, последние страниц 150), которые, конечно, делают её исключительным чтивом.
Что касается Роберта Коовера. Я честно вам должен признаться, что, невзирая на многочисленные отсылки к его текстам и многочисленные о нём разговоры, даже самый знаменитый его роман — «Всемирную лигу бейсбола» — я не смог читать. Во-первых, я ничего не понимаю в бейсболе. Во-вторых, концепция его слишком для меня экзотична. Что хотите, ребята, но есть какие-то пределы моим способностям и моему воображению. Не пошло, не пошло-с. В другой раз, вероятно. А вот остальных я вам рекомендую.
«Хотелось бы узнать ваше мнение…» На это я ответил. Так, так, так…
Вот очень интересный вопрос, на который я не могу, к сожалению, не ответить, хотя мне совершенно не хочется отвечать на него: «Мне 22, я из Санкт-Петербурга. Хотел задать волнующий вопрос. Я очень полюбил статьи Кашина. Я из-за него увлёкся националистическими взглядами — гуманистический, добрый национализм. Так вот, я в восторге от этих идей. Но я начал замечать, что, смотря каждый день на толпы мигрантов и нерусских лиц у меня в городе, я замечаю, как мой гуманистический национализм перекатывается плавно в настоящий расизм, и это ужасно! Скажите, что вы думаете о национальном государстве русских? Меня это волнует, как и огромный слой моих ровесников. Как вы думаете, нужна нация в принципе? Через 500 лет люди будут над нами смеяться. Это хороший способ сохранить культуру. Сейчас РФ — это недоимперия с сильным национализмом среди нас, меньшинств, а русские просто используются как клей для других народов. Я запутался, колеблюсь. Ценю ваше слово».
Спасибо вам, дорогой друг. Понимаете, вы меня ставите перед действительно очень сложной проблемой. И я бы охотно посвятил этой проблеме остаток программы, но всё-таки, во-первых, моя главная задача — это такое скромное культуртрегерство. А во-вторых, знаете, много чести, наверное, для русского национализма — так много о нём говорить. Потому что национализм — вообще на самом деле, в принципе, это явление довольно архаическое. В общем, это явление отжившее.
Что касается так называемого хорошего, правильного, культурного национализма. Это независимо от того, что я люблю Кашина, люблю его читать, уважаю его за смелость. И, как всегда, мне его открытость, его откровенность в изложении даже заблуждений своих, симпатичнее, чем чужая правота, потому что его анатомия, его политические взгляды, их эволюция мне интереснее, чем сами эти мысли. Мне интересен Кашин, а не его мысли. Он эволюционирует, конечно, и эволюционирует, на мой взгляд, в правильном направлении. Он отходит сейчас от многих своих ранних заблуждений. Но в любом случае Кашин интересен.
Теперь — что касается хорошего и плохого в национализме. Я сам очень долгое время полагал, что возможен национализм, скажем, с человеческим лицом. Другое дело, что большинство людей, которые отстаивали тоже, как мне кажется, культурную идентичность, а не почвенную, — большинство этих людей не могут удержаться на этих позициях, они рано или поздно скатываются в самый откровенный шовинизм. На моих глазах антисемитизм, зависть и комплексы просто сожрали нескольких безусловно талантливых людей, в том числе и из числа моих друзей. Наверное, они сейчас напряглись. Я знаю, что они меня внимательно слушают. Ребята, я не назову ваши имена. Не потому, что много чести, а потому что — какая разница? Ну, можно назвать иначе.
Было несколько писателей, которые сделали себе вот эту прививку — «прививку культурного национализма». Ну, Томас Манн, прежде всего. Он понял очень быстро, чем это кончается. Как совершенно справедливо замечал Михаил Успенский, прочитавший эту книгу (ещё тогда в переводе Никиты Елисеева, ходившего по рукам, и никто не брался это печатать, эти 600 страниц «Размышлений аполитичного»), многие формулировки Томаса Манна по радикализму и по степени агрессии, конечно, опережают Геббельса. Опережают они его и по времени — всё-таки это с 1914-го по 1918 год его публицистика. Да, сделал себе Томас Манн эту прививку, только чтобы доказать, что хорошего национализма не бывает, что культурный национализм, культурная идентичность обязательно скатываются в кровь и почву. Ну, вот хочешь не хочешь, а это происходит!
Мне очень горько об этом думать, потому что я сам долгое время думал: да, возможен такой национализм на почве общей любви к языку, к культуре, национализм как механизм сохранения национальной культуры. Боюсь, что это невозможно. Понимаете, это как невозможно быть для кого-то… Ну, я не знаю, какой здесь привести пример. Помните, Жолковский очень хорошо формулировал в разговоре с Коржавиным: «Ты, конечно, не любишь структуралистов, но давай я буду у тебя хорошим структуралистом». А практика показала, что это невозможно.
Любой национализм, к сожалению, зациклен не на своих проблемах, а он зациклен на понятии чужого, на проблеме чужого. И, к сожалению, любой национализм ставит себе задачи противоположные общему вектору развития человечества. Всё-таки общий вектор развития человечества (я не знаю, хорошо это или плохо, я просто вижу, что это так) — это вектор стирания границ. Поэтому ненависть националистов к глобализации — это нормальная вещь, это нормальная ненависть прошлого к будущему, потому что она отменяет их основания для гордости. Понимаете, любой национализм ищет основания для самоуважения, и ищет он их, к сожалению, в изоляционизме, в том, чтобы отказаться от мирового контекста.
Я благодарен вам за ваше очень милое и откровенное письмо. Вы подписались — Курт. Очень славное письмо. И я благодарен вам за то, что для вас что-то значит моё мнение. Но вы совершенно правильно пишете: «Глядя на мигрантов, я не могу удержаться от ненависти». Раздражение ваше понятно. Но надо просто вовремя понять, что ваша ненависть направлена не на них. Они — просто подвернувшийся для неё объект, первый попавшийся «чужой». На самом деле ваше раздражение, ваша ненависть — они направлены на себя, конечно, на среду, на то, что вам не за что себя уважать, на то, что у вас нет поводов для самоуважения кроме того, чтобы называться русским, татарином или мегрелом, неважно. Имманентные признаки не могут служить основанием для гордости.
Национализм, даже когда он начинается с пропаганды родной культуры и родного языка, он неизбежно… На ранних признаках, понимаете, это так же мило, как мила чахоточная дева. Чахоточная дева бывает очаровательна: и румянец этот, и блеск глаз. Не надо просто забывать, что завтра она превратится в гниль и разложение, как это ни ужасно звучит, в «гнойные бугорки», как пишет об этом Томас Манн. Поэтому начало национализма, как и начало русского славянофильства (когда ещё это славянофильство было культурным, цивилизованным, они с западниками пили чай вместе) — это было прекрасно. А дальше эта раковая опухоль очень быстро разъедает сознание.
Поэтому, к сожалению, никакого пути, кроме абсорбции, кроме как принимать в себя эту культуру и делать её своей, — никакого другого пути нет. На мигрантов надо смотреть, как на потенциальный объект взаимодействия. Вы должны их абсорбировать в свою культуру, иначе ваша культура не может называться великой. Они должны стать вами, а не вы должны стать ими, понимаете.
Мне кажется, что в России вообще очень мало делается для того, чтобы абсорбировать кого бы то ни было в культуру. Тот образ русских, который навязывается сегодня всему миру — «Мы самые добрые, но опасайтесь нас обидеть, потому что тогда от вас не останется даже запаха!» — это не очень привлекательный образ, мне кажется. «Добрый мишка, которого не надо щекотать, и тогда он вас не тронет!!!» — это в очень многих постах со многими восклицательными знаками тиражируется. «А то мы можем своей балалайкой вас и ударить». Это не тот образ России, который нужен. Всё-таки Россия пока ещё не является для большинства привлекательной. Вопрос в том, чтобы сделать её привлекательной.
И настоящий национализм, о котором вы говорите, заключался бы всё-таки в том, чтобы сформировать вот такой образ нации, который был бы для всех бесконечно привлекателен. Но ещё раз подчёркиваю: это не называлось бы уже национализмом. Я всё-таки настаиваю на том, что стирание границ не означает унификацию. Понимаете, то, что блондин и брюнет живут вместе, не делает их пегими. Они остаются блондином и брюнетом, но они не усматривают в этом оснований для самоуважения! Вот и всё.
«Как вы полагаете, отношения Эдгара По и Вирджинии Клемм говорят о его педофилии? Или с художника спрос иной? Ведь если бы эта история произошла сегодня, По был бы зачислен в ту же когорту, что и Роман Полански».
Видите ли, то, что Джульетте было 14 лет, не делает Ромео педофилом. То, что Данте увидел Беатриче, когда ей было 12 или 13, тоже не делает его педофилом. Во-первых, это другая эпоха. Во-вторых, другая история. В-третьих, отношения По и Вирджинии начались значительно позже, чем он её увидел и влюбился. Другое дело, что Вирджиния просто умерла очень рано, она не успела побыть его женой, она всего два года провела в этом статусе.
«Что вы думаете о прозе Леонида Бородина и в особенности о повести «Ловушка для Адама»?»
Я люблю прозу Леонида Бородина. Это героический человек, сидевший в лагере вместе с Синявским, кстати; русский националист, который умел как раз уважать и чужое мнение, и чужое происхождение, и другую прозу, если она талантлива. Я не говорю конкретно о «Ловушке для Адама», её мне надо бы перечитать, но вот «Женщина в море» — это замечательная проза. Бородин, кстати, как и очень многие русские националисты, такие ученики и последователи Леонида Леонова, он имел чрезвычайно скептическое мнение о человечестве в целом и вообще считал человечество проектом неудавшимся. Отсюда и его такое мнение об изначальной греховности человеческой природы и необходимости внешних скреп. «Ловушку для Адама» следовало бы мне перечитать. Но она, по-моему, написана всё-таки похуже, чем «Женщина в море». Вообще ранняя проза его была очень хороша. Бородин после перестройки редактировал журнал «Москва», напечатал там много не только чудовищных, но и неплохих текстов. Я видел его несколько раз, слышал на творческих вечерах. Главное — он производил всё-таки впечатление глубокого внутреннего страдания, какой-то подлинности. То есть, когда он ругал человеческую природу, он не наслаждался этим, а от этого страдал. Это для меня очень важная разница.
«Что такое ничтожество? — спрашивает Инна. — Допустим, ты кого-то уважаешь, почитаешь, любишь, но вот он ведёт себя по отношению к тебе неправильно. Но ты-то почитаешь, любишь и понимаешь, что молодец, талантливый, классный, в чём-то лучший. В чём же проблема? В тебе или в нём? Может быть, ему просто не нравятся идиоты, а так он адекватен с людьми своего круга. Это снобизм, но он оправдан, ведь со всеми быть хорошим невозможно, так не бывает».
Это сводится к очень старому вопросу: можете ли вы хорошо относиться к людям, которые вас ненавидят? Я когда-то Матвеевой Новелле Николаевне его задал — человеку, которого я очень люблю и которому очень доверяю. Она сказала: «Сначала я пыталась. А потом я спросила себя: а с чего это он меня ненавидит? Зачем? Так ли он хорош, если он меня ненавидит? И я перестала налагать на себя эту тяжёлую обязанность — любить людей, которые ненавидят меня». Я тоже не понимаю, с чего бы? Я ему ничего не сделал. Он мне не мешает, а я ему вдруг мешаю. Почему это? Зачем же мне его любить? Нет конечно. Так что, Инна, если вас кто-то считает ничтожеством, этот человек в любом случае неправ. Нужны очень серьёзные аргументы. А если это априори…
Понимаете, снобизм — хорошая штука для экстремальных обстоятельств, но трудно радоваться чужому снобизму в повседневной жизни. Почему Горький не смог закончить «Жизнь Клима Самгина», где, конечно, прототипом главного героя был очень на него похожий Ходасевич? Ходасевич, про которого Горький сказал, что он «всю жизнь проходил с несессером, делая вид, что это чемодан». Это справедливо сказано. Но ведь в чём проблема? Сноб — да, он неприятен в повседневной жизни, но умирает он героически, потому что его заботит, ему важно, что он думают, что о нём скажут. Вот этого-то он и не понял.
«В одной из передач вы условно разделяли книги на опасные и неопасные. К какой категории вы причисляете Пелевина?»
Неопасные. И даже я вам скажу больше, ребята. Сейчас сформулирую… Опасная книга никогда не будет любима ребёнком. А вот Пелевин читается детьми с наслаждением, и это для меня важный критерий того, что это качественный продукт, что это доброе дело, что это полезное чтение. Ребёнок не будет читать дрянь. Точно так же, как ребёнка невозможно накормить тухлятиной — он не понимает, зачем это надо есть. Что касается опасных книг, то как раз «Рассуждения аполитичного» — это довольно опасная книга. Это может быть и комплиментом. Пожалуй, даже я люблю опасные книги, потому что в некотором смысле опасен и Горький, опасен и Селин, что же делать. Но всё-таки я за книги безопасные и, как бы сказать, полезные.
«Выскажите ваше мнение о Джо Кристмасе из романа «Свет в августе». Некоторые поступки его вызывают отторжение, но персонаж всё равно как-то притягивает». Не готов сейчас говорить, «Свет в августе» давно не перечитывал. Перечитаю непременно и мнение о Джо Кристмасе выражу. И вообще роман этот очень люблю. «Что вы посоветуете почитать следующим после «Шума и ярости» и «Света в августе»?»
«Когда я умирала» — безусловно. «Осквернитель праха» — безусловно. Если вы человек терпеливый и любящий такую густопись, такое густое масло прозы, то, конечно, «Авессалом, Авессалом!». А вот «Притчу» я вам читать не посоветую — единственный роман Фолкнера, который был мне скучен. Мне всё-таки кажется, что йокнопатофские вещи замечательные. А вот из рассказов я вам посоветую, конечно, «Полный поворот кругом», потому что это ну очень хорошо! Следует ли читать «Святилище»? Нет, не знаю. Вот «Святилище» мне кажется опасной книгой, потому что после него как-то патология начинает казаться нормой. Мне чрезвычайно неприятно было это читать.
«Способны ли вы разгадать детективы до того, как автор сам расскажет, в чём секрет?»
Нет абсолютно. Другое дело, что я не всегда могу удержаться от заглядывания в конец (и чаще всего не удерживаюсь). Но это надо уметь так написать детектив, чтобы заглядывание в конец ничего не прояснило. Вообще, я очень мало помню детективов, которые мне по-настоящему интересно было бы читать. Это не мой жанр. Мать любит, я — не очень.
«Скажите несколько слов о творчестве Майи Кучерской. «Чтение для впавших в уныние» — её лучшая книга?»
Да, безусловно. Потому что это новый жанр — современный патерик. Кучерская пишет хорошие традиционные повести и рассказы, но когда она изобретает новый жанр (вот этот патерик), ей нет равных, это просто шедевр. Ещё мне очень нравится её книга про ёжика, которая вышла в сборнике про животных. У меня там вомбат выходит, а у неё — этот ёжик.
«Что вы думаете по поводу теории эволюции? И почему она так активно не нравится людям с религиозным мировоззрением? Неужели дело в обезьяне? А если бы в качестве предка был предложен моллюск, морской ангел, неужели всё было бы по-другому?»
Рома, нет, не это раздражает. Понимаете, раздражает, во-первых, ненависть и презрение эволюционистов (такие есть) ко всем, кто думает иначе. Они считают, что если человек иначе думает, значит он просто непрофессионал, недоумок, не изучал того, что изучали они, потому что теория Дарвина многократно усовершенствована, модернизирована, сегодня она совсем иначе многие вещи формулирует, но в любом случае кроме эволюционизма нет правды никакой, «нет Бога, кроме Дарвина, и Докинз — пророк его». Кстати говоря, довольно убедительную критику Докинза предпринимает сейчас, насколько мне известно, Невзоров — тоже эволюционист безусловный.
И потом, понимаете, многим людям (таким, как я, наверное), поверхностно знакомым с дарвинизмом, всё-таки представляется очень маловероятным, что сырьём для эволюции являются мутации, что только отбор может сформировать появление новых видов. Мне нравится концепция направленной эволюции. Меня очень утешил разговор с палеоантропологом и по совместительству фантастом, с палеобиологом Еськовым, который очень много изучал всякие ископаемые остатки, останки и прочие отпечатки, и который сказал, что всё-таки появление нового вида происходит внезапно: вот его нет, нет — и вдруг он есть. Это меня очень утешило. Хотя Еськов — как раз такой ярый эволюционист, и для него всякое божественное происхождение человека раздражает дико. Ну, меня бы, наверное, знаете, тоже раздражало, если бы то, в чём я профи, служило бы результатом дилетантского обсуждения.
«Дмитрий, в «Одине» вы сейчас сказали, что не приемлете национализм по критерию крови и почвы и даже национализм по критерию культуры. Видите ли вы что-нибудь привлекательное в национализме по интеллекту (например, Менса — общество людей с высоким IQ), в идее о евгенике или идее об избирательном цензе по уровню образования?»
Я не люблю евгенику, не люблю Ли Куан Ю, на которого вы ссылаетесь. Менса — это интернациональная история, насколько я знаю (во всяком случае, сейчас уже туда входят и трёхлетние), и это ни от гендера, ни от места рождения, ни от возраста не зависит. Нет, национализм по интеллекту мне странен, потому что это значило бы — отказать какой-то нации в высоком интеллекте, а какой-то приписать сказочно высокий. Я не такой фанат политкорректности, чтобы отметать любые разговоры о расовых особенностях, но всё-таки и не такой ещё фанат крови и почвы, чтобы допустить превосходство одной нации над другой. Я не верю в национализм по интеллекту. Я верю в национальный характер. Да, русский характер, безусловно, существует. Он и не лучше, и не хуже. Он — другой. Но делать из этого какие-то выводы об обязательности или необязательности общечеловеческих ценностей я не готов, потому что я уверен, что общечеловеческие ценности существуют.
И когда появляются термины, вроде «общечеловеки», «рукоподаваемые», «свидомые», «либерасты», «толерасты», это всегда обозначает одно и то же. Всегда одно и то же. Это обозначает людей, которые отказываются считать имманентные признаки основой своей идентичности, то есть врождённые признаки считать своим лицом. То, где я родился, кто мои родители, в каком году я родился и в каком возрасте я нахожусь, и пол, и нация — это всё вещи, которые должны быть преодолимы. Я — это то, что я из себя сделал, а не то, что мне дано от рождения.
Я понимаю, что дикость, даже некоторая действительно врождённость, некоторое упоение ценностями рода — в этом есть своя прелесть для интеллектуала. Ну, как для интеллигента своя прелесть в том, чтобы иногда попахать. Но всё время пахать, мне кажется, необязательно, а особенно если человек умеет ещё что-то и делает это хорошо. Нарочно всё время упрощаться, всё время заставлять себя заниматься физическим трудом, по-моему, необязательно. Точно так же необязательно всё время находить какие-то стимулы в дикости, в необразованности, в почвенности. Мне кажется, это так же глупо, как есть землю. Надо есть то, что из земли растёт, то, что ты из неё вырастил. А жрать почву, по-моему, совершенно неинтересно. Простите за аналогию.
«Где можно вас в ближайшее время послушать?» Курс лекций для детей будет с 8 по 10 апреля в «Прямой речи», на сайте pryamaya.ru вы можете об этом прочесть. 30 марта — лекция про Ахматову там же.
Спасибо за приглашение. Спасибо за пожелание не обращать внимания на ряд вещей.
«Говоря о ситуации, предшествующей распаду СССР, вы часто использовали образ недоигранной шахматной партии, в которой диспозицию смахнули рукой. Не могли бы вы подробнее рассказать, что это была за диспозиция, какие вопросы и противоречия не были сняты и как это влияет на сегодняшний день? Может быть, лучше начать с чистого листа?»
Да и начали с чистого листа. Во всяком случае, попытались начать с чистого листа. Ничего хорошего из этого не получилось. Объективно говоря, какая позиция стояла на доске? Была идея Сахарова о конвергенции, о постепенном сближении, или скажем так — о мягкой эволюции советского строя, может быть, по китайскому сценарию, а может быть, по латиноамериканскому, может быть, по немецкому. Ну, разные были варианты. Мягкая эволюция советского строя в сторону капитализма — построить шведский социализм, построить социализм с человеческим лицом и так далее.
Понимаете, низшей точкой падения, как мне кажется, низшей точкой деградации советского режима был 1980 год: вторжение в Афганистан, олимпиада с её оголтелой пропагандой, какие-то подвижки, но тогда андроповское ведомство вышло опять на первый план и начались массовые аресты, высылки диссидентов и все дела; Сахаров в Горьком с принудительным прерыванием голодовки. Ложь, фальшь, гниение и пропаганда зашли довольно далеко. Дальше началось что-то новое, что-то другое. А каким оно могло быть, мы поговорим через три минуты.
РЕКЛАМА
Д. Быков― Доброй ночи! Программа «Один», последняя четверть эфира, Дмитрий Быков с вами. Немножко я ещё успею поотвечать.
«Совсем недавно, в феврале месяце, на церемонии ЮНЕСКО в Мексике были показаны первые «диски кристаллозаписи» с записанными на них документами, которые представляют собой наноструктурное стекло, где лазером можно сохранить сотни терабайт. Как мы все знаем, первыми упомянули кристаллозапись Стругацкие в связи с люденами во время переговоров Логовенко. Неужели будущее, что написали Стругацкие, уже наступило?» Давно наступило, дорогой fontendet. Давно уже мы в нём живём. Во всяком случае всё, что произошло в творчестве Стругацких… Сегодня «Волны гасят ветер» — это просто настоящее.
Что касается вопроса о возможностях конвергенции в СССР. Тут сразу посыпался шквал SMS: «Не могло этого быть!», «Сослагательное наклонение не работает». Ну, наверное, не могло, но теоретически из всех вариантов развития мне это кажется самым интересным. История вариабельна. Понимаете, она всё-таки ветвится. Будущее не одно. Стругацкие правы были в этом абсолютно, и не только Стругацкие. Когда в 1974 году в США появилось такое направление, как альтернативная история, и почти одновременно это в России начал разрабатывать замечательный историк и писатель Владимир Шаров, который очень точно говорит, что история делается не на прямых и явных путях, а в тупиках, в локомотивных депо и так далее, — вот это и есть на самом деле попытка построить ризому, ветвящуюся систему. У истории нет единственного пути. Да, вода всегда течёт кратчайшим путём, но тем не менее в истории бывают чудеса, когда кратчайшие, легчайшие, очевиднейшие пути (всегда опасные) странным образом избегаются. История же интуитивно прокладывает себе путь. Я верю в направленную эволюцию, но я прекрасно понимаю и то, что направление этой эволюции (нам, во всяком случае) неведомо, и очень возможно, что мы можем на него влиять.
Поэтому как бы вы ни относились к Советскому Союзу, путь его развала не был императивен. И я до сих пор считаю, что всё могло произойти и раньше, и иначе. Хотя последняя развилка была пройдена, по-моему, в Новочеркасске в 1962 году, но в 70-е была масса возможностей что-то пустить иначе. И после 1980 года, мне кажется, стали намечаться какие-то пути выхода. Ещё ведь при советской власти началось её перерождение, которое всем казалось разложением. А может быть, это было именно перерождение. Может быть, это были попытки совместить советский комсомол с индивидуальным предпринимательством, с какими-то новыми жилищными кооперативами и так далее, с глупостями полными, но информатизация советского общества могла привести к его другой эволюции. Тем не менее, привела она к обрушению, распаду и выплёскиванию с водой множества детей.
«Ваше мнение о «Географ глобус пропил»? — очень люблю этот роман. — И о фильме по нему?» И фильм этот очень люблю. И не думаю, что они так уж различаются между собой.
«Хемингуэй писал, что многое для своего метода позаимствовал у Сезанна. Есть ли художник, творческий метод которого (или его эстетика) близок вам?»
Ну, спасибо за параллель. Есть. Это Ярослав Васильевич [Игоревич] Крестовский (кстати говоря, внук того Крестовского, о котором мы сегодня говорили), самый литературный из петербургских художников, но и самый острый, самый парадоксальный. И я не зря на обложку «Оправдания» вынес его великую картину «Натюрморт с топором». Мне очень нравится думать, что он успел (хотя он ослеп под старость) эту книгу в руках подержать.
«Мне больше нравится ознакомление с критикой тех или иных литературных произведений, чем их непосредственное чтение. Я лентяй?»
Нет, вы совершенно не лентяй. Просто, знаете, всегда приятна какая-то адаптация. Конечно, обжигает иногда текст. А многое скучно читать. Мне, честно сказать, приятнее читать Умберто Эко про Стендаля или того же Жолковского про Стендаля, нежели самого Стендаля. Стендаля я читать совершенно не могу. Ну, вот что хотите, то и делайте! Единственный автор из французов (кроме Бальзака, наверное), которого мне приятнее читать, чем критику о нём, — это Флобер, потому что он всё-таки писал. И то лекции Набокова по Флоберу мне интереснее, чем «Мадам Бовари». Ну, ничего не сделаешь.
«Ваше отношение к литературным пародиям Фимы Жиганца (Александра Сидорова) в форме перевода на уголовный жаргон классической литературы?»
Ну, Пелевин давно носился с мыслью переписать всю классику на уголовный жаргон, потому что это последняя сакральная речь, которая существует сегодня. Я вообще Жиганца (Сидорова) очень люблю. Я с ним знаком хорошо. И рискну сказать, что он мой друг. И я до некоторой степени даже участвовал в выходе его книжки в издательстве «ПРОЗАиК» про блатную феню и блатную песню. То, что он делает — это очень интересно. Кроме того, он прекрасный поэт, прекрасный знаток фольклора и прекрасный знаток творчества Варлама Шаламова, кстати говоря.
«Какими средствами для быстроумия, кроме энергетиков, вы пользуетесь?»
Энергетиками я пользуюсь, дорогой друг, не для быстроумия, а просто чтобы не заснуть, потому что я сегодня вот из Лондона прилетел, и я практически не спал. А так, вообще-то, единственный мой способ для быстроумия — это периодическая тренировка памяти всё-таки. Память как-то развивает это дело. Ну и потом, по совету Лилианы Комаровой, замечательного моего учителя, который к девяностым годам… к девяносту лет, наверное… как это сказать… к своему девяностолетию (назовём это так) сохранил удивительную ясность мысли, и сейчас меня тоже слушает, и завтра будет разбирать этот эфир со мной: надо почаще решать головоломки и разгадывать иностранные кроссворды. Не русские, а иностранные, потому что русские — слишком легко.
А теперь перейдём к разговору об Иване Катаеве по заказу Евгения Марголита.
Чем меня поражает Катаев? С тем же Акуниным мы говорили недавно о том, что большая часть прозы 30-х годов пафосна, напыщенна, дурновкусна, и всё время чувствуется страшный самоподзавод. И он чувствуется не только у таких авторов, как у Шагиняна в «Гидроцентрале», например, не только у таких писателей, как у Валентина Катаева во «Время, вперёд!» или у Эренбурга в «Дне втором», но и у таких, казалось бы, милых и самоироничных авторов, как Инбер, у таких писателей, как Василий Гроссман в его «Повести о жизни». И даже, чего там говорить, в рассказе Бабеля «Нефть» это просто чувствуется с ужасной силой! Это самый фальшивый рассказ Бабеля. И читать его особенно приятно именно потому, что ну это совсем искусство, доведённое до абсурда, это такое квазиискусство, это фальшь в её самом чистом, эстетически законченном, в чём-то прекрасном виде.
Я рискну сказать, что Иван Иванович Катаев, который прожил всего 35 лет — перевалец, человек происхождения самого что ни на есть интеллигентского — он удивительным образом, наверное, стал единственным русским писателем 30-х годов, который писал о живом человеке и о живых человеческих проблемах. И не зря «Сердце» — его самая известная повесть, потому что именно сердцем он и занимался. Но я считаю, что лучшая его вещь — это «Ленинградское шоссе». Сейчас о ней поговорим.
Мне очень трудно сформулировать главную катаевскую тему, но если говорить о главной теме 30-х годов… Мы уже говорили с вами о том, что главной причиной шока 20-х оказался странный перекос в появлении совершенно новых героев, но эти герои не были пролетариями, и не были борцами за советскую власть, и не были борцами против советской власти. Главная фигура 20-х годов — это плут, трикстер. И вот то, что Бендер, Беня Крик, герои катаевских «Растратчиков» (Валентина Катаева) или герои уголовного мира, скажем, каверинского «Конца Хазы», то, что они занимают лидирующие позиции — это как раз и был главный кризис 20-х годов. А в 30-е жизнь резко переменилась. В 30-е главным героем стал инженер — тот, о котором Луговской писал:
Он встанет над стройкой как техник и жмот,
Трясясь над кривыми продукции.
Он мёртвыми пальцами дело зажмёт,
Он сдохнет — другие найдутся.
Это «Большевики пустыни и весны» того же Луговского. Это преобразователь, это инженер из платоновского «Котлована», Прушевский. Это новые персонажи, которым поручено «техницировать» республику. Это красные директора. Это выпускники первых советских вузов, которые разъезжаются и начинают строить новую жизнь. Это, кстати говоря, герои нового Каверина, скажем, герои его первой, по-настоящему взрослой вещи «Исполнение желаний», такие как Трубачевский и особенно друзья Трубачевского и однокурсники его, простоватые ребята, но тем не менее именно они — главные герои эпохи. А интеллигент в это время обречён. Это герои, которые первыми появились в «Зависти» Олеши, конечно. Это строгий юноша, воспитанник Бабичева, Володя вот этот.
Мне кажется, что появление этих героев было для Ивана Катаева главным шоком 30-х и главной попыткой осмыслить это, потому что — вот ведь в чём ужас! — все очень резко поделились тогда (и в «Зависти» как раз Олеша это первым почувствовал) на тех, кому будет место в новом мире, и тех, кому не будет. И эти критерии Катаева очень занимают: по каким критериям человек оказывается в новом мире, а по каким он выпадает из него?
Я вам должен заметить, что на фоне глубокой психологической прозы Катаева — удивительно тонкой, удивительно богато детализированной — вдруг начинаешь понимать, что проза, например, Платонова всё-таки несколько плакатна, а временами она, страшно сказать, даже ходульна, потому что он сказки пишет, мифы, а Катаев работает с реальностью. Я не хочу сказать, что одно — хорошо, а другое — плохо. Но платоновская проза о 30-х годах отражает гений Платонова, а вот катаевская проза отражает то, что происходило реально в 30-е годы. Мы можем увидеть, приблизить к глазам людей 30-х годов.
Кстати, особенно интересно сравнить «Ленинградское шоссе» с «Третьим сыном» Платонова. Сюжет тот же самый: умирает старый представитель рода (отец в случае «Ленинградского шоссе»), ремесленник, и тоже такой немного платоновский ремесленник. Ну, Катаев, конечно, Платонова не читал, а если и читал, то только раннего. Он просто физически не успел поздние его вещи прочесть, он погиб в 1937 году. И уж конечно он не читал «Счастливую Москву» и, скорее всего, не читал ненапечатанный «Котлован».
Так вот, герой «Ленинградского шоссе» — старый ремесленник, умерший — он тоже всю жизнь тосковал по всякому рукомеслу. Он всё время что-то чинил, подлатывал. И жизнь его состояла из мелкого подлатывания мелких вещей. В слове «подлатывание» слышится какая-то подловатость, но не его, а судьбы, конечно. Но вот он поднял замечательных сыновей и дочек. И вот они стали новыми людьми. И вот, когда отец помер, и помер во сне… Помер, в сущности, от стресса, потому что снимающий у него комнату куплетист на него наорал и пригрозил вообще его из дома выселить; наглый такой тип, омерзительный — Арнольд [Адольф] Могучий.
И когда помер старик во сне, хоронить его съехались дети. И вот удивительное дело. Старший сын не вписался ни в какую жизнь, он после Гражданской войны оказался, в общем, на обочине, Алексей такой. А все остальные — дочки с преуспевающими мужьями, какие-то химики, какие-то инженеры — они потому оказались в этой жизни на месте, что они странным образом мимикрируют, что они удивительно пластичные, что они обладают повышенной адаптивностью.
И вот когда начинается скорбь по отцу, видно, что в первые же минуты застолья (а они привезли всё из своих распределителей, крабов привезли) они про отца забывают. В общем, когда они его похоронили, они почувствовали большое облегчение. А с ними же ещё за столом сидит беспризорник, который живёт при местной церкви, прирабатывает, могилы роет. И когда его приглашают к столу, он немедленно съедает всё, что там есть. И очень любопытно, что у него такие красные вампирские губы. При этом, как только за столом начинается скандал, он с удивительной радостью начинает кричать: «Кр-рой, дядя!» — потому что он вот этой крови жаждет.
А скандал начинается именно потому, что за столом оказывается один из бывших свойственников умершего ремесленника, кум его, который работает теперь в Москве извозчиком после того, как его раскулачили. И вот он начинает вспоминать о том, что когда он был кулаком… Он говорит: «Вы кулаков-то настоящих не видели. Ну, какие мы были кулаки?» И он начинает оправдываться. На него начинают наезжать молодые, записывают номер его пролётки, хотят вызвать милицию. Начинаются классовые разборки за столом.
И вот мы видим, что на самом-то деле вписались в эту жизнь те, кто сумел отказаться от морали, от привязанностей, от дружественных, от родственных связей, от семьи — те, кто сумел отбросить прошлое. А там же сказано, что за эти десять лет — с 1920-го по 1930-й — чего только не было, столетия в это вместились! И вот человек, который умеет вписываться, человек, который умеет отбрасывать прошлое — он и есть востребованный сегодня. Это то, о чём Петров писал: «У нас не было мировоззрения. Мировоззрение нам заменила ирония». Вот они сидят за столом, они толкуют о химии, о комбинатах, о том, как трудоустроится, а смерть не входит в их лексикон; у них просто отсутствуют нравственные чувства, чтобы понять, что происходит на самом деле.
Конечно, Катаев не был бы крупным писателем, если бы он изобразил только эту классовую тёрку за столом, это классовое выяснение отношений. Эта повесть заканчивается очень неожиданным фрагментом, но я рискну сказать, что из этого фрагмента вырос весь Трифонов. Помните, чем заканчивается «Долгое прощание»? Вот этой картиной Москвы, которая прёт куда-то и захватывает новые и новые территории, вот этой замечательной фразой: «То ли старики разъехались [приезжие понаехали], то ли дети повырастали?». Она кольцуется там. Она начинается замечательной фразой: «Когда-то здесь было очень много сирени. А теперь здесь магазин «Мясо». И вот этой картиной стремительно прущей Москвы, когда автор словно отводит свой взгляд от героев и камера панорамирует сверху над городом, заканчивается у Трифонова главная его вещь. Кстати, такой же картиной города, меркнущего в ожидании вечера, заканчивается и «Другая жизнь».
Тут как раз удивительное обобщение. Тут у Катаева эти разные голоса слагаются в единую жестокую симфонию Москвы. Вот похоронили этого мастерового. А вот рядом, он показывает — ну, в пяти вёрстах! — на только что построенном стадионе «Динамо» принимают турецкую команду и турецкого посла, и гордятся и радуются тем, что они в своей новой стране принимают высоких дипломатических гостей. Вот рядом Пушкинская площадь. Вот рядом комбинат «Известий». И всё это вместе складывается в мощный, страшный, грозовой хор! И самое удивительное, что Катаев говорит в финале: всего-то десять километров от комбината «Известий» до свежего холмика земли, насыпанной над этим мастеровым.
Я не сказал бы, что тут (любимое моё слово) амбивалентность. Тут нечто иное. Тут то, что… Сейчас я рискну сказать наконец! Любимая фраза Трифонова о том, что «история — многожильный провод». Тут он говорит вот о чём: что история не имеет нравственного вектора, что требовать от истории сентиментальности, добра, нравственного смысла нельзя. История имеет смысл другой. История заключается в том, что она отсекает прошлое, что она убивает его. И человек, который готов к этому, он в неё впишется, через него она не переедет. А тот, который не готов, он всегда будет на обочине Ленинградского шоссе. Ленинградское шоссе — это страшное движение истории.
Ну, впоследствии у Стругацких появится этот образ дороги, движения машин, образ вечности (»…пока не исчезнут машины»). Вот Ленинградское шоссе, по которому свистит будущее, сметая на обочину всех неготовых, — это страшный образ, если угодно. Это образ советской истории — прекрасной, сверкающей. Но жизнь осталась на обочинах. Вот это удивительная мысль. И, кстати говоря, у Ильфа и Петрова она появится впоследствии, помните, когда проносится автопробег мимо жуликов («Настоящая жизнь просвистела мимо, блистая лаком и шурша шинами»). А на обочине остались Бендер, Паниковский, Балаганов с Козлевичем — единственные живые люди в этом пространстве. А те, кто летит в этом автопробеге, — они хорошие, может быть, но они плоские. И вот с этим ничего не поделаешь.
Что касается «Сердца». Я не буду подробно эту вещь разбирать, она более ранняя, она слабее написана. Во-первых, обратите внимание на письмо, на фактуру письма: сколько деталей, точностей, какие великолепные диалоги. Это тоже повесть о НЭПе, о том, как в нэповскую эпоху не вписываются прежние люди, потому что надо учиться торговать — а они этого не хотят, надо учиться администрировать — а они этого не хотят. В общем, эта вещь (это 1927 год) ещё в ряду литературы 20-х годов — о том, как не вписываются в реальность разочарованные бойцы революции, о том, как вернулось всё прежне, но это прежнее хуже, грубее. Вот как у Маяковского о НЭПе было сказано: «Раздувают из мухи слона и продают слоновую кость». Это абсолютно точная формула.
Но обратите внимание главным образом на то, что это фактура письма, которой вы не найдёте больше нигде в это время: тончайшее плетение множества нитей, деталей, голосов, полифония повествования! Ни у Пантелеймона Романова с его довольно плоской прозой, ни у Артёма Весёлого в этого время, ни у Малышкина в «Людях из захолустья» вы не найдёте такого удивительно точного письма. И вот поэтому-то и нельзя простить советской власти, что она уничтожала писателей такого класса. Многое можно простить, а вот это — чудовищная закавыка. Я уже не говорю о том, сколько она положила прекрасных людей. Но, когда мы думаем о Катаеве, мы с ужасом думаем о том, какой литературы мы лишились! Мы лишились сложности. И этот отказ от сложности на протяжении всей советской истории был главной доминантой.
Услышимся через неделю. Пока!
*****************************************************
31 марта 2016
-echo/
Д. Быков― Здравствуйте, дорогие друзья! Я всё-таки не понимаю, к чему «О́дин». Мне нравится, чтобы он был «Оди́н», потому что, ещё раз говорю, я никакого отношения не имею к скандинавскому божеству. Да и в общем я не так уж и один, потому что вас много, вопросов тоже много.
Простите, что мне пришлось внезапно подмениться. Связано это с тем, что я улетаю на неделю делать, как мне кажется, довольно забавный доклад. Ну, там у меня будет несколько выступлений американских. А доклад у меня на конференции о сегодняшней России — доклад о восприятии в России Трампа и о том, почему эта фигура имеет в России такую популярность и такое исключительное значение. Вот я попробую об этом рассказать, как могу, потому что действительно Трамп очень наш. Но мне кажется, что великая нация должна пройти такое искушение. Америка его пока ещё не проходила, а у нас это уже запросто, мы их уже, как всегда, обогнали.
И поскольку сегодня форума практически нет, я отвечаю в основном на вопросы, пришедшие на почту. Их накопилось очень много, я перед вами в большом долгу. И я попробую в меру сил сейчас с этими долгами разобраться. Напоминаю, что dmibykov@yandex.ru — адрес, на который присылаются вопросы. dmibykov@yandex.ru — первые три буквы имени плюс фамилия.
Что касается темы лекции. Разброс очень большой. Но поскольку у меня сегодня ровно час остаётся третий (вам придётся три часа меня терпеть), я решил всё-таки, что мы в третьем часе подробно поговорим о Достоевском. Приходится наконец на эти риски идти. На риски — потому что моё мнение о нём, к сожалению, не совпадает с мнением большинства аудитории. Всё-таки очень его любят в России, и он остаётся одним из предметов национальной гордости. Хотя читают очень мало, читают меньше, чем Толстого, потому что удовольствия того он, конечно, читателю не доставляет.
Мне тут прислали мнение и спрашивают, как я отношусь к мнению Игоря Золотусского, что «когда Дима Быков заговаривает о серьёзной литературе, начиная с Гоголя и кончая Достоевским, он превращается в детсадовского мальчика».
Я не думаю, что Игорь Золотусский вот так прямо и сказал. Он человек вообще тактичный, воспитанный. И, уж конечно, я ему никак не Дима. Но тем не менее, если он такое сказал, пусть это остаётся на его совести. Это никаким образом не заставляет меня хуже относиться к его книге о Гоголе. Это полезная и важная книга, в ней впервые всерьёз рассмотрены «Выбранные места», подвергнуты сомнению многие общие места российской критики. Но одно меня смущает. Понимаете, когда ты с чем-то не согласен, не нужно говорить, что оппонент чего-то не понимает. Это неправильно. Это свидетельствует даже не о тоталитарном мышлении, а об отсутствии мышления и о невозможности с аргументами в руках доказывать свою правоту. Это большая проблема очень многих в России — когда вам некоторые говорят «А», а вы в ответ, вместо того чтобы сказать «Б», говорите: «Да вы ничего не понимаете!» Это частая вещь. Это такое отсутствие терпимости. Но, с другой стороны, что поделать, всякому свои особенности.
Спрашивает Ирина: «Не могли бы вы сделать лекцию о Данииле Гранине? — нет, лекцию вряд ли. — И каково ваше мнение о его романе «Мой лейтенант»?»
Я с уважением и интересом прочёл «Мой лейтенант». Там очень интересная версия того, почему Ленинград не был сдан, собственно говоря, как это происходило, почему немцы его не взяли, когда они могли его взять, потому что Гранин описывает там ситуацию, когда город стоял голый и ничем не защищённый. Что им помешало? И что мешало в это время полноценно город оборонять? Вот это его писательское расследование мне представляется очень интересным.
А что касается остальных его произведений, то мне больше всего нравится повесть «Место для памятника», мне нравится в общем повесть «Эта странная жизнь» — интересная вещь о совершенно новом подходе к реальности. «Однофамилец» — замечательная история с этим легендарным диалогом. Помните, когда там человек, пострадавший от погромной критики, от кампанейщины (он пострадал за своего научного руководителя, не сам по себе), спрашивает: «А если бомба взрывает кучера вместе с царём, неужели в этом кучер виноват?» И такой старый конформист ему с ухмылкой отвечает: «Не вози царя». И это довольно интересный диалог. Я, кстати, помню, что в фильме между Жжёновым и Пляттом он замечательно был разыгран. Интересная история.
И, кроме того, конечно, мне нравятся ранние его романтические романы, в особенности «Иду на грозу». Я понимаю, что там многовато, конечно, такой советской восторженности, но есть там и замечательная трезвость ума. «Зубр» — интересная вещь, и интересная по приёму, потому что там Ресовский же не назван ни разу или в проброс как-то. В общем, Гранин — это хороший писатель. Это, конечно, так сказать, не герой моего романа, потому что он реалист, а я люблю фантастику, гротеск, но он всё-таки человек, чётко мыслящий, и у него замечательная научная школа. Помню, что в романе «Картина» кое-что мне нравилось в своё время.
Вот интересный вопрос: «Никогда не читал Акунина. Если позволите, три вопроса, — пожалуйста. — Читали ли вы цикл «История Российского государства»?»
Я его читаю, он ещё не закончен, вот только что вышла художественная часть третьего тома. Это в том числе повесть (я её в первую очередь и прочёл), написанная от лица Иоанна Грозного. Мне кажется, что там Акунин достигает замечательных глубин. Он, конечно, не воспроизводит, не воссоздаёт речь Грозного. У нас не так много источников, по которым можно его воссоздать. Прежде всего переписка с Курбским донесла до нас его живую интонацию.
Да, тут пришёл вопрос: «Почему вы в бабочке?» Ребята, это не бабочка, это такая майка, но на ней очень убедительно нарисован фрак, поэтому она производит впечатление бабочки.
Так вот, он, конечно, воспроизводит речь Иоанна не во всём объёме этой личности и, понятное дело, не во всём объёме этой речи. Во всяком случае не менее интересной мне казалась реконструкция Иоанновой личности в «Летоисчислении от Иоанна» у Алексея Иванова. Там есть свои минусы, на мой взгляд, но эта акунинская вещь из всех исторических повестей, прилагавшихся к истории, пока самая серьёзная и самая фундаментальная. И она страшная местами, там есть хорошие такие, замечательные клаустрофобные куски.
«Удалось ли ему соответствовать своему тезису из предисловия: «Я не выстраиваю никакой концепции»?»
Нет, конечно, не удалось. И не может удаться. Он имел в виду, как мне кажется, другое. Он имел в виду отсутствие у него концепции априорной, то есть что он заранее не знает, что это должно быть. Он находился в поиске. И как мне кажется, в третьем томе он довольно убедительно отвечает на вопрос о природе Русского государства. Он утверждает, что это государство было ханством, было провинцией ханства некоторое время, и веротерпимость татарская тоже там воплотилась. Ну, это была колонизаторская, колонизованная страна. Соответственно, когда у неё завелась самостоятельная государственность, она стала воспроизводить черты ханства. Об этом же Веллер пишет очень убедительно в «Наш князь и хан».
Понимаете, это очень неслучайно, что лучшие сегодняшние российские умы обращаются к корням глубокой генетической системы государства, ужасаясь тому, что оно всякий раз воспроизводится в своих сущностных чертах, воспроизводится неизменным. Ну, это правда очень странно. Почему всегда оказывается эта матрица? Почему государство всегда должно врать, ведь врать совершенно необязательно? Почему оно должно врать бездарно? Почему оно должно пресекать вертикальную мобильность? Почему воспроизводится этот цикл с оттепелями и застоями? Это непонятно. Но поиски ответа в глубоких корнях, в генетических кодах, в татарском прошлом, в иге или в отсутствии ига — это общая тенденция. И мне это очень нравится.
«Возможно ли объективное изложение истории?»
Вы знаете, у меня в гостях сейчас как раз в «Собеседнике» было научно-студенческое общество Московского педагогического университета. По разным обстоятельствам они не смогли пригласить меня к себе и пришли ко мне в «Собеседник». И вот мы с ними как раз говорили о том, возможна ли объективная историография в том числе. Пришли к выводу, что даже документы подвергаются чаще всего полярной интерпретации. И не нужно стремиться к объективности. Нужно стремиться к представлению максимума точек зрения, к сбору максимума свидетельств, потому что самая интересная история, конечно, пишется свидетелями.
«Интересна ли вам тема «Поэт и война»? Те юноши, которые в 40-х, как быстро они смогли переплавить грязь и бездушие? Например, Семён Гудзенко, присевший отдохнуть на труп убитого товарища», — Андрей спрашивает.
Видите ли, Андрей, Гудзенко — как раз здесь ещё не самый наглядный пример. Я думаю, что у него было довольно много сильных преувеличений и некоторого гусарства. Например:
Бой был коротким.
А потом
глушили самогонку злую,
и выковыривал ножом
из-под ногтей я кровь
чужую.
Немножко есть в этом демонстративность. Ион Деген, дай бог ему здоровья, на мой взгляд, в этом смысле более нагляден:
Мой товарищ, в смертельной агонии
Не зови ты на помощь врачей.
Дай-ка лучше погрею ладони я
Над дымящейся кровью твоей.
И не плачь ты тихонько, как маленький,
Ты не ранен, ты просто убит.
Дай-ка лучше я стяну с тебя валенки.
Мне ещё воевать предстоит.
Это довольно страшные стихи — естественно, не напечатанные тогда, но широко ходившие по рукам.
Что касается того, как я отношусь к этим юношам. Я уже говорил много раз о том, что мне это поколение кажется поколением сверхчеловеков. Было много разных обстоятельств, почему возникли вот эти волшебные ифлийцы, эти удивительные «поэты войны», как они себя называли, поэты военного поколения. Что война была близко — это очевидно, потому что ничем другим нарастающий невроз не мог разрешиться. Война списывала всё, снимала все проблемы. Пропаганда войны была одной из главных пугалок и главных скреп, как ни странно. Общество надо было держать в страхе и монолитности, и тема войны была совершенно насущна.
Кроме того, война ощущалась всеми (я об этом сегодня говорил как раз в лекции про Ахматову), она ощущалась всеми как возмездие. Почему Ахматова пишет «Поэму без героя» о тринадцатом годе, другом предвоенном годе, и пишет её в сороковом? Да потому что ощущение расплаты носится в воздухе. В четырнадцатом году оно в воздухе носилось, потому что в Петербурге тринадцатого — времён самоубийства Князева, о котором пишет Ахматова, — действительно всеобщее распутство (идеологическое, финансовое, военное), шпионаж вот этот, всякого рода распутинщина в широком смысле, прямое предательство — всё это стало чрезмерным, всё это ощущалось как неизбежно наступающая расплата.
И поэтому мне кажется, что поколение тридцатых, поколение начала сороковых формировалось в обстановке, что за всё придётся платить, в убеждении, что за всё придётся платить. Как Коган, например, который в романе в стихах «Первая треть» пытался осмыслить происходящее, но не мог. Как Самойлов, много думавший об этом. Я думаю, что у Слуцкого дольше всех держались его комиссарские убеждения. Гуманизм никак не желал примиряться с тем, что делалось в стране, а объяснения, которые они давали, были недостаточными, искусственными, и они сами это понимали. Нужно было разрядить вот этот чудовищный невроз тридцатых. Это поколение сформировалось, конечно, потому что это были комиссарские дети, потому что оно боготворило родителей. И у них были действительно серьёзные проблемы потом, в семидесятых (у тех, кто выжил), когда надо было пересмотреть отношение к родителям. А пересмотреть его они не могли, потому что их убитые родители представлялись им идеалом людей.
Но я не могу не отметить и того… Страшную вещь сейчас скажу. Не могу не отметить того, что в условиях этого государственного невроза, страшного государственного насилия сформировалось великое поколение, поколение огромного ума, невероятной проницательности, быстроумия, обучаемости, очень сильного метафорического мышления. Понимаете, даже самые слабые поэты этого поколения, такие как Наровчатов, — это поэты выдающиеся всё-таки. Так что, сколь ужасно время, сколь ужасно давление, столь значительные результаты.
Между прочим, это одна из причин, по которым сейчас в России сформировано блистательное поколение. Знаете, я некоторых из них иногда посылаю на журналистские задания (не буду их называть, просто чтобы не испортить). И если бы вы знали, как я поражён готовыми, прекрасными, сильно написанными текстами с мощно собранной фактурой, с ироническим, трезвым взглядом на происходящее! Как я поражён тем, что они оттуда привозят! Просто они молодцы большие, поэтому эпохе отчасти спасибо.
«Фильм Марлена Хуциева «Июльский дождь» передаёт атмосферу поздних шестидесятых, и личная жизнь героини отражает ситуацию в обществе, проблему конформизма. Хуциев и Гребнев видят удавку на горле идеалистов. Как эти люди выжили?»
Ну, видите ли, они… Кстати говоря, я не убеждён, что они выжили. Во-первых, огромное количество народу спилось. Во-вторых, значительная часть народу с 1972 года уехала. В-третьих, видите ли, в семидесятые годы в каком-то смысле легче было выживать — по трём причинам наиболее очевидным.
Во-первых, культурный уровень этого общества был несравнимо выше. Посмотрите, как у того же Хуциева в гребневском сценарии отражены тогдашние интеллигентские тусовки. Посмотрите, какое это общение, какие разговоры. Ведь не просто так там появляется Митта в эпизоде, появляется Визбор. Это всё — портреты знаковых фигур. Не то чтобы это настоящие Митта и Визбор — нет, это типажи. Эти ветераны ещё не просто живы, а молоды, им там по сорок пять, сорок восемь лет. Ну, атмосфера, климат в обществе другой, ещё какая-то элементарная порядочность не забыта. Оттепель разбудила колоссальный духовный взрыв, подъём невероятной силы, и этот подъём не так же просто запинать обратно в нишу. Это люди, которые вполне ещё готовы к каким-то грандиозным свершениям. И только что на их глазах русское кино прорвалось в какие-то совершенно невероятные высоты. Тот же Хуциев не так давно ещё показывал Вайде и другим иностранным гостям «Заставу Ильича» (позднее переименованную в «Мне двадцать лет»). И Виктор Некрасов писал: «Я никогда не ждал, что в России будет такое кино». И вот наконец явилось действительно такое чудо — кино, в котором никого не учат жить. Это было последствие такого мощного культурного взлёта, облучение. Понимаете, это же как будто действительно солнце ударило в поколение — и поколение долго ещё потом живёт с этим загаром.
Вторая причина, ещё более очевидная на мой взгляд, — существовали среды. Россия тогда дробилась на среды. Я не знаю, хорошо это или плохо. Россия вообще не очень хорошо производит товары, но среды производит гениально. Это клуб «Под интегралом», это Дубненское научное сообщество, Протвино, это огромное количество интеллигентских кухонь, где сходятся люди, московские салоны (салон был вполне легальным явлением). В общем, это было не до конца прихлопнуто — более того, в подпольной сфере это очень хорошо развивалось.
И вот третье соображение, ребята, я боюсь, самое циничное. Наверное, вы сейчас скажете, что это слишком прагматический подход. Ну, он не совсем прагматический, он скорее библейский. Знаете, сказано же: «По плодам их узнаете их». Надо эпоху судить по плодам. И в вашем вопросе «как же они выжили?» заложен довольно-таки ощутимый скепсис по отношению к этой эпохе. Да, выжить было трудно.
Мы тоже дети страшных лет России,
Безвременье вливало водку в нас.
— как говорит Высоцкий. Кстати, я слышал много сомнений по поводу авторства этого стихотворения, но думаю, что всё-таки это он, а не переписанные им чьи-то стихи. Так вот «безвременье вливало водку в нас», но при этом давайте всё-таки не забывать, что самыми продуктивными, самыми плодотворными эпохами в России (по крайней мере, дважды — в Серебряном веке и в советском Серебряном веке, постоттепельном) были вот эти застойные времена. Времена, когда базис, простите за выражение, остаётся довольно-таки феодальным, а надстройка резко, стремительно устремляется вперёд и входит с ним в роковое противоречие; когда, по-гаршински говоря, как в сказке «Attalea princeps», пальма пробивает теплицу, когда в этой душной, герметичной теплице такого гниловатого, перегретого общества вырастают разные экзотические растения.
Застой может быть непереносим для жизни, но вместе с тем это уютное время. И вспомните, ведь очень многие вспоминают о застое с умилением. Я в «Колбе времени» недавно проводил опрос, и там подавляющее большинство за Брежнева и любит Брежнева. И когда я там спрашиваю: «А что вам в нём нравится?» — очень много ответов от молодых людей: «Он был прикольный». Ну да, власть была уже сравнительно беззуба. Конечно, диссидентов ещё губили. Конечно, погиб Марченко. Конечно, погиб Галансков. Конечно, погиб Габай. Но при всём при этом это было сравнительно вегетарианское время, можно было совмещать инакомыслие и почти легальный социальный статус. Это то, что называется «сам жил и другим жить давал». Многие поражаются, как были напечатаны какие-то вещи тогда. Тем не менее, ничего себе, печатались.
Так вот, это было время, конечно, жестокое, но ваш вопрос «как они выжили?»… А что там было особенно выживать-то? Сегодня растленность гораздо глубже и культуры гораздо меньше, кислорода гораздо меньше. Тогда существовали такие катехизаторские фигуры, как Мень, Эйдельман (кстати, очень типологически похожи), за границей Шмеман. Кого вы сегодня можете назвать из людей этого склада, которые были бы интеллигенцией любимы, популярные и к чьему мнению бы прислушивались? Сегодня сам статус интеллигентского проповедника дезавуирован. Сегодня Интернет вообще всех уровнял в правах, и всякий проповедник и всякий духовный вождь (кстати говоря, всякий политик тоже) может рассчитывать на хармсовский ответ: «Я такой-то». — «А по-моему, ты говно». Это довольно распространённое явление. Поэтому сама атмосфера семидесятых была, разумеется, гораздо лучше, в каком-то смысле мягче, в каком-то смысле креативнее, чем сегодня — просто потому, что уровень сложности страны всегда, как мне кажется, и есть на самом деле уровень её свободы.
«Один из персонажей фильма «Гори, гори, моя звезда», сыгранный Леоновым, мечтает выжить в бесчеловечных условиях Гражданской войны. Значит ли это, что он строит будущее на костях погибших фанатиков?»
Да нет, конечно, это не значит. Наоборот, понимаете, подавляющее большинство людей — вообще обыватели по духу своему, они хотят выживать, и ничего в этом нет греховного. Ну, мы просто в этом фильме Митты видим три типа художников. Мы видим революционного Искремаса. Видим очень глубокого, стихийного, природного авангардиста-немого, которого блистательно играет Олег Ефремов (он же, кстати, читает текст от автора). И видим, конечно, Леонова, который, строго говоря, не творец, а он, по Беньямину, именно «размножитель художественных ценностей», он кино показывает. Леонов — обыватель.
И вот вопрос: а что лучше — Искремас («искусство революции в массы») или вот этот вечный приспособленец? Он же трогательный тип на самом деле, он ничего плохого-то не хочет, он просто хочет жить. Но там очень точно показано у Митты, что в иных ситуациях, в иные моменты желание просто жить равносильно предательству. Это было такое нонконформистское произведение. И Митта совершенно прав, что именно после этого фильма его стали знать по-настоящему. Он поставил очень острый, очень болезненный вопрос: выживальцы виноваты или нет? Мне представляется, что тогдашние выживальцы не виноваты, то есть я склонен к этому персонажу Леонова относиться снисходительно. Конечно, в нём есть пошлость. Но ведь, братцы (ужасную вещь скажу), а у революционного авангарда разве нет пошлости? Там её иногда даже больше. И потом, Леонов так его сыграл. Он же не умел быть отрицательным персонажем. Всё равно как-то его понимаешь, ему сочувствуешь, как-то его жалко.
«Роман Аксёнова «Остров Крым» — пророчество о сегодня из вчера. Кто здесь автор — диагност или врач, знающий рецепт?»
Видите ли, пророчество в «Острове Крым» заключается не в том, что Крым стал нашим. Хотя отчасти, конечно, и в этом (и возглавил его Аксёнов временно). Тут проблема в ином. «Остров Крым» — это же роман не о Крыме. Много раз я это говорил, но не лень повторить: «Остров Крым» — это роман о русской интеллигенции, которая всю жизнь мечтает слиться с народом. Это делать совершенно необязательно. Больше того, этого не надо делать, потому что, как только вы это сделаете, вас съедят. Интеллигенция и так народ. Она — его передовая часть. Должна ли она испытывать постоянный комплекс вины? Наверное, должна. И должна ли она всё время мечтать опуститься, мечтать со своих высот куда-то сойти? Нет, не должна. Наоборот, она должна дотянуть до себя остальных.
Противоречие интеллигенции и народа не в том, что интеллигенты хорошо живут или мало работают, или все мешки ворочают, а они — «бла-бла-бла». Совсем не в этом заключается противоречие. Противоречие в том, что интеллигент ставит себе некие задачи нематериального плана, он осуществляет самовоспитание. Он становится лучшей частью народа, а остальные чувствуют себя балластом и радостно говорят: «Ну, не повезло вам с народцем-то». Ну, это глупость очередная, и на эту глупость смешно всерьёз вестись. «Остров Крым» — это роман о том, что никто перед народом не виноват, и что всё время себя винить глупо, и что всё время сближаться с народом тоже глупо, потому что эта тактика провальная и самоубийственная. А Крым здесь не более чем метафора, что Аксёнов сам неоднократно подчёркивал.
«Нужны ли только узким специалистам и знатокам эксперименты Хлебникова с языком? Или звукописи автора «смехачей» — ценность для всего человечества?»
Это пошло с Маяковского, который сказал, что «Хлебников — поэт для поэтов». Конечно, ценность его во владении ремеслом, во владении языком исключительно велика, но, конечно, Хлебников — поэт не только для поэтов. Другое дело, что, как мне представляется, Хлебников — безумец, и безумец в клиническом смысле. И при всей гениальности отдельных его озарений в стихах его очень чувствуется и патология тоже. Так что он поэт не только для поэтов, но он и поэт, строго говоря, для тех, кого законченное, совершенное творчество не устраивает и даже раздражает. Он поэт для искателей несовершенного, для ненавистников законченного высказывания. Таких довольно много.
Вернёмся через три минуты.
РЕКЛАМА
Д. Быков― Продолжаем разговор. Дмитрий Быков в студии «Эха Москвы».
Вопрос, который приходит не в первый раз: «По возможности расскажите о версиях авторства «Тихого Дона». Узнала об этом только сейчас. Считала это обычным производственным романом. Сейчас вижу, что это детектив покруче остальных, Агата Кристи курит в сторонке». Много приводится данных, большое письмо, в том числе упоминается о версии Алексея Головнина, что «Тихий Дон» написан Николаем Гумилёвым. Ну, не хочется же верить, что Гумилёв погиб, верно? Всем хочется верить, что он жив.
Ну, что вам об этом сказать? Я об этом уже много раз говорил и не брезгую повторить ещё раз. Мне всё-таки кажется, что «Тихий Дон» написан Шолоховым, только я согласен с версией Льва Аннинского, что Шолохову было не двадцать пять лет, а на пять лет больше. Убеждает ли меня книга Зеева Бар-Селлы «Литературный котлован»? В чём-то убеждает, в чём-то — нет. Я много раз уже опять-таки говорил о том, что если пользоваться этой методологией, то легко доказать, что Толстой не писал «Войны и мира». Ну, просто откуда ему было знать? Да и вообще человек с незаконченным высшим образом, который имеет только небольшой опыт войны на севастопольских бастионах, на знаменитом Четвёртом бастионе, и опыт создания песни о Чёрной речке. Ну да, повоевал, но не настолько же повоевал, чтобы понимать, как устроена вся грандиозная политика? Да скорее всего, Горчаков написал этот роман, тогдашний канцлер, который действительно в международной политике-то разбирался, и Билибин явно имеет его черты. Такие доказательства приводить — это несложно. У Бар-Селлы много серьёзных доказательств, но считать все шолоховские эпитеты описками, как там сказано, и всегда полагать, что имелось в виду одно, а написано другое? Ну, я всё-таки так далеко не захожу. Версия об авторстве Крюкова, на мой взгляд, не выдерживает критики — просто потому, что ритм крюковской фразы совершенно другой.
У меня на эту тему написан роман «Икс», все желающие могут его прочесть. В общем, желающие уже и прочли, насколько я понимаю, потому что это одна из моих довольно широко обсуждаемых книжек. Мне очень приятно, что она вызывала такие споры. «Икс» выражает мою точку зрения на это. Я считаю, что этот роман написан не разными людьми, как доказывается иногда, а одним человеком, пережившим тяжёлый шок, одним человеком, который переписал собственную рукопись, что автора было два, по сути дела, что это такой роман о раздвоении личности.
Что касается того, как мог молодой человек написать такую книгу. Понимаете, это как раз несложно, потому что книга очень неумелая, она написана человеком гениальным, но неопытным. И не забывайте, пожалуйста, что на всех людей этого поколения тоже ударил какой-то луч. Ну а как Леонов к двадцати восьми годам написал три первоклассных романа, в том числе «Вора»? Как Пильняк написал шесть томов к тридцати годам? Как Федин достаточно рано написал «Города и годы» и выше этого не прыгнул никогда? А Лев Лунц, который умер в двадцать три года, а уже в двадцать лет был автором блистательных драм и рассказов? Время способствовало раннему развитию, раннему росту. Омолаживались люди и постарше, вроде Ходасевича; старели преждевременно люди, вроде Берберовой или Николая Чуковского. Стремительное взросление — вот в чём тема этой эпохи. Поэтому я думаю, что Шолохов мог это написать. Почему Шкловский, который отродясь не писал художественной прозы, написал блистательное «Сентиментальное путешествие», и получился мощный текст? Жизнь такая.
Что касается того, в чём эта книга неумелая. Она построена на очень примитивной конструкции: герой мечется между женой и любовницей и между красными и белыми. Шолохову казалось, что это грандиозное творческое открытие, а на самом деле это довольно примитивная схема. Но она работает. Как всё примитивное, она работает достаточно ясно, и мне это очень нравится. Я вообще люблю этот роман, люблю перечитывать его.
«Вертинский, вернувшийся в СССР, — это коммерческий проект или пропагандистская акция?»
Юра, а почему вы предлагаете только эти два ужасных варианта? Это не было коммерческим проектом для него. Это могло быть пропагандистской акцией для Сталина, но не стало. Обратите внимание, что песню Вертинского о Сталине ему запретили исполнять. Сталин сказал: «Это написал честный человек, но исполнять это не следует». Помните, там:
Весь седой, как серебряный тополь,
Он стоит, принимая парад.
Сколько стоил ему Севастополь!
Сколько стоил ему Сталинград!
Я даже допускаю, что Вертинский это написал вполне искренне. Понимаете, вот с Вертинским какая штука? Искренность его несомненна, потому что, когда он вернулся, он очень старался всем объяснить, что такое жизнь без Родины, и иногда впадал в чудовищные бестактности.
Например, однажды… 1946 год: Вертинский сравнительно недавно вернулся, два года. Ахматова и Пастернак после одного из своих триумфальных литературных вечеров отмечают этот успех, с ними тут же Ольга Берггольц. И вдруг говорят, что хочет приехать Вертинский. Ахматова говорит: «Ну, хорошо, посмотрим на него, послушаем». Приезжает Вертинский и начинает расточать сначала комплименты всем присутствующим, а потом говорит: «Всё-таки, господа, вы даже не понимаете, что такое любить Родину, когда её у вас нет. Только тот, у кого двадцать лет не было Родины, может по-настоящему любить Россию». Пастернак, услышав это, просто грубо выругался. Вертинский пожал плечами, посмотрел на Ахматову, как бы ища у неё защиты. И Ахматова своим тяжёлым голосом сказала: «Да-да!» — то есть она вполне подтвердила пастернаковское мнение.
Вертинский действительно физиологически, физически зависел от России, и ему очень хотелось вернуться. И он искренне полагал, что настоящий патриотизм появляется только у того, кто долго жил за рубежом. Ну, относительно его подлинных взглядов мы судить не можем, но то, что он был в 1945–46 годах глубоко советским человеком, — по-моему, это сомнению не подвергается. Он искренне, как и многие тогда, полагал, что коль скоро Россия противостоит фашизму, она — самая справедливая и добрая сила в мире. Он так думал давно — с 1934 года. Он ведь в 1934 году написал: «И пора уже сознаться, // Что напрасен дальний путь». Помните:
А она цветёт и зреет,
Возрождённая в Огне,
И простит и пожалеет
И о вас, и обо мне!..
Это абсолютно искренние слова. И я вам скажу даже, что из-за границы из-за границы, из эмиграции очень многим — не только Устрялову, не только Святополку-Мирскому, не только Сергею Эфрону, но и многим совершенно аполитичным людям искреннее казалось, что Россия возрождается в огне, и она права, и она всё делает очень хорошо. Из эмиграции всегда так кажется. Ну, конечно, если это не такая травма эмигранта, которая заставляет ненавидеть всё российское, а если это человек, который продолжает любить Родину, который заочно вот так восторженно к ней относится. Это явление ничуть не менее распространённое, чем травма эмигранта. Это такое сменовеховство, евразийство, которое в двадцатые годы процветало. В Париже было огромное количество людей гораздо более советских, чем советские люди, потому что они-то не видели всех этих «прелестей»: не жили в коммуналках, не стояли в очередях, не пытались прорваться в распределители. И их отношение к Советскому Союзу было абстрактным.
Вот я сейчас писал как раз роман про 1939 год. Когда Аля Цветаева-Эфрон въехала сюда и приходила в какие-то дружеские кружки вместе со своим любовником, она называла его мужем, вместе с этим Мулей (Гордоном, насколько я помню [Гуревичем]), она везде говорила о том, какие прекрасные… Её многие принимали за стукачку, за осведомительницу, потому что настолько искренним был её восторг. Так что Вертинский действовал совершенно искренне, и я не нахожу никаких причин ему не доверять.
«Татьяна Даниленко, гражданская жена украинского депутата и активиста Майдана (видео): «Умирать за Украину — круто!» Видимо, мне предлагается его оценить.
Ну, господа, если вы надеетесь, что я сейчас начну защищать решительно всех украинских граждан и все глупости, которые там происходят… Это не так. Мне сегодня… Удивительное вообще это дело — этот гипноз массовый. Сегодня мне одна из очень умных женщин, действительно высоко мною чтимых и талантливых профессионалов в своём литературном деле, говорит мне с такой гордостью: «А я ведь не единомышленница ваша! Я ведь очень дурно думаю об Украине и о том, что там происходит! Наши, конечно, тоже не ангелы, но то, что устроили украинцы, — ну, это мерзость!»
Слушайте, не надо никогда глупость или мерзость родную оправдывать чужой. Не надо искать образца на Украине. Ну, что вы мне-то доказываете, что сейчас на Украине очень много дурного? Да отвратительного там полно! Ну, кто же будет это обожествлять? А что, это не глупость — брать деньги за пролёт российских спутников над Украиной? Ну, большой ерунды представить невозможно! Такой подарок здесь всем укрофобам, что просто… Действительно, вряд ли кто бы придумал такое нарочно. Сейчас широко обсуждается идея разрыва дипломатических отношений. Ну, просто это за гранью добра и зла, на мой взгляд. О чём здесь можно говорить? Какой разрыв дипломатических отношений?
Но оправдывает ли это хоть в какой-то степени то, что творится в Донбассе, или то, что с самого начала происходило вокруг Крыма? Нет, не оправдывает, конечно. Всегда возникает вопрос: кто это начал, зачем и почему? Всегда возникает вопрос: зачем было столько врать, зачем эти чудовищные телевизионные истерики? Ну, помилуйте…
Сейчас дело-то совершенно не в том, что происходит на Украине. На Украине происходит много отвратительного и глупого, как после всякой революции. Кстати говоря, далеко не факт, что там не будет следующей революции. Очень возможно, что тоска по гипнозу Майдана, по веселящему газу Майдана заставит снова устраивать себе эти стрессы — и страна в результате просто погибнет. Это не исключено. Украина сейчас очень тяжело больна, но у этой болезни могут быть разные прогнозы.
А что касается нашего нынешнего состояния, то здесь, я боюсь, прогноз довольно очевиден, потому что оно ухудшается с каждым днём. И количество людей, которые сдвинулись умом, просто не поддаётся исчислению. Видите ли, дело даже не в том, как они относятся к Украине, а дело в том, что они, что называется, принюхавшись, придышавшись, перестают замечать прямую ложь, травлю, шантаж, чудовищную глупость, какой-то абсолютный распад сознания. К этому привыкаешь. Вот говорят, что к хорошему быстро привыкаешь. К плохому ещё быстрее привыкаешь, начинаешь считать его нормой. Поэтому никаких разговоров о том, что на Украине происходит сейчас идеальная жизнь, — их и быть не должно, и не может. Но я полагаю, что нам почаще следовало бы всё-таки на себя, кума, оборачиваться.
«Как вам сборник рассказов Прилепина «Семь жизней»?»
Я ещё его не читал, к сожалению. Когда прочту, постараюсь как-то… Видите ли, ещё раз хочу сказать, что мне совершенно не интересны в данном случае мнения, которые Прилепин высказывает, я этим занимаюсь отдельно. Я буду с интересом этот сборник читать, и мне будет интересно узнать, что, скажем так, ментальная катастрофа, которая с ним случилась, не отразилась на его писательских способностях. Это бывает. Очень может быть. И далеко не все талантливые люди являются моими единомышленниками. Очень может быть, что она отразилась как-то — и тогда подтвердятся мои худшие предположения. Но если подтвердятся лучшие, то я, конечно, останусь, объективен (как мне представляется, это возможно). Я вообще стараюсь оценивать людей вне зависимости от того, что они обо мне думают и говорят, хотя это не всегда удаётся.
«Ваше мнение о писателе Гришковце вы уже озвучивали. А что вы думаете по поводу его манер, в частности изгонять зрителей со своих спектаклей?»
Я не видел, чтобы он кого-то изгонял, но с манерами там действительно серьёзные проблемы, потому что иногда он о коллегах, о людях ничуть не менее одарённых (о том же «Квартете И») высказывается очень пренебрежительно. Мне не нравится, так сказать, эта его попытка искренности, непосредственности в его очень длинных постах. Мне кажется, что очень много фальши в некоторых его высказываниях. Я не обсуждаю чужие манеры, я обсуждаю тон. Этот тон мне не нравится часто. Честно сказать, я не люблю бо́льшую часть того, что делал Гришковец в последнее время. Мне виделось в этом, знаете, много измены театральному жанру. Это не театр, как мне кажется. Это другой жанр, и жанр всё-таки более низкий, конечно. И я видел там слишком много банальности — вот это меня удручало.
Мне очень нравилась у него одна пьеса — «Зима». Мне нравились некоторые его рассказы небольшие. Но я уже давно его книги не могу читать и не рассматриваю всерьёз, начиная примерно с «Рубашки». Что плохо — то плохо. По-моему, можно назвать вещи своими именами, никакой особенной зависти в этом нет. И обратите внимание, что собственно довольно бурная слава Гришковца и в театральных кругах, и в литературных, она как-то схлынула, потому что он, как мне кажется, обнаружил неспособность к росту — самую большую проблему для художника. Художник должен меняться, во всяком случае он должен усложняться. Если этого не происходит, то публика довольно быстро находит себе других кумиров.
Вот очень хороший вопрос: «Неожиданные впечатления от кино — фильм Трюффо «Американская ночь». По сюжету разнообразные страсти актёров на съёмках: капризы, измены. Но удивила невозмутимость персонажа режиссёра. Неужели всё в топку работы? Железный человек на галере призвания. Неужели это портрет любого истинного автора?»
Нет конечно. Видите ли, есть довольно интересная реплика на «Американскую ночь» — это фильм Месхиева, человека очень талантливого, фильм «Экзерсис № 5» в альманахе «Прибытие поезда». Это здорово сделано. Там, правда, нет режиссёра, он не показан, то есть он мельком возникает (по-моему, Серебряков его играет). Там стоит камера на съёмочной площадке, и её забыли выключить, и вот она фиксирует всё, что есть. И там в этой камере образ Бога ненадолго появляется. Это тот самый толстый мальчик, которого в четыре руки кормят, вот кормление ребёнка. Это довольно интересное представление о Боге, который вообще не понимает, что происходит, просто он самый главный на этой съёмочной площадке. Его кормят всем вот этим. Вот всё это — все эти страдания, все эти муки творчества — это его пища. Это довольно интересная была метафора, если я правильно её понял.
Что касается «Американской ночи». Вы знаете, что Трюффо был кинокритиком, и для него фигура режиссёра всегда несколько демонизирована, мифологизирована, преувеличена. Его абсолютным кумиром был Хичкок. Кстати, недавно вышла замечательная документальная картина у нас об этом. Дело в том, что для Трюффо режиссёр — это действительно божественная, мрачная, легендарная фигура, которая всем жертвует ради творчества. Сам Трюффо таким отнюдь не был. Он был гораздо более гуманным, по-моему, гораздо более симпатичным человеком. И, конечно, это представление о режиссёре как о монстре — это нормальное кинокритическое заблуждение, к сожалению, очень распространённое до сих пор. Вы, конечно, спросите, а считаю ли я, что творцу всё можно. Нет, не считаю. Хотя я против того, чтобы творца мерять обычными мерками, потому что нагрузки творца огромные, понимаете.
«Недавно дочитал «Красное колесо» Солженицына. Главное впечатление — автор хочет остановить мгновение истории, стремится зацементировать чудо русской культуры за миг до падения в пропасть. Оценит ли Россия этот титанический труд?»
Нет, конечно, мне кажется, что задача Солженицына была другая — не зацементировать мгновение, а его задача была — наоборот, понять истоки национальной катастрофы, понять, где и в какой момент всё начало рушиться. И вы знаете, у меня есть довольно страшное ощущение, что Солженицын потому и не закончил «Красное колесо» и не стал его дописывать, что он осознал безнадёжность этой попытки. У него ведь нет ответа, кто виноват и что произошло. И Ленин у него не виноват. Наоборот, Ленин у него получился почти автопортретным, с глубокой внутренней линией, он написан не без симпатии. Там много проникновенного, там много действительно глубокого проникновения в чужую психологию, там много прекрасных догадок, но ответа на вопрос «что это было? что произошло?» там нет. В общем, ответ нельзя дать, листая газетные подшивки, изучая поведение фракции большевиков или меньшевиков, изучая, почему было Учредительное собрание и почему его не могло быть, почему Временное правительство сдало власть и так далее. Нельзя, понимаете.
Знаете, это как задачка — соединить девять точек без отрыва карандаша. Без десятой точки эта задача не решается. Без иррационального, без мистического взгляда на историю (необязательно мистического, я не очень люблю это слово, но без иррационального) нельзя. Поэтому роман Пастернака «Доктор Живаго» о Русской революции — это роман-сказка. Поэтому вообще все романы о Русской революции имеют сильнейший элемент фантастики, условностей, каких-то допущений. По газетам это достроить нельзя. И Солженицын как великий писатель-реалист, мне кажется, с задачей романа о Русской революции не справился и, почувствовав это, до революции не дошёл. Он прекратил писать пятое «Колесо» не потому, что понял, как всё было, а потому, что понял, что эта задача не по его темпераменту, не по его характеру и, страшно сказать, не по его возможностям.
Вот довольно занятный на самом деле вопрос, касающийся опять, естественно, поколения студентов: «Понимают ли ваши студенты, что мы, ныне шестидесятилетние, в их возрасте доставали книги на ночь, перепечатывали на машинке и прятали стихи Гумилёва, Бродского, «Собачье сердце» и тех же Стругацких?»
Думаю, нет, не понимают. Не понимают, конечно. Они не могут этого представить. БГ замечательно сказал: «Когда человек может в один клик добраться до любого текста и фильма, он перестаёт осознавать их ценность». Да, конечно, дело ещё и в доступности тоже. Потому что то, что человек может сегодня получить после минутного гугления практически любой текст… Ну, наверное.
Я вам что хочу сказать? Понимаете, Юра, давайте не будем преувеличивать наши подвиги семидесятых-восьмидесятых годов. Это как в анекдоте про противоречия социализма: ни у кого ничем нет, но у всех всё есть. Достать-то всё можно было при желании. Я не говорю о том или ином дефиците, а о текстах. Я помню, что совершенно свободно…. Например, 1983 год — я поступил в Школу юного журналиста. Совершенно свободно по рукам ходили ксероксы «Лолиты», каких-то эзотерических текстов. В 1984-м, когда я уже учился на журфаке, вместо «Теории и практики зарубежной печати» нам рассказывали про «Розу Мира», и я её читал, и прочёл её гораздо раньше публикации, и потрясла она меня абсолютно. То есть опять-таки, говоря о семидесятых, не надо преувеличивать ужас вот этой духовной изоляции. Всё было нормально. Понимаете, был бы интерес — и тогда можно было получить (и не только на одну ночь) и Стругацких, и во всяком случае Платонова, уже в 1972 году изданного в «Ardis».
Кстати, я помню, что для нас для всех эти вещи были драгоценные. Вот я недавно у одного крупного русского филолога, гостя в Штатах, увидел у него на полках до сих пор уцелевшие бледные ксероксы тех книг. Он давно уже может их купить в оригинальном виде и в любом переводе в книжном издании, а они у него стоят, потому что ценность книги была тогда другой. И, кстати говоря, был такой анекдот, который прекрасно характеризовал тогдашнее сознание: «Что сделать, чтобы ребёнок прочитал «Войну и мир»? Дать на ксероксе на одну ночь — и тогда он прочтёт». Так и читали. Простите, я «Доктора Живаго» получил в своё время, в 1985 году, на две ночи. Прочёл, ничего не понял, но мне было очень интересно. Да, наверное, это такой был… Понимаете, это ещё одно свидетельство того, что невротизация бессмертна и что она не так уж и вредна.
Вопрос о Гоголе. Попробуем.
«Чёрный монах» Чехова — это история мании величия или притча о гибели дара?»
Одно другому не мешает, но это, конечно, история о том, что без энергии заблуждения, без мании, без сознания своего величия, может быть, даже безумства — в общем, без мании нет пути, нет творчества. Потому что, пока у героя есть его чёрный монах, пока у него есть мания, безумие, у него всё получается, а потом он становится пошляком. И он умирает счастливым, когда монах возвращается к нему.
Понимаете, у Чехова же очень много было таких романтических, странных произведений глубокой, романтической веры в то, что без мании, без одержимости нельзя жить и работать. Он в своё время Суворину писал: «У нашего времени нет темперамента, нет внутренней энергии. Недаром, недаром она с гусаром! — он всё время повторяет. — Недаром такое общество — блёклое, выродившееся. Потому что мы не умеем мыслить, не умеем дышать. Рыбья кровь! А вот в вашем поколении, — говорит он восторженно, — ещё что-то есть». И может быть, он поэтому к Суворину так и тянулся, хотя и называл «Новости дня» «Пакостями дня», это понятно, но тем не менее он стремился к стремлению, стремился чего-то хотеть. И я думаю, что поездка на Сахалин диктовалась теми же чувствами. Он же писал: «Станиславский неправильно играет! Надо ему спермину дать. Надо играть человека со страстями!» И это очень по-чеховски. Поэтому я не думаю, что «Чёрный монах» — это история о безумии. Я думаю, что это скорее история великого и по-своему несчастного дара.
«Правильно ли понял Аскольдов замысел Гроссмана в фильме «Комиссар»?»
Видите ли, он же, мне кажется, не стремился понимать замысел Гроссмана, а он лепил собственное произведение, достаточно глубокое и сложное: противопоставление семейных ценностей ценностям комиссарским. И для него, в отличие от Гроссмана, вопрос однозначно разрешается в пользу семьи.
Вернёмся через три минуты.
НОВОСТИ
Д. Быков― Продолжаем разговор. Поступает очень много заявок на лекцию. Вы знаете, мне кажется, что час на Достоевского — нормально. Полчаса — мало. Ну, всё равно в итоге набежит сорок минут с небольшим.
Я готов, кстати… Вот тут пишут, что я не готов выдерживать дискуссию. Готов! Ребята, пожалуйста — dmibykov@yandex.ru. В сообществе ru-bykov.livejournal.com тоже пишите и вывешивайте любые вопросы, возражения. Для меня слаще мёду любые теоретические споры, потому что я очень устал сейчас от той атмосферы дискуссии, которая возникает. «Если вам всё так не нравится, почему вы до сих пор не уехали?» Да мне всё нравится — именно поэтому я никуда и не уехал. Это меня и восхищает. А эти все разговоры… Как было когда-то сказано у Жванецкого: «Это всё равно что в решающий момент спора предъявить документы». Давайте спорить теоретически. Я продолжаю ждать вопросов о Достоевском.
Просят высказаться о Роберте Рождественском. Я обещал лекцию о нём, но давайте ограничимся всё-таки некоторым высказыванием менее масштабным.
Было время, когда Рождественский мне представлялся очень хорошим поэтом, но потом так произошло, что я, конечно, стал замечать примерно то же, что в нём стали замечать довольно рано его ровесники — это уход в риторику, в демагогию, писание вдоль темы. Да в нём всегда был некоторый… Ну, «писание вдоль темы» — это термин Шкловского, когда вместо глубинного понимания вещей происходит поверхностное их описание, вместо показа пересказ. У него было много самоподзавода, некоторой истерики, а особенно, конечно, в американских стихах, где он, мне кажется, ничуть не лучше симоновских «Друзей и врагов» — ужасно прямолинеен, ужасно идеологичен.
Но помимо этой идейности у него случались хорошие, настоящие стихи. Замечательной была «Легенда о джине» про джинна, который лез ко всем со своим добром, а никто ему не верил, никто не верил в его безвозмездность, и в результате он стал разводить крыжовник, так и жил:
Над хутором заброшенным,
над последней страстью чудака
плыли —
не плохие, не хорошие —
средние
века.
Это не такая очевидная история. Это история о том, что у человека в определённые исторические моменты ничего не остаётся, кроме «теории самых малых дел». Ну, можно спорить о том, хорошо это или плохо, но по факту это единственный выход.
Тут, кстати, очень много вопросов о том, что… Люди жалуются на депрессию. Как с ней бороться? Что делать, когда погано? И так далее. Если это просто плохое настроение, то можно разложить пасьянс «Паук». Если это стойкое плохое настроение, то можно принять медикаменты. В общем, тут вам никто не даст совета, кроме профессионального психолога. Но я хочу напомнить совет, который мне дал когда-то один киевский, кстати, психолог лет за пятнадцать до всех этих дел. Мне тогда этот человек, эта женщина сказала: «Наверное, не нужно всегда винить только себя. Иногда виновато время».
Эпоха, в которую мы, например, сейчас живём, — это эпоха очень больная. Посмотрите, сколько семейных склок, сколько страшных, изломанных отношений. А всё это оттого, что люди таким образом вымещают подспудное, не находящее выхода раздражение. Это настроение довольно распространённое. Ну, что поделать? Периоды общественной депрессии, периоды реакции — они всегда выражаются вот так. Иногда вы ссоритесь с родителями не потому, что они плохи или вы плохи, а потому, что обстановка удушающая.
Я немножко отошёл от Рождественского, но просто очень много вопросов на эту тему. Ну, вспомните прозу, например, Тендрякова. Владимир Тендряков был не самый плохой писатель, но все моральные проблемы, которые он ставил в семидесятые годы, не имеют решения. Почему? Потому что они неправильно поставлены — они поставлены в уродливую эпоху. И уродливые условия этой эпохи вынуждают людей жить кривой, болезненной моралью, ставить кривые проблемы, оказываться перед абсолютно неразрешимыми ситуациями. Вот «Ночь после выпуска» — абсолютно истерическая повесть, где старшеклассники, такие акселераты, прежде времени повзрослевшие, мучительно выясняют мучительные отношения, говоря друг другу все гадости после выпуска (тут и сексуальность подавленная, и всё). Ну, это же изуродованные люди, как вы не понимаете! Это люди, которые поставлены в абсолютно уродливые обстоятельства, в чудовищные условия. О чём тут говорить? Поэтому и не может быть адекватного решения для тех проблем, потому что это кривое пространство.
И Рождественский это чувствовал, поэтому в «Джинне» сделан правильный выбор. Что делать? Разводить крыжовник — ягоду, в которой витамин. У него были неплохие вот эти притчи поэтические, я помню «Страна была до того малюсенькой». Очень неплохие были у него и военные стихи. Кстати говоря, и в «Реквиеме» — в поэме, из которой Кабалевский сделал ораторию, — случались неплохие главы, вроде «Чёрный камень» и так далее.
Но проблема его, обозначенная Львом Аннинским ещё в 1964 году в «Ядре ореха», была в том, что оттепель захлебнулась, она стала повторять сама себя, у неё не было (вот самое страшное) развития — ни метафизического, ни теоретического, не религиозного, ни формального даже. Она не развивалась. Тогда очень правильно сказал Аннинский, что «переход к жанру поэмы — это капитуляция лирики», капитуляция глубокого, по-настоящему непосредственного анализа того, что происходит. Перешли к такому эпическому нарративу.
Евтушенко, как всегда, первым сориентировался и написал «Братскую ГЭС» — наверное, единственный выход в тех условиях. Но всё-таки, как правильно заметил Александр Иванов, это «панибратская ГЭС», в ней действительно многовато было сближений разных, совершенно разноприродных явлений мировой культуры, и диалог египетской пирамиды и Братской ГЭС был чудовищно моветонен. Поэмы Рождественского, в том числе знаменитая «Письмо в тридцатый век», — это был очень серьёзный шаг назад.
Вы,
родившиеся в трёхтысячном
удивительные умы!
Археологи ваши
отыщут то,
как жили и
что строили мы.
Это декларация абсолютная. Кстати говоря, я помню, как какой-то артист, готовясь к выступлению на каком-то довольно пафосном мероприятии… Я туда как школьник был приглашён тоже какие-то стихи читать совершенно безыдейные. Я помню, как мрачно ходил какой-то артист, известный исполнением комсомольских ролей в советском кино, и яростно бормотал:
Мы судьбою не заласканы.
И когда придёт беда,
мы возьмём судьбу за лацканы
И судьба ответит:
«Да».
Вот много такой комсомольщины было в Рождественском, и она очень раздражала. Человек он был добрый в общем, скорее понимающий, но в нём было (во всяком случае в позднем Рождественском) некоторое поэтическое самодовольство. Он действительно остановился.
Прорыв наступил после смертельной болезни, когда у него обнаружили опухоль мозга, когда после операции он вернулся к жизни, и какое-то время он писал очень жёсткие, покаянные и очень горькие стихи. И из них, конечно, наиболее известный… Я его уже один раз цитировал, могу процитировать ещё раз:
Тихо летят паутинные нити.
Солнце горит на оконном стекле.
Что-то я делал не так;
Извините:
Жил я впервые на этой земле.
Я её только теперь ощущаю.
К ней припадаю.
И ею клянусь…
(Вот плохая строчка)
И по-другому прожить обещаю.
Если вернусь…
Но ведь я не вернусь.
Это хорошая, честная, горькая самоирония. Он многое пересмотрел, мне кажется. И он по-другому начал бы писать, но у него времени не было. И потом, есть поэты, которые могут существовать только в своей эпохе. Вот его время кончилось, советское время кончилось, а к новым конфликтам он был совершенно не готов, потому что он был добрый, нормальный человек. И надо было провести над собой какую-то очень сильную операцию, чтобы начать воспринимать вот это свихнувшееся время.
Вознесенскому это удалось, хотя и страшной ценой. Евтушенко, по-моему, никакого принципиального скачка не совершил, но он за счёт прекрасного владения формой всегда умел, как мне кажется, писать хорошие стихи даже в те времена, которых не понимал. Правда, и у него тоже были в это время чудовищные вкусовые провалы. Я не знаю, на какой понятийной и человеческой высоте надо было стоять, чтобы нормально воспринять девяностые. Ведь тут, так сказать, петуха пускал и Бродский, как, например, в «Подражании Горацию»:
Но ты, кораблик, чей кормщик Боря,
Лети куда-то, с волнами споря…
По-моему, просто очень слабые стихи. Вот Лев Лосев с его постоянным отчаянием и с каким-то пугающим отсутствием лирического героя, с его заниженным болевым порогом — вот он как-то в это время вписался. И то, что Лосев писал в девяностые, мне нравится больше, чем то, что писал в это время Бродский. Кстати, много вопросов, много просьб рассказать о Лосеве. Я с удовольствием попробую это сделать.
Смотрю остальные вопросы. Так, так, так…
Вот это очень интересный вопрос: «Кто останется из нынешней литературы?»
Видите ли, Наташа, я далёк от мысли давать такие прогнозы. Я очень люблю байку, которую рассказывает Веллер. Когда Гюго спросили, кто первый поэт Франции, он долго кряхтел, а потом сказал: «Второй — Альфред де Мюссе». Но если говорить серьёзно, то у нас у всех очень небольшие шансы остаться, потому что страна вступает явно в новый этап своего существования, в котором всё, написанное сейчас, будет рассматриваться как литература поздней Византии. Ну, кому сейчас интересна поздневизантийская литература? Немногим специалистам, людям такого ранга, как Сергей Сергеевич Аверинцев. Она станет уделом специалистов, как литература позднего Рима в частности. У меня нет сколько-нибудь внятного ощущения, что мы будем нужны, востребованы, понятны и так далее. У меня есть ощущение некоторой обречённости, но оно меня даже греет, потому что всегда приятно стать для кого-то плодородной средой, тем гумусом, из которого вырастут гении.
Мне кажется, что годам к тридцатым в России появятся новые Толстые — люди, которые напишут новую «Войну и мир», может быть, на материале Великой Отечественной, потому что смогут к ней… Понимаете, тут же вот какая штука произойдёт. Я могу, наверное, это сказать с достаточной долей уверенности. После тех нагромождений официозной лжи, которую мы видим сейчас, после той сакрализации всего знания о войне и запрете на архивные публикации, при абсолютной унификации подходов к войне неизбежен период новой правды. О ней, когда откроются архивы, когда заговорят многие свидетельства… Мы не знаем, доживёт хоть один ветеран до этих времён (могут они и дожить), но самое главное, что заговорят. Слушайте, а многие ли ветераны Бородинского сражения дожили до шестидесятых годов? Единицы. Тем не менее, Толстой свою правду нашёл и сказал.
Вот мы переживём колоссальный этап возвращения к ценностям, к проблемам Великой Отечественной. Это вопрос ближайшего будущего, потому что чем дольше стоит запрет, тем сильнее хлынет правда после этого запрета. Нас ожидает огромный прорыв в знаниях о Великой Отечественной. И я убеждён, что этот прорыв приведёт к созданию великой прозы. Она будет, мне кажется, немного похожа на военную прозу, Царствие ему небесное, Бориса Иванова — великолепного ленинградского… петербургского авангардиста, создателя журнала «Часы», чьи военные рассказы, по-моему, были очень хороши. Сейчас автору этого будущего романа о Второй мировой, может быть, лет десять.
«Думаю над вашим стихотворением «На самом деле мне нравилась только ты», — спасибо, очень приятно, — и не могу понять: это ирония или скрытое отчаяние от невозможности никем заменить любимую женщину?»
Нет, это ни то, ни то. Ну, как вам сказать? Будем откровенны. Это стихи о том, что после первой любви всё время… Ну, как вот фрейдисты считают, что в каждой женщине мужчина ищет мать (что, по-моему, не совсем верно). В первой любви всегда есть невероятная полнота, невероятная сила и острота чувства, поэтому всю жизнь этому первому опыту как-то бессознательно подражаешь. Во всяком случае, так было в моей биографии. Эти стихи написаны о женщине, с которой у меня действительно была довольно долгая любовь. И потом уже, когда мы все успели и развестись, и пережениться, и она замуж вышла и уехала, она вернулась сюда ненадолго, и была между нами такая кратковременная, но сильная вспышка прежней страсти, абсолютно ничем не омрачённая. Прошло, наверное, семнадцать лет с того момента, как мы познакомились, но была такая довольно бурная, кратковременная, но очень сильная опять любовь. Я про неё и написал.
Действительно как-то так получилось, что и её имя, и её какие-то черты и признаки, и её привычки оказались равномерно распределены между всеми моими следующими возлюбленными, хотя я встретил потом много женщин гораздо более достойных, гораздо более прекрасных, и был гораздо более счастлив с ними, но просто бессознательно я какие-то её черты в них искал. И слава богу, может быть, что не находил. Сейчас, уже после многих лет, это всё давно перегорело. И я благодарен ей уже хотя бы за одно то, что я с неё стряс, с этих отношений, по крайней мере, одно стихотворение. Хотя я довольно много когда-то про неё писал, но, слава богу, не печатал.
«Как вы и ваша мама относитесь к эмоциональным выступлениям Людмилы Аполлоновны Ясюковой, которые во множестве выложены в Интернете? — ну, мама совершенно точно по Интернету не шарится. — Действительно ли это ужас-ужас из-за того, что злокозненные доктора наук и минобр навязали неправильные методики вместо правильных, плодят неграмотность, придурков? Вот ссылка на передачу «Умные больше не нужны». И заодно: что вы думаете о ЕГЭ? Здоровья». Вам тоже здоровья.
Будем откровенны, я без большого энтузиазма отношусь ко всем этим крикам о том, что «пропала Россия, погубили!». Да, я плохо отношусь к ЕГЭ, это очевидно. Слава богу, ЕГЭ по литературе постепенно отменяется. Думаю, что оно начнёт вообще сдавать многие позиции. Ну и вообще, понимаете, объективно в двадцатые годы в российской истории настанет черёд колоссальной подъёма этой образовательной темы. Образование будет самым модным занятием, самой модной проблемой. Образование, здравоохранение и, может быть, отчасти армия — это будут такие колоссальные российские приоритеты. Думаю, что и космос. Это мы очень скоро всё увидим. У нас будет гигантская реформа образования. У нас будет потрясающее, я думаю, на какое-то время лучшее в мире образование, приспособленное уже не к нуждам запоминания, а к пониманию. У нас лучшие в мире учителя, безусловно, сейчас есть, потому что они умудряются вопреки всему работать и учить. Всё это у нас будет очень скоро — чуть только немножко поменяется тренд развития страны, вот этот тренд на угасание и на отрицательную, негативную селекцию. Это довольно быстро произойдёт.
Что касается людей, которые сегодня стенают и кричат. К их стенаниям я тоже отношусь без восторга. Мне может нравиться, а может не нравиться то, что делает Ливанов, но те люди, которые защищают от Ливанова Академию наук, мне кажется, во многих отношениях хуже, опаснее. И нечего стенать о том, что в России гибнет образование. Оно не гибнет. Посмотрите на результаты. Посмотрите на то, какие растут умные студенты.
Вы мне скажете: «А, вы общаетесь с элитарными студентами! Вы не бываете в глубинке». Да бываю, в том-то всё и дело! И не зависит по большому счёту от элитарности сегодня ничего, потому что вся элитарность уехала за границу. Элита обучается там, у них. А те, кто обучаются в России, — это олимпиадники с замечательными результатами (во всяком случае, по литературе), это потрясающие молодые поэты, которых я вижу сейчас очень много. Ну не надо делать вид, что у нас всё деградировало! У нас, наоборот, подготовляется мощный, грандиозный культурный взрыв, и этот культурный взрыв в ближайшее время поразит мир. Смешно слушать о том, что русское образование погибло. Если люди остаются работать в школе при нынешних условиях — значит, это святые, фанатики. А вы говорите «погибло всё». Наоборот.
Вот интересный, кстати, как мне кажется, вопрос: «Спасибо за «Списанных», — вам тоже спасибо. — Почему недостоин вашего внимания, предположим, Олесь Бузина — поэт, писатель, историк, украинец и русский человек? Не сказать ли вам о нём, не упомянуть ли, раз уж вы едете в Одессу?» Ну, в Одессу я еду не скоро, я планирую там оказаться только в июне и дать — подчёркиваю — бесплатный поэтический вечер.
Что касается Олеся Бузины. Я много раз говорил о том, что плохих журналистов не убивают. Если Олеся Бузину убили, значит он убийцам своим мешал. А человек, который мешает убийцам, в любом случае заслуживает уважения и интереса. Что касается текстов Бузины и некоторых его высказываний. Я понимаю, что они часто были эпатажными, иначе он не мог быть услышан, но к большинству его оценочных мнений — в частности, к его суждениям о Тарасе Шевченко — я отношусь просто с ужасом. Но я признаю, что он был талантливый человек, которого интересно было читать.
И, уж конечно, я думаю, что сегодняшняя Украина не является оплотом веротерпимости. Конечно, в сегодняшней Украине терпимости неоткуда взяться. Другой вопрос — каков вклад в эту нетерпимость и в эти чудовищные условия, каков вклад России в это всё? А так-то, конечно, убийство Олеся Бузины вызывает у меня жаркое негодование. И сам Олесь Бузина был, безусловно, весьма одарённым человеком. Вы напрасно думаете, что я сейчас начну делить всех на своих и чужих. Я делаю, конечно, но при этом я всегда воздаю должное таланту и храбрости. Ещё раз вам говорю: плохих не убивают.
«Хотелось бы узнать ваше мнение по поводу книги Финна и Куве «Дело Живаго: Кремль, ЦРУ и борьба за запрещённую книгу».
Я уже много раз высказывал это мнение — и, грех сказать, даже в стихах, у меня был такой доклад в стихах на октябрьской конференции по Пастернаку в Стэнфорде в прошлом году. Да, конечно, эта книга мне представляется более интересной, в каком-то смысле более доказательной и, может быть, более объективной, чем «Правда», вышедшая раньше книга Толстого. Приоритет здесь во многом за Толстым. Но я продолжаю настаивать: «Доктор Живаго» стал хитом, культовой книгой и нобелевским лауреатом не потому, что его раскручивало ЦРУ (ЦРУ раскручивало многих), а потому, что это значительная книга, которая предлагает новую концепцию истории. Таково моё мнение.
«Будет ли ваш творческий вечер в Алма-Ате?» Да, насколько я знаю, будет.
«Как вы оцениваете творчество Александра Кабакова?»
Я очень люблю Александра Кабакова, и даже дело не только в творчестве. Я люблю его как человека в целом, как явление культуры — по двум причинам. Во-первых, он человек большого остроумия и достоинства. Во-вторых, в его книгах развивается довольно сложная, не всегда понятная (во всяком случае, не всем понятная), но очень для меня принципиальная мысль: терпеть хуже, чем бороться. Да, иногда борьба развращает людей. Да, иногда она создаёт фанатиков. Но тот, кто не борется, тот, кто терпит, тот гниёт, развращается быстрее. Я люблю Кабакова именно за то, что он не любит терпил и терпение, а любит героев, типа Кристаповича (у него был замечательный роман «Подход Кристаповича»), — героев борющихся, людей действия. Как Стругацкие любят, как Веллер любит.
Мне представляется, что Кабаков — довольно сильный писатель. У него есть замечательные романы, такие как «Последний герой», который, я помню, мне очень нравился в своё время, но я давно не перечитывал. И «Бульварный роман» — замечательное произведение. Ну, «Невозвращенец» — что там говорить? Там замечательная экстраполяция. Это книга, которая приковала к нему внимание. Но и «Всё поправимо» — тоже книга ничуть не хуже. Просто к нему привыкли как к автору антиутопий, а он же прежде всего как раз замечательный, точный бытописатель, замечательный знаток быта и сознания российской интеллигенции. Да, я Кабакова люблю, хотя я к его многим убеждениям и взглядам отношусь достаточно скептично.
«Когда-то вы говорили, что Дуглас Адамс вам не близок, потому что научная фантастика должна быть страшной, а он же пишет в юмористическом жанре. Мне же все пять книг «Путеводителя» показались уморительными. Можете вы назвать что-нибудь действительно смешное, что-то, от чего вы сами смеялись вслух?»
Я, например, вслух смеялся от… Сейчас скажу вам. От веллеровской «Баллады о знамени». Очень отчётливо помню, как я дома один ночью читаю только что привезённый Веллером из Эстонии ещё тогда препринт «Легенд Невского проспекта», читаю «Балладу о знамени» и хохочу в голос. Очень многое у Токаревой мне казалось забавным (у ранней, молодой Токаревой). Чтобы в голос смеяться… Кстати, ранние фантастические повести Алексея Иванова. В голос я смеялся над романами Михаила Успенского и весь самолёт напугал, хохоча над «Там, где нас нет». Да много текстов. Я не говорю уже про Ильфа и Петрова, которые тоже меня заставляли хохотать от души. Ну, много, много таких вещей, которые по-настоящему забавны.
Из переводной литературы я затрудняюсь вспомнить книгу, которая бы меня… Ну, Виан. Да, над Вианом я, пожалуй, всегда хохотал, потому что этот юмор уж очень циничен, чёрен. Дмитрий Горчев — конечно. Некоторые рассказы Горчева, Царствие ему небесное, заставляли меня смеяться очень сильно. «Сено-солома» Житинского — конечно. Чего тут говорить? Совершенно грандиозное произведение. Ну, маленькое, но жутко смешное. «Ювобль» и «Ошибка, которая нас погубит» Попова — вот такие вещи. Ужасно мне нравилось… Да, Лев Лайнер очень мне нравился с его «Приключениями воздухоплавателя Редькина» [автор — Леонид Треер], такая детская история. Как сейчас помню, над «Сибирскими огнями» просто я укатывался. Да, люблю я всё это. Ну, это детство было. Тогда многое было иначе, и сам я как-то гораздо веселее относился к текущей реальности. В детстве я хохотал над многим. И вообще был страшно смешлив.
Вот ещё приползло несколько вопросов уже теперь на форум. Сейчас, подождите, из-за виснущего компа не так легко до них добраться.
«Интересен ли вам Добролюбов? Даёт ли новое поколение людей такого калибра?»
Ну, как вам сказать? Мне Александр Михайлович Добролюбов более интересен. Если вы не знаете о нём, то почитайте его биографию. Это тот самый, который создал во многих отношениях поэтику, образ жизни и мысли Серебряного века, а умер в 1945 году печником в Нагорном Карабахе, став основателем замечательной секты, интересной. Александр Михайлович Добролюбов с его инициалами А.М.Д., в которых ему виделось «Ave, Mater Dei». До сих пор помню гениальные лекции Николая Богомолова о нём, страстные и интересные, как он читал нам стихи его загадочные (вот эти: «Подо мною орлы, орлы говорящие…») из книги «Natura naturans».
Что касается Николая Добролюбова. Он был крупный критик, замечательный мыслитель. Нравится мне его сатирические стихи, печатавшиеся в «Свистке». Больше всего, конечно, из статей его нравится мне «Когда же придёт настоящий день?», которая так перепугала Тургенева, что он порвал с «Современником» сразу и в чём было уехал в Баден-Баден. И, конечно, восхищает меня статья «Луч света в тёмном царстве», где предсказано очень важное: почему протест вырывается именно из женской груди? Вот феномен Ольги Ли, отчасти феномен Ольги Романовой, отчасти феномен «Pussy Riot». Почему женщина меньше боится? А потому что ей некуда уже отступать, потому что она и так самая угнетённая в обществе сила. Добролюбов обозначил этот феномен очень интересно. Хотя многие его статьи и скучны, но многие и блистательны. Конечно, он был крупный человек. Даст ли новое поколение таких людей? Конечно, даст. Уже даёт. Не хочу их называть опять, чтобы не портить им жизнь. Но поверьте мне, что я лично знаю пять, может быть, шесть человек этого поколения, которым сейчас в диапазоне от двадцати до двадцати пяти лет, которые глубиной охвата, знаниями и оригинальностью концепции могут поспорить с лучшими умами уж точно советских шестидесятых, а может быть, и русских шестидесятых.
«Если у игиловцев есть свои мастера словесности, зажигающие всех подряд на джихад с отрезанием голов, то вам, цивилизованному мастеру составления слов, нужно разметать все преграды и поднять хомяков на задние лапы!»
Ну, я не ставлю себе такой задачи, дорогой Иван Сидоренко. Поднять хомяков на задние лапы — тем более. Я ставлю гораздо более простую задачу. Знаете, разбудить в людях отрицательные эмоции очень просто. Вызвать ненависть — не такая проблема. Вот вам, пожалуйста, телевизор это демонстрирует. Гораздо труднее вызвать эмоции положительные: любовь, жалость, умиление, нежность, сострадание. Очень много этого, и это нужно. Вызвать это я считаю задачей более благородной. А вызвать ненависть? Господи, это совершенно элементарно! Несколько раз повтори: «Сколько раз увидишь его, столько раз его и убей». Это не значит, что я плохо отношусь к стихам Симонова. Симонов сыграл свою роль в это время, и его военные стихи были тогда действительно, как это Шолохов назвал, «наукой ненависти», таким «витамином ненависти». Он тоже необходим. Советскому человеку, который был всё-таки избалован какой-никакой, а коммунистической пропагандой, ему трудно было привыкнуть к человеконенавистничеству, но иногда без этого не обойдёшься. При этом я перед собой не ставлю задачи кого-то разозлить. Разозлить нетрудно. Я ставлю задачу — заставить думать.
И буду это делать опять ещё через три минуты.
РЕКЛАМА
Д. Быков― Продолжаем разговор. Я на эту четверть специально отложил некоторое количество личных вопросов и вопросов, скажем так, лирического плана.
«Что вы думаете о творчестве Виктора Потанина?» — меня спрашивают.
Я знаю этого писателя. Это курганский автор, автор лирических рассказов, долгое время печатавшихся в «Современнике». Он хороший писатель такого уровня… Ну, представьте, если вот Юрий Казаков — это первый ряд русской новеллистки… Трудно сказать, кто второй. Ну, допустим, Георгий Семёнов — второй, то Виктор Потанин — мне кажется, в крепком третьем ряду. Простите меня за ранжирование. Нам, учителям, положено. Но он хороший писатель. Некоторые его рассказы, в «Современнике» напечатанные, мне очень нравились. Хотя его причисляют к почвенникам, но это почвенничество такое лирическое, беззлобное.
Долгое письмо Алексея. Он рассказывает, что полюбил девушку и не может себе противиться. Между тем, он недавно женился и понимает, что для жены будет очень большим ударом, если он ей признается. И признаться он не может, а девушку любит, и девушка значительно младше. И вот как быть?
Понимаете, Лёша, очень хорошо говорила когда-то Виктория Токарева: «Мне все женщины стремятся рассказать свою историю. Им кажется, что это так оригинально, что этого никогда не было! А я-то знаю, что это… Двадцать пятый раз я просто это выслушиваю, не говоря о том, сколько раз я всё это переживала сама». Ваша коллизия — она неразрешима, она вечная, к сожалению, она из разряда регулярно встречающихся. И заключена она вот в чём. По-моему, пора уже наконец просто назвать вещи своими именами. Тут похоть ни при чём, и секс ни при чём. Просто очень приятно любить и быть любимым. Особенно сейчас, весной, эта проблема актуальна. Это тот витамин, которого ничто не даст. Как невозможно вообразить себе теоретически тёплую ванну, а надо в неё сесть, точно так же… Есть вещи, которые только эмпирически постижимы, и вещи, которые нельзя заменить.
Любовь — это очень сильный витамин. Я бы даже сказал, что это очень сильный наркотик, это такой эндорфин. Когда вы любите, вы испытываете действительно колоссальное усиление всех чувств, вы начинаете замечать природу, вы лучше относитесь к себе. У нас же почти не за что себя уважать. А если вас любят, если любите вы, то вы начинаете гораздо лучше к себе относиться, и летать вам хочется, и писать вам хочется. Кстати, Тургенев — он неглупый был человек, он же признавался Софье Андреевне: «Всё хорошее, что я сделал, я сделал, когда меня трясла лихорадка любви». Это необязательно лихорадка, но если человек не влюблён, то и писать он по-настоящему не может.
Знаете, сколько раз я замечал: всё-таки периоды какой-то лирической активности связаны с тем, что любишь кого-то. Ну, такие мысли замечательные приходят в голову — а стихи получаются вялые, анемичные, и печатать их потом не хочется (я многие и не напечатал). А когда ты влюблён, любая ерунда облекается у тебя сразу в музыкальную прекрасную форму, даже не надо искать просодию. Ну, пришла мысль обычно — и думаешь, как её изложить. Не всегда же так бывает хорошо, что приходит первая строчка. Как правильно меня Матвеева учила: «Когда приходит строчка, старайтесь захватить как можно больше». Есть всегда такое окно, вот оно открывается ненадолго. Из нового стихотворения приходит пять-шесть строчек — хватайте их! Обычно, к сожалению, хватаешь одну — и удовлетворяешься этим, начинаешь как-то пережёвывать её. Спешите ловить этот момент, когда форма стихотворения только лепится под руками. Но я вот замечаю, что она лучше всего лепится, когда ты всё-таки при этом влюблён. Тогда ты замечаешь, чем пахнет на улице, и вообще какая-то весна наступает. Нельзя же жить в обстановке всё время поэтики зимы, поэтики долга, когда надо с утра идти на холодную работу, когда надо вытаскивать себя из-под одеяла. Можно же пожить в поэтике счастья, когда что-то можно, когда что-то цветёт и пахнет. Это же счастье чистое!
И вот любовь — это тот витамин, который нечем заменить. Поэтому я не могу вам дать никакого совета (и не буду давать). Просто наслаждайтесь, пока есть, ловите этот момент. Да, конечно, будут потом страдания, будут потом раскаяния. Если вы с этой девушкой крепко друг друга полюбите, очень возможно, что вам придётся и из семьи уходить, а потом в этой девушке разочаровываться, а потом ещё раз влюбляться. Ну, мир так устроен, понимаете. К сожалению, человеку этот наркотик нужен. Вот как есть некоторые… Ну, даже называть это «наркотиком» — словом с такой негативной модальностью — не очень приятно, не очень полезно. Наверное, это просто как какой-то необходимый ингредиент, как соль, как кислород какой-то.
Ну, что поделать? Иногда это греховно. Иногда вы женаты, а к вам приходит вдруг чувство. Ни в коем случае нельзя его душить, потому что хуже потом всем будет. Вы правильно пишете: «Мы дважды уже пытались это чувство заглушить, задушить, а потом опять сбегались с утроенной силой». Чем больше вы будете душить, тем с большей силой вы будете потом сбегаться. Вы попробуйте друг другу надоесть, это гораздо лучше работает. Но для этого нужно время. А что касается вашей жены, то я никаких советов ей тоже дать не могу. Если она терпелива и умна, она спокойно это выдержит; а если нетерпелива и горда, то выставит вас на улицу. Ну, тогда у вас начнётся новая жизнь.
Я просто хочу сказать, что если вам обломилось такое счастье (как у того же Попова: «Мне обломилась такая великолепная вещь, как любовь»), если это прекрасное ощущение вам обломилось, то глупо как-то и, я бы даже сказал, неблагодарно его душить. Просто надо отличать, на мой взгляд, любовь от скуки. Иногда люди от скуки друг друга как-то так начинают… Ну, как в замечательном фильме Авдотьи Смирновой «Связь», когда два абсолютно пустых человек любят друг друга просто потому, что им делать больше нечего, их ничто не связывает, даже постель не связывает. Это бывает. Ну, бывают у них такие минуты внезапной нежности, но в целом они — просто скучающие люди. Единственный там интересный человек — это муж, которого гениально сыграл Дмитрий Шевченко.
А в принципе о чём говорить? Отличайте эту любовь от скуки. Если это на самом деле любовь, если вам этот человек страстно, безумно интересен, если вы в его присутствии готовы на какие-то свершения — ну и ради бога, и прекрасно! И глупо и нерасчётливо будет этим не воспользоваться. Пишите стихи.
«Просьба. Расскажите о вашем женском идеале».
Трудно очень… Лимонов на этот вопрос мне когда-то в интервью ответил: «Мои жёны», — и этим сразу снял все вопросы, потому что их же было несколько, и поэтому у него нет чувства вины ни перед одной. Да, он может просто сказать, что они все — идеал. Вот в разное время менялся идеал.
Я могу вам сказать о качествах, которые я люблю. Внешние? Понятно, что внешние мои претензии к идеалу довольно очевидны. Моим идеалом красоты была и остаётся Ариадна Эфрон, мне очень нравится Вера Глаголева — вот такие типы женские мне нравятся. Ну, видите ли, разные есть варианты. Не всегда даже цепляет внешность. А что цепляет в женском идеале? Это доброта, милосердие, мягкость, необязательно в таком вульгарном смысле женственность, но, конечно, эмпатия, сопереживание, сопонимание, такое женское чтение мысли — то, что Ахматова в совершенстве умела. Мне очень нравится самоирония, мне нравится умение подставляться, уязвлённость. Когда-то Ришара я спросил — и он сказал, что искренность в женщине всего дороже. Я сказал: «Но ведь это почти никогда не встречается!» — на что он ответил: «Тем дороже она». Наверное, искренность тоже, но в меньшей степени. Искренность не обязательна, а обязательно вот это милосердие.
Очень трудно сформулировать, что я люблю. И выдержку, и выносливость, конечно, но в огромной степени именно умение подставляться, умение иногда быть неправой. И ещё это умение разделять чужие ошибки и чужие страдания — то, о чём Цветаева сказала, гениально она сформулировала: «Если увидите человека в неловком положении — прыгайте к нему туда! — и неловкость поделится на двоих». Это великие слова. И мне кажется, что они очень значимые.
Вопрос от Татьяны: «Удаётся ли вам по отношению к сыну быть идеальным отцом?»
Нет конечно. Дурак тот человек, которому это удаётся. Как бы я сказал? Знаете, дурак тот человек, который так думает. Вот Маша Трауб когда-то очень правильно написала: «Я плохая мать», — цитируя, конечно, Ахматову («Я дурная мать»), «Записки плохой матери». Мы все плохие родители. И по сравнению с нашими родителями безусловно — потому что мы всегда сравниваем себя с этим идеалом. И вообще все родители хорошие, а мы плохие. Все родители заняты своими детьми, а мы заняты только собой, мы все эгоисты. Нет, у меня никогда не получалось быть абсолютно правильным родителем. Всё равно я могу об этом говорить спокойно, потому что Андрюшка сейчас меня уж точно не слышит. Может быть, слышит Женя, взрослая девушка, но она не слушает эту программу.
Моя ошибка была в том, что… Она и остаётся. Да и потом, я не думаю, что я уж совсем остановился на этом пути. Моя ошибка в том, что я сначала пускаю всё на самотёк, очень в них верю, очень многое им разрешаю, а потом у меня случается приступ, такой пароксизм родительской строгости, и здесь я иногда перехлёстываю, иногда делаю вещи невозможные. Ну, сейчас уже не делаю, а раньше я начинал орать, негодовать, запрещать. Всё мне казалось, что я попустительствую, и вот пора взять в ежовые рукавицы. Это были страдания, но, слава богу, я сейчас уже так с ними не делаю, сейчас это как-то успешно миновало. У меня есть ощущение, что в последнее время, когда я поумнел, мы с ними скорее дружим, я как-то многому у них ещё могу научиться. Ну, они никогда, слава богу, мне не ставили таких серьёзных, настоящих проблем. И всегда, когда я начинал орать, Женя спокойно говорила: «Быков лютует». Это как-то мне казалось смешным — и поневоле как-то перестаёшь. Они умные у меня, поэтому мне удаётся с ними ладить.
Каковы главные ошибки родителей? Знаете, главное заблуждение родителей — это «уж мы-то будем другими», «уж мы-то, в отличие от наших родителей, будем всё позволять, не будем требовать вовремя приходить домой». Будете как милые! И звонить будете по двадцать раз. И требовать, чтобы вам звонили. И когда приведёт ночевать девушку или девушка приведёт юношу ночевать, тоже будете испытывать неловкость и говорить: «Да ладно, здесь не проходной двор». Всё это будет! Это такие имманентные вещи. Есть ошибки, которых нельзя не сделать, к сожалению. Ну, может, это и прекрасно. Я никогда не видел идеального родителя, и слава богу. Наверное, это был бы робот, во всяком случае что-то было бы очень противное.
Вот очень забавный вопрос: «Верите ли вы, что существуют моногамные мужчины?»
Существуют ли парные носки? Моногамные мужчины существуют, я их видел, но я очень далёк от мысли, что это такой идеал. Знаете, есть такие мужчины, которые своей моногамностью способны достать окружающих гораздо больше, чем любой Дон Гуан своей полигамностью. Вот они так уверены… Ну, знаете, это такие фанатики, как у Моэма в рассказе «Дождь». Есть мужчины, которые просто любят только одну женщину. Но хорошо ли это? Я не знаю. Наверное, хорошо, если кто-то нашёл свой абсолютный идеал. А если при этом ты не видишь ничего другого и не способен замечать ничего другого, то я не уверен, что это хорошо. Другой вопрос — надо ли обязательно изменять жене? Конечно, я ничего подобного проповедовать не буду. Но мне очень нравится формула Стивена Кинга: «Сидящий на диете имеет право просмотреть меню». Понимаете, можно любить жену, но увлекаться, любоваться, восхищаться остальными, и в этом не будет никакой драмы.
Если сейчас жена слушает эту программу (чего она не делает, конечно), то сейчас, вероятно, какая-нибудь чашка в стену всё-таки полетела. Но это же теория, а на практике всё обстоит иначе. И потом, понимаете, теоретизировать на эту тему бесполезно. Мне всё-таки кажется, что любая моногамия, как и любая крайность, немного подозрительна. Подозрительная в том смысле, что она означает определённую узость. Как правильно кто-то писал из русских поэтов: «Суженый — это суженный мир». По-моему, это писал Лурье, если я ничего не путаю. Есть определённая суженность в том, чтобы воспринимать единственную женщину, а всех, кто воспринимает больше, считать развратниками и подонками. Вот я очень не люблю ригористов и моралистов таких. Я люблю людей, которые подлостей не делают. Вот этих я люблю. Пожалуй, влюблённость, которая «повелительней [слаще] звука военной трубы», по Блоку, — это то состояние, которое необходимо, это творческое состояние, это всё равно что вдохнуть действительно чистый воздух. Поэтому я никогда не стану человека за это критиковать.
Вот вопрос совершенно неизбежный и всегда возникающий: «Как воспитать в ребёнке творческие потенции?» — спрашивает Сергей.
Сергей, вы их никак не воспитаете. Вы можете воспитать в нём любовь к чтению и интерес к нему (хотя я против того, чтобы уж так всерьёз в это вкладываться). Видите ли, какая тоже вещь? Творчество, во-первых, всегда является компенсацией какого-то неразрешимого внутреннего противоречия и какой-то тяжёлой внутренней травмы. Желаете ли вы этого своему ребёнку? Я не знаю.
Кстати, я помню, как Елизавета Михайловна Пульхритудова — один из самых лучших и любимых мною литературоведов, которая вела у нас «Введение в литвед»… Я не знал тогда, конечно, о её диссидентских подвигах, о её дружбе с Турбиными и так далее, но я её очень уважал. И вот Елизавета Михайловна нам рассказывала, какие муки вызывает у Ники Турбиной писание стихов, как это доходит до судорог, как эта бессонница, как она ночью во сне кричит! И она сказала: «Если бы мой сын когда-нибудь так мучился, сочиняя стихи, я бы ему это запретила», — потому что это болезненное явление. Кстати говоря, то, что у Ники Турбиной было, мне кажется… Она очень талантливой была девочкой действительно, но в детстве её непонятно, чего в этом было больше — таланта или патологии, болезни.
Поэтому я бы, честно говоря, не советовал бы вам прицельно воспитывать в ребёнке творческие способности, прививать ему это, как прививают, я не знаю, чуму, астму. Астму не прививают. Ну, что-то в этом роде. Просто астма была у Ники Турбиной. Мне кажется, что лучше пусть он будет здоровый, весёлый, счастливый. Необязательно тупой! Необязательно все счастливые люди тупые. Пусть он будет просто существом гармоничным.
Вы скажете: «Хорошо вам рассуждать». Ну, почему же хорошо? У моих детей есть некоторые таланты, но, клянусь, я их не прививал! Я, наоборот, делал всё возможное для того, чтобы они по нашим с Иркой стопам не пошли. И они не пошли, они выбрали совершенно другую работу. И это мне очень приятно. К тому же, насколько я знаю, дети писателей (во всяком случае, дети писателей детских) имеют достаточно высокий шанс вырасти приличными людьми. Ну, это показывает опыт Драгунского, показывает опыт Михалкова, показывает опыт Берестовой, Гайдара и так далее. То есть большинство детей детских поэтов — как правило, люди правильные и счастливые.
Вопрос: в каком произведении искусства (можно в кинематографе, можно в книге) я встречал наиболее талантливое изображение любви? И спрашивают, как я отношусь к фильму Гаспара Ноэ «Любовь».
Я вообще к Гаспару Ноэ очень плохо отношусь (ребята, простите меня все!), особенно к «Необратимости», которая мне кажется просто садической картиной, где автор за счёт удовлетворения своих потребностей довольно низменных, примерно как Пазолини, когда он снимал «Сало́», пытается утверждать, что он творит художественный эксперимент. Это же касается и фильма «Любовь» в 3D, который мне активно не понравился. Я гораздо больше люблю «Любовь» — работу Валерия Петровича Тодоровского.
Ну, не знаю… Где я видел лучшую любовную историю? В детстве мне очень нравился фильм «Ночные воришки», потому что там оба героя совершенно прелестные. А если брать более серьёзные вещи, какие-то такие зрелые, или художественные произведения о любви… Ну, понятно, почему идут такие вопросы. Весна, да? Постепенно изнанка воздуха теплеет, холод вытесняется, всё чирикает — и людям хочется каких-то чувств. Я сам с удовольствием порассуждаю о любви, это всегда приятно.
Мне очень трудно вспомнить любовную новеллу… Наверное, всё-таки глубже всего, тоньше всего к этим вопросам подходил Мопассан. Мне в детстве очень нравился «Монт-Ориоль» (и нравится до сих пор), Христина [Христиана] восхищала меня очень. Рассказы есть у него удивительно точные. У Набокова хорошо получалось, и не только в «Лолите», конечно, а и в таких рассказах, например, как «Музыка» или «Весна в Фиальте», абсолютно классическом произведении. Как ни странно, неплохо у Чехова, хотя у него это всё имеет такой скорее гастрономический оттенок, но некоторые произведения, некоторые рассказы — например, «Ариадна» или «Скучная история» — это просто классика абсолютная. Понимаете, всегда в таких случаях теряешься
Кстати, «Тихий Дон», многократно упомянутый, — там хорошая любовная история. Там Аксинья, на которую западают все, потому что нельзя не запасть. Кстати, многим она и отдаётся, не в силах возражать. Это женский образ мощный и необычайно привлекательный. Она и символизирует Россию, русскую женственность (почему она и гибнет там). В общем, это очень глубокое сочинение. Вот «Тихий Дон» — пожалуй, да. Во всяком случае в советской литературе трудно что-то поставить рядом, близко не было ни у кого.
А в классике русской? Ну, мне больше всего нравится, конечно, «Анна Каренина», но не потому, что это любовная история. Мне больше всего нравится линия как раз Лёвина сейчас. Я говорил, что мне с годами… чем я старше, тем более старшие герои мне нравятся. Когда-то нравилась Анна. Стива был моим любимцем. Потом — Лёвин. Сейчас Каренин мне становится понятен. Видимо, к старости я начну лучше всего понимать старую лёвинскую собаку Ласку, которая прекрасно понимает, где в этом болоте вкусное, интересное, а хозяин гонит её в другую сторону. Вот примерно такой образ и примерно такие варианты.
Довольно интересный вопрос пришёл, это уже пошли литературные вопросы: «Где можно в сегодняшней литературе найти прямых наследников Андрея Платонова?» Я думаю, Владимир Данихнов, дай бог ему здоровья.
НОВОСТИ
Д. Быков― Мы возвращаемся в студию «Эха Москвы». Три часа мы сегодня в эфире. Ещё час у нас есть на лекцию о Достоевском, многими заказанную.
Хороший вопрос тут от Кости: «Как это вы не засыпаете?»
Многие подозревают меня в употреблении таких веществ, как, например, кофе или энерджайзеры. Ну, энерджайзеры я люблю, и никакой тайны в этом нет. Один из моих любимых напитков, я думаю — «Red Bull», — и не потому, что он бодрящий, а потому что он вкусный (и никакой скрытой рекламы в этом нет). Как я не сплю? Это очень легко. Меня будоражит эфир, я люблю ощущение ночного эфира, вот этого перемигивания. Я люблю, что вы меня слушаете. А вот как вы не спите — этого я не понимаю действительно, тут есть определённая загадка. Ну, может быть, вам проще. Как мне, например, легко засыпать под клацанье компьютера, когда кто-то работает (и вообще всегда приятно, когда кто-то работает, а ты спишь — это как под шум дождя), так вам, может быть, под журчание моей речи приятнее спать. Ну, баю-баю, спокойной ночи! А мы перейдём к разговору о Достоевском. Я начну отвечать на приходящие вопросы по нему (их довольно много) и попутно начну излагать свою точку зрения.
Тут, кстати говоря, вопрос: «Зная вашу теорию про Некрасова как предшественника Маяковского и Есенина, странно раздвоившегося, что вы можете сказать о предшественниках Толстого и Достоевского?»
В России у них предшественников не было, но дело в том, что они ориентировались (каждый) на свой западный образец. Это очень характерно для русской литературы. Она молодая, наглая, как подросток, ей всего-то три века, светской русской литературе. И она начинает, как правило, именно с того, что переиначивает, переиродивает западные образцы. Для Пушкина таким образцом был Байрон, в напряжённом диалоге с которым он существовал и которого, на мой взгляд, он, конечно, превзошёл. Для Лермонтова такой персонаж — Гёте, что особенно заметно. И я уже говорил много раз о том, что и Вернер/Вертер — характерная параллель. И необычайно интересна была бы какая-то сравнительная аналитика, попытка сравнительного анализа «Страданий юного Вертера» и «Героя нашего времени». Я уж не говорю о параллелях между «Фаустом» и «Сказкой для детей», «Фаустом» и «Демоном». Он, конечно, пытается переиродить Гёте. Что касается Толстого, то совершенно очевидна параллель с Гюго и то, что именно к Гюго восходит форма «Войны и мира».
А что касается Достоевского, то, конечно, Диккенс — его явный кумир. И очень много надёргано из Диккенса, главным образом три вещи. Во-первых, криминальная фабула, во всяком случае фабула с роковой тайной. Во-вторых, его некоторая фельетонность и актуальность. И в-третьих, конечно, надрывная сентиментальность в сочетании с жестокостью. Он очень диккенсовский писатель, хотя в молодости на него повлиял Бальзак, которого он переводил замечательно («Евгению Гранде»), но больше всего, конечно, повлиял, я думаю, именно диккенсовский социальный реализм: надрыв при описании страданий, всегда такой несколько садический образ чистой девушки-страдалицы. Но, конечно, что говорить, Достоевский гораздо глубже, а Диккенс гораздо сказочнее.
Что мне представляется принципиально важным в разговоре о Достоевском? Я считаю его очень крупным публицистом, превосходным фельетонистом, автором замечательных памфлетов, очень точных и глубоких публицистических статей. И его манера (конечно, манера скорее монологическая, нежели, по утверждению Бахтина, полифоническая), его хриплый, задыхающийся шёпоток, который мы всегда слышим в большинстве его текстов, написанных, конечно, под диктовку и застенографированных, — это больше подходит для публицистики, для изложения всегда очень изобретательного, насмешливого изложения некоего мнения, единого, монологического. Все герои у него говорят одинаково. Пожалуй, применительно к нему верны слова Толстого: «Он думает, если он сам болен, то и весь мир болен». Все герои больны его собственными болезнями.
Он великолепный насмешник, очень тонкий пародист. Он умеет быть смешным, весёлым, узнаваемым, иногда яростным. Но назвать его по преимуществу художником я бы не решился — именно потому, что, во-первых, как художник он лучшие свои вещи сделал к 1865 году, а дальше художество всё больше отступает на второй план и на первый план выходит памфлет. «Бесы» — высшая точка этого, а «Братья Карамазовы» — это вообще уже роман чрезвычайно несбалансированный, в котором больше разговоров, споров, речей, нежели действия, портретов и пейзажей. Пейзажи у Достоевского вообще практически отсутствуют, кроме городских.
И во-вторых, что ещё важно — он, строго говоря, никогда и не претендовал быть прежде всего художником. Он — в наибольшей степени мыслитель, психолог, аналитик. Но как художник он поражает какой-то узостью и скудостью средств, он в этом смысле довольно однообразен. Мне кажется, что прогрессирующая болезнь (а прогрессирование этой болезни очень заметно) приводила его ко всё меньшему контролю над собственными художественными способностями. У него случались на протяжении жизни безусловные сюжеты, но сюжеты эти всегда относятся либо к изображению мрачных бездн человеческого сознания, например, таких как «Бобок» — замечательно написанный и очень страшный сон, кошмар, я бы сказал, такой кошмар назойливый, конечно, болезненный явно (мы к нему вернёмся). Либо он поражает замечательным проникновением в тайны человеческого так называемого подполья, то есть такого сознательного самомучительства, такого подавленного садизма. В этом смысле ему тоже равных нет.
Но проблема в том, что, как и большинство русских художников, он, изображая зло, явное зло, начинает выступать его адвокатом. Ну, это вечная русская история (и, кстати, не только русская), это вечная драма художника: когда художник начинает с изображения некоторой мерзости, он так ею проникается, что начинает её оправдывать под конец. Это очень часто бывает. Я думаю, что для Акунина, кстати говоря, больши́м вызовом было написать нечто от имени Ивана Грозного, потому что в конце концов он начал почти, как мне кажется, его понимать, понимать его механизмы. У Леонида Зорина был замечательный рассказ «Юпитер» о том, как актёр, играя Сталина, постепенно стал Сталиным, и если бы он не остановился… Знаете, Радзинский силком же себя заставил перестать писать о Сталине. Он этот трёхтомник писал десять лет, и ещё писал бы, но понял, что как-то Сталин начал у него получаться уже хорош, он его уже оправдал, уже все вины спихнул на окружение — и быстро запретил себе это. Это на самом деле трагическая коллизия.
Достоевский, описывая своего подпольного человека… Ну, как Гончаров, описывая Обломова: начинает он с борьбы с собственным неврозом, а кончает тем, что у него Гончаров — самый чистый человек, потому что он ничего не делает, и поэтому своё хрустальное сердце он сохранил в неотразимой чистоте и от ожирения этого самого сердца умер. Получается, что жир — лучшая среда для чистоты. Вот точно так же и Достоевский, начав описывать своего подпольного человека, вытащил наружу все собственные комплексы и эти комплексы полюбил.
Давайте сразу поймём, что, говоря о Достоевском, мы имеем дело со сломленным человеком. Почему я на этом настаиваю? Потому что то, что с ним произошло, когда за невиннейшие вещи — за чтение письма Гоголя в кружке петрашевцев — он получил сначала расстрел, потом восемь лет каторги, а потом по высшей монархской милости (высочайшей, особой!) ему дали четыре года каторги, — это могло бы сломать и более крепкую натуру.
Кстати говоря, я не склонен думать, что у Достоевского была падучая, потому что была замечательная подробная статья, где эпилептологи и нейрофизиологи доказали, что никакой падучей у него, скорее всего, не было. У него была такая странная болезнь лёгких, приводящая… Ну, потом — эмфизема. Падучей не было потому, что очень многие приметы эпилепсии в его случае не соблюдались — в том числе, кстати говоря, прогрессирующая деменция, которая на известных этапах наступает. Правда, её не было и у Цезаря тоже, а у него вот эта падучая-то была. Но по описаниям Достоевского приступ эпилепсии, как его описывал он, очень мало был похож на реальный. И те эмоциональные перепады, которые описывал он — страшное обострение всех чувств и потом ощущение, что он после приступа, как из бани размягчённый, — это не совпадает с клинической картиной. Было несколько подробных статей о диагнозе Достоевского. Но то, что он был человек тяжелобольной, болезненный с ранних лет да ещё отягощённый очень сложной наследственностью — это безусловно.
И я полагаю, что на Семёновском плацу, когда его должны были расстреливать, когда ему оставалось пять минут, когда он для себя эти пять минут распределил: «Вот я думаю о жизни. Вот я мысленно прощаюсь с родителями. Вот я обдумываю неосуществлённые замыслы»… Да даже и эти пять минут ещё ему казались вечностью. Я думаю, что это нервное потрясение не просто перевернуло всю его душу. Это, кстати, совершенно садическая расправа со стороны Николая. И я думаю, что в аду Николаю очень часто припоминают эту царскую «милость» и эту безобразную инсценировку.
Я думаю, что этот эпизод его просто сломал. Я не могу сказать, что он сошёл с ума. Нет конечно. А если и сошёл с ума, то со знаком «плюс», потому что до всех этих событий он был хорошим писателем, а вернулся из Сибири великим. Но невозможно сомневаться в том, что это его сломало и что после этого он действительно вернулся человеком, осуждающим всякое революционное насилие, весьма подозрительным ко всяким революциям и, прямо скажем, очень резко настроенным к революционным радикалам.
Когда Достоевский впоследствии (это страшно звучит!) благодарил Николая, конечно уже посмертно, за эту инсценировку, которая сломала его жизнь, перевернула и навеки его отвратила от революции, — мне кажется, в этом было нечто вроде стокгольмского синдрома. Или, как говорил Пастернак, это лошадь, которая сама себя объезжает в манеже и радостно об этом рассказывает. Садизм есть садизм. И страшное насилие психологическое. Вот то, что не расстреляли Петрашевского — за это предлагается быть благодарным. А вы сначала вспомните, было ли за что расстреливать.
Кстати говоря, после подробных разысканий того же Самуила Ароновича Лурье, Царствие ему небесное, который доказал, что не только заговора не было, но не было и попытки заговора у петрашевцев, что это был невиннейший кружок, ещё невиннее, чем кружок Грановского, — мне кажется, после этого вообще просто смешно говорить о том, были ли у Николая основания подвергать их репрессиям или не было. В любом случае тут не может быть вопроса, нет оправдания такому психологическому, патологическому наглядному садизму.
И вот после этого Достоевский действительно стал другим. Писатель, которого с самого начала интересовало в человеческой природе иррациональное, как мне представляется, на этом иррациональном до некоторой степени и сдвинулся. Ему только патология стала интересной. Ему перестал быть интересен здоровый человек. Подполье стало его нормальной средой, и культ подпольности, к сожалению, эту могучую душу, как мне кажется, погубил. Отчасти потому, что действительно Достоевский всё научился загонять в подполье, а отчасти потому, что, как хотите, но четыре года сибирского острога не могут никого оставить прежним. И Достоевский вернулся — да ещё после ссылки, после солдатчины, после всех унижений. Десять лет у него это всё заняло, он десять лет не печатался, десять лет его не было в Петербурге. И между 1848-м и 1859 годом пролегла бездна, он не мог вернуться прежним из этого.
Он, конечно, научился глубоко загонять желания, комплексы, страхи. Он был страшно одинок на каторге. Все, кто с ним был там и оставил воспоминания, вспоминают, что он был крайне замкнут, ни с кем не общался, ничему не радовался. И понятно, что он был вырван из своей среды, погружён на дно («Записки из Мёртвого дома» об этом рассказывают с предельной откровенностью). Конечно, ждать от такого писателя, что он сохранит душевное здоровье, было бы невозможно. Более того, Достоевский отказался от всех своих прежний убеждений не путём интеллектуальной эволюции, а путём насильственного, садического перелома, в который он был ввергнут, путём внешней обработки. И поэтому говорить о какой-то правильной, рациональной или во всяком случае добровольной эволюции в его случае мы не можем.
При всём при этом невозможно отрицать его громадный художественный талант — прежде всего, как мне представляется, талант сатирика. Мне кажется, что типологически Достоевский — предшественник Солженицына. И обратите внимание, сколько здесь параллелей. Открыт он крупным писателем, поэтом, скажем так, деревенского направления, редактором самого прогрессистского журнала — здесь, конечно, Некрасов и Твардовский по крайней мере в функции редакторской абсолютно совпадают. Он был надеждой всей прогрессивной молодёжи, а потом эти надежды резко обманул. Он оставил подробное описание своего тюремного опыта, через который он прошёл уже довольно зрелым человеком. Он интересовался больше всего восточным, еврейским и славянским вопросами. И, кроме того, он написал несколько идейных романов. Вот это предостерегает нас от отношения к солженицынским романам, как к выражению его авторской позиции, потому что как раз пресловутая полифония, которая есть у Достоевского — то есть равная представленность разных точек зрения, — она характерна и для Солженицына. Солженицын — писатель идейный, но не идеологический. Вот это очень важно подчеркнуть.
А что касается сходств Достоевского и Солженицына как художников. Мы же не будем отрицать, что Солженицын как публицист зачастую сильнее, чем как художник. Как художник он написал несколько очень сильных рассказов и замечательный роман «Раковый корпус». Уже в его романе «В круге первом» ощущается идеологическое вмешательство автора, длинноты, сложная идейная борьба с собою советским и так далее (ну, это как бы советское, но при этом уже глубоко антисоветское). Поэтому в любом случае Солженицын-публицист, Солженицын, автор «ГУЛАГа» или «Двести лет вместе» — он колоссально убедителен, неотразимо привлекателен, он замечательный ритор, прекрасно оформляет свои мысли. Это же касается и Достоевского. Но Солженицын-художник — это художник, создавший один роман и несколько рассказов.
Вот точно так же можно сказать, что расцвет художественного творчества Достоевского — это период с 1859-го по 1865 год: «Игрок», «Село Степанчиково», «Вечный муж» и, конечно, «Преступление и наказание». В меньшей степени — «Униженные и оскорблённые», роман довольно вторичный, хотя и замечательный, ну, диккенсовский, очень лобовой. Но несомненно, что «Преступление и наказание» — это художественная вершина творчества Достоевского. На этом романе, пожалуй, следует остановиться поподробнее.
Много раз говорил я о том, что сюжетные схемы детективов очень однообразны, их всего восемь штук. Не буду сейчас перечислять все, это известная история (дети очень любят об этом на уроке поговорить). Убил кто-то из замкнутого круга подозреваемых — классический британский каминный детектив. Убил кто-то из более широкого круга подозреваемых, но мы не знаем об этом (сидят семь человек, а убил восьмой: дворецкий, садовник, таинственная женщина, скрывавшаяся под кроватью). Убили все из всех («Убийство в «Восточном экспрессе»). Убил покойник («Десять негритят»). Убийства не было (пожалуйста — «Подлинная жизнь Себастьяна Найта»). Убил следователь («Занавес» или «Мышеловка» Агаты Кристи). Убил автор («Убийство Роджера Экройда», но первым это сделал Чехов в «Драме на охоте», по-моему, гениально — правда, там сложно, я не уверен, что всё-таки автор, потому что вряд ли этот автор, этот следователь был бы так наивен, чтобы вымарывать прямо в тексте собственные признания, скорее он пускает читателя по ложному следу). И вариант — убил читатель. Этого варианта пока ещё никто не осуществил, хотя в пьесе Пристли «Инспектор Гулл» уже содержится намёк на то, что убил зритель.
Достоевский предложил свою небывалую художественную схему. Понятно, кто убил, кого убил, зачем убил. А дальше вопрос: и что теперь? Вот это наглое издевательство крупного писателя над схемой детектива. Достоевский издевается над ней ещё более нагло. Там же у него есть указание на то… Помните, Порфирий говорит: «Есть у меня против вас махочка чёрточка». Я очень люблю детей спрашивать, а что это за «махочка чёрточка». Большинство детей сразу утверждает, что Порфирий блефует. Но это не так. Порфирий Петрович не из тех людей, которые блефуют. Неслучайно это явный протагонист: сорока пяти лет, с жёлтым лицом, с постоянными пахитосками, с жидким, текучим блеском карих глаз. Это чистый Достоевский, его описание. Только глаза у него были серые, насколько я помню… Нет, карие, карие. А так и жёлтое лицо, и «я — человек поконченный». Всё это — Достоевский.
Но Порфирий не блефует. Порфирий знает, что соседом Дуни был Свидригайлов, и Свидригайлов мог слышать разговоры Раскольникова с Дуней… то есть с Соней, и мог слышать признание Раскольникова. Свидригайлов действительно живёт за стеной, а Раскольников ходил к Соне, и Порфирий это знает. И, вероятно, во время этих разговоров делались признания. Это и есть «махочка чёрточка». Проблема только в том, что в следующей главе «махочка чёрточка» стреляется. Вот это наглое издевательство над всеми законами детектива!
К тому моменту, когда заканчивается «Преступление и наказание», у Порфирия Петровича нет ничего на Раскольникова! У него есть готовый подозреваемый, признавший себя виноватым, Николка, который хотел пострадать. У него нет ни одного факта на Раскольникова. Настоящий анализ доказательств ещё не изобретён, поэтому ни замытая кровь, ни кровь на панталонах Раскольникова, ни всякие против него говорящие факты ничего не могут сделать. А попытка подослать к нему мещанина… Это очень страшный эпизод в романе. Помните, когда подходит к нему мещанин и говорит: «Убивец!» — а потом низко кланяется ему. Это довольно страшный эпизод. Но тем не менее ничего такого, ничего реального вышибить из Раскольникова не удалось. Он признаётся на чистой совести, только на давлении, на фокусе Порфирия, проклятого психолога («проклятым психологом», если вы помните, называет Ставрогин отца Тихона). Но именно в этом и заключается фокус детектива, что герой абсолютно чист.
Парадокс романа в ином. Вот в чём, кстати говоря, главная трудность при анализе «Преступления и наказания» — вопрос поставлен в одной плоскости, а разрешён в другой. Вот в этом гениальность Достоевского, конечно, есть. Вопрос поставлен в плоскости теоретической. Почему нельзя убивать старуху? По логике вещей выходит, что старуху убить: а) можно; б) хочется; в) приятно. Ну, сам по себе факт убийства, конечно, очень неприятен. И «скользкий снурок», кровь, густо смазанные маслом волосёнки, да ещё тут же пришлось убить и кроткую Лизавету, и Лизавета была ещё к тому же беременна. Конечно, ничего хорошего в убийстве нет. Но с теоретической точки зрения нет ни одного аргумента, по которому убивать старуху бы не следовало. Старуха очень противная. Старуха держит в долговом рабстве весь район, весь околоток. Старуха заедает жизнь Лизаветы. Ну, Алёна — очень неприятная женщина, поэтому на теоретическом уровне нельзя никак обосновать милосердие.
А вот на физиологическом ответ даётся: убийство раздавило убийцу. Раскольников раздавлен даже не морально, он раздавлен физиологически. Вот это самое страшное у Достоевского — что Достоевский догадался о глубокой тайне человеческой природы, о том, что физиологически убийство неприемлемо. Теоретически можно оправдать всё что угодно.
Вот это, кстати, вызывало особую ярость у Набокова, потому что Набоков, нападая на роман (который он называл «Кровь и слюни», а не «Преступление и наказание»), он имел в виду, что никогда идейные убийства, теоретические убийства не совершаются. Но Достоевский, как всегда, исходил из криминальной хроники, которую внимательно читал. По идейным соображениям убить можно, правда, как правило, эти идейные соображения маскируют либо маньячество, либо банальную душевную тупость. Но, как правило, идейные соображения есть. Это такое оправдание. Ну, конечно, можно сказать, что и Сальери убил Моцарта из-за чистой зависти, а обосновывал это всё вон как ещё идейно. Но по большому счёту мы можем поверить в то, что Раскольников убил по идейным соображениям.
Мы обречены верить в другое — что убийство глубоко несовместимо с человеческой природой, что расплата за него происходит на уровне просто физической болезни. Как там говорит Раскольникову его единственная прислуга: «Кровь у тебя печёнками пошла». Не прислуга, по-моему, а квартирная хозяйка. Да, квартирная хозяйка. «Кровь у тебя печёнками запекается». Действительно он живёт в полубреду. Почти всё, что происходит в романе, происходит в такой зыбкой и больной реальности. И неслучайно Соня ему говорит: «Что же ты над собой сделал?» Потому что убийство — это всегда акт суицидный, самоубийственный. Вот он не может жить после этого. И он говорит: «Ах, я думал, я — Наполеон, я перешагну. А я оказался слаб». Так вот, Достоевский доказывает, что все слабы, что в человеческой природе сидит сильнейший физиологический тормоз против этого.
Вот в этом-то и сложность анализа в романе, что вопрос на самом деле теоретичен. И неслучайно там Раскольникову снится знаменитый сон о трихинах, о вот этих микробах, которые отравляют сознание человека с тем, чтобы он почувствовал себя, возомнил себя одного правым — и начинается всеобщее уничтожение. Но в том-то и дело, что человек вообще почти всегда себя чувствует правым. Сам по себе этот сон ещё не является отражением романной фабулы. А фабула-то как раз заключается в том, что когда человек — безусловно, в строгом соответствии со своими убеждениями! — начинает действовать вопреки человеческой природе, вот тут наступает страшная физиологическая расплата. Вот это чрезвычайно глубокая и очень точная мысль.
Что касается самой атмосферы романа и того, как он написан. Конечно, Достоевский брал всё, что плохо лежало. Он же заимствует очень широко, и не только у Диккенса. Первый сон Раскольникова про лошадку — это, конечно, только что перед этим прочитанная некрасовская поэма «О погоде»:
Под жестокой рукой человека
Чуть жива, безобразно тоща,
Надрывается лошадь-калека,
Непосильную ношу влача.
Только лошадь у Некрасова пошла «нервически скоро», а у Достоевского её забили. Точно так же, кстати говоря, ситуация тургеневской собаки исхищена для использования в романе «Идиот», когда собака — кажется, Альма [здесь и далее — Норма] — спасает Ипполита во сне от страшного насекомого и гибнет при этом.
При том, что Достоевский широко тащит у большинства предшественников (и это нормально, ещё раз говорю, что литература молодая, эклектичная, с точки зрения хорошего вкуса, очень проблематичная), всё же ему удаётся выстроить, очень убедительно выстроить мрачную, страшную атмосферу романа — конечно, атмосферу болезненную, но выстроенную необычайно талантливо.
Во-первых, он совершенно гениально передаёт состояние бреда, помешательства, сна. Вспомните вот этот замечательный, абсолютно абсурдистский эпизод, когда Раскольникову снится (мы не знаем ещё, что это сон), что он пришёл на место убийства старухи, видит в окне огромный красный месяц и думает: «Это, верно, он теперь загадку загадывает». Понимаете, вот этот месяц, который загадывает загадку, — это придумано очень здорово, очень страшно! Это иррациональная логика сна, во сне приходят такие мысли. И, конечно, потрясающе найдена вот эта сцена, когда он начинает бить старуху по голове (тоже во сне), а она мелко трясётся и хихикает, хохочет. Это так страшно написано! Пожалуй, в изображении страшного — в особенности страшного сна — здесь Достоевскому как художнику равных нет. Здесь весь русский триллер зарождается и достигает, пожалуй, высшего расцвета.
Я, кстати, упомянул уже сон Ипполита с насекомым. Надо вам сказать, что эти сны не имеют прямого, какого-то буквального толкования, буквального значения в романе. Хотя мне приходилось писать о том, что то, что Раскольников видит во сне лошадь, — это доказывает, что он находится в плену ложных убеждений. По русской народной этимологии, по сонникам, лошадь означает ложь. Но, в принципе, такое буквальное толкование снов в случае Достоевского не работает.
Вот о чём сон Ипполита о насекомом? Когда страшное насекомое с раздвоенным хвостом, так похожее на трезубец, бегает по стене рядом с его головой, а потом собака Альма хватает эту щекочущую, стрекочущую, состоящую из скорлупок страшную тварь — и белый сок гадина выпускает на её язык, и укушенная в язык Альма умирает, успев спасти хозяина. Кстати говоря, как раз, когда я это читал в Крыму, по стене у нас бегала огромная сколопендра, и я до сих пор помню, как мать тем же самым «Идиотом» её и прихлопнула. Это было очень страшное ощущение. Конечно, описана именно сколопендра, что-то похожее на неё. Так вот, этот сон не имеет прямого толкования, но страх, ужас, отвращение, которые содержатся в нём, говорят нам о душе Ипполита и о его душевной травме гораздо больше, чем сказали бы десятки каких-то свидетельств и описаний его заблуждений.
В «Преступлении и наказании» очень искусно, очень тонко создана атмосфера кошмара, навязчивого бреда. И здесь, конечно, Достоевскому тоже равных нет. Надо только подчеркнуть, что «Преступление и наказание» — это последний роман идеально соразмерный, роман очень точно построенный, роман, в котором каждому герою соответствует свой зеркальный двойник. А у самого Раскольникова даже два таких страшных двойника, которые перед ним стоят: с одной стороны, это Свидригайлов, а с другой — Лужин. И вот, пожалуй, образ Лужина с бакенбардами в виде двух котлет, образ этого человека, который руководствуется в общем «теорией целого кафтана», пародийно осмысленной «теорией разумного эгоизма» Чернышевского, — это, конечно, блестящая художественная удача. Все в этом романе, вплоть до Лебезятникова, вплоть до Мармеладова, — это именно блестящие художественные удачи.
И сколько бы ни говорил Набоков о том, что ужасно дурновкусна сцена, в которой проститутка и убийца вместе читают о воскресении Лазаря, эта сцена очень глубоко сделана. Ведь неслучайно Соня накрывает Раскольникова драдедамовым платком. Это точно уловленный жест принятия исповеди — жест исповеди, потому что епитрахилью накрывают голову исповедующегося. И сцена эта при всём своём безвкусии исключительно сильна.
Вернёмся через две минуты.
РЕКЛАМА
Д. Быков― Естественно, продолжается программа «Один», Быков с вами в студии. Пара достаточно занятных вопросов пришла про Достоевского, пока мы разговаривали, даже три вопроса.
Первый: «Если бы Достоевский писал научную фантастику о нашем времени, какая бы она была?»
Знаете, она была бы похожа на роман Михаила Емцева «Притворяшки». Я вам хочу этот роман горячо рекомендовать. Емцева большинство знает как соавтора Еремея Парнова, но он сам по себе был очень сильный писатель. И вот «Притворяшки» (или «Бог после шести») — повесть, которая на меня произвела очень серьёзное впечатление в своё время. Это повесть о современной интеллигентской секте, о таком интеллигентском заговоре, если угодно. Там многое угадано и многое под псевдонимом, многое применительно к советской цензуре, но вещь точная. Найдите, она в Сети доступна.
Вот Достоевский написал бы историю интеллигентского кружка — ну, что-нибудь о «пятой колонне», о том, какие в ней ужасные нравы, какие в ней сексуальные распущенности, какие в ней страшные персонажи, вроде Ставрогина. Вот что-нибудь такое он бы написал. Или страшные люди, вроде Верховенского. Что-нибудь то, что попытался снять в «Бесах» Хотиненко, и что так гениально там сыграл, по-моему, Антон Шагин. Привет вам Антон, если вы меня слышите. Мы дружим.
Тут тоже замечательный вопрос: «Почему американцы так любят Достоевского?»
Ну, это как раз совершенно очевидно. Потому что американцы любят русскую душу именно такой, какой описал её Достоевский. Она позволяет им относиться к России, как к некоторому грозному и страшному чуду. Это такая эстетизация русского абсурда. Более того, понимаете, этот тот образ, в котором Россию любить приятно.
Наверное, такой самый наглядный образ России — это Грушенька из «Братьев Карамазовых». По-моему, это образ самый отталкивающий, самый отвратительный и для самого Достоевского не слишком приятный, потому что он всё время подчёркивает, что ещё немного, и она расползётся, и она станет просто некрасива, почти безобразна; но сейчас, пока она ещё не расползлась, пока она просто полновата, она неотразимо обаятельная и прямо страшно хороша. Грушенька — истеричка. Грушенька, которой нравится стравливать мужчин. Грушенька, которая невероятно красива, страстно сексуально притягательна. Помните, там один изгибчик, который отозвался на ножке в левом мизинчике, — это, конечно, прелестно. Но не надо забывать и о том, что именно Грушенька в романе — главная первопричина всего злодейства. Мы можем думать, что убил Смердяков (мы в этом не уверены, роман не доведён до конца). Но даже если убил действительно Смердяков (единственным доказательством чего являются две тысячи, им похищенные, и его собственное признание), всё равно пружина действия — это Грушенька.
Кстати говоря, именно в «Братьях Карамазовых» впервые изложена та модель восстания детей на отца (только это не из-за Грушеньки, а из-за Маруси), которая потом в пародийном виде изложена у Бабеля в «Закате». Кстати, к вопросу Григория о последователях Достоевского. Достоевского у нас не столько перепевали, сколько пародировали. Конечно, пародийная коллизия, когда на Менделя Крика кидаются Лёвка и Беня, — это история порочного, сладострастного избиения отца взбунтовавшимися сыновьями.
Вот вопрос Константина, тоже довольно интересный: «Вы назвали самым совершенным романом «Преступление и наказание», а раньше вы говорили, что высшая точка художественных свершений Достоевского — это «Бесы».
Нет, здесь противоречий нет. Меня часто ловят на кажущихся противоречиях. Здесь нет противоречий. Я говорил о том, что «Бесы» — самый сильный его роман. Сильное не всегда совершенно. В «Бесах» действительно много сильного, во всяком случае потрясающая композиция там, постоянно ускоряющиеся действия, невероятное мастерство работы на контрастах. Потому что там сразу после того, как Шатов возрождается к новой жизни, принимает роды у глупой своей несчастной жены, такой новой Кукшиной (почти тургеневского образа), после этого его сразу убивают. Это потрясающей силы контраст! Но и нельзя забывать о том, что Шатов сам по себе — персонаж весьма отталкивающий.
И именно в это время Достоевского начинает всерьёз занимать сначала идея русского мессианства, а потом леонтьевская идея государства-монастыря, государства-церкви. Почему эта идея так его мучает? Кстати говоря, и Толстой говорил о Достоевском «это всё не то», и Достоевский о Толстом — «всё не то». Религиозная философия их разводила в очень разные стороны. Так почему же, собственно говоря, Достоевский начинает в это время — не сразу! — начинает видеть единственное спасение в церкви, в наружной дисциплине? И более того… Я понимаю, конечно, что ленинская фраза о клевете на освободительные движения безнадёжно устарела, но нельзя не признать, что действительно Достоевский в «Бесах» оклеветал саму идею свободы, оклеветал идею освободительного движения, потому что ему представлялась всякая свобода шигалёвщиной, крайним произволом, который добывается из крайней свободы.
Из-за того, что в России так получилось один раз, вовсе не значит, что всякая борьба за свободу обязательно приведёт к тоталитаризму и что единственная правильная практика — это фроммовское бегство от этой свободы, это любой ценой дисциплина, ренегатство, ретроградство и веховство, смирение и самоограничение как категории национальной жизни. Из свободы может с равной вероятностью получится и процветание, и тоталитаризм. И очень часто, если общество до этого было зыбко, шатко, аморально (Шатов — правильная фамилия), конечно, получается тоталитаризм. В таком городе, как Скотопригоньевск, где происходит действие «Карамазовых», в таких городах, как уездный город в «Бесах», или в таких городах, как окраинный Петербург, конечно, ничего не получится из свободы сначала, потому что люди задавлены, люди изуродованы, и надо возвращать им человеческое содержание, другую сущность, другую жизнь. Но в первый момент, разумеется, какая же может получиться свобода? Но из отказа от свободы получается только один безвыходный и безнадёжный Скотопригоньевск, как это ни ужасно.
Собственно говоря, сатира в «Бесах» — она и убедительна, и смешна. И прекрасна там сама вот эта идея, что из бессилия, из колоссального проигрыша промотавшихся отцов Верховенских выходят дети Верховенские. То, что Степан Трофимович сделан отцом страшного Петра Верховенского, который в общем Ленина в себе воплощает… Это мысль глубочайшая: в следующем поколении прекраснодушные мечтатели и безнадёжные эгоцентрики вырождаются в революционных практиков. Но это не единственный тип революционера, не единственно возможный тип революционера.
Достоевский абсолютно прошёл мимо таких людей, как народовольцы, потому что его поразили нечаевцы. А то, что новые святые зарождаются в это время — он этого не увидел. Он видит только такую святость, которая есть у тихого Тихона, но совершенно не видит той святости, которая есть у Желябова и Перовской. Конечно, они убийцы, но при всём при этом среди народовольцев преобладают не убийцы, а преобладают среди них жертвы, преобладают святые. И как бы мы ни смотрели на это поколение, в этом поколении есть настоящие христианские черты, которых не было в прекраснодушном поколении отцов. В этом-то и ужас, что вот этого Достоевский не захотел увидеть совершенно.
Почему он на самом деле так упивается подпольностью? Потому что для него, как ни странно, несвобода — это единственно нормальное состояние человека. Тем страннее, тем невероятнее, что он пишет свою «Легенду о Великом инквизиторе», в которой как раз провозглашается нетерпимость ко всякого рода тоталитаризму, и он считает «Легенду об инквизиторе» величайшей, важнейшей частью «Братьев Карамазовых». Может быть, это действительно высшее художественное свершение позднего Достоевского. Но вот там в чём парадокс…
Кстати, любопытно, что писатель не всегда может пойти против своего таланта. С одной стороны, он мечтает о государстве-церкви, а с другой — он изображает в образе Великого инквизитора не кого иного как Константина Петровича Победоносцева. Он очень похож, он страшно похож. Он даже похож на тот вполне благожелательно обрисованный образ Победоносцева, который мы встречаем в мемуарах Кузьминой-Караваевой, для которой он только добрый дедушка. Но «Победоносцев над Россией простёр совиные крыла» — конечно, это Великий инквизитор: высокий, бледный, худой старик, председатель синода.
Но ужас-то весь в том, что «Братья Карамазовы» по самому пафосу, по самому замыслу своему, в сущности, противоречат «Легенде о Великом инквизиторе» — вот в этом и пресловутая полифония. Потому что в «Легенде о Великом инквизиторе» предсказано, что со временем, исходя из самых моральных, самых высоких добродетелей, людей лишат свободы, потому что свободы они не выдерживают. «И если придёт новый Христос, — говорит Достоевский, — этот Христос будет арестован немедленно». Только всего страннее то, что Христос, когда он выслушал исповедь Великого инквизитора, подошёл к нему и поцеловал его. Вот так бесконечна его любовь. Честно говоря, очень трудно мне представить Христа, который поцеловал бы инквизитора. Вот всё что угодно могу себе представить, а этого представить не могу!
Что касается трактовки названия и трактовки смысла «Братьев Карамазовых». Тоже опять противоречивый роман при всей своей несбалансированности. Но мы должны исходить из того, что огромная вторая часть была не написана, а что там было бы, мы не знаем. Может быть, Алёшу Карамазова там провели бы через цареубийство, как догадывался Волгин, используя свидетельства Страхова. Может быть, там иначе было бы это «Житие Великого грешника». Может быть, мы узнали правду об убийстве Фёдора Павловича. Ничего непонятно.
Но одно ясно, что сама суть названия и сама тема романа — это изображение русской карамазовщины. А «карамазовщина» в переводе («кара» — «чёрный») — это «черномазовщина», это грязь, упоение грязью. Это четыре вида разврата. Разврат эротический, конечно, в том числе блудный, пьянственный, всякий разврат, который воплощает собой Фёдор Павлович. Это разврат мысли, который воплощает собой Иван. Разврат страстей, кутежа, разврат абсолютной воли — в случае Дмитрия. И, как ни странно, в случае Алёши это тоже разврат — это своего рода патология религиозного чувства, потому что Алёша отказывается верить из-за того, что «старец Зосима пропах», как там сказано. Вот это постоянное испытание Бога. Это не простая и здоровая вера, а это постоянные испытания пределов, попытка нащупать, где пределы человеческого Я, где кончается, условно говоря, Я и начинается воля Божья. Алёша — может быть, самый здоровый человек среди Карамазовых, но карамазовщина в нём есть. И карамазовщина эта должна была, видимо, на первый план выйти во второй части романа. И, конечно, Смердяков, тоже один из Карамазовых, брат Павел, — это патология лакейства.
Конечно, у Достоевского в романе множество ценнейших и прекраснейших мыслей, но одна из этих мыслей — мысль, которая в известном смысле противоречит его собственным публицистическим утверждениям, — это мысль о том, что вся Россия заражена карамазовщиной, заражена, условно говоря, беспределом, развратом, подпольностью, отсутствием твёрдых нравственных тормозов, отсутствием правильного, нормального уклада жизни, заражена патологией. Собственно говоря, тем страннее читать у Достоевского его инвективы в адрес Европы с её законами, его восторг в очерке «Пушкин» (в знаменитой «пушкинской речи») перед иррациональностью русской души. Вот в этом-то и есть один из парадоксов Достоевского: проклиная карамазовщину, видя во всём карамазовщину, тем не менее, он ею любуется и полагает, что именно в ней залог спасения страны от превращения в Европу. А уж ненависть его к Европе просто не знает пределов.
Конечно, тут можно сказать, что это вечная еврейская ненависть к Достоевскому за его антисемитизм. Есть такие люди, которые обязательно сводят всё к еврейскому вопросу. Но, вообще-то говоря между нами, если уж быть совсем честными, антисемитизм как бы не делает чести писателю. И то, что этим был в такой степени заражён Достоевский — это, прямо скажем, характеризует его не с лучшей стороны.
Бог бы с ним, с антисемитизмом! Истинная трагедия заключается в другом. Да, Достоевский, конечно, предугадал чуму XX века — он предугадал коммунизм. Но он не предугадал холеры XX века — он совершенно не предугадал фашизма. Он не представил себе, что будет, если воцарится государство-bestia. Ведь у него были под конец жизни почти леонтьевские убеждения: он был уверен, что в самом деле твёрдая государственная власть и насаждение церковности способны спасти от русской карамазовщины, от чрезмерностей, от страшных этих интеллектуальных и моральных загибов, от подполья. Но ничего подобного не произошло.
Больше того, российское государство, которое счастливо избегло в конце концов опасности коммунистической, не избегло множества других опасностей, и тоталитаризм оказался несводим к коммунизму. Больше того, конечно, из шигалёвщины, из знаменитой тетрадки Шигалёва очень легко сделать диктатуру, сделать абсолютную тиранию, но ведь тиранию абсолютно сделать также и из единовластия, и из монархии, и из вертикали. Поэтому Достоевский, спасаясь от одной крайности, с неизбежностью впадает в другую. Вот в этом, может быть, и заключается самый страшный урок его творчества.
И, конечно, одно из самых страшных убеждений Достоевского (оно есть уже и в «Преступлении и наказании») — это то, что без горнила страстей невозможна святость; не пройдя через искушение, через страшные соблазны, не согрешив радикально, невозможно покаяться. Бог у него обнаруживается в бездне. Но ужас в том, что в бездне-то Бога нет, в бездне совсем другие сущности водятся. И, конечно, заветная мысль Достоевского о том, что Раскольников может стать солнцем… «Станьте солнцем — и все к вам потянутся», — говорит ему Порфирий. Какое же солнце может получиться из Раскольникова? Понимаете, страшно говорить об этом.
Даже Сараскина, которая относится к Достоевскому с восторгом, пониманием, любовью, я бы даже сказал — с некоторым апологетическим, почти сакральным каким-то чувством, тем не менее, она понимает, что Раскольников всё-таки значительно проигрывает Свидригайлову. Свидригайлов — человек гораздо более нравственный, он никого не убил, у нас нет даже доказательств, что он убил жену Марфу, или по крайней мере свёл её в гроб. Но по крайней мере совершенно очевидно, что Раскольников-то убил четверых: старуху, Лизавету, ребёнка Лизаветы в его чреве и собственную мать, которая умерла от горя во время процесса. Она так и верила, что её Роденька, Родюшка, Родион Романович мог что-то подобное совершить. Собственно, в этом-то и ужас, что для Достоевского возможно прощение для такого персонажа — и возможно именно потому, что он переживает очистительные страдания, что он может этой бездной очиститься.
Пожалуй, в этом же смысле для Достоевского не потерян и Ставрогин. Сама мысль о том, что в русское революционное движение он приводит Ивана-Царевича, Николая Ставрогина, не ограничиваясь Верховенским, — эта мысль чрезвычайно глубокая. Он понимает, что главная опасность русского движения и вообще русского тоталитаризма лежит не в Верховенских — не в мелких, плоских и пошлых организаторах террора. Главная опасность лежит в таких людях, как Ставрогин, которые не чувствуют нравственных границ, которые живут в обстановке нравственного помешательства, всё время пытаются нащупать пределы своего Я и ради этого идут на любые преступления — вплоть до детоубийства, вплоть до растления ребёнка. Растление ребёнка у Достоевского — всегда растление души (вспомним сон Свидригайлова). Вот из-за того, что эти растленные души преобладают, и делается неизбежным урок русского тоталитаризма, делается неизбежной участь русской революции.
Но давайте тогда, господа, поймём, что ведь не в революции дело, в конечном счёте не в социальных условиях, а дело в том, что преобладают в обществе вот эти Иваны-Царевичи — люди без нравственных условий. Конечно, Ставрогин — это человек с тавром, человек заклеймённый, это понятно (а не только «stavros» — «несущий крест»). Безусловно, это самая страшная опасность. Но мы не можем отрицать и того, что Достоевский, как и Раскольниковым, тоже красавцем, этим героем любуется, что его привлекает эта беспредельность сил, в отличие от Европы, в которой ничего беспредельного давно уже нет, а торжествует рацио. И вот упоение этой беспредельностью — этой элементарной невоспитанностью души — оно мне кажется, пожалуй, в Достоевском самым страшным.
Что касается полифонии, о которой говорит Бахтин. Мне кажется, что полифония — это скорее случай Тургенева, у которого никогда нет окончательного вывода. Что касается Достоевского, то он слишком часто всё-таки берёт читателя за шиворот и тычет его мордой в единственно правильную мысль. Одного только нельзя не признать — нельзя не признать, что в описании русских соблазнов, русского ада Достоевскому равных нет. Кроме того, он великолепный разоблачитель фальши и лицемерия. Достаточно вспомнить «Село Степанчиково» или «Скверный анекдот», гениальный рассказ о попытке начальства быть либеральным, — всё это очень наглядно. Но нельзя не признать и другого — замечательно разоблачая это лицемерие и фарисейство, сам Достоевский очень часто в него впадал.
Я прекрасно понимаю, сколько будет негодования, возражений и упрёков в глупости и инфантилизме по поводу всех этих слов. Ничего страшного, это нормально. Пока мы спорим, пока мы обмениваемся аргументами, пока мы говорим о литературе, мы не потеряны. Как только мы начинаем переходить на личности и на низменные, пошлые и плоские аргументы, всё заканчивается. Может быть, как раз и задача этой передачи в том, чтобы вернуться к здравым и серьёзным разговорам. Через неделю я опять с вами в этой студии. Пока!
*****************************************************
08 апреля 2016
-echo/
Д. Быков― Добрый вечер, дорогие друзья, точнее — доброй ночи, дорогие полуночники! Конечно, непросто мне сегодня ночной эфир вести, потому что я в 7 утра только прилетел, но я попробую. В крайнем случае, если я начну засыпать явственно, дёргайте меня какими-то нестандартными и непривычными вопросами. Хотя вопросов и теперь уже набралось какое-то сверхчеловеческое количество. Спасибо вам за активность. Помоги бог ответить хотя бы на треть.
Достаточно любопытно, как мне сегодня определиться с лекцией. Подавляющее большинство голосует за лекцию про Людмилу Улицкую. Я попробую это сделать. Но мне придётся от лекции отъесть немножко, потому что чрезвычайно мною любимый и давно любимый человек, замечательный российский экономист, проживающий в Лондоне… Не буду называть его, хотя она закончила ту же школу и училась там лет на десять младше меня. Никаких романтических подтекстов здесь нет, просто я к выпускникам нашей школы отношусь с особой чуткостью. В общем, она хочет лекцию про прозу Блока, а конкретно — про его загадочную новеллу «Ни сны, ни явь». И я с удовольствием про неё поговорю, потому что это действительно интересно. Тут даже не столько моё отношение к родной школе №1214 (тогда ещё №77), сколько отношение к блоковской прозе, которую Пастернак называл «гениальной репетицией», такой предтечей собственных его — да и не только его — символистских опусов. Так что говорить будем про Блока, но основная тема у нас, конечно, — Людмила Улицкая как феномен. Многие почему-то об этом хотят поговорить.
А пока будем разбираться с вопросами — сначала, как всегда, форумными, а потом… Напоминаю вам адрес: dmibykov@yandex.ru.
Чрезвычайно много вопросов: не хочу ли я придать программе несколько более политизированный характер, потому что явно в обществе намечаются некоторые трещины монолита? Это очень видно по количеству и, главное, качеству форумных комментариев, и не только на «Эхе». Бывало раньше, читаешь какой-нибудь заведомо провластный ресурс — и там все дружно упражняются в остроумии по адресу разного рода меньшинств, прежде всего, конечно, политических и национальных. Теперь с радостью видишь, что то ли методички не успевают поступить, то ли народ действительно довольно быстро прозревает. Обидно было бы, конечно, думать, что это прозрение происходит только в результате столкновения телевизора с холодильником. Хотелось бы верить, что возможны и теоретические сдвиги, а не только какие-то печальные прозрения, печальные открытия, вызванные кризисом. Хотелось бы, чтобы человек понимал всё не только через желудок. Но показательно и приятно уже и то, что кое-кто начинает догадываться.
Кстати говоря, как всегда (поскольку русская культура — культура чрезвычайно влиятельная, во всяком случае в России), приятно, что в большинстве случаев это прозрение носит всё-таки характер эстетический. То есть люди не любят, когда им совсем уж плюют в лицо. И неприятно им, когда довольно наглядно им отвечают про офшоры, говорят, что скоро всему населению России купят балалайки и другие музыкальные инструменты. Всё это заставляет всерьёз задуматься и обрадоваться тому, что население по-прежнему более адекватно, чем представители власти.
А хочу ли я сделать, чтобы программа была сугубо политической? Нет, не хочу. Во-первых, в политике разбираются и так и без меня; полно людей, которые могут дать политический совет на любой случай жизни. А во-вторых, культура — это и есть политическое выражение, предельное, концентрированное выражение национального характера, национального сознания. Поэтому я думаю, что мы и так говорим о самом главном, о самом значительном. Ничего более интересного мы в политической сфере не откроем.
«Что вы думаете о творчестве Эдгара По? Чего стоили ему как человеку гениальные открытия как художника?»
Я бы не стал так резко в случае Эдгара По разделять человека и художника — прежде всего потому, что По — это классический и, может быть, единственный в своём роде американский романтик. А для романтиков ещё до символизма, как вы знаете, жизнетворчество — это вещь очень характерная. Эдгар По не мог жить иначе. И не мог он не платить за свои художественные эксперименты жизнью. И не мог он быть экономным трезвенником, любящим такую же скучную квакершу. Он мог быть несчастным, трагическим одиночкой, влюблённым в молодую и обречённую красавицу. И умереть он иначе не мог: только таинственно перелетев как бы из города в города, да ещё при этом найденный на скамейке в парке в состоянии алкогольного делириума.
Не то чтобы Эдгар По биографически добирает, не то чтобы он пытается энергетику своего искусства сделать из своей биографии; это было бы довольно дёшево. Нет, скорее наоборот. Биография его такова, потому что все его творческие и художественные силы идут на постижение мира. Он один из тех, кто эту новую Америку, эту новую землю открывает и обживает эстетически. Естественно, что это требует жестоких литературных экспериментов на себе. По — вообще человек очень преувеличивающий, exaggeration такой (классическое выражение), всё время преувеличивающий, возводящий в куб. И в этом смысле его замечательный рассказ «Сфинкс», где он принял муху, ползущую по стеклу, за огромное чудовище, обитающее в дальнем лесу, — это рассказ, наверное, самый автобиографический и самый точный из всего, что он написал.
«В прошлой передаче вы сказали: «Чудо оттого и чудо, что оно выбивается из обыденности и отличается от законов природы». Рождение человека — это чудо или обыденность?»
Для меня — чудо, и не только сам факт рождения, но и само появление человека с его качествами, которые никак не вытекают, казалось бы, из природы этого мира, с его способностью к трансцендентному, к самопожертвованию, с его даром воображения, с его второй сигнальной системой, с его удивительно прагматичным и при этом идеалистическим устройством. Для меня, конечно, человек — чудо, абсолютно необъяснимое. И я хотел бы сохранить такой взгляд на человека, нравится ли это кому-то или нет.
«Есть ли у писателя долг? Какой, перед кем и почему?»
Вы знаете, на самом деле интересный и неоднозначный вопрос. Спасибо, maximvictorich. В своё время в одной из ранних статей Мандельштам писал: «Поэзия никому и ничего не должна». По-моему, это была статья «О собеседнике», если я ничего не путаю. А может, о Чаадаеве… Нет, «О собеседнике». Как только поэзия начинает быть должной, она немедленно утрачивает своё главное — она утрачивает правоту. А поэзия — это сознание своей правоты. И эта поэзия не должна ни перед кем отчитываться; она сама — носитель абсолютной морали. А потом неожиданно, в 1933 году, Мандельштам говорит Ахматовой: «Поэзия сегодня должна быть гражданственной». Выходит, что она всё-таки должна. Я считаю, что талант есть долг, призвание есть долг. И кому дано — с того и спросится.
«Кто, по-вашему, прав в истории с Кирпичом — Жеглов или Шарапов?»
Видите ли, прагматически подходя к вопросу, всё равно оказался прав Шарапов, потому что Жеглов по этой дорожке ушёл довольно далеко. Я, отталкиваясь от этого шуточного вопроса, хотел бы сказать вещь довольно серьёзную. Понимаете, надо каждый акт, каждое решение рассматривать в исторической перспективе, ведь человек в общем не статуарен, не статичен, а он движется. Один раз, когда ему это было надо, Жеглов подложил Кирпичу кошелёк. («Кофелёк, кофелёк… Какой кофелёк?») Гениальная работа Садальского! А потом ему понадобилось — и он передёрнул в более крупных вещах. А потом он Груздеву сажает («Будет сидеть! Я сказал»). А потом он Левченко убивает. К сожалению, каждое решение задевает тысячи струн, в том числе в будущем. Поэтому мы не можем сказать, что Жеглов — это сформировавшийся тип. Жеглов пойдёт дальше, и он всё реже будет останавливаться на тех или иных развилках, вот в чём проблем, он всё меньше будет задумываться. Поэтому прав Шарапов.
Хотя, как вы понимаете, вся правота в картине (и это блистательный ход Говорухина) всегда достаётся Жеглову. Это надо было вообще так искусить зрителя, противопоставить Шарапову (которого играет Конкин, сыгравший до этого по-настоящему большую роль только одну — только Павку Корчагина), правильному, слишком рациональному и слишком постижимому Конкину противопоставить такую харизматическую личность, как Высоцкий, и сделать зло настолько обаятельным… А он не только зло, он ещё и добра очень много делает. Вспомните, как великолепно он себя ведёт, когда Жеглов оказывается изгнанным Шараповым из комнаты: он не ушёл никуда, остался у него. Это же очень сложный и неслучайный персонаж. Противопоставить такому правильному, линейному, розовому комсомольцу (пусть и с боевым опытом) такого очаровательного и ещё, как говорит сам Высоцкий, «из бывших», из криминальных, такого матёрого человечища — это серьёзное искушение.
Тогда вообще русская культура очень сильно пыталась разобраться с этой проблемой. Примерно тогда же Веллер начал (вы упомянули Веллера в вопросе) писать своего «Звягина», который, в сущности, был преодолением очень важного соблазна. Ведь там в чём история? В первой главе романа… в прологе обаятельный, умный, начитанный, умелый Звягин убивает омерзительного гэбэшника, который до этого пытал на допросах Вавилова; и убивает хорошо, профессионально, с наслаждением — и всё ему сходить с рук. И читатель очень хочет оказаться в этот момент на месте то Жеглова у Вайнеров, то веллеровского Звягина, потому что это обаятельное злодейство, очаровательное и, кстати говоря, злодейство, имеющее моральное оправдание. Веллер вообще любит поэкспериментировать с литературой, так сказать, позадавать серьёзные вопросы. Он же не для детей пишет, понимаете, «не в песочнице сидим». Как говорил Набоков: «Мы не в воскресной школе». И поэтому действительно есть над чем подумать.
Я всё-таки продолжаю оставаться в убеждении, что это скучное, это правильное, это традиционное, на грани трюизма добро всё-таки право, потому что история же не зря кровью написана. Можно быть таким человеком, как Ницше, которому добро скучно, которому мораль омерзительна. Можно вслед за Розановым повторять: «Я не такой ещё подлец, чтобы говорить о морали». Но все эти ребята, по-моему, своей жизнью очень убедительно доказали, что мораль — это не пустой звук.
Что я думаю о новом официальном стиле подачи новостей и рекламных сообщений, когда они строятся в виде дневника? И как я вообще отношусь в частности к этой знаменитой астраханской «Столовой №100» или Армавирскому тяжмашу?
Это лишний раз доказывает, что… Ну, кто про что, а вшивый про баню. Это лишний раз доказывает, что люди двадцатых годов во главе с Маяковским не зря полагали, что движение искусства в сторону рекламы — это нормально и даже, более того, весьма креативно. Почему? Не потому, что искусство начинает служить интересам низкой жизни, а именно потому, что искусство делает решительный шаг в реальность, оно начинает оперировать реальностью, оно начинает манипулировать сознанием. Это очень важно. Когда-то, кстати, один из крупных нынешних теленачальников мне очень убедительно доказывал, почему лучше быть продюсером, чем режиссёром: потому что художник рисует красками, а продюсер рисует людьми. Я могу соглашаться, не соглашаться с этой манипулятивной идеей, но я не могу отрицать того, что, безусловно, реклама — это тоже сфера искусства, сфера психологической манипуляции. И расширяться эта сфера в ближайшее время будет очень серьёзно. Если не происходит прорыва в области, условно говоря, прозаического нарратива, то пусть он происходит хотя бы в области нарратива рекламного. И мне это понравилось.
Конечно, многие считают, что «Нигде кроме, как в Моссельпроме» — это падение таланта Маяковского. Я считаю, что это овладение новыми сферами таланта, то есть это вторжение таланта в новые области. Мне кажется, что Маяковский и иже с ним — люди, которые осваивали идеологическую сферу, рекламную сферу, — они, может быть, и предавали лирику, но просто они так поступали потому, что возможностей для развития лирики эта эпоха не предоставляла. Простите, лирику можно писать не во всякое время. Душа должна быть свободна от страхов, давления, шантажа. Если этого нет, пусть творчество устремляется в те сферы, в которых оно возможно. Я не говорю о текущем моменте, анализ текущего момента потребовал бы слишком много времени. Но в любом случае то, как развивается реклама, — это интересно. И не будем забывать, что Феллини снял несколько превосходных образцов рекламы, Гор Вербински начинал с клипов и рекламы. Да практически любой современный художник имеет опыт клипового, рекламного, иногда информационного, политического монтажа. Это тоже, к сожалению, необходимо. А изображать сноба, который презирает нужды низкой жизни, — эта позиция, по-моему, непристойная.
«Помню приезд Михаила Калика на кинофестиваль в Выборг. Было трогательно, но огорчала зацикленность мастера на лагерной теме. Есть ли у вас любимый фильм Калика? И чем он вам дорог?»
Совершенно очевидно, что мой любимый фильм Калика — это «До свидания, мальчики». Дай бог ему здоровья. И я считаю, что Калик — вообще великий режиссёр. Кстати говоря, «И возвращается ветер…» — тоже первоклассная картина. Калик очень многого не снял. Изуродованный фильм «Люблю…» [«Любить…»], который они сделали вместе с Инной Туманян (Калик делал художественную часть, а Туманян — документальную), там, где содержались первые документальные съёмки отца Александра Меня и его комментарии… Картина чудом спаслась, потому что просто Туманян у себя под кроватью двадцать лет хранила негатив. Но Калик действительно очень многого недоделал. И я не стал бы его осуждать… даже не осуждать, а просто не стал бы обращать особое внимание на его зацикленность на советских темах, в частности репрессивных.
Вот многие говорят: «Зачем всё время говорить о теме лагерной или о теме социальной?»; или: «Что вы всё думаете про Путина и офшоры? Ведь жизнь к этому не сводится». Понимаете, она не сводится, но когда у вас болит зуб, смешно говорить с вами о том, какая погода и как пахнет мокрая трава. Есть люди, которые умеют совершенно спокойно относиться к окружающей несправедливости, но давайте не делать вид, что таковое отношение является нормой или благородным стоицизмом.
Мне близки люди (неважно, это мои оппоненты или союзники), у которых политика, репрессии, репрессивные практики любой власти — это тот больной зуб, от которого они не могут отвлечься, который они беспрерывно языком нащупывают во рту. «Немолод очень лад баллад, // Но если слова болят…» — как сказал Маяковский. Я за то, чтобы слова болели. Потому что, когда на ваших глазах насилуют детей, когда на ваших глазах врут нагло, когда на ваших глазах манипулируют человеческими чувствами (под насилием я имею в виду в том числе и пропаганду, потому что психологическому насилию противостоять в каком-то смысле труднее), когда на ваших глазах оболванивают поколение, отвлекаться от этого какими-то разговорами, мне кажется, смешно — и смешно в самом дурном, в самом унизительном смысле слова. Позиционировать себя в качестве носителя чистого разума в этом случае, по-моему, непристойно.
«Что бы вы могли сказать о «поэте в клобуке архиепископа» — Дмитрии Шаховском?» Лиза, я с удовольствием отвечу на ваш вопрос. Пока я недостаточно знаком с этой темой, мне надо вчитаться. Из того, что я читал, к сожалению, эстетически меня не убедило ничего. Ну, может быть, это в таких случаях неважно.
«Правда ли, что Библия играла огромное значение в творчестве Маяковского?»
Во-первых, не «играла», а «имела», но бог с ним, оговорки случаются у любого. Но, видите ли, в чём проблема? Не Библия играла роль в творчестве Маяковского. Он саму Библию знал, как мне кажется, весьма поверхностно, на уровне достаточно общеупотребительных цитат. Но Маяковский вообще ощущал себя не богоборцем, он ощущал себя нелюбимым апостолом. Вот это очень важно. «Тринадцатый апостол» — ведь это не случайное первоначальное название поэмы «Облако в штанах». Не случайное название книги Карла Кантора. И выходящую сейчас книжку о Маяковском (её сначала решили издать отдельной книгой, чтобы не связывать себя тиражом и форматом «ЖЗЛ») тоже я назвал «Тринадцатый апостол», хотя на самом деле это просто «Маяковский. Трагедия-буфф». Почему «Тринадцатый апостол»? Потому что это несчастливый, нелюбимый апостол; это самый верный ученик, которого, тем не менее, всё время отвергают. И у него было всю жизнь такое чувство, по отношению к революции главным образом, — нелюбимый ученик, самый верный адепт, постоянно отвергаемый.
Поэтому, когда сегодня разные люди разной степени одарённости, но одинаковой степени аморальности, говорят о том, что Маяковский был прежде всего носителем материального интереса, что «кто больше заплатит, тому он и служит», — это вызывает у меня определённые возражения, и больше того, это глубоко оскорбляет большого поэта. Тем более что оскорбляют его, как правило, люди, которые ногтя его не стоят. Это говорили очень многие. Ну, говорил это в том числе и Ходасевич, но мне кажется, что Ходасевич по отношению к Маяковскому — да, ну что поделать? — тоже бывал неправ. Почему не назвать вещи своими именами? Владислав Фелицианович, конечно, прелестный автор и большой поэт, но назвать его образцом творческой, я бы сказал, добропорядочности тоже очень трудно. И Якобсон совершенно прав в статье «О поколении, растратившем своих поэтов». Поэтому — да, Маяковский действительно (кстати говоря, как и очень многие в Советском Союзе) ощущал себя пасынком, нелюбимым сыном революции. Так же ощущала себя большая часть ЛЕФа, потому что они пошли в революцию не за конформными целями, не ради приспособления. И, конечно, им ужасно было думать, что этой революции оказались нужны прежде всего бюрократы, а вовсе не искренние борцы.
«У Хемингуэя в романе «По ком звонит колокол» Гражданская война представлена как зверство и предательство. Главный герой погибает, чтобы не быть убитым в спину. Почему Хемингуэй прощает своих товарищей по оружию?»
Я не думаю, что он их прощает, и не думаю, что они нуждаются в прощении. Видите ли, Хемингуэй написал объективный роман, что большая редкость. И в чём величие этого романа? И почему, собственно говоря, этот роман в Советском Союзе до 1968 года не выходил, хотя именно он, а не «Старик и море», был главной причиной присуждения Хемингуэю Нобелевской премии?
В чём проблема? Проблема в том, что в этом романе впервые зафиксирована — сегодня очевидная, а тогда очень свежая — мысль: ни с одной доктриной, ни с одной политической силой порядочный человек отождествить себя не может, потому что человек с принципами, правилами (хотите, скажите — комплексами, хотите — кодексами), в общем, человек с морально-этическими предрассудками не может найти себя ни в одной из политических сил. Это главная особенность XX века. Главная особенность XX века в том, что это время одиночек. Любой человек, подписавшийся под той или иной программой, любой человек, включившийся в ту или иную массовую кампанию, отказался от значительной части собственного взгляда. К сожалению, это так. Это время одиночек. И вот об этой трагедии собственно Хемингуэй и написал роман. Но ведь смысл названия — «For Whom the Bell Tolls» — не только в цитате из Джона Донна, не только в том, что колокол всегда звонит по всем. Нет, он в том, что главной трагедией XX века будет трагедия частного человека. Колокол звонит по Роберту Джордану, он звонит по человеку, который хочет сохранить порядочность в кошмарах, как говорил Коржавин, «кровавой эпохи».
Долгий вопрос о том, что моя вера, скорее всего, вызвана страхом смерти. И вообще очень много людей, которые пишут: «Мне кажется, что вы ошибаетесь, когда…» — то-то, то-то, то-то. Понимаете, это классическая формула. Не нужно так говорить. «Мне кажется, что я думаю иначе»; «Мне кажется, что я с вами не согласен». Или просто: «Я с вами не согласен». Вы можете сколько угодно верить в то, что Бога нет, а можете верить в то, что он есть — это непринципиально. Но постарайтесь понять, что обычно те или иные взгляды диктуются не примитивными мотивами: не страхами, не корыстью. Постарайтесь не приписывать оппоненту низменных мотиваций — и жизнь ваша будет исполнена блаженства.
«Насколько образование и писательский талант помогают человек переживать события, переживаемые в тяжёлые моменты жизни? Например, я прочитал три книги о жизни в советских исправительных учреждениях: Губермана, Поляка и Габышева. И Губерман — единственный профессиональный писатель, а у других всё пронзительнее и ярче».
Василий, дело в особенностях темперамента, а не в профессиональности писателя. Например, Валерий Фрид написал оптимистическую книгу о лагере — он написал «58 с половиной, или Записки лагерного придурка». В этой книге всё равно очень сильное воздействие на читателя, потому что мы понимаем, вопреки чему существует и сохраняется этот оптимизм. Солженицын умудрился найти в лагерном опыте позитивные черты. Варлам Шаламов и Тадеуш Боровский — на мой взгляд, два главных прозаика XX века, связанных с этой темой, — написали, что «любой выживший — предатель», что «никакого позитивного опыта здесь быть не может», и что «всякий лагерь — это школа расчеловечивания». Можно и так. И, конечно, негативное и, более того, человеконенавистническое всегда действует сильнее. Шаламов своими текстами, по сути, отменил проект «Человек». Но Шаламов ведь ещё в троцкистские свои времена, ещё в начале тридцатых тоже так думал. Он думал, что труд — это проклятие человек, что человек несовершенен, что его надлежит отменить или во всяком случае сильно изменить. И поэтому, конечно, радикальнее, страшнее и убедительнее выглядит Шаламов.
Надо сказать, что и роман Габышева «Одлян, или Воздух свободы» — одна из самых страшных книг о лагере, потому что это детский, подростковый лагерь, так называемая «малолетка», — он производит такое впечатление именно потому, что это автоэпитафия. Мы понимаем, что Глаз… А он там меняет имя на протяжении разных частей романа. И вообще это такая хроника конформиста, ещё до «Обители», потому что герой прилепинской «Обители» тоже ведь прежде всего выживальщик. Это небывалая тема, очень интересно решённая в романе. Так вот, мне кажется, что такого героя-конформиста, который меняет имена и лица, по сути дела, первым описал Габышев и показал, что для этого героя возвращения нет, и прощения нет, и жизни для него нет — и своей судьбой это подтвердил. Поэтому, конечно, чем книга мрачнее, тем сильнее она действует. У Губермана просто другой взгляд на вещи: он верит, что для человека возможно спасение и что человечность бессмертна, а люди моральные всегда выглядят как-то гораздо слабее пессимистов.
Вернёмся через три минуты.
РЕКЛАМА
Д. Быков― Продолжаем разговор.
«Бердяев утверждал, что ожидание чуда — одна из слабостей русского народа. А вы убеждены (цитирую): «Только с помощью чуда можно воспитать этику». Можно ли воспитать этику, опираясь только на здравый смысл, заключающийся в понимании последствий?»
Нет, нельзя. Вот и всё. Понимаете, к сожалению, люди прекрасно знают о последствиях зла, но это их не останавливает. Людей останавливает не страх, не только страх, людей останавливает не страх наказания и не мысль о грозном боге. Людей очень часто останавливает (и это благая остановка, благое торможение) мысль о том, что мир не рационален, не всегда предсказуем. И поэтому решение, у которого есть 99 рациональных аргументов (например, что старуху надо убить, потому что это можно скрыть, потому что старуха вредна, опасна, противна), это решение пасует перед одним иррациональным. И так далее.
Я всегда настаиваю на том, что без чуда этика немыслима. Возможно без чуда рациональное мышление, и тут чудо действительно мешает. Но чудеса же разные бывают. Я здесь сошлюсь опять на Надежду Мандельштам, на главу о чуде, о чудесном спасении Осипа. Можно, конечно, сказать, что творцом этого чуда был Сталин, и благодарить его не следует ни за что. Но если человека собирались убить и не убили — это же всё равно чудо. Иной вопрос, что иногда, как в случае Достоевского, это его ломает на всю жизнь. А иногда, как в случае Мандельштама, это даёт ему надежду на проживание четырёх свободных лет. Я не думаю, что Мандельштам был реально благодарен Сталину, исключая короткий период умопомрачения 1938 года (он сам говорил Лидии Гинзбург: «Это была болезнь»). Но, понимаете, чудо же не Сталин делает, а оно делается через Сталина. Вот что надо, по-моему, понимать.
«Мне нравится новое, но жалко нашу классику. Неужели она больше нам действительно не нужна?»
Наташа, она, конечно, нужна. Просто давайте откажемся от охранительного отношения к ней, давайте учиться её понимать как живое свидетельство. «Бесы» — это не такой роман, перед которым все упали на колени. «Бесы» — это роман, о котором можно и нужно спорить. Кроме того, понимаете, русская классика — это же довольно обильный корпус текстов. Мне кажется, настало время — с точки зрения общих, универсальных, всемирных сюжетных схем, с точки зрения некоторых структуралистских и в особенности постструктуралистских разомкнутых подходов — перечитать русскую классику, проследить за генезисом её сюжетов — в общем, понять, какими закономерностями она рождена, потому что у нас с описанием этих закономерностей очень плохо дело. Социальные закономерности мы понимаем, а вот почему в сюжете, допустим, пастернаковской «Слепой красавицы» обязаны присутствовать элементы «Золотого ключика» — этого мы не понимаем. Ну, тут надо вспоминать книгу Ольги Фрейденберг, например, «Поэтика сюжета и жанра»: почему в определённом жанре нельзя обойтись без определённых персонажей? И так далее.
«Какие меры безопасности надо принять либеральной несистемной оппозиции, чтобы народ не видел борцов за его счастье в постелях с любовницами и не вникал в их истории о воровстве?»
Конечно, самый простой ответ — это не встречаться с любовницами. И лучше бы вообще не подпускать к себе ни женщин, ни мужчин, ни детей, ни животных. И уж, конечно, не заниматься никаким бизнесом, потому что бизнес, по мнению многих, есть по определению воровство. Это примитивный вариант ответа. Менее примитивный вариант ответа: лучше следить за конспирацией. И это тоже не ответ. Правильный ответ может быть только один. Мне кажется, его дал Волков. Он сказал: «Да, мы живые люди, и у нас…» Хорошо звучит: «Да, мы живые люди». Нет, имеется в виду: «Мы живые люди, у нас бывают любовницы. Мы иногда плохо отзываемся за глаза друг о друге, потому что единомыслие бывает только на кладбище».
И вообще вспомните, что российская оппозиция сегодня находится, я бы сказал, в очень пикантном положении: ей фактически отрубили все возможности для действий, постоянно при этом корят за отсутствие у неё позитивной программы, которую ей не дают даже элементарно изложить, она находится под огромным давлением (и личным, и общественным), и на неё натравливают и науськивают тех, кто ещё не определился. Когда-то Новелла Матвеева… Я часто на неё ссылаюсь, потому что она очень афористично формулирует. Я похвалил литературную ситуацию семидесятых годов, сказав: «Сколько было там замечательных авторов, включая вас!» Она сказала: «Литературная ситуация семидесятых годов — это когда на вас верхом сидит человек, зажав вам рот и уши, колотит вас пятками в бока и спрашивает: «Почему нет настоящей лирики?» Это действительно так. Вот все спрашивали: «А где большой поэт?» — сделав предварительно всё, чтобы большой поэт сквозь этот асфальт, как гриб шампиньон, не мог протиснуться. Так и здесь: «А где же русская оппозиция?»; «Ну что же, вы русская оппозиция?!» Вы чего собственно хотите, чего вы ждёте? Самосожжения? Вот это мне очень интересно. Какие легальные возможности существования оппозиции ещё не отрубили? Эти люди под сильным прессингом, конечно. Этот прессинг, наверное, определённым образом сказывается на их состоянии.
И вообще ведь это очень приятно — сначала вывести человек из себя, довести его до полной потери самоконтроля, а потом говорить: «Смотрите, смотрите, он кусается!» Это такая старая школьная практика. Поскольку я учитель всё-таки, я же эти детские приёмчики знаю очень здорово. Я сейчас, кстати, с облегчением подумал: как хорошо, что у меня завтра с утра четыре урока! Ребята, это такое счастье! Как плохо, если бы у меня этого не было! Потому что всё-таки в школе всё как-то здоровее, а когда взрослые дети этим же занимаются… Помните, как в своё время Стасов говорил: «Какая прелесть! Ползает ребятёнок с задравшейся рубашонкой. Ну а если бы мы, взрослые люди, так заползали?» Сегодня в школьную травлю играют взрослые люди, играют кокетливо, с самоумилением. Поэтому насчёт оппозиции… Вы обождите ей давать советы. Вы просто подумайте сначала, в какое положение она поставлена. И что вы будете делать без этой оппозиции, потому что, если не будет Касьянова, кто у вас будет во всём виноват?
Что касается мер безопасности. Понимаете, не всем же так везёт, что у людей нет бизнеса и что у них нет любовниц. У некоторых вдруг это есть. Я говорю сейчас не о Касьянове, я говорю о теоретической ситуации. А вообще надо понять, что каким бы компроматом сегодня оппозицию ни заливали и ни заваливали, уже ничего нельзя сделать с тем, что всё большее количество наших соотечественников начинают думать. И никакими нацгвардиями, никакими компроматами, никакими арестами новых людей по «болотному делу» вы этого процесса не остановите! Это то, что Горький называл «тушить огонь соломой».
«Вы пишете стихотворные фельетоны в «Новой», сатирические стихи, и это востребовано. Но ведь больше никто в России сатиру давно не пишет. Сатира умерла как жанр, или «время такое»?»
Да нет, она не умерла, очень многие пишут. Боюсь, проблема моя в том, что я, наверное, это делаю не очень плохо, потому что это привлекает внимание. Мне бы, конечно, хотелось, чтобы прежде всего внимание привлекали серьёзные романы, лирические стихи и так далее. Ведь это очень просто — сказать: «Да, Быков — куплетист на потребу дня, а серьёзные его тексты внимания не привлекают». Ну, дай бог вам, чтобы ваши тексты так не привлекали внимания. Вообще-то они привлекают его стабильно. Просто, ничего не поделаешь, сегодня где болит, о том и говорит человек. Вот у него болит сегодня ситуация политическая, потому что он понимает катастрофичность положения. Я не думаю, что это просто газетные сиюминутные однодневки. Нет, это очень часто попытки вступиться за попираемый здравый смысл. И людей, которые это делают, довольно много. Я думаю, что таких людей десятки. Я мог бы вам их перечислить… Да вы и сами их перечислили. Другое дело, что сатира перестала быть доброй — и это, наверное, хорошо.
Нам, товарищи, нужны
Подобрее Щедрины
И такие Гоголи,
Чтобы нас не трогали.
Эта эпиграмма разным людям приписывалась, включая Борщаговского. Сегодня сатира перестала быть доброй, и меня это вполне греет и радует.
«Вы как-то обмолвились, что Евангелие — плутовской роман по жанру. Можно ли раскрыть этот тезис чуть подробнее?»
Он будет раскрыт в статье про Бабеля, которая выходит в очередном «Дилетанте», в апрельском. Речь идёт о том, что просто первый советский плутовской роман «Хулио Хуренито» — это высокая травестия евангельской темы. И поэтому становится понятно: когда рушится мир отца, сын приходит как трикстер, он приходит, принося чудо. Помните, когда Беня Крик в «Закате» после того, как он вынужден своего отца отстранить от дел, он говорит: «Подлые люди, как могли вы подумать, как могли вы сказать то, что вы сказали!» «Не бей отца, Бенчик!» — говорят ему. Он не бьёт. Он приходит как носитель новой, как ни ужасно это звучит, морали и новой технологии управления. Кончился жестоковыйный мир отца — и пришёл мир плута. Но дело в том, что без чуда, без плутовства этот мир невозможен, потому что чудо — это сильнейший инструмент воспитания. Приходит человек, который вместо жестокого мира приносит мир иронический, парадоксальный. И вот эта христологическая фигура — Хулио Хуренито («великий провокатор», как он себя называет), Бендер — самое важное, что это фигура трагическая. Она обречена, потому что в новом мире судьба Бендера, судьба Хулио Хуренито — быть убитым, быть вытесненным. Об этом много можно спорить, много можно говорить. Это очень неслучайная фигура. Это одна из моих попыток увидеть новую литературную схему там, где раньше господствовало каноническое представление и, по-моему, очень далёкое от реальности.
«Никогда не слышал вашего мнения о прозе Владимира Маканина. Очень хвалят его «Отставшего».
Понимаете, какая штука? Маканин — безусловно, крупный писатель, это никаких сомнений у меня не вызывает. Просто тот стиль, которым он пишет, меня очень сильно отталкивает. Не потому, что мне трудно через него продираться. Разные бывают вкусы и разные бывают модусы. Конечно, Маканин — гениальный социальный диагност, первоклассный. Можно указать на такие повести, как «Предтеча», где появился вот этот тип нового сектантства, угаданный поразительно, тип семидесятых годов, когда появляется новый религиозный вождь, целитель, и общество начинает… Это такая квазирелигия. Это очень точная книга. Он тип отставшего замечательно угадал, тип убегающего («Гражданин убегающий»). Очень интересная вещь у него — «Лаз». Потому что это общество было источено лазами, и только в этих лазах, протискиваясь, можно было найти какую-то не вертикальную даже, а просто мобильность. Но изложено это таким занозистым стилем, с таким количеством повторов, с изломанным синтаксисом! И герои мне его неприятны.
Я помню, как я, по совету Льва Мочалова, титаническим усилием пытался прорваться через «Отдушину»! «Отдушина» — очень хорошая повесть о том, как заводится у простого человека поэтесса Алевтина, такой роман… По-моему, Алевтина. Я сейчас могу путать. Любовный роман у него возникает. Это о том, что любовь перестала быть делом страсти, быть делом жизни, а стала отдушиной. Это интересно было. Маканин вообще очень точен, вот тут разговоров нет. И «Андеграунд, или Герой нашего времени» — тоже точный роман. Но читать, как это написано, мне неприятно, а идентифицироваться с этими героями я не могу — при том, что он, безусловно, среди своего поколения, один из самых крупных литераторов.
Кстати говоря, как и большинство критиков, я считаю, что самое сильное его сочинение — это «Где сходилось небо с холмами» и, наверное, всё-таки «Буква А», просто потрясающей силы художественная метафора. Сейчас вспоминаешь, какие книги были выдвинуты на «Букера» тогда: горенштейновское «Место», «Время ночь» Петрушевской, «Лаз» Маканина… Вот уровень литературы! Другое дело, что это уже был, так сказать, её последний вздох.
«Что вы думаете о фильме «Сладкая жизнь»?» Всегда включаю его в свою пятёрку лучших фильмов. Великая сага!
«Нравится ли вам Дина Рубина, и особенно её последний роман, я имею в виду «Русскую канарейку»? Он не показался мне лучшим из её произведений».
Мне тоже не показался. Я не хочу ругать Рубину. И вообще никого не хочу ругать. Мне кажется, что Рубина выбрала всё-таки довольно мужественно свой путь. Она не боится приёмов и методов паралитературы — того, что считается трешем. Она не боится сильных страстей, не боится чувств, роковых женщин. Эта глухонемая, читающая по губам в «Русской канарейке», — это вообще пришло откуда-то из самых трешевых техник, но это же читается и это мило. В своё время этот качественный перелом я почувствовал ещё по её рассказу «Тарабука-мастер» — по рассказу о женщине, которая от СПИДа умирает, в бубен барабанит.
Мне кажется, что её перемещение в Израиль сделало её прозу ярче, динамичнее, но при этом она потеряла в масштабе. Я люблю Рубину-реалистку, и высшей точкой её творчества мне представляется повесть «Камера наезжает!..». Люблю в общем я роман «Синдикат». А дальше пошла… Особенно в трилогии «Люди воздуха», особенно в «Канарейке» мне померещилось, конечно, движение в сторону сказки и, если угодно, в сторону фэнтези, а отчасти — в сторону массового вкуса. Ну, писатель имеет право пользоваться этими техниками. Лучше пусть ими пользуется Рубина, чем Вербицкая. При всём при этом Рубина — умный, иронический, очаровательный человек. Чего стоят в одном из недавних рассказов (хотя давних уже) её размышления о природе её ангела-хранителя. Всё, что я имел о Рубиной-прозаике сказать, я сказал довольно давно в статье «Камера переезжает», к которой мне нечего добавить. Хотя это в любом случае интересный автор.
«Если бы на Трампа была плёнка вроде той, что показали на Касьянова, опубликовали бы её или нет — имея в виду сильное желание многих этого кандидата свалить. Рыжков считает, что это возможно только в России. А что думаете вы?»
Прежде всего, это невозможно, потому что это уголовно наказуемо: это вторжение в частную жизнь, это показ по телеэкрану непристойностей, это слежка без санкций и так далее. Ну, если за Касьяновым есть санкция следить, то обнародуйте её, пожалуйста, а потом уже говорите. Нет, конечно, это мерзость.
Относительно того, какими способами свалить Трампа. Знаете, я делал доклад вот сейчас в Пенсильванском университете — «Trump as Putin». Не «is», как напечатано ошибочно в релизе, а «as» — «Трамп как случай Путина». И я там доказываю, что параллели между Трампом и Жириновским очень непоследовательные, очень поверхностные, а вот параллели между Трампом и Путиным по линии sinful pleasure, по линии разрешения друг другу быть плохими, по линии такой «джекило-хайдовщины» — они довольно актуальны. Потому что Трамп ведь тоже играет на общем желании совершать явно плохие и явно бессмысленные поступки. Люди, которые голосуют за Трампа, прекрасно понимают, что у Трампа нет ни программы, ни идей, но Трамп доставляет людям греховные удовольствия, недорогие греховные удовольствия. Он говорит то, что не соответствует действительности, но что очень приятно говорить и слушать. Приятно быть плохим. Отсюда — то стыдливо-глумливое, то робко-наглое выражение на лицах, которое бывало иногда у движения «Наши», которое так отчётливо прослеживается в лице Трампа и особенно в лице фанатов Трампа, которые приходят на его выступления.
Как можно остановить такого человека? Была высказана забавная точка зрения одним студентом, что рациональные аргументы здесь бессмысленны, потому что простота может быть остановлена только большей простотой. Ну, тут встаёт вопрос: что проще Трампа? Следует ли здесь прибегать к резкой социальной деконструкции, к предельно наглой и циничной сатире, ставить его в подчёркнуто смешное положение? Пока это как со Смоляным чучелком: всё начинает срабатывать на его популярности. Игнорировать его тоже невозможно. Значит, можно только пытаться объяснить людям (это, по-моему, единственный способ), что их провоцируют на недорогие греховные удовольствия, пытаться объяснить, как это работает. Но я абсолютно не уверен, что это сработает, потому что, как мы знаем, противопоставить злу обычно нечего. Есть один из важных мировых законов: зло всегда съедает само себя (это Господь так устроил), иначе бы оно всегда побеждало. Но оно побеждает на коротких дистанциях, как мы знаем, и проигрывает на длинных. В том и прелесть мироустройства, что зло себя ест.
«Прослушал вашу лекцию о «Граде обреченном», что привело к переосмыслению финала…» Дальше очень интересные мысли высказаны. Я продолжаю настаивать на том, что первый круг самовоспитания, как представляется Стругацким, — это самоуничтожение, уничтожение себя предыдущего (что и делает Андрей Воронин). Следующие круги сопряжены со строительством себя нового, с воздвиганием на этом фундаменте нового здания.
«Прочитал пьесу Горенштейна «Детоубийца». Образ Петра Великого просто убивает. Государь читает лекцию по анатомии, держа в руках отрубленную голову любовницы. Не слишком ли глубоко копнул Горенштейн? Андрей».
Нет, Андрей, он просто обнародовал факты. Когда Марию Гамильтон, любовницу Петра (девку Гаметову), казнили, он действительно подошёл, взял эту любимую им голову, поцеловал её (о чём, кстати, рассказывает нам замечательное стихотворение Вознесенского), подробно показал устройство слюнных желёз и перерубленных артерий, а потом эту голову выбросил. Как раз это поступок, характеризующий Петра замечательно. И самое поразительное, что у Горенштейна он прекрасно написан, без истерики, ледяным пером.
«Много всяких мерзостей произошло за последнее время, — согласен с вами, — а говорить хочется о хороших и светлых книгах. Как вы относитесь к книгам Марселя Паньоля и «Сандро из Чегема» Искандера?»
Видите ли, Марсель Паньоль был одним из любимых писателей моего детства. Нам же в школе надо было обязательно вести дневник читателя, и там надо было писать название, о чём книга и чему книга учит. Я не мог ничего написать про Паньоля кроме того, что он учит чувству юмора. Ну, научить чувству юмора нельзя. Я затрудняюсь сказать, чему учит Паньоль, но я помню, как я над ним хохотал и как меня — в общем, не самого счастливого советского школьника — эти книги поднимали в воздух, как они меня заставляли летать, парить, как это было весело! И я вообще Паньоля люблю. Но он же не только писатель, а он и артист, он и шоумен, он и комик. Он — такой режиссёр жизни. Я Паньоля очень люблю и горячо рекомендую всем. Помню, я его прочёл, когда мне было лет восемь, как сейчас помню, в Евпатории в санатории.
Что касается «Сандро из Чегема». Это очень сложная книга. Говорить о ней вот так запросто, что она добрая, светлая, что она носитель каких-то замечательных новых начал… Понимаете, мне кажется, что там важный сдвиг в изображении героя. Дядя Сандро — это тот народный герой, появление которого знаменует собой определённый кризис народа. Это и не вождь, и не бог, и не царь, и не герой, это не правдоискатель. Это опять-таки плут, но при этом плут довольно эгоцентричный. Там же, помните, с особой нежностью упоминается жировая складочка у него на затылке, которая возникла от бесчисленных застолий: он запрокидывает голову, когда пьёт рог, и у него образовалась такая «мозоль тамады». То, что дядя Сандро стал главным героем эпохи, и то, что этот роман написан именно в семидесятые — это не столько здравый инстинкт и здравомыслие народа, сколько это ещё и довольно печальный диагноз, диагноз того, о чём впоследствии в «Ловле карасей» заговорил Астафьев. Это было правильное предупреждение, оно многими было услышано. И неслучайно последняя фраза этого романа: «Мы не скоро вспомним о Чегеме. А если и вспомним, то вряд ли заговорим». И действительно на этом — на «Сандро из Чегема» — как-то романы о душе народа иссякли. Последней попыткой была повесть того же Искандера «Софичка». А дальше что-то случилось очень печальное…
«Почему в авторских сказках нет такого элемента, как живая и мёртвая вода? Почему она встречается только в русских сказках?»
Отвечу парадоксально: потому что только в фольклоре есть иногда настоящее величие, рискну сказать, настоящий цинизм, настоящая отвага. В авторской сказке многим просто недостаёт силы воображения. А вот воображение целого народа, который придумывает живую и мёртвую воду… Ведь не будем забывать, что мёртвая вода не только убивает, она и врачует раны. И вообще амбивалентное отношение к смерти в фольклоре очень характерно. Вспомните, как раз Успенский, исследуя эту тему в романе «Кого за смертью посылать»… В мире, где исчезла смерть, прекратилась жизнь. И когда там смерть вернулась, это была жизнерадостная девчонка. Неожиданно оказалось, помните, по Гуницкому, что «жизнь и смерть — одно и то же» (если это Гуницкий). «Ведь жизнь и смерь — одно и то же». Мне кажется, что такое несколько циничное отношение к жизни и отсутствие слишком большого пиетета к смерти — это черта народная, фольклорная, а в утончённой авторской литературе она уже невозможна.
«Как вы относитесь к лекциям Кураева о «Мастере и Маргарите»?» С уважением, с интересом. Часто — с несогласием.
«Посмотрел фильм Смирнова «Жила-была одна баба». Лейтмотив фильма — связь героини с тихими, добрыми мужичками, пока сильные парни режут друг друга в войнах. Баба жалеет юродивых, кормит, спит с ним и, если надо, предаёт на убой. Получается, что Душа России, по Смирнову, не в русской женщине, а в юродивом, добром мужичке?»
Мне вообще кажется, что образ такого юродивого добра довольно распространён, и в том числе у Смирнова, потому что жестокость ему не интересна. Главная героиня любит героя Серебрякова не потому, что он юродивый, а потому, что он добрый…
Вернёмся через три минуты.
НОВОСТИ
Д. Быков― Программа «Один», Быков в студии. Продолжаем разговор.
«Что символизирует вопрос Холдена Колфилда об утках?»
Если вы помните, Холден Колфилд смотрит на пруд в Центральном парке где-то в Нью-Йорке, всё время смотрит на него и думает: «Когда этот пруд замерзает, куда деваются утки?» Этот вопрос символизирует довольно распространённую в то время нравственную проблему, которая в общем и была отчасти ключевой, cornerstone, краеугольным камнем романа. Не будем забывать, что «Над пропастью во ржи» — это роман о послевоенном подростке, там действие происходит в 1952 году. Его брат Д. Б. служил в армии… (Мне всегда очень приятно, что он Д. Б.) Мы прекрасно понимаем, что Холден Колфилд — дитя войны. Что бывает с человечностью в бесчеловечные времена? Что делать человеку в бесчеловечном мире? Там же всё понятно, все метафоры Сэлинджера по-подростковому наглядны. Он — утка в замерзающем пруду. Он — такая Серая шейка. И вот что ему делать? Даже есть такая метафора очень точная (по-моему, Тугушева об этом писала), что он — такая Серая шейка в замерзающем пруду его детства. Все взрослеют, а он не может повзрослеть. Ему надо улетать куда-то с этого пруда, а не может. А мир вокруг него смерзается… Вот что делать? Это немножко сродни со знаменитым вопросом Андрея Кнышева: «Где были бабочки во время войны?» Ну, он у какого-то ребёнка это подслушал.
Мне кажется, что нежелание Холдена Колфилда вылезать, выползать из пруда этой человечности в стремительно вымерзающем мире — это и есть дежурное состояние тогдашнего человека. И приходится признать, что этот мир вымерз действительно, что Холден Колфилд из последних людей в этом мире. Поэтому замолчал Сэлинджер, поэтому замолчал Капоте на десять лет, поэтому застрелился Хемингуэй, поэтому погиб, предварительно замолчав, Фолкнер после падения с лошади (хотя последние годы он писал, но, конечно, писал уже не на том уровне и не так). Давайте не будем всё-таки сбрасывать со счёта, что мир трагичен, что в нём есть трагедия и что в вымерзающем мире утка выжить не может. На её фоне потом появилось что-то другое, вместо неё на её месте появились другие персонажи. Мне кажется, что точнее всего эту ситуацию послевоенного кризиса гуманизма отразил Стайрон в «Выборе Софи», что и сделало книги столь культовой, а его привело к безысходной депрессии по окончанию её.
«Прочитал на этой неделе «Суть да дело» и «Раковый корпус» и пришёл к выводу, что до глубины души меня достают только русские авторы. Люблю читать всё, но катарсис испытываю только от наших. Это моя особенность или это характерно для русского человека?»
Это для любого человека характерно, потому что, видите ли, дорогой sit01, любой человек, к сожалению, может повторить за Окуджавой: «Родина — есть предрассудок, который победить нельзя». Вот нам нравится дышать русским воздухом, нам нравятся наши местные проблемы и мелодика нашей местной фразы. Можно наклеить себе другие отпечатки пальцев, но другой строй речи, другой мозг себе не вставишь. Это нормально. Другое дело, что, может быть, вы недостаточно знакомы с литературой современного Запада, в которой очень много больных, точных, блистательных произведений. Я, вернувшись, привёз просто чемодан новых книг из Штатов. Попутно я постараюсь… Немножко мне подарил, кстати, совершенно замечательный пенсильванский профессор Кевин Платт, который вообще-то специалист по русской прозе и поэзии. Он мне подарил штук десять хороших американских нововышедших романов, и я о них поговорю. Я, в свою очередь, горжусь тем, что открыл ему «Wittgenstein’s Mistress» Марксона. Он Марксона знал, а вот конкретно до этого романа у него руки не дошли.
Я, кстати, тут должен добавить. Тут был вопрос про гэссовский «Tunnel». Я наконец его купил в постоянное пользование, потому что сколько можно сидеть в книжном магазине, читая эту книгу? Хочется уже наконец иметь её дома. И я, ребята, понял генезис этой книги. Наверное, он немножко оскорбит тех, кто любит Гэсса особенно и кто считает «Tunnel» величайшей книгой второй половины века. Ребята, это просто Хеллер, это Джозеф Хеллер, переписанный чуть более объёмно, серьёзно, патетично. Манера постоянных повторов, возвращений, таких фуговых построений, мрачных военных воспоминаний, написанных в сардонической, чёрно-иронической манере, — это всё «Уловка-22» и особенно «Что-то случилось». Просто он очень хорошо и внимательно это прочёл.
«Трёхчасовой ли сегодня эфир?» Нет, к сожалению, двухчасовой, а то я уже только разгорелся.
«Фильм Куросавы «Расёмон» до сих пор остаётся загадкой. Как был убит самурай? Вся скверна о человеке так и не раскрыта режиссёром. Истина всегда тонет во лжи?»
Да всё там написано! Там дух умершего всё рассказал! Но дело в том, что он не буквально следует новелле Акутагавы. В новелле Акутагавы всё, кстати говоря, написано очень отчётливо. Если уж где и есть такое построение, где постоянно слой за слоем снимается ложь и в конце оборачивается кочерыжка какая-то, из романов, которые я знаю, это стайроновский «И поджёг этот дом» в гениальном голышевском переводе, насколько я помню. А что касается такого построения в русской новеллистике, то это довольно любопытный рассказ Веллера «Колечко». Когда ранний Веллер любил экспериментировать с западной новеллистикой, перенося её на русскую почву, он решил написать русскую акутагавскую новеллу. Вот там действительно интересные смыслы. Очень вам её рекомендую.
Спрашивают, почему такую бурю эмоций вызывают у нас сказки Астрид Линдгрен, а ребёнок не плачет. «Это ребёнок чёрствый или мы больные?»
Знаете, я боюсь, что у ребёнка сказки Астрид Линдгрен не должны вызывать такого эмоционального напора. Астрид Линдгрен была взрослым писателем. Дорогая santanna82, вы человек совсем молодой, судя по дате. Вы почувствовали наконец впервые очень важную вещь: Астрид Линдгрен писала для нас, для взрослых. Дети любят «Карлсона», любят «Пеппи», а вот «Калле Блюмквист» и в особенности «Расмус-бродяга», и упомянутые вами «Братья Львиное сердце»… Астрид Линдгрен — продолжательница скандинавской религиозной традиции, традиции довольно депрессивной прозы. Это Сельма Лагерлёф… Отдельной темой было бы проследить у неё ибсеновские корни, гамсуновские, ведь первая норвежская настоящая взрослая сказка — это «Пер Гюнт».
Я не могу не плакать, перечитывая «Пера Гюнта»! Когда я дохожу до финала, когда Сольвейг баюкает старого Пера, я не могу не рыдать! А дети этого не понимают, дети не плачут, детям смешно. Детям кажется… Вот удивительная штука! У меня Андрей, когда прочёл «Пера Гюнта», говорил: «Какая прелестная и смешная вещь!» Ну, это смешно. Я думаю, что мне в семнадцать лет тоже было бы смешно. Ну, когда и эти пуговицы, и этот Доврский дед, который говорит: «У нас всё своего производства». Это дурацкая и действительно замечательная пародия на ультранационализм. Ну, там много всего. И правильно Ибсен говорил, что только скандинавы могут понять «Пера Гюнта», потому что вот там национальный дух. Но для нас — для людей в возрасте — это слёзная история! (Как и для Блока, кстати, как и для Грига.) Это слёзы! А для ребёнка «Карлсон» — тоже весёлая книга. Хотя только сейчас я понимаю, что Карлсон — это демон нового века, летающая сущность, которая является в мечтах ребёнку. Это печальная история о вымышленном друге, о подростковом безумии. А тогда мне казалось: господи, как это мило и весело!
Точно так же, когда я перечитываю «Муми-троллей» в конце ноябре, я весь в слезах, когда я дочитываю эту книгу! А дети от «Муми-троллей», как и я в своё время, прутся, считая это большим весельем. Поймите, вся скандинавская литература — это литература для взрослых, это мифопоэтическая литература. Она детям нашим показывает свой поверхностный слой. Мы с вами должны над ней плакать, а дети должны над ней смеяться. Потому что Астрид Линдгрен не зря… Все шведы ждали, когда ей дадут «Нобеля» — и не дождались. Она 93 года прожила и не получила «Нобеля», Царствие ей небесное. Астрид Линдгрен, на которую молилась вся нация! Все дети выходили гулять и смотрели, когда она выходит на прогулку, и издали восторженно наблюдали. Астрид Линдгрен, кстати говоря, как и Роулинг, имеет глубочайшие корни в литературе символизма. Вот это надо помнить.
«Каких украинских писателей или поэтов вы можете назвать гениальными?»
Юркова, Зерова, Хвылевого — вот это поколение. Кстати, знаете, я к Бажану отношусь очень уважительно. Я не скажу, что вот гений, но это крупный поэт. Я думаю, что уже всем набило несколько оскомину моё совершенно восторженное отношение к двум авторам, о которых я не устаю говорить, — это Коцюбинский (прежде всего, конечно, «Тени забытых предков», экранизированные Параджановым, но они не хуже в оригинале) и, конечно, Леся Украинка, которую я наизусть цитирую огромными кусками с ранней юности. Я считаю, что её поэма «Одно слово» — это лучшее, что написано на украинском языке в стихах. Я меньше знаю и меньше люблю Тараса [Шевченко], потому что, может быть, всё-таки Украинка совершеннее формально. Ну, такая пьеса, как «Каменный хозяин», могла бы составить славу любой европейской литературе. И вообще она мне ужасно нравится! Понимаете, мне безумно нравится её судьба, её мужество, её образованность, её знание фольклора. Я не очень люблю её «Лісову пісню», потому что она, как и «Снегурочка» у Островского, немножко слащава. Но не понимать, что Украинка гений, по-моему, невозможно.
«Что вы думаете о Славе Сэ?» К сожалению, ничего не думаю о Славе Сэ.
«Что вы можете сказать про «Шантарам» Грегори Дэвида Робертса?»
С философской позиции он интересен главным образом тем… Вы спрашиваете именно о философской позиции. Что там происходит? В «Шантараме» как бы третья ступень эволюции отношения Запада к Востоку. Первая ступенька, киплинговская: Запад идёт на Восток, чтобы его образовать, цивилизовать и научить. Вторая, которая уже в зачатке представлена у Лермонтова, а потом в огромной степени… ну, у Гессе, в частности «Паломничество в Страну Востока»: Запад идёт на Восток, чтобы научиться; этап моды на Восток. Понимаете, не просто же так всё рок-музыканты играют на ситарах, занимаются с гуру, практикуют левитацию, заплетаются в косички и так далее. Этот интерес к Востоку, интерес к ритуалу, к досознательной практике, Лени Рифеншталь, которая снимает африканские танцы, — это интерес к бессознательному, к досознательному, к дикому; это попытка научиться недеянию, это попытка Запада учиться у Востока.
А есть третья ступень, и это в «Шантараме». Очень интересно, что в эпоху зрелищ, в постмодернистскую эпоху Восток предстаёт как огромный цветастый аттракцион. Понимаете, человек едет в Шантарам, погружается в мир Шантарама для того, чтобы там увидеть чудо то самое, стряхнуть с себя рацею. Знаете, где нагляднее всего это показано? Ну, я небольшой фанат фильма Буслова «Родина», что там и говорить. В этом фильме количество ляпов зашкаливает, стилистически он очень пёстр, сделан он в общем откровенно плохо. Ну, это непрофессиональная картина. И странно, что Буслов — по-моему, великий ученик Абдрашитова — от социального точного кино, элементы которого есть даже в фильме «Высоцкий. Спасибо, что живой», вдруг перешёл к такой сказке. Ну, это тоже, знаете ли, неслучайная штука. Потому что и «Шантарам», и «Родина» — это именно понимание Востока как последней страны, где остались приключения, чудо, неожиданность. Это немножко напоминает Клавелла, у которого такой же был подход к Востоку: Восток — это пространство весёлых чудес, увлекательных чудес. Знаете, это как полететь на другую планету.
Я, кстати говоря, очень хорошо помню, что, когда я поехал в Камбоджу, меня там очень многое просто пугало, потому что это совершенно чужой, иррациональный мир. Пугало до такой степени, что я такой глухой камбоджийской ночью, выйдя на улицу города и попав на какой-то совершенно странный базар, где всё, несмотря на ночь, плясало, пело и торговало, я позвонил Саше Зотикову — одному из самых любимых моих критиков и редакторов, просто очень умному человеку. Если у вас будет возможность с ним пообщаться… Зотиков всегда давал мне в жизни самые точные советы. Я ему позвонил и говорю: «Саша, что-то мне здесь очень страшно». А он сказал: «А ты относитесь к этому, как будто ты попал на другую планету. Вот просто думай, что ты на другой планете, где не надо понимать чужую логику, а где надо любоваться». И это мне помогло. Может быть, на меня подействовал его спокойный тон.
Да, Азия, Восток — это другая планета. И в этом смысле Шантарам — это новый подход к миру. Его не надо цивилизовать, у него не надо учиться. Им надо любоваться, вот так мне кажется. Хотя сколько прочтений «Шантарама» — столько и мнений. Кстати, мать у меня очень любит эту книжку и тоже с большим увлечением её читает. Для меня это было, знаете, как поесть такого очень хорошего острого блюда в восточном ресторане. Но каждый день этим питаться — конечно, с ума сойдёшь.
«В незапамятные времена мы с вами сотрудничали в «Советском экране». Я — вдова Михаила Емцева, — это Ирина Христофорова. — Пишу, чтобы поблагодарить за доброе слово».
Дай вам бог здоровья, Ирина дорогая! Спасибо. Я очень хорошо вас помню. Я не знал, что вы жена Емцева. Если бы знал, я бы напросился к нему тогда на «посидеть-поговорить», потому что мне кажется, что он был прозаиком экстра-класса. Счастья вам! И я очень рад, что вы продолжаете его тексты публиковать.
«Как вы оцениваете тексты Евгения Габриловича?»
Габрилович (или как его называли в кругах сценаристов — Габрила) прожил почти 95 лет, по-моему. И сын его, Алексей Габрилович, кстати, был замечательным режиссёром-документалистом. Габрилович был великим мастером оттепельного кино эпохи первой оттепели, он был замечательным сценаристом. Совершенно первоклассные его сценарии, такие как «Монолог»… Я не беру сейчас «Коммуниста», которого он сделал с Райзманом. Вот «Странная женщина». Я любил позднего Габриловича, потому что они отражали растерянность советского человека в новом аморфном мире. Понимаете, растерянность неорганической химии, рациональной, перед органикой, где вдруг элемент может иметь много валентностей, а не одну, растерянность рельсов перед глиной — вот эту растерянность он уловил с невероятной точностью. И я очень любил то, что он пишет.
И потом, мне очень нравились, конечно, две мемуарных книги: нравились мне мемуары Габриловича и «Записки последнего сценариста» Гребнева. И очень интересно, кстати, что дети их — сын Гребнева, Миндадзе, и сын Габриловича, Алексей Габрилович, — вынуждены были всю жизнь, пользуясь методами отцов, преодолевать их наследие. Потому что там, где Габрилович и Гребнев ужасаются краху мира, вот там для Миндадзе начинается кино, там для него начинается среда. Он — создатель посткатастрофного жанра. И это мне кажется очень важным.
Ребята, извините, я начинаю читать уже вопросы, поступающие на почту, потому что они очень интересные.
Что я думаю о попытках положить Маяковского на музыку? Неудачны все. Самая неудачная — Свиридова, хотя я и считаю его великим композитором.
«У меня всегда всё легко получалось в учёбе, работе, карьере, пока какое-то время назад я не занялась делом, объективно более сложным и рискованным, чем предыдущие, но при этом более вдохновляющим и значимым. С этого момента у меня просто ничего не выходит, а если прогресс и есть, то он минимален. Иногда мне кажется, что я пытаюсь руками пробить туннель в скале. Так продолжается года три. По каким признакам можно понять безнадёжно выбранное дело?»
По двум совершенно чётким признакам. Первый: вы не испытываете удовлетворения от сделанного. Не надо путать это с самоудовлетворением, с самоненавистью. Я всегда говорю, что себя надо ненавидеть, да. Но если вы, не получая успеха, не видя результата, всё-таки испытываете наслаждение в процессе работы, испытываете озарение, видите неслучайность, совпадения, открываете закономерности — значит, это неслучайно, и это значит, что вы на правильном пути. Это первое.
И второе: надо проверять на детях. У детей уникальное биологическое чутьё, что называется, на «пустышку тянем». Если ребёнок не заинтересуется проблемой, о которой вы говорите (необязательно ваш ребёнок, а вообще любой ребёнок) — значит, эта проблема мёртвая; если заинтересуется — значит, живая. Я всегда на своей дочери всё проверял. На сыне тоже, но как-то так сложилось исторически, что я всегда абсолютно доверяю вкусу Женьки — при том, что ей уже 25 лет. Когда она полюбила Пелевина, я понял, что Пелевин — это очень качественный продукт. Точно так же я помню, что когда мне Женька сказала, что её любимые авторы — Клейст и Акутагава, я подумал, что, наверное, что-то в них есть, не говоря уже про неё.
«Второй вопрос более общий. Вы говорили, цитируя Пинчона, что при выборе из двух альтернатив, следует выбирать развилку. Как это сделать на практике?»
Очень просто. Это на самом деле не Пинчон выдумал. Есть знаменитая фраза Фрэнсиса Скотта Фицджеральда: «Надо уметь действовать, имея в голове две противоположных истины». Ну, как сказать? Самое трудное… Вот! Сейчас ужасную вещь скажу. Попытайтесь иметь взаимоисключающие взгляды, попытайтесь совмещать разные стили жизни, общение с разными людьми, общение с политическими оппонентами, попытайтесь понимать чужую правду. Христианство — это не Уайльд и не Честертон, а это диапазон от Уайльда до Честертона. Жизнь — это не выбор «или…, или…», а это «и…, и…». Христианство — это диапазон возможностей. Это, кстати, то, что (может быть, довольно схематично, но всё-таки очень сильно) отражено в одной из песен Щербакова, «Рождество колебания», — там, где: «От меня, маловера и плута, — // До тебя, о Пречистая Дева!»
Дело не в крайностях, не в границах, а дело в том, что их объединяет. Дело не в пустышке, как у Стругацких, а в том, что наполняет эту пустышку. Не зря это названо там «ловушкой». Попытайтесь совмещать полюса, потому что человек — это его способность совмещать полюса, а не постоянно между ними выбирать и их противопоставлять. Вы спросите: а как при этом действовать? А действовать так, как сердце подскажет. Потому что, как мы знаем, оно, как Роберт Джордан, принадлежать к политической партии не может.
«Хочу вас защитить в связи с обвинением в фельетонности», — Катя дорогая, спасибо. Вот вы про Некрасова говорите. Да, спасибо вам большое.
Я хочу сказать, что некрасовская кажущаяся сиюминутность или фельетонность оказалась на самом деле бессмертна, и тоже по двум причинам. Во-первых, он всё-таки это через сердце пропускает, и его мучают эти вещи. Сколь бы ни были фельетонные вещи, которые вы пишете, если они глубоко вас задевают, у вас получится лирика. Но главное… Я сейчас читал в Штатах, у меня было несколько поэтических вечеров, и я читал там «Письма счастья». Многие из них воспринимаются как вчера написанные, хотя написаны 15 лет назад, потому что любовь проходит, а Путин — никогда. Это такая история. В России не происходит столь радикальной политической смены парадигм. До сих пор Салтыков-Щедрин так и взывает к какому-нибудь цензурному запрету.
Астах пишет: «Меня настораживает толерантность Запада к исламу ещё с 1996 года, когда я возненавидел терпимость к избиению палками», — и так далее. Видите ли, если вы хотите… Тут спрашивает Астах: «Почему вы не читаете мои вопросы?» Астах, читаю с удовольствием ваши вопросы, просто мне приходится в вашем стиле — очень пёстром и насыщенном — заменять мат. Так что вы уж старайтесь так формулировать, чтобы я мог вслух зачитать ваши прелестные формулировки. Астах, если бы мы стали ими, как сказано у Бродского, «мы бы предали Божье Тело, расчищая себе пространство». Ну, «не надо толерантно относиться к нетерпимости». А как вы предлагаете относиться к нетерпимости? Вы предлагаете становиться на эту позицию? Очень многие так думают, и это, к сожалению, не всегда срабатывает.
«Вы как-то назвали «Лезвие бритвы» выдающимся романом. Можно ли уточнить: в чём он выдающийся? Мне он показался банальным и претенциозным», — Андрей спрашивает.
Андрюша, конечно, он претенциозный. А Ефремов вообще претенциозный и напыщенный — и это нормально, ничего плохого. Ну, это такой стиль. Понимаете, это стиль человека, сформированного двадцатыми годами. К тому же он учёный. Он, как вы знаете, палеоантрополог, он изучает эволюцию, он изучает ископаемые и останки. Он верит во всевластие и всесилие науки. Он патетический человек вообще, возросший, как он сам признавался, на Хаггарде, на Буссенаре, на Жюль Верне — на людях, верящих в абсолютную мощь разума. Я уже не говорю о том, что в «Лезвии бритвы», как и в «Олгой-Хорхой», довольно много просто хороших страшных придумок. Вот эти серые кристаллы, эта диадема, которую надевают на голову, и она стирает память, — это очень хорошо. И потом, очень интересна ефремовская эротика: Таис, эта знаменитая сцена совокупления на поле; Амрита-Тиллоттама, в которую там страстно влюблён главный герой, такая безумная индийская красавица. Конечно, это эротика человека, воспитанного в пуританстве, но это, тем не менее, производит некоторое впечатление.
«Что вы думаете о творчестве Аркадия Аверченко?»
Да ничего особенно хорошего я о нём не думаю. Он писал очень много. Конечно, по сравнению с Тэффи (простите меня опять за ранжирование), он писатель прочного второго ряда. Потому что Тэффи — мыслитель, у неё же есть гениальные вещи, типа книги «Июнь» или «Эмигрантского [авантюрного] романа». А что Аверченко? Аверченко — замечательный фельетонист и замечательный юморист, но у него и «Шутка Мецената» — в общем, вещь такая поверхностная. Но вот чего у него не отнять — это того, что он сам называет «тайной смеющихся слов». Понимаете, не просто так Тэффи, Бухов и особенно, конечно, гениальный поэт Саша Чёрный, не просто так они с ним сотрудничали. У Аверченко есть ноты бесконечной усталости от людей, усталости и раздражения, и это дорогого стоит.
«Не хотели бы вы перевести Катулла?»
Ну как? Я переводил Катулла и довольно много. Другое дело, что я переводил его в рифму, это были такие стилизации, и я это делал по книге подстрочников… не подстрочников, а по книге нерифмованных переводов Голосовкера, которая для многих была первым знакомством с Катуллом. Мать мне её подсунула довольно рано, и я ей за это благодарен. Я никогда не считал, что Катулл — самый непосредственный из римских лириков. Вообще мой любимый римский лирик — Гораций.
Смотри: глубоким снегом засыпанный
Соракт белеет, и отягчённые
Леса кругом стоят, и реки
Скованы прочно морозом лютым.
Конечно, Горация я люблю гораздо больше, потому что, когда мне мать ещё в оригинале читала «[Я воздвиг] памятник», я его воспринимал как колыбельную: «Exegi monumentum aere perennius…» До сих пор эти стихи — это для меня абсолютная музыка. Кстати говоря, мать же мне и внушила мысль о том, что нерифмованные римские стихи музыкальнее и интереснее последующих рифмованных, что алкеева строфа или сапфическая строфа интереснее, скажем, чем катрен стансевый, потому что в них стихи удерживаются более прочным и, вместе с тем, менее очевидным цементом. Помню, да, я Катулла очень любил. Но переводить я его не рискну, потому что, во-первых, я не настолько знаю латынь, а переводить с подстрочника или с чужого перевода перелагать я не считаю сейчас правильным. А во-вторых, понимаете, мне Катулл не так близок. Горация я довольно много перевёл и много читал.
«Неприкрыто гнусные романы Кочетова и Шевцова. Имеются в виду «Чего же ты хочешь?», «Тля», «Во имя о и сына». Почему роман Кочетова сохранился только в журнальной публикации, а «Тля» регулярно переиздаётся?»
Отвечу вам. Потому что роман Кочетова — это роман о кризисе советского, о том, что настоящий советский человек Булатов оказался страшно одинок в новом мире, постсоветском. А «Тля» — это вполне себе советское произведение, и там никакого кризиса нет. Кочетов был интернационалист, и он одинаково глубоко ненавидел и западничество, и русофильство; он был такой сусловец. А Шевцов — это представитель так называемой «Русской партии». И его как раз, как и всю «Молодую гвардию», невзирая на все их попытки выставить себя жертвами репрессий, их довольно-таки пестовали. По-моему, единственный русский националист, настоящий, пострадавший сильно, — это уже упоминавшийся Леонид Бородин. А Шевцову что могли сделать? Его зато никогда не принимали в Союз писателей, но всегда печатали. Я помню, как мой дед над какой-то книгой хохотал безумно. Я думаю: что же это он такое читает? А он читал роман Шевцова «Набат»! Я потом заглянул. Ну, это было упоение!
«Зачем Достоевский написал роман «Подросток»?»
Легко вам отвечу. Первый русский роман о деньгах, о силе денег, о метафизике денег, о том, у кого есть деньги. В этом романе уже содержится гениальная догадка, которая потом независимо пришла к Чуковскому, что деньги приходят к тому, кто их не зарабатывает, потому что попытка их заработать… Единственный способ достичь прагматического успеха — это непрагматизм.
«О какой совести говорит Горенштейн в отношении Висовина?» Долго можно разбирать применительно к Горенштейну. По Горенштейну, совесть одна — быть собой, сохранять свою идентичность; это единственное, чего мы можем достигать.
«Расскажите об одесской литературе». Сделаю отдельную лекцию с удовольствием.
Вот Октавиан, давно от вас не было вопросов. «Читал об американских студенческих братствах. Вопрос к вам как к американскому преподавателю: как вы относитесь к данному явлению?»
Отвечу через три минуты.
РЕКЛАМА
Д. Быков― Программа «Один» вступает в свою, увы, последнюю четверть.
Что я думаю о студенческих братствах? Понимаете, Октавиан, в Штатах (кстати говоря, как и в английских элитарных школах, которым американский университет сознательно либо бессознательно подражает) всегда есть очень важный элемент воспитания — это проверка человека снобизмом. Через снобизм надо пройти и надо его преодолеть. Вот среди многих соблазнов, которые человека подстерегают на пути, снобизм — один из самых серьёзных, страшных, в каком-то смысле целительных, потому что сноб бывает прекрасен в экстремальных обстоятельствах. И всё-таки снобизм надо преодолеть. Все эти американские студенческие братства, все эти студенческие дормитории и кампусы… Почему американский студент обречён жить в кампусе? Он не должен, он не может жить дома, там это не приветствуется. Потому что надо пройти через это воспитание коллективом, через зависимость от этого коллектива, через одиночество в нём; пройти, преодолеть и пойти дальше. Я ненавижу элитарные клубы любые, но они необходимы как способ воспитания независимости в человеке. А тот, кто в этом клубе задержится, тот… Ну, в МГИМО есть что-то нечто подобное, хотя там это немножко всё таким родным чернозёмцем отдаёт. Но всё равно это важный опыт — чужой снобизм, который надо преодолеть.
А теперь — о «Ни сны, ни явь» Блока.
Однажды, стараясь уйти от своей души, он прогуливался по самым тихим и самым чистым улицам. Однако душа упорно следовала за ним, как ни трудно было ей, потрёпанной, поспевать за его молодой походкой.
Вдруг над крышей высокого дома, в серых сумерках зимнего дня, появилось лицо. Она протягивала к нему руки и говорила:
— Я давно тянусь к тебе из чистых и тихих стран неба. Едкий городской дым кутает меня в грязную шубу. Руки мне режут телеграфные провода. Перестань называть меня разными именами — у меня одно имя. Перестань искать меня там и тут — я здесь.
Это, конечно, реминисценция из «Рыбака и его души» — вечная тема утраты души, о которой я собираюсь 15 апреля говорить в лекции про Уайльда, в Питере. У Блока вообще очень много уайльдовских реминисценций. Я думаю, что три автора по-настоящему на него повлияли: Уайльд (который у него, правда, презрительный эстет, но он его любил, конечно) конечно Стриндберг и конечно Ибсен. Думаю, это три имени, которые Блока во многом определяют. Душа, которая покинула человека и пытается с ним связаться — главная тема русского символизма. Душа, которая покинула страну. Что будет со страной после того, как она этой души лишилась?
«Ни сны, ни явь» — это жанровое обозначение и, конечно, это фрагменты; но фрагменты не в розановском смысле, не в принципиальной фрагментарности, незаконченности, противоречивости мыслей, а фрагменты в смысле лирическом: переплетение разных сходных мотивов. Тем не менее, тема всех этих набросков совершенно очевидна (не зря это 1919–1920 годы): что будет с миром, из которого ушла душа? Блок предсказывает это абсолютно точно с какой-то, я бы сказал, хармсовской точностью, гротескной. Вот посмотрите, с чего начинается собственно этот текст, первый фрагмент:
Мы сидели на закате всем семейством под липами и пили чай. За сиренями из оврага уже поднимался туман.
Стало слышно, как точат косы. Соседние мужики вышли косить купеческий луг. Не орут, не ругаются, как всегда. Косы зашаркали…
Вдруг один из них завёл песню. Без усилия полился и сразу наполнил и овраг, и рощу, и сад сильный серебряный тенор. За сиренью, за туманом ничего не разглядеть, по голосу узнаю, что поёт Григорий Хрипунов.
Мужики подхватили песню. А мы все страшно смутились.
Я не знаю, не разбираю слов; а песня всё растёт. Соседние мужики никогда ещё так не пели. Мне неловко сидеть, щекочет в горле, хочется плакать. Я вскочил и убежал в дальний угол сада.
После этого всё и пошло прахом. Мужики, которые пели, принесли из Москвы сифилис и разнесли по всем деревням. Купец, чей луг косили, вовсе спился и, с пьяных глаз, сам поджёг сенные сараи в своей усадьбе. Дьякон нарожал незаконных детей. У Федота в избе потолок провалился, а Федот не чинит. У нас старые стали умирать, а молодые стариться. Дядюшка мой стал говорить глупости, каких никогда ещё не говорил. Я тоже — на следующее утро пошёл рубить старую сирень.
Сирень была столетняя, дворянская: кисти цветов негустые и голубоватые, а ствол такой, что топор еле берет. Я её всю вырубил, а за ней — берёзовая роща. Я срубил и рощу, а за рощей — овраг. Из оврага мне уж ничего и не видно, кроме собственного дома: он теперь стоит, открытый всем ветрам и бурям. Если подкопаться под него, он упадёт и накроет меня собой.
Ну, дальше там появляется «политический», который всех мутит. Если вчитаться в этот текст… Я, кстати, наверное, дам завтра школьничкам. У меня есть один класс очень продвинутый, который многое читал. Какой сюжет? Сюжет какого романа здесь изложен? Ну, это же роман Владимира Сорокина, который так и называется «Роман», в абсолютно чистом виде: сначала поют мужики, а потом он берёт топор и начинает всё вокруг себя рубить. Конечно, Сорокин читал этот фрагмент. Вот это гениальное блоковское провидение о том, что народ, который так чудесно поёт, дальше начнёт разносить сифилис, а потом всё кончится вырубкой дворянской сирени.
Что имеется в виду? У Блока всегда же всё довольно понятно и довольно прозрачно; и он всегда ощущал себя последним в роде и рассказывал о смерти дворянских усадеб как о личной драме, и о собственном вырождении говорил совершенно откровенно. Там у него упоминается и этот «политический, мокрый от водки». Всё это тоже черты выражения. В чём дело? Это гениальная метафора русской культуры. Взята высшая точка, спета небывалая песня, которой и не ждёшь от этого Григория Хрипунова с его малым ростом и неавантажной внешностью. Вот русская культура взяла свою ноту, спела свою песню — а дальше после этого можно только… Вот старые начинают умирать, молодые стариться, и можно всё разрубить. Это немножко тема пильняковского «Красного дерева», — тема высшей точки больной, обречённой культуры, которая свою песню спела, своё «красное дерево» изобрела. Это как такая амбра в кашалоте — признак болезни, но это самое благоуханное, что в кашалоте есть. А теперь, после того как эта песня спета, дальше эта культура начинает уничтожать себя и вымирать. Конечно, у Блока всё это шире и глубже, и поразительно точны и невероятно поэтичны все эти десять маленьких главок, которые разбиты пробелами. И текст этот — конечно, последняя песня, последняя молитва обречённого, умирающего сознания.
Финал абсолютно точный:
— По вечерам я всегда обхожу сад. У заднего забора есть такое место между рябиной и боярышником, где днём особенно греет солнце. Но по вечерам я уже несколько раз видел на этом месте… Там копается в земле какой-то человек, стоя на коленях, спиной ко мне. Покопавшись, он складывает руки рупором и говорит глухим голосом в открытую яму: «Эй, вы, торопитесь».
— Так что же?
— Дальше я уж не смотрю и не слушаю: так невыносимо страшно, что я бегу без оглядки, зажимая уши.
— Да ведь это — садовник.
— Раз ему даже ответили; многие голоса сказали из ямы: «Всегда поспеем». Тогда он встал, не торопясь, и, не оборачиваясь ко мне, уполз за угол.
— Что же тут необыкновенного? Садовник говорил с рабочими. Тебе все мерещится.
— Эх, не знаете вы, не знаете.
Вот это финал текста. Если вспомнить рассказ Киплинга «Садовник», если вспомнить, какие коннотации имеет садовник… Помните, Христа приняли за садовника. И вот это та самая блоковская мысль о том, что христианство несёт миру конец, гибель, что гибель всего мира придёт через христианство. И этот садовник — мы не знаем, какие силы он разбудит, кому он кричит и кто ему отвечает: «Всегда поспеем». Это блоковская мысль о том, что Христос — сжигающий, уничтожающий, — что он придёт и уничтожит мир. А что начнётся после этого — непонятно. Это великое и страшное предчувствие.
И, конечно, это гениальный текст, как и гениально всё у Блока. Вы знаете, что критерий уровня поэта, по-моему, — это качество его прозы. Блоковская проза изумительна! Такие тексты, как «Исповедь язычника» (незаконченная автобиографическая повесть) или статья «Ирония», написанная с потрясающей точностью… Ведь Блок всегда силён именно размытостью каких-то отдельных мест и потрясающей точностью других, конкретикой. Кстати, по этому же принципу БГ работает, когда прицельно точная деталь вдруг появляется среди абсолютно метафизического и размытого текста. Это любимый приём символистов.
Ну а теперь — про Улицкую. То немногое время, которое нам осталось, посвятим разговору о ней. Я не хочу много говорить о Людмиле Евгеньевне Улицкой, потому что всё-таки живущий писатель (не классик пока, хотя в статусе современного классика), и не хочется как-то ни заливать её елеем, ни ниспровергать, а хочется попытаться проанализировать, в чём её успех.
Лучшим, что написала Улицкая, явлением действительно выдающимся мне представляются её рассказы из сборника «Девочки». Я передаю сейчас горячий привет Марии Васильевне Розановой, которая первой со своим абсолютным искусствоведческим вкусом прочла эти рассказы и напечатала в «Синтаксисе» — по-моему, в лучшем тогдашнем литературном журнале. Почему «Девочки»? Потому что там сошлись три главные черты прозы Улицкой, которые придают ей её неповторимое своеобразие.
Во-первых, она ударена, потрясена опытом своего детства. Улицкая — очень точный исследователь патологий массового сознания, патологий сознания, которые внедряются уже на уровне детском, подростковом. Ведь советская школа была страшно тоталитарна, она людей уродовала на корню. И мне кажется, что есть всего три книги, которые рассказывают об этом. Это книга Елены Ильиной «Это моя школа» — довольно страшная детская повесть. Это шенбрунновские «Розы и мандолины [хризантемы]», которые когда-то были в букеровском финале, — замечательная повесть о девочках в советской школе. И это тексты Улицкой, потому что они рассказывают о мире страшно выморочном, вывернутом наизнанку, где зов пола загнан глубоко в подполье (простите за каламбур), где естественное, нормальное объявлено патологией. И те немногие, кто может этому противостоять, как бедная счастливая Колыванова, героиня одноимённого рассказа, — они необязательно умнее. Наоборот, противостоять умеют те, в ком силён инстинкт. Вот это первая черта — такая ударенность советской эпохой и патологиями этой эпохи.
Второе (тоже очень важное) у Улицкой — это физиологизм, острая физиологичность, конечно. Она физиолог по первой специальности, биолог. И вот эти бледные полушария мышиного мозга, о которых она пишет в «Казусе Кукоцкого», — ей приходилось эти скорлупки видеть и приходилось с этим возиться. Она действительно глубоко и серьёзно убеждена в том, что поведение человека, его мечты, его творческие способности очень глубоко, очень серьёзно физиологически предопределены.
И третья черта, которая, мне кажется, делает её интонацию совершенно особенной. Ведь посмотрите, в отличие от гневного вопрошания Петрушевской, в отличие от тихого и иронического жизнеприятия Токаревой, между этими полюсами Улицкая располагает свой умеренно-оптимистичный, скромный и при этом глубоко религиозный взгляд на человеческую природу. Для неё человек — это действительно арена борьбы между религией и физиологией. Вот это удивительное дело: для неё религия не фрейдистски обусловлена, не физиологически; для неё религия — это абсолютное чудо, это торжество человека над своей смертной плотью, над своими подлыми желаниями, детскими страхами. То, что человек так физиологически зависим и способен это преодолевать — вот в этом для неё и заключается главный парадокс божественности, главный парадокс веры. Собственно, вся Улицкая — она о преодолении вот этого зова плоти, зова страха, зова коллектива, толпы.
Мне кажется, ей достаточно близка христианская мысль о том, что надо быть, как дети или как безумцы. Поэтому лучшая часть «Казуса Кукоцкого», как мне кажется (я знаю, что она сама любит эту часть больше всего, хотя многие ей советовали её убрать), — это та часть, где сумасшедшая жена героя… не сумасшедшая, а деградирующая, блуждает по каким-то пустынным, странным, мифическим пространствам. Вот так Улицкой представляется пространство жизни, как мне кажется: это пустыня, по которой блуждает больной человек. Но этому больному человеку дана способность восхищаться миром, восхищаться его чудесами, его непознанностью. Мне очень нравится, что у физиолога Улицкой мир всё-таки непознаваем. Мне очень нравится, что её герои всё время в этом «сперматическом бульоне жизни», как сказал мне когда-то Искандер, что они всегда так страшно зависимы от собственного пола и возраста, но они способны на метафизический скачок.
Ведь, в сущности, главная тема Улицкой (и тема мне очень близкая) — это преодоление имманентности, преодоление данности. Об этом написан «Даниэль Штайн, переводчик». Я могу довольно много предъявить претензий к этой книге — в том смысле, что всё-таки, мне кажется, избранная для неё форма (форма дневника, переписки, документальной мозаики) в известном смысле капитулянтская. Ну, может быть, просто Улицкая смиренно и гордо сознаёт потолок своих художественных возможностей. Скажем, Хотиненко его не сознаёт, поэтому он снимает фильм «Поп», который не выдерживает уровня взятых там вопросов. Это я просто говорю о примерах смирения и несмирения. Хотиненко — блистательный режиссёр, но смирения в нём нет. А вот Улицкая — человек смиренный.
Она понимает, что для того, чтобы описать такую фигуру, как герой Даниэля Штайна, и описать такие проблемы, скажем, как вопрос еврейского христианства, может быть, её художественных способностей не хватит (а может быть, время не пришло), поэтому она смиренно к документальному коллажу. В результате «Даниэль Штайн, переводчик» получился книгой эмоционально куда более слабой, чем могло бы это быть, но зато при этом он внёс огромный вклад в разговор о Боге в XX веке. Как это может быть? Как вообще можно совместить еврейство и христианство? Каковы узлы, каковы барьеры, которые приходится на этом пути преодолевать? И в какой степени человек зависит от места рождения, а в какой способен быть всечеловеком? Вот это очень глубокий вопрос сегодня, потому что мы наблюдаем сейчас страшный реванш имманентности, почвенности, дикости. Многие уверены же…
Тут меня, кстати, спрашивают, как я отношусь к статье Лимонова про то, что Донбасс стал неинтересен. Ну, Лимонов всегда хорошо пишет, но эта статья меня ничуть не радует. Потому что, когда он говорит, что Донбасс стал скучен, а мог бы быть пассионарен, мне кажется, что всё-таки такая скука в некоторых отношениях, может быть, и лучше пассионарности. Ему же хочется, чтобы это была «сплошная война в ботаническом саду». Я не люблю, когда люди упиваются дикостью. Дикость мне не интересна. Я не считаю, что дикость таит в себе какие-то прорывы и ослепительные молнии. Я считаю, что телесный низ есть телесный низ, понимаете, а человек живёт телесным верхом.
Вот это — сквозная мысль Улицкой. И из-за этого её иногда обзывают разного рода пассионарии «буржуазным писателем». Что же в ней буржуазного? Если под буржуазностью понимать воспитанность, то тогда — да. А под почвенностью и под правдой, под природой понимать дикость? Давайте, пожалуйста. Вперёд! Я посмотрю, сколько крови вы прольёте и какая литература у вас из этого получится. Мне кажется, что упрощенчество всегда омерзительно. Вот Улицкая настаивает на том, что человек способен предпочесть сложность, что дикость не есть норма. И в этом смысле «Даниэль Штайн» — конечно, книга о том, как человек приподнимается над своими врождёнными данностями, и эта книга для меня очень серьёзная.
Композиционно Улицкая мыслит интересно, потому что она ищет новые формы повествования. Мне нравится и «Казус Кукоцкого», в котором четыре части соотносятся между собой неочевидным образом, это как бы роман в повестях. Мне нравится «Зелёный шатёр», который не просто мозаика, а такая, я бы сказал, перекладка, знаете, в технике Норштейна, когда кусочки повествования накладываются друг на друга: где-то мы видим повторения, где-то мы видим куски, изложенные из разных точек зрения. «Зелёный шатёр» — тоже, кстати, интересная книжка, она на интересную тему написана. Это книга о бесовщине русского диссидентства, назовём это так. Потому что старая мысль Григория Соломоновича Померанца о том, что «дьявол начинается с пены на устах ангела»… В общем, это и старая мысль Войновича о том, что иные диссиденты были по своему мировоззрению тоталитарнее самых яростных тоталитариев. Это неглупая вещь, очень интересная.
Мне кажется, что «Зелёный шатёр» о том, как сохранить в душе среди всех соблазнов подполья вот этот свет истины. Что для этого нужно? Религиозность (христианская или буддистская), опыт жизни, воображение, способность поставить себя на чужое место, алкоголизм иногда. В любом случае важнее всего — сознавать себя бренной плотью. Вот это у Улицкой очень важно. Почему ей физиология так важна? Потому что человек — это ком глины, это бренная плоть. И не надо идеализировать этот ком; надо понимать, что ты — только эта бренная плоть. А то, что в тебе есть — душа, всё это одушевляющее, — это надо долго расчищать и тщательно охранять. Все имманентные данности — это кровь, почва, глина, навоз. А то, что ты из этого сделал — вот это и есть человек.
В этом смысле, конечно, размышления Улицкой лежат в русле таких иронических размышлений Натальи Трауберг, которые сейчас печатаются, Царствие ей небесное, или размышлений того же Померанца: это религиозность без гордыни, насмешка без глумления. Вот это я люблю. Я не говорю сейчас пока про «Лестницу Якова», потому что «Лестница Якова», как мне представляется… Ну, тут Кучерская очень интересно высказалась: «Это роман о ценности просто жизни». Я эту ценность не вполне разделяю. Хотя, конечно, что там говорить? Я тоже не сверхчеловек. Мне, наверное, надо бы эту книгу повнимательнее почитать. Я пока не очень понял, про что она. Видимо, это какие-то вещи, которые постигаешь с годами. Пока высшим свершением Улицкой мне представляется «Казус» и рассказы. Но эти рассказы о девочках хранят ещё одну очень важную в себе мысль, на которой я сегодня закончу, а через неделю услышимся.
В чём эта мысль заключается? Мы очень часто обвиняем себя, а можно обвинить эпоху. И это верно. Потому что больная эпоха порождает больные коллизии (как у Тендрякова), больные чувства (как у того же Лимонова), больные вопросы (как у многих мыслителей Серебряного века). Это больная эпоха. И «Девочки» рассказывают о том, как здоровую детскую судьбу калечат искусственные установления. Это о том, что по природе своей человек здоров, а время уродует его, и поэтому спрашивать с него так строго не надо. Надо понимать, что он вырос под страшным прессингом, где ему ничего нельзя, где он на каждом шагу унижен. Поэтому «Девочки» — это книга высокого и очень трогательного милосердия.
А мы с вами услышимся через неделю. Пока!
*****************************************************
15 апреля 2016
-echo/
Д Быков― Добрый вечер, дорогие друзья, а точнее — доброй ночи! Дмитрий Быков, «Один». Начинаем разговор.
Сразу хочу сказать, что довольно много неожиданно для меня пожеланий провести лекцию об Иване Ефремове. Я достаточно высоко оцениваю этого писателя. Видимо, это вызвало некоторое неудовольствие и непонимание у тех, кому претит его пафос, и наоборот, восторг — у тех, кто любит «Час Быка», «Туманность Андромеды». В общем, довольно много интересных идей. Будем говорить о нём, потому что это серьёзное, во всякое случае литературное явление.
Несколько вопросов объявленческого порядка. «Будет ли завтра лекция об Уайльде?» Да, будет. Я оговорился, сказав, что она в Питере. Она в Москве, в Еврейском культурном центре на Никитской, который по-прежнему нам предоставляет прекрасную площадку. Это будет Большая Никитская, 47; завтра, в восемь. Волшебное слово «Один» откроет вам двери, если не будет мест. Ну, что-нибудь придумаем.
Очень много вопросов о том, почему лекция в Риге… Это вопросы в основном, естественно, из Риги и окрестностей, куда большое количество русскоговорящих граждан собирается прийти. Очень много вопросов о том, почему рижская лекция посвящена реинкарнациям, и действительно имею ли я какое-то отношение к учению о переселении душ. Нет, инкарнация — в данном случае это всего лишь термин, который я применяю для разговора о циклически воспроизводящихся в русской литературе тех или иных сущностях, тех или иных фигурах. Почему, например, так дословно совпадают биографии Солженицына и Достоевского? Почему такое количество пересечений в биографиях Савенко и Савинкова? Почему типологически опять-таки в России воспроизводятся одни и те же персонажи и в чём секрет вот этого циклического хода?
Действительно, 22 апреля будет эта лекция в Риге. А особенно интересно будет поговорить об этом в день рождения Ленина, интересно поискать ему типологические сходства, потому что они, безусловно, есть. Вот об этом тоже будем разговаривать. Уже очень многие выражают недовольство тем, что Ленин периодически мною упоминается не только в ругательных контекстах, а иногда и в прямо хвалебных. Вот об этом тоже поспорим. Я вообще большой сторонник того, чтобы не выяснять отношения грубо, а довести их до более или менее созидательной дискуссии.
«Знакомы ли вы с книгой Леона Юриса «Исход»? — знаком. — Что вы можете сказать о её художественных и содержательных достоинствах или недостатках?»
Ну, кто я такой, чтобы говорить о недостатках классической книги? Мне нравится это сочинение, хотя, как мне представляется, это не лучшая книга на еврейскую тему в XX веке, но это, безусловно, значимый и важный для своего времени, для XX века чрезвычайно важный документ.
Какие ещё я могу порекомендовать? Вот тут спрашивают: «Что вы можете посоветовать о восстании в Варшавском гетто?»
Мне нравятся вообще разные биографии Корчака, написанные в разное время, по-моему, достаточно профессиональные. Практически все они рассказывают если не… Они, конечно, рассказывают не о восстании в Варшавском гетто, а они рассказывают об истории Варшавского гетто. О восстании написано не так много, и здесь выбор невелик. Лучшее, что о нём написано, на мой взгляд, — это стихотворение Александра Аронова «Когда горело гетто…». Если вас интересуют какие-то содержательные исторические источники, то, я думаю, вы их легко нашарите в Интернете и без меня. А для меня самая интересная фигура в Варшаве 1943 года — это, конечно, Корчак. Ну, не 1943-го, а, скажем так, в Варшаве 1941–1942 годов. Это Корчак и его поведение.
«Вы являетесь православным христианином. Если не секрет, каким образом вы пришли именно к этой конкретной религии? Это был осознанный выбор на каком-то этапе жизни или нет?»
Уверяю вас, что абсолютно осознанный. Повлияли на это разные люди, которые уже этот выбор сделали. Кстати говоря, больше всех, наверное, Нона Слепакова, которая была моим литературным учителем и которая сама к христианству пришла довольно поздно, во всяком случае, после сорока, и в чьём исполнении, сказал бы я, в чьей версии мне это нравилось больше всего. Тогда же возникла благодаря ей, с её подачи, моя особенная… не могу сказать, что симпатия, а моё особенное преклонение перед блаженной Ксенией Петербургской, наиболее любимой моей святой.
«Как вы можете оценить статью Жаботинского «Русская ласка»?»
Не хочу высказываться больше о Жаботинском, потому что это действует, как красная тряпка, на некоторых людей, чьё душевное здоровье и так расшатано.
«Что вы можете сказать о прозе и поэзии Виктора Сосноры? Правда ли, что он не прочитанный автор?»
Видите ли, Андрей… Кстати, тут очень много упрёков в письмах, что много вопросов от одних и тех же людей. Ну, если это такие вопросы, как от Андрея (primorchanin), то пусть их будет больше, потому что это человек, всегда спрашивающий по делу и об очень интересных вещах.
Видите ли, Андрей, я, наверное, сам не лучший эксперт по творчеству Сосноры. Почему? Потому что я такой традиционалист, а Соснора — это очень радикальный авангардист. Проза его, о которой много писал, скажем, Владимир Новиков и о которой достаточно убедительно писали в разное время Арьев, Гордин, все великие современники, — она вообще мне кажется чрезвычайно трудной для восприятия. Её главное достоинство — это такой пружинный лаконизм, очень малое количество слов при страшном напряжении смыслов.
Что касается поэзии его, то здесь я уж совсем традиционен. Мне нравятся такие его тексты, скажем, как «Гамлет и Офелия», — по-моему, замечательный лирический цикл.
Неуютно в нашем саду —
соловьи да соловьи.
Мы устали жить на свету,
мы погасим свечи свои.
На меня это, когда мне было лет шестнадцать, действовало совершенно гипнотически. И потом, я очень любил… Наверное, грех в этом признаваться. Я говорю, я люблю простые вещи у Сосноры. Ужасно я любил «Сказание о Граде Китеже» («Но я вернусь в мой город Китеж»). Это довольно простое стихотворение — простое в том смысле, что там ещё опущены не все звенья, там ещё экономность письма, метафоричность его не доведена до той трудночитаемости, которая есть у Сосноры позднего, годах в семидесятых. Это стихи, насколько я помню, 1962 года. Мне очень нравилось оно. Мне очень нравилась его жестокая пародия на фильм «Мулен Руж» — замечательное стихотворение «Мулен-Руж», действительно очень смешное. Некоторыми строчками оттуда мы в студенческие годы радостно обменивались, типа: «Стал пить коньяк, но как не пил никто». Мне действительно ужасно нравились (и тоже грех в этом признаваться) его ранние лирические стихи — не эти вариации на тему «Слова о полку Игореве», а то, что вошло в «Ливень», в первую книжку, в «Солнечный ливень», по-моему [«Январский ливень»]. Там много было замечательного.
Другое дело, что в Сосноре никогда не было той захлёбывающейся шестидесятнической радости, которая мне всегда казалась несколько фальшивой. Он трагический поэт, конечно, готический поэт, поэт такого страшного взаимного непонимания. И настигшая его потом глухота, как мне кажется, даже принесла ему некоторое облегчение, как это ни ужасно звучит, потому что не надо было больше слушать всю эту ерунду. Он вообще по жизни, по образу жизни поэт одинокий, замкнутый, очень герметичный.
Но как бы там ни было, толстое «Избранное» Сосноры, тысячестраничное, которое я недавно купил в Петербурге, — это для меня книга достаточно настольная, потому что бывают времена, когда его стихи мне говорят очень многое. И я считаю его, безусловно, поэтом, входящим в первую десятку ныне живущих. Другое дело, что… Вот вы говорите, что он не прочитанный. Он не может быть толком и многими прочитан. Не нужно добиваться того, чтобы Соснора стал народным достоянием. Он именно поэт уединённых, полубезумных, маргинальных, явление очень петербургское. Хотя его исторические сочинения, например, поражают меня здравомыслием, объёмом фактической информации и глубиной.
«Что, по-вашему, составляет суть «арзамасского ужаса» Льва Толстого?»
Много раз об этом говорил. Это когнитивный диссонанс, когда мысль о смерти не вмещается в сознании, когда сознание не желает примириться со своей конечностью. Очень хорошо сформулировал Толстой в первую ночь после брака, он написал: «Это было так прекрасно, что не может кончиться со смертью». Говоря шире: вся жизнь — это, в общем, такая большая брачная ночь на браке души и мира. И поэтому, невзирая на всякие коллизии… Помните, Роберт Фрост говорит: «Я с миром был в любовной ссоре». Мне кажется, вот это состояние любовной ссоры так прекрасно, что оно не может кончиться со смертью. И вот это осознание того, что её, смерти, не должно быть, а она есть, — это для Толстого было непрекращающимся поводом для припадков «арзамасского ужаса». Впервые он испытал это с особой остротой, когда покупал степные земли близ Арзамаса и когда ездил лечиться кумысом, а потом это периодически его настигало.
Понимаете, Толстой же был человеком совершенно невероятной остроты восприятия. Он физическую боль воспринимал так, что вывих руки заставлял его просто выть, буквально бегать по стенам. Я понимаю, что вывих руки — это вообще больно, но у Толстого это всё приобретало характер абсолютно апокалиптический. Любое расстройство желудка тоже переносилось крайне тяжело. Любая болезнь — тяжело. Любовная страсть воспринималась, как тяжёлое, душащее бремя.
Я думаю, что вообще о страсти, о любострастии, о похоти самое сильное, что написано в русской литературе… Все уже приготовились думать, что это повесть «Дьявол». Ничего подобного! Это та сцена, где Нехлюдов соблазняет Катюшу. Помните, когда эта «холодная, душная мартовская ночь». Вот она холодная, и при этом душная и туманная, и «лёд шуршит и ломается на реке». Вот большего ощущения этого любовного брожения в крови, более острого, я не встречал в литературе. И именно на эту сцену ссылается, я думаю, Арсений Тарковский, когда пишет, помните:
Был и я когда-то молод.
Ты пришла из тех ночей.
Был и я когда-то молод,
Мне понятен душный холод,
Вешний лёд в крови твоей.
Ничего лучше и страшнее на эту тему не написано. Поэтому у Толстого прижизненная острота переживания смерти была очень велика. Он сумел сознанием своим, своим невероятно отточенным и тренированным умом проникнуть даже в посмертное состояние, когда, помните, Иван Ильич слышит над собой слова «Кончено!» — и понимает: кончена смерть. Это удивительно. Мопассан не зря сказал после этого, прочитавши: «Все мои десятки томов ничего не стоят».
«Знакомы ли вы с творчеством Эстер Сегаль (она же Ирина Левитина)?»
Знаком. Не хочу ничего опять же говорить, чтобы никого не обидеть. Понимаете, у меня есть там определённые вопросы и претензии, но это неважно. Важно, что в целом впечатления мои скорее положительные.
«Бравый солдат Швейк — с детства мой любимый герой. С годами меняется мнение о похождениях неунывающего солдата. Тёплый смех сменился холодом. Гашек живописует свинство жизни. Неужели взгляд на небо был не нужен этому чеху?»
Конечно, был нужен, но Гашек как человек чёткий, чуткий, чувствительный… Я вам рекомендую, кстати, замечательную книгу комментариев Сергея Солоуха, где вы просто увидите массу отсылок и коннотаций в «Швейке», которые вам, наверное, на ум не приходили (мне не приходили точно во всяком случае). Солоух раскрыл такие богатства в Гашеке, о которых, я думаю, и Гашек не подозревал, ассоциативные.
Тут же, кстати, и вопрос: «Читал ли Хеллер «Швейка»?»
Конечно, читал. У меня была единственная встреча с Хеллером, когда вышла «Closing Time», я встречался с ним в Нью-Йорке. Естественно, тогда я так обалдел от того, что передо мной Хеллер, в 1994 году, что я его об этом не спросил. Я успел ему только сказать, что мой дед тоже ветеран войны, и поэтому я до некоторой степени причастен к этому. Я Хеллера очень люблю. Конечно, я уверен, что фугообразное построение «Уловки-22» и особенно «Что-то случилось», кружение мыслей вокруг одного и того же, вот это педалирование постоянное ровного, нудного, казарменного фона жизни, этот волшебно преображённый солдатский юмор, доведённый до некоторой утончённости, — конечно, это из «Швейка» пришло.
Просто Гашек в силу своей необычайной чуткости почувствовал, что главным героем XX века является уже не Дон Кихот, а Санчо Панса; что, сочиняя своё странствие хитреца, свою «Одиссею», он должен иметь в виду идиота. Швейк, конечно, хитрец, но при этом не будем забывать того, что Швейк идиот. Он идиот в высоком, простодушном смысле. И там же прекрасно сказано, что Швейк очень милый. Но проводить больше суток в обществе такого человека совершенно невозможно. Да, он очень милый, но при этом глубоко свинообразный. И, к сожалению, Швейк — это фигура большинства.
И вы правы абсолютно, говоря, что книга начинает с годами казаться всё более холодной, — потому что там не на чем отвести душу. Понимаете, кроме автора, который присутствует в ней всё меньше, а как-то он всё больше объективирует происходящее, там нет фигуры, которая могла бы быть хоть сколько-нибудь протагонистом. Кстати, это ещё наше счастье, как ни кощунственно это звучит, что Гашек не написал роман, потому что, если бы он довёл «Швейка» до пребывания в красноармейском обществе и в русском плену, наверняка эта книга была бы объявлена здесь запретной. Цинический взгляд Гашека мало находит хорошего даже в советской России. Так что, судя по его фельетонам, та ещё была бы книжечка. Конечно, «Швейк» — великая литература. Но, знаете, она всё-таки не для детей. Когда я её читал в возрасте лет двенадцати (причём все мои друзья ею зачитывались), мне было совершенно не смешно. Мне стало смешно лет в восемнадцать, перед армией, в армии, вот там он меня достал.
«В картине Орсона Уэллса «Гражданин Кейн» рассказана история деградации газетного магната. Неизбежно ли власть и золото ломают сильного и талантливого человека?»
Знаете, я должен вас огорчить, но там рассказана другая история. Во всяком случае, я никогда не воспринимал это ни как историю о газетном магнате, о конкретном каком-то прототипе, ни как историю о ломке талантливого человека, ни как историю о строительстве американской карьеры. Для меня это история о бутоне розы. Если вы смотрели картину, вы понимаете, о чём речь. Вы помните, что гражданин Кейн последними своими словами почему-то выбрал эту фразу, он сказал: «Бутон розы». И все на протяжении картины, действительно гениальной… Непонятно, как в 25 лет Орсон Уэллс сумел так глубоко понять человека и при этом изобрести столько роскошных повествовательных приёмов. Одни эти потолки знаменитые чего стоят, и хроника, и голос закадровый, и прекрасный монтаж. Это гениальная картина! Её все включают в пятёрки, в десятки. Удивительно, как Уэллс это так рано понял. И удивительно, что тема картины, а именно — полная бессмысленность жизни и ценность каких-то фундаментальных полузабытых вещей — ему в этом возрасте открылась.
Вы помните, что там последние слова Кейна — это «бутон розы». И все ищут эту розу, все пытаются понять, что это такое. И в последнем кадре мы понимаем, что это такое — и тут уже ну только каменный зритель не разрыдается. Я не буду вам спойлерить, тем более что вы наверняка всё знаете. Для меня это история вот об этом — о приключениях самых потаённых символов и архетипов. Но кто-то в этом, если хотите, увидит крах газетного магната. Точно так же, как кто-то в мировой истории видит только борьбу финансовых кланов — Ротшильды против Рокфеллеров, и Россия против них всех.
«Кинодраматург Надежда Кожушаная — автор искренних, глубоких сценариев. Какие фильмы по её текстам вам особенно запомнились?»
Конечно, «Зеркало для героя». Повесть Рыбаса далеко не имеет тех литературных достоинств, которые имел, да, великий сценарий Кожушаной. Я считаю и считал всегда, что остальным сценариям Кожушаной не очень повезло в реализации. Я никогда не любил фильм «Прорва» — при том, что покойный Иван Дыховичный, Царствие ему небесное, мне представлялся одарённым человеком и, главное, очень умным (скорее умным, чем одарённым), и актёром прекрасным. Просто я не люблю «Прорву», потому что я не люблю эстетизацию некоторых вещей. И слишком гламурная картина, как мне кажется. Хотя и Уте Лемпер там прекрасная. Да и вообще хорошее кино, просто оно не моё. Сценарий Кожушаной лучше фильма.
Мне нравились вообще практически все её сценарии в их литературном воплощении. «Муж и дочь [Тамары Александровны]» — тоже очень интересный сценарий. А когда он воплотился, в нём так много девяностнической претенциозности, которая мешает это оценить. Понимаете, Кожушаная была непретенциозный человек, а она была человек с горьким, тяжёлым, разнообразным опытом жизни. И мне кажется, этот опыт жизни её и задушил в сорок два с чем-то года, по-моему. Ну, она умерла от пневмонии, но пневмония эта же напала на ослабленный и измученный организм. Она погибла, потому что жизнь её душила на протяжении очень долгого времени.
У неё был ранний успех, но этот ранний успех ничего не искупает, потому что есть люди, которые вдруг понимают о жизни слишком много, и поэтому гибнут. Ну, так умер Луцик. Он умер, конечно, потому что не мог пережить Саморядова — фактически вторую половину своей души. Это был образцовый тандем, более тесно связанный, чем у Дунского с Фридом. Он не пережил его просто, и не пережил того знания, которое в себе носил. Бывают такие люди, которые носят в себе глубочайший внутренний надлом.
Знаете, я странную штуку скажу, наверное. Сейчас я прочёл довольно занятную статью Насти Егоровой, нашей внештатницы в «Новой», про Константина Воробьёва. Она ездила в Курск в командировку и не могла не посетить его могилу, потому что это её любимый писатель (ну, как и мой, в общем). Вот мне когда-то Валера Залотуха сказал: «Есть тайное общество любителей Константина Воробьёва. Эти люди мгновенно друг друга опознают». По какому критерию? Егорова докопалась, как мне кажется. Оно довольно забавно там пишет, что Воробьёв — это писатель интеллигента в первом поколении, который носит на себе все родимые пятна этого происхождения, которые пережили страшный перелом, понимаете, надлом дикий. Это то же, что случилось с Чеховым, который тоже прожил сорок четыре года. Человек, который меняет своё положение в социуме, который меняет класс, в каком-то смысле этот класс предаёт, — такие люди долго не живут.
И вот в Кожушаной, в Луцике, в Саморядове был этот надлом. Это гениальные люди (меня всегда ругают за слишком частое употребление слова «гениальный», но уже ничего не поделаешь). Они перешагнули в следующий класс — даже класс следующий не в экономическом, не социальном, а, если хотите, в образовательном смысле. И этот надлом даром не проходит. Вот это случилось с Кожушаной, когда человек из одной среды перешёл в другую. Это надо обладать невероятно гибкой психикой и слоновьей шкурой, чтобы суметь, как Лимонов, например, с этим справиться. И я думаю, тоже для Лимонова это бесследно не прошло. А уж для многих и многих, кто вышел из родной среды и жил всю жизнь в другой, это было чрезвычайно травматичным опытом.
Именно поэтому Кожушаная, Луцик, Саморядов, Чехов, о чём бы они ни писали, они прекрасно понимают как примитивных людей опять-таки из самого примитивного социума, так и сложнейших, тончайших интеллектуалов. Они — такие переходы, такие мосты между этими пропастями. А быть мостом над этой бездной, а особенно в России, где эта бездна очень широка, — это трагическая участь. Об этом, кстати, «Зеркало для героя», где в первой же сцене Колтаков великолепно играет эту драму непонимания собственным отцом. Кстати говоря, Колтаков тоже всю жизнь играет это, он актёр этого плана.
«Изменились ли ваши взгляды на проблему арабо-израильского конфликта?» Не менялись никогда. И у меня не было никогда специальных взглядов на эту тему. Я об этом не думаю, потому что меня занимают, во всяком случае в последнее время, вещи главным образом культурологического плана.
«Спасибо вам за Каверина, одного из моих любимых писателей, — и вам спасибо. — Прочитала его последние вещи, и они меня тронули, особенно роман «Перед зеркалом», — конечно. — А фраза из «Летящего почерка» о том, что счастье спрямляет жизнь, не выходит из головы». Вот видите, Наташа, теперь она у вас не выходит из головы, а до этого она тридцать лет у меня не выходила из головы. Это очень правильная мысль.
«Верите в возможность большого чувства между людьми только по переписке, людьми, которые вообще не встречались, не считая мимолётной, бесконтактной встречи на расстоянии?»
Это речь идёт о «Летящем почерке», я так понимаю. Наташа, я надеюсь, это не из вашего опыта. Конечно, верю. Во-первых, я не уверен, что эта встреча была бесконтактной. Не надо, не надо. Во-вторых, в «Тегеране-43» рассказана похожая история. Такие вещи бывали тогда, когда Россия была отделена «железным занавесом» от прочего мира, и встречи с иностранцами бывали стремительными и помнились всю жизнь. Помните, как говорит Оксана Акиньшина у Тодоровского в «Стилягах»: «У меня было десять минут на встречу с ним. Что я могла понять? Вот только это мы и могли сделать». Да, верю. И я, больше того, верю в то, что иногда трое суток общения с человеком могут на всю жизнь сделать его вашим, а вас могут на всю жизнь привязать к нему. Просто такой опыт имеется, об этом совершенно нечего и говорить. Это естественно. «Любовь выскочила перед нами, как наёмный убийца, и поразила обоих одновременно!»
«Герой Олега Даля в фильме «Золотая мина»… Ну, уже отвечал на этот вопрос. Спасибо.
«Есть ли у вас разумное объяснение тому, как у современных «патриотов» сочетаются такие вещи, как национал-шовинизм, сталинизм и православие? Как вообще может существовать такая дикая сборная солянка?»
Видите ли, дорогой gbedow, есть два уровня, скажем так, любой идеологии: есть мысли, которые она вызывает, и есть эмоции, которые она порождает. В этом смысле национал-шовинизм, сталинизм и дурно понятое православие с его культом бессознательного и ненавистью к рациональному (ещё раз говорю — об официозной его стороне) — они могут порождать эмоции абсолютно сходного порядка: радость от раскрепощения инстинкта, некоторую разнузданность, культ глупости и так далее. Это экстатические состояния. Они одинаковы — что у национал-шовинизма, что у сталинизма, что у патриотизма. На идейные различия этих вещей человек в экстазе не смотрит. Понимаете как? Представьте себе человека, одурманенного одновременно водкой, наркотиками типа ЛСД и героином. Конечно, водка, героин и ЛСД несовместимы, но одурманенному человеку без разницы, ему важно попасть в экстаз, поэтому химический состав того, что его заводит, для него совершенно непринципиален. А что человек с таким составом крови долго не проживёт — так это в экстазе никого не волнует.
Вернёмся через три минуты.
РЕКЛАМА
Д Быков― Продолжаем разговор. Очень много вопросов, в том числе в письмах, приходящих на dmibykov@yandex.ru. Напоминаю: dmibykov@yandex.ru.
Во-первых, когда будет книжка про Маяковского? Она есть физически, но будет она, видимо, в продаже после 20-го числа. Привезу ли я её в Ригу 22-го? Не привезу, она толстая, и продавать там я её не смогу. Ну, она доедет туда рано или поздно. Не разочаровали ли меня первые реакции? Нет.
Тут, кстати, спрашивают после публикации главы в «Новой газете» : «Каким образом Маяковский мог учитывать опыт Ленина и его тройственной семьи, когда он строил собственную тройственную семью в 1915 году?»
Он в 1915 году не строил собственную семью. В 1915 году он познакомился с Бриками, безуспешно добивался Лили и периодически скандалил. Инициатором этой семьи был не Маяковский и не Лиля, а Осип Максимович, который сказал: «Давайте все никогда не расставаться», — но это было сказано уже в 1917 году. Кстати говоря, никакой тройственности там тоже никогда не было, о чём Маяковский сам неоднократно говорил (и Лиля тоже, ещё откровеннее). А устройство семьи Маяковского — это уже после того, как он получил квартиру в Гендриковом, когда он специально заказал для двери табличку «Брик. Маяковский». Вот это момент устройства семьи. Тогда он уже, конечно, я думаю, достаточно много знал. Другой вопрос, что тут важно — не знал ли он конкретно ленинский опыт, а то, что у них, как и написано в статье, был общий источник вдохновения, а именно — «Что делать?».
Что я думаю о первых оценках? Всегда, когда появляется любая моя книга, она разочаровывает по сравнению с предыдущей. Это пишут всегда. Первая моя книга — «Оправдание» — не могла разочаровать по сравнению с предыдущей, поэтому она разочаровала по сравнению с моими стихами. Стихи мои разочаровали сами по себе. Это нормально. Я знаю очень хорошо, что если вашу книгу при её появлении не ругают, значит она не содержит нового, потому что книга, которая содержит новое, обязана раздражать. Вот когда вышла книга об Окуджаве, все говорили: «Это не «Пастернак». Теперь все будут говорить: «Это не «Окуджава». Нормально! Если нет реакции раздражения, а особенно со стороны людей, которые давно уже смотрят тебе в рот, ища, к чему бы прицепиться, если нет реакции раздражения, значит это просто банальность, значит ты повторяешь себя. Каждая следующая книга должна вызывать неожиданность, эффект неожиданности, внезапности и, если вам повезёт, то негодования. Как только о вас начнут писать хорошо — ну всё, значит вы обрели лицо, значит уже константа. Боюсь, что люди, которые раздражают, пока ещё выполняют своё предназначение на земле.
«Прочитал ваш рассказ «Голлем»… Это не рассказ, а это колонка, которая совершенно правдиво (клянусь вам, правдиво!) отображает то, что было.
«Не задумывались ли вы о написании своей «Мишахерезады» о приключениях своей юности? Привет вам от группы «ВКонтакте».
Спасибо группе «ВКонтакте». Я никогда не думал об автобиографическом сочинении. Видите ли, дело в том, что у Веллера-то действительно была жизнь богатая. Он мог себе позволить в ранней юности на пари без копейки денег… Кажется, у него было 20 копеек с собой, чтобы доехать от Петербурга до Дальнего Востока, до Владивостока, дать оттуда телеграмму и вернуться. Вот такое «Вокруг света за 80 дней». Ну, нанимаясь сезонным рабочим, где-то одалживая, где-то стреляя, где-то коногонствуя. Я говорю, у Веллера богатый опыт. Мне недавно таксист рассказал, что он слушает Веллера, и чувствуется, что пожил человек. Есть легенда даже, что Веллер ходил по Алтаю и рубил там избы для пропитания. Хотя он ничего подобного не делал, насколько мне известно. Правда, у него такая биография, что я, зная его лет двадцать, тоже знаю не всё.
Веллер может себе позволить писать «Мишахерезаду». Кстати, пожалуй, это одна из немногих книг, при чтении которой я так хохотал наедине с собой! Просто один в комнате сидел и хохотал. Это редко бывает. Там, где особенно… Нет, не буду рассказывать! Не буду! В общем, я очень люблю эту книжку. Мне, слава богу, до такой биографии не хватает… Как говорил Твардовский: «До рубля не хватает 90 копеек». Действительно, надо очень долго жить, чтобы мочь о себе так рассказывать. Когда-нибудь, может быть, в глубокой старости…
«Каждую неделю…» Да, понял, спасибо.
«Какой смысл люди вкладывают люди, — спрашивает Лёша, — [в надписи, которые пишут] на стене Цоя на Новом Арбате? Цоя чаще воспринимают как выразителя внутреннего мира свободной молодёжи или как оригинального поэта?»
Нет, как оригинального поэта его никто не воспринимает точно, потому что Цой и не считал себя поэтом. Алексей Дидуров полагал Цоя поэтом, когда услышал строчку «Я — асфальт». Ему казалось, что это великолепная метафора; серый, жёсткий, заплёванный — вот таким должен быть поэт, таким должен быть голос лирического поэта в наше время. Это хорошая мысль. И у Цоя есть прекрасные стихи — например, «Кукушка». Тут много, кстати, вопросов о том, как соотносятся слова и музыка. Я на это всё отвечу, попробую.
Цой действительно не существует не только вне музыки, но он и не существует вне контекста очень серьёзного. В Цое очень привлекателен его минимализм, который и делает его кумиром таких девочек, например, как в «Сёстрах», потому что его любое сочинение может быть наполнено вашим внутренним смыслом, вы можете вчитать туда совершенно другой текст. Точно так же, как, скажем, песня «Восьмиклассница» в «Стилягах» у того же Тодоровского сработала в совершенно новом контексте, заиграла новыми смыслами. Ну, это нормально. Цой действительно умеет строить такую клетку, в которую помещает множество разных смыслов.
Другое дело — сторона, в которую он эволюционировал. Может быть, он становился несколько более попсовым. Может быть, он становился всё более похож на Брюса Ли и вообще на кумира публики из таких заплёванных видеосалонов. Но это могло быть маской. И он эти маски умел замечательно менять, он был человек тоже очень социально чуткий. И оставаться вечно в образе героя нугмановской «Иглы» он совершенно был не обязан. Но что люди вкладывают в это? Они себя туда вкладывают. Понимаете, в чём дело? Цой даёт им возможность побыть не собой, а побыть таким рыцарем, таким восточным героем.
«Если бы вы стали объектом травли на центральных ТВ с изобличающими репортажами, — был, плавали, знаем, — как бы вы отреагировали на это?»
Тут может быть только одна реакция. Во-первых, говорить правду, рассказывать, как всё обстоит на самом деле. Во-вторых, защищаться по возможности. И в-третьих, продолжать свою деятельность. Понимаете, кто-то правильно заметил, что единственный способ сделать травлю бессмысленной — это показать, что она не достигает цели.
«Помню с ранней юности стихи Александра Аронова. Хотелось бы пару слов о романе Жуховицкого «Остановиться, оглянуться…» и его авторе».
Была чья-то довольно злая шутка: «Прочитав первые десять страниц романа Жуховицкого, я понял, что автор писать умеет. Прочитав остальные шестьсот, я не прибавил к этому пониманию ничего». Это неправда, Жуховицкий умеет писать. Кстати, привет вам, Леонид Аронович, если вы меня слушаете. Я хочу подчеркнуть одну важную штуку. Понимаете, проза Жуховицкого (говорю именно о прозе, а не о публицистике, потому что публицистика сейчас в данном случае вне нашего рассмотрения) писалась в семидесятые годы в основном. И в семидесятые годы очень важно было о некоторых вещах сказать так, чтобы, кому надо, поняли, а кому не надо — не поняли. Проза Жуховицкого — как и проза Воробьёва, кстати говоря, как и проза Трифонова, но это высший образец, — она погружена в очень глубокие контексты, она глубоко достаёт. Надо знать эти контексты.
Жуховицкий — замечательный писатель, на мой взгляд, одной темы: это пустота жизни конформиста, это пустота жизни человека, который обменивает своё внутреннее содержание на пристойное положение в этом социуме. Поэтому его герои очень часто — журналисты. Вот этот обмен, о котором Трифонов написал, «обмен своей сущности на положение», он замечательно раскрыл. Это не такая простая тема, как кажется, потому что… Ну, хорошо, он конформист.
Вот у Вячеслава Рыбакова, кстати, в его замечательных версиях продолжения «За миллиард лет до конца света» показано, что ведь нонконформист имеет свои риски: он может сойти с ума, он может превратиться в городского сумасшедшего, обитателя болот. Кстати, там судьба Вечеровского нарисована довольно достоверно — вот этот прячущийся от всех, страшный диссидент. Я боюсь, что конформист — это тоже как бы лишь один полюс этого магнита, а на другом полюсе находится безумец. Поэтому проза Жуховицкого построена на серьёзном конфликте. И, сверх того, она хорошо написана. Героини у него всегда обаятельные, что для меня важный признак. Видно, что пишет человек, который любит и увлекается действительно самим веществом романа, любовной атмосферой. Он талантливый человек, конечно.
«Ваше мнение о творчестве Всеволода Емелина? Я его терпеть ненавижу!»
А я люблю Всеволода Емелина. Мне кажется, что он хороший поэт. И сколько бы нас с ним ни ссорили и ни противопоставляли, в общем, мы делаем одно дело — мы пытаемся писать лирику на современном материале. Мне кажется, что Всеволод Емелин владеет замечательным инструментарием, прекрасно имитирует речь человека массы, сам не являясь человеком массы. Человек массы — это человек гипнабельный, а Емелин абсолютно не гипнабельный. И вообще мне кажется, что Емелин очень хороший человек с внутренней драмой, замечательный.
«Ваше мнение по поводу XVIII века в русской литературе? Отчего Сумароков, Херасков с «Россиадой» или уже Сергей Ширинский-Шихматов канули в забытьё? Даже у Державина нет полного собрания сочинений, а ведь это клад. Отчего же целый век забыт?»
Нет, у Державина, насколько я помню, выходили достаточно полные собрания ещё в XIX столетии. Сейчас, вероятно, действительно нет такого собрания. Но я абсолютно убеждён, что Державин не сброшен с корабля современности — уже хотя бы потому, что благодаря роману Ходасевича, благодаря поэтике Маяковского (очень точно многие раскрывают её одическую традицию; скажем, в замечательной книге Вайскопфа «Во весь логос» подробно исследованы связи Маяковского с одической традицией в русской поэзии), благодаря всему этому Державин жив. Другое дело, что Херасков, допустим, Сумароков (Сумароков, кстати, в меньшей степени), Тредиаковский — они, естественно, как-то накрыты двумя предыдущими веками. Ну, поэзия огромно шагнула вперёд.
А кто уж в Англии так всерьёз читает Чосера? Или кто во Франции как следует знает «Песнь о Роланде»? Ведь первый поэт, начавший писать на современном языке и более или менее на современную тематику — это Вийон. А многие ли знают Ронсара? Многие ли вообще как следует, в оригинале, в России читают… Я уже не говорю о Франции, где вообще интереса к поэзии значительно меньше. Правильно писала Ахматова: «Французская живопись съела литературу». Но многие ли в России читают, скажем, французскую поэзию XVI века? Очень трудно мне это представить (даже в переводах Левика). Мне кажется, что для поэзии это естественно — отживать свой срок. И когда классика чересчур актуальна — это показатель того, что литература не развивается, как ни ужасно это звучит.
«Что вы можете сказать о проекте «Ансамбль Иисуса Христа Спасителя и Мать Сыра Земля»?» Я слушал несколько раз эти произведения. По-моему, это слушать невозможно. Но это мои частные заморочки.
«Прочитав в своё время «Бесов», я почти встык посмотрел только вышедший тогда «Бойцовский клуб», и мне до сих пор кажется, что фильм Финчера — это скорее интерпретация Достоевского, чем экранизация Паланика. Что вы об этом думаете?»
Понимаете, дорогой sandrtokarev, я вообще в этом плане человек тоже пристрастный. Не сказать, что я люблю очень сильно Достоевского, как вы знаете, но Паланика я люблю ещё меньше, он не кажется мне сильным писателем. Но в чём штука? Финчер вообще — он режиссёр удивительного класса. Говорят, что он человек скучный. Я в это поверить совершенно не могу, потому что он мне кажется одним из великих ныне живущих режиссёров, наряду с Гором Вербински, например, ещё с кем-то, кого я мог бы назвать, с Вуди Алленом упомянутым. Но он, конечно, более велик, по-моему.
Финчер всегда умудряется зацепить широчайший пласт, о чём бы он ни снимал, — снимает ли он о Зодиаке, снимает ли он экранизацию Стига Ларссона, снимает ли он даже эту «Gone Girl» («Исчезнувшую»), которая ну плоский роман абсолютно, а он умудряется снять замечательную дуэль двух сложных характеров. Он режиссёр умный, и актёры у него работают на всю катушку. И, конечно, «Бойцовский клуб» как фильм, даже благодаря феноменальному образу Марлы, просто действительно величайшее, выдающееся произведение, в отличие от романа, который, по-моему, довольно прост. Я уже не говорю, что Финчер всё-таки снял «Семь» и доказал свою способность — из довольно банального ужастика (там, правда, к его услугам Кевин Спейси, действительно великий артист), из рядового ужастика делать метафизический настоящий триллер, великий фильм о провокации.
«Интересуетесь ли вы до сих пор темой сект и сектантства? Снизилась ли популярность сект за последнее время? Какие люди туда попадают и почему?»
Резко снизилась, да. Это объясняется довольно просто. Секты расцветают обычно в период застоя, в период, когда культурная жизнь, духовная жизнь общества, надстройка его (простите за марксизм) очень жива и активно развивается, а всё, что касается жизни политической, находится в глубокой стагнации. Для заморозков секты не характерны, потому что во время заморозков духовная жизнь общества спит. Секты расцветают, как в русском Серебряном веке. Секта — это элемент народного творчества. А во время заморозков всё общество является одной тоталитарной сектой и поклоняется одному божку, а потом пытается понять, как это оно так могло. Сталину так поклонялись. Всё общество было огромной тоталитарной сектой со всеми приметами тоталитарной секты: с наличием ближнего круга, с эсхатологическим учением, роль которого играла пропаганда неминуемой войны.
Вы знаете, есть семь признаков тоталитарной секты. Кто-то выделяет пятнадцать, кто-то — семь. Вот Елена Иваницкая, насколько я помню, десять. Очень разные есть подходы, но системные признаки одни и те же: наличие абсолютного, непогрешимого вождя со строго засекреченной жизнью; наличие ближнего круга, которому больше позволено; жёсткие материальные требования к участникам секты, требования материальных взносов; культивируемая ненависть к семье и требование отдать жизнь за вождя; и эсхатологическое учение, которое говорит, что «мир лежит во зле и обречён, а мы вернейшие и спасёмся». Это всё мы наблюдаем, кстати говоря, и сейчас.
«Давно заметил интересный факт: героя Высоцкого из фильма «Опасные гастроли» зовут так же, как и бедолагу-конферансье из «Мастера и Маргариты» — Жорж Бенгальский. Надеюсь, что это заметил не только я. Совпадение это или нечто большее?»
Конечно, не совпадение. Конечно, совершенно намеренная вещь. Но не забывайте, в каком театре играл Высоцкий и какая постанова в это время там была самая модная. И Юнгвальд-Хилькевич — тоже человек, вообще-то говоря, неглупый. Обратите внимание, что в «Опасных гастролях» в одной сцене с Высоцким играет замечательно Кира Муратова, которая до этого, я думаю, первой по-настоящему раскрыла его актёрские способности в замечательном фильме «Короткие встречи». Там у неё эпизодическая роль, но единственные, естественные, живые интонации в эпизоде исходят от неё, потому что Муратова дико органична.
«Вы бывали в США. Бывали ли на лыжных курортах, катаетесь ли сами?»
Нет конечно. Ну представьте, как это возможно. Это какие должны быть горы, какие лыжи. В детстве я очень любил с горки на лыжах кататься, но на курортах никогда не бывал. Я увлекаюсь одним экстремальным спортом — это школа. Вот и завтра опять туда пойду. Мой экстремальный спорт — это давать уроки.
«Прокомментируйте высказывание: «Находится много тех, кто отрицает теорию Фрейда, но среди них нет никого, кто её сначала изучил».
Я никогда не отрицал теорию Фрейда, поэтому мне трудно понять, о ком вы говорите. Из людей мне известных (правда, не лично, к сожалению) наиболее активно отрицал её Набоков, и отрицал очень убедительно и смешно. Изучал ли он её внимательно — не знаю. Но и не думаю, что ему надо было слишком внимательно её изучать.
Понимаете, теория Фрейда чрезвычайно богата и разнообразна. Я многих сегодняшних фрейдистов, многих современных психологов спрашивал, не произошло ли некоторой ревизии теории Фрейда. Произошла, конечно. И многие люди, начиная с Фромма, её предпринимали. Кому-то не нравится эротический уклон Фрейда и его попытки всё объяснить, исходя из фаллической символики. Кому-то не нравится теория подсознательного. Павлов, например, говорил: «Мы как будто роем туннель с двух сторон, но Фрейд ушёл слишком глубоко. Он мог бы стать основателем новой религии». Он, в сущности, и стал. Какие-то идеи Фрейда, по-моему, просто отрицать бессмысленно, потому что некоторые вещи он открыл, и они не подлежат сомнению, то есть здесь не с чем спорить.
Другое дело, что роль Фрейда, влияние Фрейда, особенно на нынешнюю литературу, мне кажется, сильно упали, и именно потому, что Фрейд — это фигура всё-таки модерна, фигура модернистская. В обществе постмодерна или, грубо говоря, в обществе фашизма (чего там говорить, я всегда считал фашизм высшей стадией постмодерна), в этом обществе идеи Фрейда не могут иметь успеха. Ведь идеи Фрейда — это всё-таки, прежде всего, идеи преобразования мира, понимаете. И в основе учения Фрейда всё-таки лежит мораль, и довольно жёсткая. Фрейд — это моральный мыслитель. А в обществе имморализма он не может иметь достаточного влияния. В обществе, где никто не хочет лечиться, а, наоборот, все хотят как можно глубже погрузиться в бред (и это касается антимодерновых теорий во всём мире), Фрейд, конечно, опасен. Понимаете, ведь никому не приходит в голову почему-то очевидная вещь, что постмодерн — это антимодерн, это отрицание модерна. А Фрейд — абсолютно модернистская фигура. Тут, кстати, меня спрашивают, что такое модерн. Модерн — это идея прогресса, это идея эксперимента, идея расширения сознания (кстати, для Фрейда эта идея тоже не чужая), это идея борьбы со своими комплексами. А мы живём в эпоху культивирования комплексов, что же тут говорить.
«Как по-вашему, кем является Клара Цаханассьян в «Визите старой дамы» Дюрренматта? Бесом-искусительницей, которая искушает жителей города, или мстительницей, жаждущей возмездия? Кому она мстит — Иллу или городу, который её изгнал? Не провести ли лекцию по Дюрренматту?»
Дюрренматта, вы не поверите, я даже видел. Мне посчастливилось в Швейцарии коротко побывать на одном студенческом конгрессе в бытность мою ещё студентом, в 1991 году. Он с нами встретился на пять минут буквально, он был уже тяжелоболен, но мы его увидели. Вот как я видел полчаса Артура Кларка и с ним говорил, так я видел и Дюрренматта. Для меня он был фигурой абсолютно мистической и легендарной — главным образом благодаря «Аварии», которую я ценю очень высоко. Ну, «Судья и его палач» — конечно, гениальное произведение. И «Визит дамы». Конечно, «Визит дамы» мы знаем все в версии Михаила Козакова, благодаря действительно потрясающей игре Екатерины Васильевой, благодаря очень сильной работе Гафта, насколько я помню. Это, конечно, мощная картина и мощная история.
Но что такое ангел возмездия, искушает ли она? Я не делаю здесь принципиальной разницы между возмездием и искушением, потому что месть — вообще очень страшное искушение. Для человека, который пострадал, самый страшный соблазн — это всю жизнь мстить. И у него, наверное, есть моральное право. Но дело в том, что человек пострадавший получил неизлечимую (и с этим надо просто смириться), непобедимую психотравму. И человек с этой психотравмой имеет единственное назначение — мстить. Это его единственное желание, он на этом повёрнут, это его болезнь. Не нужно думать, что это справедливое возмездие. Но и не нужно думать, что кто-то после перенесённых испытаний может сохраниться…
Вот Клара Цаханассьян — это человек с кишками наружу, человек, которого перерезало пополам. Мы не можем от неё требовать справедливости. Это фильм о том, что зло не бывает справедливо, если уж на то пошло. В мировой литературе, кстати, это действительно очень драматургическая коллизия, очень хорошая для фабулы драматургической. В мировой литературе есть как минимум две пьесы, которые построены на этой же коллизии. Первым вспоминается, конечно, набоковское «Событие», где главный герой так и не появляется; он всю жизнь мстит, вот этот мститель, и Трощейкины все сидят в ужасе. А предыдущая пьеса такая — это не слишком известная, но очень удачная пьеса Горького «Старик».
У Горького вообще удачных пьес — раз и обчёлся. Я даже не считаю его драматургической удачей «На дне», потому что она удачна благодаря потрясающему образу Луки, срисованному с Льва Толстого, как мне представляется. Но настоящих драматургических удач у него две: это пьеса «Фальшивая монета», которую почти никто не ставит, и блистательная пьеса «Старик» — очень хорошая, страшная, такой настоящий триллер, где приезжает герой мстить. Очень хорошо сделано, надо сказать. Он приезжает не один, а с ним такая девушка, дева, уродливая, страшная, которая обслуживает все его интересы. Он появляется со свитой, состоящей из одного демонического существа. Там пьеса немножко недодумана, финал смазан, как у Горького всегда бывает, но грандиозное нарастание напряжения в первых трёх частях! Старик просто не такой привлекательный и не такой прелестный, как Клара Цаханассьян (да и не Васильева его играет), поэтому мы ему и не сочувствуем с самого начала.
Коллизия эта не нова, и Дюрренматт не первым её разработал. Другое дело, что у него замечательный фон — жители города. И это придумано превосходно! То, как они постепенно этого Илла всё-таки сдают. И здесь замечательно почувствована тяга массового человека к конформности, к убийству. Это очень здорово придумано.
«Вы часто бываете за границей. Наверное, и в Европе бывали, — бывал, но я редко там бывал. — Как вам интервью Воротникова из группы «Война»? Он говорит, что европейцы — равнодушные обыватели, что интеллектуальный уровень студентов низок, что, если художник просит помощи, отворачиваются. Что из этого правда, а что спровоцировано личностью человека?»
Я не знаю, что из этого правда, я не Воротников. Я могу сказать одно. Европа — это зеркало. И что человек там видит, то, по всей видимости, он из себя представляет. Конечно, Европа к искусству более равнодушна, чем Россия. Наверное, потому что в России искусство — это единственное, что от тебя остаётся. А в Европе, может быть, не единственное.
Вернёмся через три минуты.
НОВОСТИ
Д Быков― Продолжаем разговор. «Один», в студии Дмитрий Быков и с ним несколько сотен авторов, по-моему, прекрасных вопросов. Всем спасибо.
«Как подобрать для ребёнка правильное чтение?» Много вопросов на эту тему. Хороший вопрос: «С какой книги начинать читать Стивена Кинга англоязычному ребёнку?»
Наверное, всё-таки с «Dead Zone», потому что «Мёртвая зона» — по-моему, вообще самое совершенное произведение Кинга раннего. Строго говоря, я и начал с него, как и все почти. Ну, «Мешок костей» — ничего (собачка Стикен), мать очень любит эту книжку. Лучшая вещь Кинга — по-моему, объективно «Мизери». И, кстати, предпоследний роман мне очень нравится — «Воскрешение» (не совсем точный перевод). Кинга надо начинать, конечно, с ранних вещей читать. «Воспламеняющая [взглядом]» слишком страшна для ребёнка.
Тут спрашивают, имеет ли смысл давать мальчику или девочке читать «Коралина в стране Кошмаров» Геймана и смотреть его. Почему нет? Конечно, имеет. Ну да, там пришивают глаза, как пуговицы. Послушайте, а в «Песочном человеке» у Гофмана вообще глазами стеклянными торгуют. Дети любят кошмары. Некоторые детские страшилки, обнародованные Эдуардом Успенским, дай бог ему здоровья, дадут Кингу серьёзную фору. Помните: «Ползут, ползут по стенке зелёные глаза. Они тебя погубят. Да, да, да!» Кстати, мне очень нравится, как Успенский преобразует эти кошмары, когда: «Мама сказала дочке: «Ни в коем случае не слушай пластинку». Она поставила всё-таки чёрную пластинку — и мама на следующий день пришла с работы без ноги. Она ещё раз сказала: «Не слушай». Опять она поставила — и мама пришла без двух ног». В общем, под конец она пришла без всего. И Успенский заканчивает: «И сказала: «Здравствуй, я колобок!» С ребёнком иногда надо цинично пошутить, иначе вы не победите его страсть к ужасному. Не знаю, я очень люблю Кинга и Геймана. И я считаю, что их надо читать детям рано.
Теперь вопрос: как подбирать детское чтение?
Я несколько раз это опробовал. Существует очень простой тест. Дайте ребёнку, если он достиг 11–12-летнего возраста, рассказ Урсулы Ле Гуин «Ушедшие из Омеласа» («The Ones Who Walk Away from Omelas»), он в русском переводе существует. Это очень известный классический рассказ. Если ребёнку понравится этот рассказ, вы можете давать ему читать всё (самые жестокие тексты, самые сентиментальные, самые умные), он созрел, он готов для чтения любой литературы. Если он скажет: «Что это за чушь?» — значит, пока ему надо давать литературную «манную кашу». Вот и всё. Это очень важный критерий. Вообще важный критерий для определения человека — как он отнесётся к этому рассказу. Рассказ великий, по-моему, без дураков.
«Что вы думаете о современной китайской литературе?» Ребята, ничего. Моё знание о китайской литературе ограничивается одним романом Мо Яня («Большая грудь, широкий зад») и чтением «Троецарствия» в своё время.
«Самоубийство — это проявление силы или слабости духа?»
Есть такие ситуации, когда самоубийство — это высший художественный акт, высокое художественное свершение, но для этого надо быть Маяковским. А вообще мне кажется, что кроме тех случаев, когда у вас совсем нет выбора, когда просто или самоубийство, или бесчестье, во всех остальных случаях, по-моему, это просто неприличная капитуляция, это неприличное доставление радости своим некоторым врагам и друзьям. Маяковский тоже говорил: «Я не покончу с собой, не доставлю этой радости художественному театру». Если бы он задумался, может быть, он бы этого и не сделал. Другое дело, что у него самоубийство — это действительно финальный акт жизни, вся жизнь к этому шла. Поэтому те, кто говорят, что Маяковского убили, просто отнимают у него главный его текст — точно так же, как и у Шолохова. Это посягательство на святыню, мне кажется.
«Вы обозначили четырёхтактный цикл исторического развития России. Какой цикл проходит наша страна сейчас? — заморозок, я думаю. — Как скоро ждать его смены и какие перспективы это открывает для страны?»
Братцы, у вас довольно много на этот раз вопросов на эту тему. Кстати, спрашивают меня, хороший вопрос от Ирины: «В России было традиционно два главных вопроса: «кто виноват?» и «что делать?». Сохранились ли они сейчас? И какой главный вопрос сегодня?»
Совершенно очевидно, что сегодня главный вопрос в России — это «что дальше?» и «будет ли это дальше?», потому что в России нет людей, которые бы как-то расходились по поводу оценки текущего момента. По всем критериям текущий момент — вот ровно то, что вы подумали. Но вопрос же в другом. Одни говорят, что это возвращение России в свою исконную матрицу: «не жили хорошо — незачем и начинать», «Россия может быть только такой, с нами иначе нельзя». Другие полагают, что с каждой новой оттепелью Россия всё-таки устремлялась к прогрессу, изживала Средневековье, становилась всё лучше.
Главный спор происходит о том, может ли Россия быть другой, должна ли она быть другой. Период Путина — это период такого Iulianus Apostata или это естественное состояние страны? У меня есть ощущение, что это период некоторого отступничества перед радикальной переменой. Но дело в том, что Россия в каждом из этапов четырёхтактного цикла имеет свои преимущества и демонстрирует свои плюсы. Я абсолютно убеждён, что самые высокие, самые доблестные свершения России — в диапазоне от строительства города Одессы при Екатерине до расцвета искусств при Александре, до полётов в космос при Хрущёве — осуществлялись в период оттепелей и в период кратковременной симфонии между обществом и государством.
Возможно, мы идём сейчас к этому периоду. Возможен ли выход из нынешнего периода без большого внешнего конфликта? Тут история даёт развилку. Может быть, нынешний внешний конфликт имеет гибридную форму. Но то, что невроз нации, который мы сейчас переживаем и который был в тридцатые, не разрешается без внешней угрозы — по-моему, это совершенно очевидно. Внешняя экспансия для такого режима тоже необходима, потому что он должен за счёт чего-то этот невроз поддерживать. Главной духовной скрепой является внешнее давление. Это нормально. Ничего хорошего в этом нет. Жаль только некоторых соседей.
Что касается того, может ли Россия быть другой. Она была много раз другой. Меня спрашивают, а каким образом она очистится, за счёт каких механизмов произойдёт её очищение. От чего же очищаться? Жители России, как известно, меняют своё мнение с поразительной скоростью. И такая гибкость — это большое преимущество психики. В Германии в фашизм верило процентов 90 населения, а в России в коммунизм никогда никто по-настоящему не верил. Отсюда — колоссальное количество анекдотов и большой скепсис, большая прокладка, воздушная подушка между жизнью народа и власти. То, что у нас всегда существовал огромный разрыв между слоями и классами — это прекрасно в каком-то смысле, потому что это препятствует превращению общества в единый бездушный монолит, в ледяной куб, как в какой-то момент всё-таки было в Германии, как мне кажется. Мне кажется, что россияне и сейчас достаточно инерционные. Так что, конечно, всё это переменится в мгновение ока.
Очень хороший вопрос, спасибо большое, от Саши Гозмана из Славянска: «Уровень хамства, агрессии и невежества [в комментариях] давно уже превысил возможные пределы. Господа под аватарками упражняются в обливании грязью всех и вся». Понимаете, это изнанка свободы, Саша. Ну, что делать? Интернет — свободное пространство. Естественно, что свобода — это свобода быть дрянью в том числе и наслаждение быть дрянью.
«Как вы относитесь к постсоветской прозе Бориса Васильева?»
Прежде всего, конечно, я очень люблю «Экспонат №», «Вы чьё, старичьё?». Ну, есть у него ещё несколько очень славных рассказов. К «Были и не были» отношусь очень хорошо. Вот Алексей Костанян, замечательный редактор и издатель, считает, что это высокое его художественное свершение. Я к «Были и не были» вместе с Никитой Елисеевым отношусь не очень позитивно. Мне кажется, что у него были гораздо большие удачи.
«Знакомы ли вы со слухами, что Иван Ефремов был инопланетянин?» Кто же с ними не знаком?
«Несколько слов…» Нет, рассказ «Иисусов грех» Бабеля — это долго разбирать надо.
«Как вы оцениваете творчество Назыма Хикмета?
Знаете, мне Назым Хикмет бесконечно симпатичен. Во-первых, он был первоклассный поэт. Ему очень повезло на переводчика — его замечательно переводили Слуцкий и Самойлов. И вот Хикмет — это то общее, что есть у вечных оппонентов и соперников, Слуцкого и Самойлова. Знаете, на кого немножко Хикмет похож? На другого сильно влиявшего поэта — на Галчиньского, в духе которого писали и Слуцкий, и Самойлов. У Самойлова есть даже стихотворение в духе Галчиньского. Вот Константы Ильдефонс Галчиньский и, конечно, Хикмет — это два лидера европейской иронической лирики (при том, что жизнь их была очень разная). Такие стихотворения Хикмета, как «Великан с голубыми глазами»… Помните:
Жил великан с голубыми глазами,
он любил женщину, маленькую женщину.
А ей в мечтах всегда являлся
маленький дом,
где растёт под окном
цветущая жимолость.
Это абсолютно прелестное сочинение! И вообще я ужасно люблю Хикмета раннего. И мне очень нравится одна строчка из его автобиографии: «В сорок пятом году меня хотели повесть — и не повесили, — как вы знаете, в Турции он сидел. — В пятьдесят пятом году мне хотели дать Ленинскую премию мира — и дали мне эту премию». Мне это не нравится! Умеет человек ценить то хорошее, что было, и то плохое, что не случилось.
А нравятся ли мне его исторические сочинения? В смысле, вот эта его огромная, большая поэма «Человеческая комедия»… Или как? Не помню сейчас. В общем, его эта эпическая поэма, большая. По-моему, «Человеческая панорама». Она мне не очень нравится, потому что она… Хотя о Зое Космодемьянской замечательная поэма, глава. А пьесы его сатирические мне очень нравятся. И «Легенда о любви» — хорошая пьеса. И «Иван Иванович» — хорошая пьеса. Он был вообще прекрасный человек, вот рыжий турок. И до сих пор, конечно, остаются актуальными великие слова:
Если я гореть не буду,
и если ты гореть не будешь,
и если мы гореть не будем,
кто тогда рассеет тьму?
Прекрасный европейский лирик и очень хороший человек!
«Многие вспоминают ситуацию с Чаушеску…» Напрасно вспоминают, ничего нет общего.
«Ваши размышления о будущем России? Валить или не валить?» Да нет, конечно.
Вопрос об ответственности вождя и лидера и ответственности народа. Я бы не стал снимать ответственность с народа. Мне кажется, мы разделяем эту ответственность. И это, мне кажется, правильно.
Начинаю отвечать на несколько вопросов, стало быть, из писем. Писем довольно много разнообразных.
«Недавно прочитал фолкнеровское «Святилище» и задался вопросом: почему Балабанов в титрах «Груза 200» не упомянул Фолкнера, хотя признавался, что хочет экранизировать этот роман? И что означает формулировка «основано на реальных событиях»?»
Реальные события Балабанов понимал очень широко. Он, как и всякий умный режиссёр, знает, что титр «основано на реальных событиях» придаёт фильму и достоверность, и драматизм. Я его честно спросил в интервью, были ли реальные события. Он сказал: «Подобных событий происходило множество». Вот как хочешь, так и понимай. Никакой реальной истории за этим нет, но он говорит: «Я всё это видел». Ну что? Поздравляем.
Тут вопрос ещё: «Кто вам ближе — упомянутый вами Тодоровский или упоминаемый часто Балабанов?»
Я Тодоровского очень люблю. Грех сказать, Валерия Петровича я считаю лучшим современным российским режиссёром. И он мне всегда был ближе Балабанова — может быть, потому, что Тодоровский человечнее гораздо. Знаете, я недавно пересмотрел «Оттепель» (пересмотрел по своим причинам — внутренним, психологическим) и понял, что я ужасно всё-таки люблю эту картину. Я Тодора (простите за такую фамильярность) люблю с тех времён, когда увидел «Любовь» и понял, что пришёл мой режиссёр. Понимаете, он по-человечески, может быть, от меня бесконечно далёк, но душа его, художественная его ипостась снимает про меня, говорит про меня моим языком в кино. Я обожаю Тодоровского. У него есть удачи, неудачи, что-то мне у него нравится, что-то — нет. Но такие фильмы, как «Мой сводный брат Франкенштейн», или упомянутая «Оттепель», или прежде всего «Любовник», великий фильм просто… Только мне не нравится, что там герой умирает в конце. Мне кажется, если бы он встал и пошёл, было бы ценнее, страшнее. В общем, это один из крупнейших сегодняшних режиссёров.
Ведь «Оттепель» про что снята? Она снята про то, что в половинчатом обществе, где и свобода половинчатая, возникают уродливые отношения. Там ведь все герои со слабиной. И даже герой Цыганова — вот этот Хрусталёв, в котором узнаётся Рерберг, — он не пошёл на войну, и у него своя слабина, своя трусость, свой конформизм. Кстати, и грех перед этим сценаристом погибшим у него тоже есть. Это всё гениально снято, по-моему (опять-таки простите за слово «гениально»). Мало того, что воссоединено, воссоздан прекрасный и точный мир. Мало того, что у всех героев своё лицо, свои проблемы, свои комплексы и так далее. Важно то, что мысль очень точная: все герои половинчатого времени обречены на психологическую половинчатость. Вот как сказано у Сорокина в сценарии «Москва»: «У каждого человека вместо чего-то твёрдого внутри картошка с мясом». И как говорит там эта девочка-аутистка (Маша, по-моему): «У каждого есть кавычка. За эту кавычку можно потянуть — и человек вскроется, как банка». Вот о том, что у каждого есть кавычка, и снята «Оттепель». Самое страшное в этом времени — что это недоэпоха. Вот это Тодоровский почувствовал замечательно. И, конечно, мне кажется, что хотя и Балабанов иногда бывает изобразительно сильнее, но это потому, что Балабанов очень часто бьёт лопатой по голове. А Тодоровский по голове гладит, но гладит так умно, что активизируются нужные зоны мозга.
«Есть ли у Набокова чувство юмора? Даже там, где попадается ирония, как в «Истреблении тиранов», мне кажется, он не столько шутит, сколько стилизует. Можете ли вы вспомнить у Набокова что-то, написанное с чувством юмора?»
У Набокова довольно сардонический юмор. А что вы ждёте от него? Что это будет Вудхаус? Что он будет юморить? Русские писатели вообще редко бывают юмористами. Даже Тэффи — трагический писатель. А у Набокова вообще, конечно… Он часто очень смешно шутит. Скажем, из слов «космический» и «умозрительный» слишком часто выпрыгивает по одной букве. Или: «Мы слизь. Речённая есть ложь» [«Мысль изречённая есть ложь»]. Он автор очаровательных каламбуров. Но Набоков — это не тот писатель, над которым будешь хохотать. Он иногда острит, но по большей-то части он всё-таки, знаете, рефлексирует опыт своего века. А такие писатели, как Вудхаус, например, или Джером, у которого, кстати, есть отличные и трагические рассказы (например, «Лайковые перчатки»), — я всё-таки, знаете, небольшой любитель такого юмора.
Вот о радости выпускания Хайда: «Это слишком индивидуально. Кстати, многие злодеи вблизи оказываются милейшими людьми». Ну, оказываются. Но как раз для них выпускать из себя зло и сдирать маску милейших — это наслаждение (нам с вами, Астах, наверное, недоступное).
«Веллер предлагает с исламским фундаментализмом бороться фундаментализмом христианским». Говорил уже об этом, отвечал уже на этот вопрос. Понимаете, всё-таки Веллер сложнее.
«Пожалуйста, по возможности поговорите о поэме Руставели «Витязь в тигровой шкуре». Мне надо её для этого перечитать, причём желательно в переводе Заболоцкого, которого у меня нет, и надо его скачать. Я с удовольствием поговорю об этой поэме. Я помню, что когда-то я был этим эпосом совершенно заворожён.
«Посоветовали прочитать «Железный поток» Серафимовича. Интересно ваше мнение по поводу этого романа». По-моему, этот роман ужасно скучный, я его никогда читать не мог. Серафимович — хороший, что называется, честный писатель. Но читать «Железный поток» — увольте.
«Что вы думаете о стихах Семёна Липкина?»
Я совершенно не разделяю мнения Бродского (хотя кто я такой? а с другой стороны — почему бы и нет?), что Липкин один правильно отразил военную тему в русской литературе и спас честь этой литературы, русской военной. Такие поэты, как Гудзенко и даже Луконин, приближаясь к военной теме, становятся очень крупными. И Друнина, например. Я уж не говорю про титанов, вроде Самойлова, Слуцкого, кстати говоря, Иона Дегена. Я не говорю уж о Твардовском, который создал свой военный эпос. У Семёна Липкина есть замечательные стихи — например, самое известное его стихотворение «Зола», которое вы знаете, конечно, и поэма «Техник-интендант», над которой плакала Ахматова. Но в целом мне кажется, что Семён Липкин — это поэт уровня Георгия Шенгели. У Георгия Шенгели есть блистательные стихи — например, «Жизнь», или поэма «Повар базилевса», или «Мы живём на звезде. На зелёной». Он прекрасный поэт, но ставить его в первый ряд, по-моему, совершенно невозможно.
«Знакомы ли вы с Теорией поэзии американского литературоведа Харольда Блума, в соответствии с которой развитие поэзии происходит в борьбе со своими предшественниками?»
Строго говоря, это не его теория. Просто это адаптированная к мировой литературе теория Шкловского о борьбе центральных и периферийных жанров и теория Тынянова о борьбе архаистов и новаторов. Ничего принципиально нового я здесь не нахожу. Поэзия, мне кажется, развивается не за счёт борьбы с предшественниками, а за счёт расширения своих изобразительных средств — прежде всего просодических.
«Роман Кочетова — это роман о кризисе советского, о том, что советский человек Булатов оказался одинок в мире постсоветском. Роман опубликован в 1969 году. Какой постсоветский мир вы имели в виду?»
Послесталинский — назовём это так. Конечно, мир семидесятых, мир конца шестидесятых — это мир, в котором советская власть уже радикально трансформировалась. Это мир открытый, а Булатов — человек, живущий за железным занавесом, человек, живущий в железном мире, что и подчёркнуто его железной фамилией (поэтому в некоторых пародиях его звали Чугуновым). Я считаю, что мир семидесятых — это уже мир во многих отношениях постсоветский. Ну, хотите — назовите послесталинским, если вам так больше нравится.
«Как вы относитесь к идее срединного пути как концепции выхода из инфернальности, предложенной Ефремовым в «Часе Быка» и «Туманности Андромеды»? Произойдёт ли при нашей жизни возврат человечества к ценностям гуманизм и антропоцентризма или придётся пережить новые Тёмные века?»
Серёжа, идея срединного пути (вы точно это почувствовали) вообще Ефремову очень близка, потому что в концепции Ефремова, о чём мы сейчас будем говорить… У меня была статья «Человек, как лезвие бритвы», где я это доказывал. Идея Ефремова — это вообще идея о том, что человек — в принципе лезвие бритвы; тончайшая грань между тоталитаризмом одного плана и тоталитаризмом другого. Ну, если хотите, между тоталитаризмом и олигархией, потому что в «Часе Быка» описан всё-таки мир олигархический. Я принципиально не разделяю мнения, что дорога человечества — это широкий, торный путь. Нет, это Тропа инков, где можно поставить одну ступню, а две ступни рядом — уже трудно. Это лезвие бритвы. Поэтому, безусловно, срединный путь необходим, но поиск этого срединного пути — это мучительная вещь.
«Не является ли надежда на разделение человечества на люденов и Человейник всё же несколько искажённой эсхатологической идеей о приходе Спасителя и разделении людей на козлищ и агнцев? Не есть ли это перекладывание ответственности с человека на высшие силы?»
Серёжа, я не думаю, что это эсхатологическая идея и разделение на агнцев и козлищ. Точнее, это разделение на отдельных козлищ и стадо. Это разделение неизбежно. Ну неизбежно! Понимаете, если брать даже чисто структуралистский подход к миру (который тоже у меня вызывает определённые несогласия, но часто это работает), даже структурально большинство процессов идёт так, что в результате долгого развития практически каждая тенденция приводит к разделению на две ветки: одна ветка — это ветка большинств, другая ветка — это ветка маргиналов. Это в литературе так всегда происходит, это такая социальная история. Я думаю, мы придём к поколению новых луддитов, которые будут выходить из социальных сетей или взламывать социальные сети. Кстати говоря, панамская история, по-моему, говорит об этом более чем откровенно. Мир тотальной прозрачности не для всех.
«Читали ли вы книгу Таривердиева «Я просто живу»? — читал. — Какое место в истории культуры занимает Таривердиев? Можно ли его поставить в один ряд с Прокофьевым и Хачатуряном?»
Понимаете, я не очень верю, что тут ряды уместны, но то, что это крупный композитор — это безусловно. Я не думаю, что это такой открыватель новых территорий, как Прокофьев. Но у Таривердиева же есть серьёзнейшие музыкальные сочинения, это мы знаем его только по музыке к фильмам. Как многие знают Шнитке и Каравайчука только как кинокомпозиторов, хотя на самом деле это авторы серьёзнейших авангардных сочинений, просто мы так адаптируем их для себя. Как мы знаем новеллистику Платонова и предпочитаем не читать, например, «Счастливую Москву», потому что там всё слишком густо, сконцентрировано и на грани безумия.
Я не думаю, что возможно здесь такое ранжирование, но серьёзные произведения Таривердиева — например, его музыка на Хемингуэя, на Вознесенского, его джазовые композиции — они, конечно, выдают в нём композитора первоклассного. И потом, послушайте сюиту из музыки к «Семнадцати мгновениям» и послушайте музыка из «До свидания, мальчики». Ну это просто божественно! Я эту тему из «До свидания, мальчики» не могу слушать спокойно, потому что я сразу вижу весенний приморский город и первый кадр — вот это море с сосульками. Господи, какая картина! Ну это слёзы вообще! Кто не видел — немедленно бежим!
«Хорошая ночь…» Да, хорошая ночь, спасибо.
«Что вы можете сказать о Викторе Борисовиче Кривулине? Выскажите своё мнение о нём».
Я солидарен с Житинским, что поэзия Кривулина несколько тяжеловесна, классична, архаична. Один из героев «Потерянного дома», списанный с Кривулина, там как раз его стихи напоминают тяжёлый сливочный торт с тяжёлым сливочным кремом. Кривулин был не такой, но для меня он немножко слишком тяжеловесен и архаичен. Человек он был очень хороший и замечательный. И, конечно, очень интересный поэт.
«Роман Саши Соколова «Школа для дураков»…
Ребята, Андрей дорогой, я не люблю «Школу для дураков». Я считаю это хорошим романом. «Между собакой и волком» считаю совсем уже не моим, скажем так, чуждым мне абсолютно. Про «Палисандрию» я молчу. Я знаю людей (например, Ольга Матич, превосходный славист), которые считают вообще Соколова лучшим, что было в самиздате. И действительно есть некий парадокс в том, что два самых популярных текста русского самиздата (они же и самых элитарных) — это «Москва — Петушки», сложнейший текст, и «Школа для дураков». Там интересные фокусы с раздвоением сознания. И мне очень нравится вторая глава в «Школе для дураков», вот эти короткие рассказы (про жену профессора и так далее). Но в принципе я не фанат Саши Соколова. Как-то он очень от меня далёк, и я вообще не понимаю, как это можно любить.
«Как вам «Авиатор» Водолазкина?»
Я только сегодня дочитал книгу. Мне кажется, она должна как-то во мне уложиться. Мне пока нравится одно — что эта книга совсем другая, что наработки «Лавра» не продолжаются, что автор не едет на готовом успехе. Вот это меня восхищает. И там есть несколько кусков выдающейся художественной силы. И достигается это не за счёт шокирующих подробностей или за счёт внезапных ходов сюжета, а за счёт чисто языковых средств — неуловимых сломов языка. Очень филологичный роман. Я просто очень люблю Водолазкина самого как человека, как явление. Здесь я пристрастен.
«Расскажите простым языком, — простым языком не обещаю, — почему в скандинавских странах был и есть такой расцвет сказок и детской литературы? Связано ли это с древней традицией эпоса? Если да, то с чем?»
Да нет. Тут, понимаете, такая тёмная материя, как национальный характер. Во-первых, для того, чтобы писать сказки, нужно чувство уюта, а в Скандинавии оно очень остро. Скандинавия же — это неуютное место, это горы, фьорды, эльфы и тролли (как в замечательном стихотворении Елены Эфрос), хвоя, пропасти, бездны, ветра, холод, викинг. Там как-то действительно не располагает это к уюту всё, поэтому в жилище культивируется уют. Поэтому жанр сказки, а особенно страшной сказки, сказки Андерсена… Вот Оля Аничкова недавно очень хорошо написала об Андерсене в «Русском пионере» у Колесникова, что это действительно мастер триллера, причём триллера такого, что господь не приведи — безумец, по сути дела. Конечно, и Сельма Лагерлёф, и Туве Янссон, и в огромной степени Астрид Линдгрен, и конечно Ибсен — это всё рассказчики страшных сказок у костра, у очага. Вот это чувство уюта.
И, по сути дела, что ещё важно? Скандинавская литература довольно депрессивная. Отсюда, кстати, страшная мода на неё в русском Серебряном веке, когда Стриндберг был самым популярным автором. Честно говоря, я не понимал долго, что такого Блок находил в Стриндберге. Я вообще несколько офигел, когда на моих открытых уроках на RTVi… Там я спросил детей (по контексту, мы о Леониде Андрееве говорили), кто самый влиятельный вообще скандинавский писатель в России. Конечно, я думал, что они все скажут в один голос, что Ибсен, потому что «Бранд» в Художественном театре с Качаловым, «Пер Гюнт» там же, «Привидения», Нора, «Строитель Сольнес» — это всё культовые вещи. И вдруг один мальчик такой из тех, что всегда сидит на камчатке и басом говорит неожиданные вещи, мрачно произнёс: «Стриндберг!» Ну с какой стати? Что они вообще знают про Стриндберга? Я потом стал уже перечитывать и понял, что для нашего времени и «Fröken Julie» главным образом, и «Красная комната», и в особенности «Соната призраков» — по интонации, по настроению это то самое. И я, когда гляжу на студентов своих, они мне тоже говорят: «Да, Стриндберг, «Исповедь безумца» — это то самое».
Действительно больные времена порождают больные отношения, потому что как раз Стриндберг с его манией ревности… Он совершенно маниакальный писатель! Это, прямо скажем, не большое удовольствие. Но тем не менее он… Помните гениальное стихотворение, женоненавистническое, абсолютно женофобское стихотворение Блока «Женщина» памяти Стриндберга: «О, я изведала все муки…» Вот там стриндберговское отношение к женщине. Странно, что Шаламов (недавно издали в «Лимбусе» замечательную книгу его критики) пеняет Есенину за его женофобство — культ матери при отвращении к женщине, — и совершенно не видит этого у Блока, а ведь у Блока этого очень много. Я даже не буду рассказывать всё это стихотворение. Перечитайте — и вы поймёте. «Женщина, безумная гордячка!» Стриндберг — влиятельный автор.
«Вы не хотите присоединяться к травли Мединского. Это достойно уважения. Но совершённые им поступки достойны осуждения безотносительно прочих соображений. Вы защищаете Мироненко, а ведь за его увольнением стоит Мединский. Да, он что-то пишет, но Гитлер тоже был художником, и неплохим. Неужели это списывает всё, что он совершил?»
Понимаете, когда он наделает того же, что Гитлер, тогда и будем травить. Может быть, попытаемся остановить до этого. Пока мне кажется, что всё-таки Мединский — это не такое зло, чтобы к его травле присоединяться в любой момент. Во мне слишком силён инстинкт — встать поперёк толпы, которая бежит топтать. Тем более что очень многие в этой толпе тоже у меня не вызывают восторга. Понимаете, огромное количество людей смотрит мне в рот и ждёт, когда я в чём-нибудь ошибусь (в дате, в слове, когда я приду не в том костюме), и они дружно начнут это обсасывать, совершенно игнорируя смысл того, о чём я говорю. Я знаю, как это бывает. И я не буду в этом участвовать никогда применительно к другим людям, хотя мне иногда очень хочется. Вот Булгаков не участвовал в травле Киршона — и правильно делал.
Вернёмся через три минуты.
РЕКЛАМА
Д Быков― Поехали! Четвёртая часть. Надо уже нам, по всей видимости, подбираться к лекции о Ефремове. Но прежде чем я её прочту, я всё-таки вынужден уступить соблазну и ответить ещё на несколько писем, потому что уж очень они интересные.
«Как вы считаете, верит ли Путин в Бога? И если да, то в какого?»
По-моему, настолько очевидный ответ, что это делает даже не очень интересным сам вопрос. Конечно, верит. Очень многие, кстати… Почитайте Шаламова. Среди блатных распространена религиозность, когда верят в Бога как в такого главпахана. Среди тоталитарных сообществ и лидеров этих сообществ тоже распространена вера в Бога, поскольку они видят в нём отражение себя. Ну, культы, понимаете, а борьба с культами очень часто оборачивается борьбой с религией, как было при Хрущёве — по-моему, совершенно чудовищная, позорная страница. Мне кажется, что это достаточно распространено.
«Возможен ли Бог без человека?» Не знаю, не пробовал. И вообще мне трудно представить мир без человека.
«Какую роль в нашей будущей жизни будет играть виртуальная реальность?»
Денис, вспомогательную! С радостью вам отвечаю на этот вопрос. Лем в «Солярисе» очень точно и очень проницательно заметил, что все люди, созданные воображением героев, отличались какой-то странной неполнотой. То, что мы помним о людях — это не точные их копии. Люди шире, больше этих возможностей. Виртуальная реальность — это рукотворная реальность, поэтому она всегда, к сожалению, слишком рациональна, чтобы быть убедительной, всегда слишком неполна, всегда слишком двуслойна вместо многослойности или, скажем, двухмерна. Попробуйте вообразить когда-нибудь очень любимого вами человека — и вы убедитесь, что живой этот человек всегда производит гораздо более сложное, более интересное впечатление. Тёплую ванну тоже не всегда можно себе вообразить, мне кажется.
«Ваше мнение о фильме «В прошлом году в Мариенбаде»?»
Вы меня ставите в очень сложное положение. Это одна из любимых картин Набокова и один из любимых текстов, он сценарий считал выдающимся романом, один из любимых фильмов Ахматовой; фильм, который в европейском сознании просто был грандиозным абсолютно, колоссально влиятельным. А я не люблю! Мне скучно его смотреть. И я не понимаю, про что это. И читать я его не могу. И вообще мне кажется, что как-то с жиру бесятся все эти люди. Дело даже в том, что я не понимаю новизны художественного метода. Я и к французскому новому роману отношусь плохо. Натали Саррот — прекрасная женщина, но не могу я её читать! Что хотите, то и делайте.
«Должно ли подлинное искусство быть понятным?» Да никому оно ничего не должно. Оно должно быть эмоционально сильным.
«Поделитесь своим мнением о «Словаре культуры» Руднева».
Руднев — интересный человек, хороший популяризатор. Когда я читаю его работы о «Винни Пухе», я не могу избавиться от неловкости. И вообще мне кажется, что очень многие его толкования произвольны и смешны. Мысль о том, что «лизание горшка с мёдом — это куннилингус», — что хотите, делайте, но это даже не фрейдизм. Но при всём при этом Руднев — очень умный и проницательный человек, примерно такой же умный и проницательный, например, как Эпштейн. По-моему, это фигуры одного плана, одного порядка. Михаила Эпштейна я очень люблю.
«Стоит ли ещё хоть сколько-то жизнь обычного человека, или нас могут в любую секунду отправить в мясорубку мировой истории?» Конечно, стоит. Но это вы же сами определяете, что с вами можно сделать.
«На интервью с Акуниным вы очень уютны — смесь Матроскина и Фрекен Бок. Обожаю обоих!» По-моему, Матроскин и Фрекен Бок — взаимоисключающие понятия. И страшно представить такой коктейль в таком случае, который во мне болтается.
«Какие произведения Серебряного века являются, на ваш взгляд, абсолютным must read?»
«Мелкий бес» Сологуба. Ну, как это в пять текстов вообще уложишь? Я вынужден называть прозу, а Серебряный век — в основном это поэтическое явление. Грина «Крысолов», Цветаевой «Крысолов» — два очень важных текста. Блок — самой собой; второй том лирики — обязательно (а если можете, то и третий). Ну, Белого — я думаю, что «Вторая симфония» или «Серебряный голубь». Скорее «Серебряный голубь». Я солидарен с Майклом Вахтелем, замечательным американским филологом, который считает, что «Серебряный голубь» — лучший роман Серебряного века вообще. «Петербург». От «Петербурга» невозможно оторваться. Другое дело, что я не считаю необходимым его читать. Но «Петербург» в первой редакции — это жутко увлекательный роман!
«Я так и не поняла в прошлый раз, нравится вам Улицкая или нет?» Конечно, нравится. Стал бы я о ней говорить? Она мне интересна — вот это, пожалуй, самое главное. А нравится, не нравится — это уже, как говорится, «спи, моя красавица».
«Как вы относитесь к Вуди Аллену?» Последний фильм «Иррациональный человек» — прекрасный. «Матч-пойнт» я люблю, «Любовь и смерть». Чрезвычайно талантливый человек.
«Что почитать моей бабушке? Ей восемьдесят шесть лет, живёт она с мамой. Бабушка потеряла интерес к жизни, смотрит сериалы. Хочется её порадовать». Вот как раз Улицкую неплохо, по-моему. Ну, почитайте ей… Понимаете, ориентируясь на бабушкины вкусы, трудно мне сказать, что она любит, особенно если она смотрит сериалы. Почитайте ей хороший, большой, насыщенный, напряжённый бытовой роман — например, «Поющие в терновнике» Маккалоу. Это лучше, чем «Тихий Дон».
«Знакомы ли вы с творчеством Ольги Арефьевой?» Не просто знаком, а и с Ольгой Арефьевой знаком, часто слушал её в «Кабаре», совершенно замечательный человек.
«Будете ли вы участвовать в «Тотальном диктанте»?» Да, 16-го, в субботу, я в три часа дня читаю «Тотальный диктант» на Мясницкой, 11, в здании Высшей школы экономики, или как там это называется.
«Что вы можете сказать о творчестве Эрленда Лу?» Ровно ничего. Мне это как-то никогда не было интересно.
«Что вы думаете об использовании полуобсценной лексики в политике и рекламе?» В рекламе и в искусстве это иногда важная языковая краска. В политике это скорее меня отвращает.
Какой бы найти вопрос, чтобы закончить на какой-нибудь безумно оптимистической ноте?
«Как вам нравится идея Мильнера и Хокинга отправить маленькие космические корабли к ближайшей звезде, чтобы сделать её фотографии?»
Все идеи, которые связаны с экспансией человечества, меня восхищают. Экспансия, как и в эпоху географических открытий, всегда вызывает эйфорию. Другая проблема в том, что она не решает ни одной из проблем человечества. Мы вот думали, что мы отправим корабли в космос — и нам станет лучше. Кто бы подумал, что главной проблемой 2016 года будет радикальный фундаментализм с той или другой стороны (или тоталитаризм). Все уже думали, что главная проблема будет — как на Марсе насадить яблони. Оказалось, что человеческая глупость бессмертна. И не только глупость, но и косность. Она важнее космоса.
Ну хорошо, теперь поговорим об Иване Антоновиче Ефремове, тем более что это действительно фигура очень важная для сегодняшнего дня, и я как-то предвижу воскрешение массового интереса к нему.
На мой взгляд, наиболее важный текст Ефремова — это «На краю Ойкумены» — повесть написанная и напечатанная (во что невозможно поверить!) в 1953 году. Это история о том, что было завещание некоего фараона, которое не исполнили, и вместо него пришёл следующий фараон, который стал истощать народ, который везде насадил жрецов, который строил колоссальные пирамиды и довёл до нищеты население Египта. Если история о завещании Ленина и о правлении Сталина вам ничего тем самым не напоминает, то человек 1953 года всё отлично понимал. И то, что Ефремов умудрился это тогда написать — ребята, это, конечно, совершенно грандиозное явление.
Ефремов — выдающийся стилист. Когда он пришёл к уже смертельно больному Алексею Николаевичу Толстому, тот его спросил: «Где научились вы вашему холодному изящному стилю?» На что Ефремов честно ответил, что у Хаггарда, у Буссенара, у Жюль Верна — у великих авторов приключенческих романов. Он действительно пишет очень чисто. Можно, конечно, отметить некоторый избыток пафоса, патетики. Но я ещё раз повторяю, что Ефремов — человек двадцатых годов, воспитанный в двадцатые годы, причём беспризорник бывший; человек, для которого культ знания, культ морали — это всё не пустые слова, он верит в прогресс свято.
И надо вам сказать, что пафос, патетика — это очень часто следствие серьёзного отношения к миру. Я это люблю. К вещам надо относиться серьёзно. И поэтому ефремовская «Туманность Андромеды» (которая, конечно, может отвращать при чтении) меня всё равно восхищает, потому что мне хотелось бы видеть человечество, которое будет относиться серьёзно к вещам. Он писатель, я думаю, в известном смысле повлиявший на Лема. Конечно, Лем глубже, интереснее. Уоттса, автора «Ложной слепоты», называл Успенский «обкурившимся Лемом». Так вот, Лем — это, если угодно, «обкурившийся Ефремов», если можно себе такое представить, ну, скажем, Ефремов, заглянувший в человеческую природу чуть глубже. Но даже с его идеализмом всё равно многие концепции, многие идеи он первым выдвинул.
Я не говорю сейчас об изобразительной силе его прозы, потому что такие рассказы, как «Олгой-Хорхой», — это просто классика русского триллера. Понимаете, ведь очень многие люди всерьёз убеждены, что Олгой-Хорхой существует. Тоже вот хорошая проверка на то, есть ли у вашего ребёнка сила воображения: дайте ему почитать этот рассказ. Там описано существо… даже не существо, а это такое… Ну, там экспедиция в Гоби, в Монголию. Стоят в кругу исследователи, и вдруг монгольский проводник бледнеет и говорит: «Среди нас смерть», — и тут же один падает замертво (самый молодой, как всегда). И на горизонте, вдалеке, ползут две толстые серые то ли кишки, то ли трубы, то ли колбасы (они всегда передвигаются парой), вот это страшное существо, два огромных червя, которые убивают каким-то излучением. Знаменитые марсианские пиявки Стругацких в «Полудне» — это оттуда, конечно. Но как это описано у Ефремова! Мало того, что вы не оторвётесь — вы поверите в реальность этого существа! И оно ещё цвет меняет. Ну, пересказывать не буду, это всё равно надо читать, там действие развивается очень интересно.
Он прекрасный рассказчик, но Ефремов — это прежде всего, конечно, автор новых этических концепций. Он действительно полагает, что гармоничные люди Античности, описанные им в «Таис Афинской» — люди, в которых гармонично было и физическое, и духовное развитие, — утратили это единство, эту целостность, и мир стал разделяться так же, как разделяется мир Торманса. Торманс — это планета, колонизированная землянами довольно давно, в романе «Час Быка». На Тормансе построено общество, которое очень напоминает современную олигархию, а в каком-то смысле оно напоминает, если угодно, мир элоев и морлоков из Уэллса. Там есть долгоживущие и короткоживущие — джи и кжи. Короткоживущие — это те, которых умерщвляют «нежной смертью» (это обслуживающий персонал). А есть долгоживущие — это элита (учёные, техники, мудрецы и так далее). Вот как бороться с этим изначальным неравенством, с этой пропастью? Притом управляют этим всем змееносцы, которые старательно поддерживают… Я сейчас не могу, наверное, это точно воспроизвести, я последний раз этот роман перечитывал лет восемь назад. И когда я принимал сегодня решение о лекции, то я не успел его перечесть. Но в общих чертах: там эта главная героиня, психолог Фай Родис, она как раз борется с тем, что есть пропасть между этими двумя мирами, и эту пропасть старательно поддерживают управляющие этим олигархическим миром.
Как можно стабильный мир Торманса разрушить? Ефремов полагает, что человечество не обязано разделяться на эти две группы и что человечество, как в Эру Встретившихся Рук, может быть единым, что дуализм духовного и физического, этического и эстетического искусственен, что это разделение взаимообусловленных вещей. И можно расколоть любой мир с помощью этого разделения вещей взаимообусловленных (например, свободы и порядка) и поддерживать его в состоянии этого раскола сколь угодно долго. Как русское общество, например, поддерживает в расколе патриотов и либералов, хотя они, как совершенно правильно писал Гоголь в «Выбранных местах», описывают один и тот же дом, только одни — с торца, а другие — с фасада. Действительно это разделение искусственное. И вот эти искусственные разделения Ефремов ненавидит совершенно заслуженно. Он видит человека единой гармонической сущностью.
Я не знаю, религиозен ли Ефремов. Очень много об этом почему-то вопросов, и сейчас они продолжают приходить. Я думаю, что его сознание, безусловно, религиозно — в том смысле, что оно иерархично, что для него существуют абсолютные ценности. Но, разумеется, это не означает, что Ефремов верит в высшее существо. Он верит в осмысленную эволюцию, скажем так. И он полагает, что человеческое общество, пройдя через так называемые Тёмные века, неизбежно придёт к единству. Страшно сказать, но я эту веру разделяю.
Кроме того, один из важных конфликтов в «Туманности Андромеды» — это конфликт закона и таланта. Там есть совершенно гениальный физик (забыл, как его зовут), который умудряется пробить туннель в пространстве и осуществить связи с далёкой планетой. Но для этого, во-первых, нужны энергозатраты, которые на какое-то время обесточат всю Землю. А во-вторых, этот конфликт заканчивается катастрофой, в результате которой сам физик, оплетённый трубками, еле живой, даёт показания на Мировом совете, и чуть не вырубило пробки у всей Земли. Но зато там есть очень мощный ход (всё-таки Ефремов — сильный писатель): на миг, когда эта женщина появилась и поприветствовала их, когда был установлен этот контакт, с этой планеты повеяло какими-то запахами, которых не бывает на Земле. И один этот миг, миг этих запахов — это море, этот оранжевый песок, это какое-то красное море, которое за ней простиралось — это на какую-то секунду было так прекрасно, что ради этого стоило обесточить Землю!
Дихотомия здесь одна, дилемма — это, конечно, порыв таланта и безопасность человечества. Впоследствии эту же дилемму разбирали Стругацкие, и они совершенно однозначно в «Жуке в муравейнике» делают вывод, что любые попытки ограничить человека, ограничить его дух кончаются убийством. Но есть очень многие люди, которые аргументированно считают: а зачем Абалкин пошёл в комнату с эмбрионами? А почему человек имеет право поставить под угрозу жизнь планеты, для того чтобы осуществить свой научный прорыв? Да что такое мышление одного гения по сравнению с безопасностью миллионов? Тоже есть такая точка зрения, и она вполне себе распространена.
Как бы мы ни относились к этому конфликту, он не снят сегодня, потому что сегодня тоже огромное количество людей (конечно, Ефремова не читавших или читавших, но не понявших) утверждает: «Неужели стабильность общества не стоит угнетения, молчания каких-то жалких 13 или 15 процентов?» Строго говоря, количество людей недовольных редко превышает 15 процентов, потому что только эти недовольные и осуществляют прорыв. Но многим представляется, что прорыв — это условия нестабильности, а значит давайте терпеть, чтобы всем было хорошо. И тогда получится цивилизация Торманса, которая обречена оставаться в своих рамках.
Там описан закон, согласно которому цивилизация низкого развития не может выйти в космос, потому что, если она достигнет определённого технического уровня, она этот уровень использует для того, чтобы друг друга мочить, а не для того, чтобы выходить в космос. Это глубокий парадокс, который повлиял, я думаю, и на Теорию Недоступности у Шефнера в «Девушке у обрыва». И вообще Теория Недоступности была в советской фантастике очень интересно осмыслена — те пределы, которые ставит сам себе человек.
Очень много вопросов: что я думаю о «Таис Афинской»? «Таис Афинская» мне кажется из всех романов Ефремова самой неинтересной в смысле стиля, потому что там патетики больше всего. Понимаете, у Ефремова же довольно напряжённый эротизм, что бывает с людьми патетическими и с людьми в закрытых обществах. Все помнят, конечно (а особенно люди, возросшие в советском пуританском обществе), как твёрдые груди героини в «Лезвии бритвы» протирают ткань кофточки в глубокой сибирской деревне, потому что там у всех груди очень твёрдые. Это, конечно, прекрасно! Ну, Ефремов вообще тяготеет к такой статуарности, его идеал — античная статуя. По-моему, в «Таис Афинской» вот эта сцена совокупления на свежевспаханном поле, конечно, грешит некоторым дурновкусием. Но, с другой стороны, хороший вкус гению необязателен.
«Таис Афинская» — это интересный роман об идеальном обществе прошлого, о концепции Александра Македонского, который мечтал соединить военную мощь, учёность, Таис, которая символ прекрасного, символ эстетики. Это такая утраченная утопия человечества. Но мне кажется, что когда человек начинает искать утраченный идеал в прошлом, он в полушаге от оправдания тоталитаризма.
Другое счастье наше в том, что Ефремов всегда умудрялся не делать последние полшага. Для него человек — это действительно лезвие бритвы. И это очень точное, очень стимулирующее, что называется, inspirational, вдохновляющая мысль: нужно в самом себе расчистить это лезвие бритвы и двигаться по нему. Не нужно думать, что человечеству будет легко. Оно должно всё время ходить в шаге от пропасти, прокладывать путь между безднами, потому что путь человечества — это путь между безднами. Человек — это вызов бездне.
В этом смысле, конечно, «Лезвие бритвы» (вероятно, самый популярный его роман, самый масскультовый в каком-то смысле), он очень здорово сделан. И, конечно, эти серые кристаллы, стирающие память, и широчайший географический разброс, и образ Гирина — это врезается в память. Как врезается в память и история об этом водяном раке (номе), вот это страшное заболевание, зловонное, или совершенно потрясающая история этой девушки, которую он спас и которая там купается в росе, чтобы очиститься и ему отдаться. Это всё запоминается очень остро. И сам образ Гирина — один из самых очаровательных. Помните, как он там гипнотизирует врачиху, которая испытывает садическое наслаждение от операций. Это здорово придумано!
Ефремов — это богатый человек, не говоря уже о том, что он выдающийся археолог, создатель палеоантропологии, замечательный эволюционист и так далее. Но это прежде всего ещё и универсально одарённый человек, один из тех удивительных людей, которых породила страшная, но грандиозная эпоха — эпоха великих утопий. И он, безусловно, во многом оправдание этой эпохи. И он мог спасти, я думаю, Россию, если бы дожил до нашего времени и если бы таких было много.
Услышимся через неделю.
*****************************************************
21 апреля 2016
-echo/
Д. Быков― Здравствуйте, дорогие друзья! Поскольку я завтра лечу в Ригу читать лекцию, мы подменились с дружелюбными коллегами, поэтому сегодня мы с вами проводим три часа. Сочувствую вам, завидую себе.
Что у нас сегодня? Во-первых, весь час я не собираюсь вас мучить, потому что в Москве случился чрезвычайно любимый мною человек — Андрей Лазарчук. По-моему, выдающийся писатель, один из тех людей, кто меня героически втащил в литературу довольно давно уже, потому что, когда я был ещё мало кому известным поэтом (сейчас я всё-таки кому-то известен, благодаря вам), они с Михаилом Успенским предложили мне написать стихи для романа «Посмотри в глаза чудовищ». Я прочёл за две ночи эту книгу, тогда ещё принесённую мне в рукописи, она меня потрясла — и я, конечно, согласился и отдал Гумилёву несколько наиболее любимых своих стихов. И потом, Лазарчук вообще стал давно уже для меня одним (не побоюсь этого слова) из очень важных авторитетов, одним из любимых авторов не только фантастики, но и фэнтези (вспоминаю я «Транквилиум»), но и публицистики. И вообще это один из любимых мною людей, несмотря на все наши разногласия. Так что готовьте на второй час (он полчаса здесь пробудет перед отъездом в Питер) вопросы для Андрея Лазарчука — автора романов «Опоздавшие к лету», уже упомянутого «Транквилиума», «Кесаревны Отрады между славой и смертью» (вообще долго можно перечислять) и, конечно, знаменитой трилогии, вместе с Михаилом Успенским написанной, «Посмотри в глаза чудовищ», «Гиперборейская чума» и «Марш Экклезиастов».
Что касается лекции. Поступило феерическое количество заявок на лекцию про Сашу Чёрного, Аверченко, Тэффи. Откуда такой бум на сатириконцев, я даже понимаю. Они были многажды упомянуты в лекциях и в наших разговорах последнего времени, и меня просят как-то это расширить. По возможности я сегодня про Сашу Чёрного расскажу в последнем часе.
А сейчас начинаю отвечать на ваши вопросы, которых очень много. Спасибо вам большое за вашу активность, за доброжелательный тон и за интересные и по-настоящему спорные имена, которые вы упоминаете.
«Не могли бы назвать лучшие, по вашему мнению, романы Стивена Кинга?»
Если говорить не о том, который я рекомендую для детского чтения (а я уже говорил, что я рекомендую начать с «Мёртвой зоны»), а о тех, которые я считаю объективно лучшими, то в порядке убывания: «Мизери», «Мёртвая зона», «Воспламеняющая взглядом», «Сияние» (он же «Сияющий», по-разному его переводят), «Воскресение» [«Возрождение», «Revival»] (так я перевожу предпоследний роман, мне так больше нравится). И в конце этого списка я всё-таки назвал бы «The Stand», который проще перевести, наверное, как «Противостояние», хотя есть вариант «Армагеддон». Это не значит, что мне не нравятся «Кэрри» или «Салимов Удел» [«Salem’s Lot», «Жребий»], но я называю вещи наиболее мною любимые. И потом, ностальгически мне, конечно, очень нравится «Insomnia» — ну, «Бессонница» (она иначе на самом деле называется), потому что, знаете, это первый роман Кинга, который я купил в Америке, и единственная книга, на которой у меня автограф. Вот это мне чрезвычайно приятно.
«Не скажете ли вы пару слов о взаимоотношениях Бродского и Евтушенко? История о колхозах всем известна благодаря Довлатову, а хочется более глубокого взгляда. Всё-таки полярные авторы, словно поэтические «орёл» и «решка».
Нет, они не полярные авторы. На самом деле Бродскому полярны другие. Бродскому полярен Высоцкий, как мне кажется. Это такая волшебная пара, продолжающая отношения Маяковского и Есенина, продолжающая внутренний конфликт Некрасова. О Бродском, о Некрасове, о Маяковском и Высоцком я буду говорить довольно много в лекции 25-го числа в Питере. Приходите. Насколько я знаю, она распродана (она будет в отеле «Indigo» на Чайковского), но существует, как вы знаете, волшебное слово «Один». Приходите — мы что-нибудь придумаем.
Что касается отношений Бродского и Евтушенко. Евгений Александрович жив-здоров, и поэтому объективного анализа здесь быть не может. Пока поэт жив, его путь не закончен. Путь Бродского уже закончен. Бродский ошибочно легко присвоен многими людьми, которые причисляют себя к так называемому Русскому миру, и это присвоение наглое, это что-то вроде аннексии. Я думаю, что с этим история разберётся. Объективно оценивать Бродского невозможно, потому что для каждого из нас он интимный друг и собеседник, он высказывает очень много вещей, которые мы и наедине с собой проговариваем неохотно.
В чём их полярность? Мне кажется, в том, что Евтушенко очень ориентирован на современность, а Бродский — на вечность. Какая стратегия выигрышнее — я не могу сказать, потому что иногда современность живее. Иногда заблуждающийся, пристрастный, многословный, неловкий Евтушенко кажется мне живее и понятнее Бродского. Говорить, что у Евтушенко гораздо больше плохих стихов? Ну, это очевидно, что их много. Если бы у Евтушенко собрать сборник, который состоял бы из лучших текстов, это был бы очень сильный сборник. А если бы от Евтушенко осталось только четыре строчки:
Сосед учёный Галилея
был Галилея не глупее.
Он знал, что вертится земля,
но у него была семья.
Вот если бы остались только эти четыре строчки, Евтушенко вошёл бы в мировую историю как гений. Ну, ничего поделаешь.
Он много написал, это многописание имело свои издержки, но тем не менее он выполнял ныне уже невидимую, но тогда очень важную работу: своим присутствием он всё-таки количество кислорода в атмосфере увеличивал. А кислорода слишком много не бывает. Ну, бывает, конечно, возможно кислородное отравление, но в той атмосфере его наличие было очень важное. Я это говорю потому, что он был моим любимым поэтом очень долго. Наверное, лет так с пятнадцати, когда я прочёл «Северную надбавку», которая показалась мне замечательным примером поэтического нарратива, я читал у него всё, до чего мог дотянуться.
Там было много лишнего. Знаете, даже из «Братской ГЭС», которая, по-моему, самое циклопическое и самое несообразное его сооружение, можно отобрать три-четыре превосходные главы. Есть они и в «Казанском университете», есть они и даже в поэме «Под кожей статуи Свободы». Кое-что из его стихов запоминается. Несколько его стихов, безусловно, останутся (я думаю, что не меньше двух десятков) в золотом фонде русской поэзии. Там будет «Монолог голубого песца» — одно из самых важных стихотворений шестидесятых годов, просто из самых важных, колоссально опередивших своё время; «Серебряный бор» («Любимая, сегодня, завтра, вечно я жду тебя в Серебряном бору»); «Любимая, спи!»; «А собственно, кто ты такая?».
Понимаете, когда Евтушенко злой, когда он ненавидит, он сильнее, чем когда он любит, признаётся в любви, потому что у него есть некоторый налёт слащавости в любовной лирике. Но там, где эта лирика переходит в такую ненависть или по крайней мере в некоторую озадаченность, там он очень силён. «Как стыдно одному ходить в кинотеатры…» — это золотые слова. Да и вообще он поэт настоящий.
Как бы мы ни относились к тому, что он пишет сейчас… «До тридцати — поэтом быть почётно, // И срам кромешный — после тридцати», — писал его учитель Межиров, который, кстати, в старости писал лучше, чем в юности (это редкое явление). Что бы он ни писал сейчас, он уже в истории. И некоторые его стихи — действительно классические — они вполне выдерживают сопоставление с Бродским, потому что, наоборот, издержки метода Бродского с годами становятся всё более очевидными. Установка на нейтральность, холод, мрамор, высокомерие, перечисления, «дефиниции вместо метафор», как писал Новиков, — это всё есть. Вместе с тем я абсолютно уверен, что не меньше сотни стихотворений Бродского тоже есть в золотом фонде русской поэзии.
Есть определённая мерзость в том, чтобы мёртвого и канонизированного Бродского всё время противопоставлять живому и ошибающемуся Евтушенко. Безусловно, Евтушенко совершал иногда поступки, которые у меня восторга не вызывают. Он писал иногда тексты, которые критики не выдерживают. Но письмо Бродского, в котором он призывает не включать Евтушенко в почётные доктора некоторого университета, — это письмо тоже не может быть причислено к высоким моральным поступкам. Точно так же и отношения Бродского с Аксёновым тоже не выдерживают серьёзной критики. Но мы судим сейчас не поступки, мы судим тексты. Так вот, тексты Евтушенко при всех несовершенствах отдельных его сочинений, в истории уже есть.
Я понимаю, сколько сейчас начнётся злобы и разговоров о том, что у Евтушенко много газетчины, что я со своей газетчиной тоже с этих же позиций его оправдываю. Понимаете, ребята, вы лучше не тратьте желчи на это, потому что ваши гадости меня совершенно не уязвят. Скажите это тому, кого это действительно беспокоит. Я слишком хорошо понимаю, что я умею и чего не умею, чтобы ещё мне обращать внимание на чьи-то вопли.
«Несколько передач тому назад, отвечая на вопрос о чернушниках типа Шендеровича и Балабанова, — «чернушниках», милый Саша, здесь надо ставить в кавычки, — вы изволили выдать два перла, — я ценю вашу иронию. — «У художника должно всё болеть», — я не говорил, что у него всё должно болеть, у него должно болеть чувство справедливости. — «Психрасстройство — это когда кто-то, видя, как насилуют ребёнка, начинает рассуждать…». Теперь, если можно, без передёргиваний…» А кто передёргивает тут? Саша, ну что вы, я не знаю? Давайте учиться уважительно разговаривать друг с другом! Я вам не сват, не брат, не кум. Я знаменитый человек. Давайте осторожно. Как вы понимаете, я иронизирую. «…Без передёргиваний и скатывания на тему «а почему шендеровичей и балабановых вы пишете через запятую с маленькой буквы?». Нет, я не буду отказываться от этой темы. Вы не имеете права писать их с маленькой буквы. Я же вас произношу с большой — Александр Коняев — с двух больших букв. А что же вы Шендеровича и Балабанова с маленькой? К тому же Балабанов уже умер, а Шендерович старше вас.
«Попробуйте возразить на два тезиса. «Всё должно болеть не у художника, а у дебила, который полез чистить крышу без страховки и, как следствие, с неё брякнулся». Я не могу возразить на этот тезис. Это не тезис. Второе: «Хомо Сапиенс, который, увидев, как насилуют ребёнка, начинает бегать вокруг насильника с видеокамерой, чтобы всем показать «правду жизни», — скотина хуже насильника».
Нет, не хуже насильника. Если он не может в настоящий момент остановить процесс, а может его только запечатлевать, то пусть запечатлевает. Хотя, конечно, лучше вмешаться. У меня есть ощущение, что Шендерович вмешивается. Под насилием над ребёнком я понимаю духовное растление, которого мы сегодня насмотрелись очень много, понимаю открытую ложь, понимаю насилие над людьми, которые не могут возразить, над оппозицией, у которой не оставлено никаких прав, над гражданами, у которых нет никаких перспектив. Что здесь можно сделать? Вы к чему призываете собственно, к какому сопротивлению? К экстремизму, что ли, вы призываете, к выходу на улицу с гранатой? Ну так не надо к этому призывать. Вам господин Бастрыкин уже разъяснил, что такое экстремизм. Бывают времена, когда фиксация событий остаётся единственно возможной на них реакцией. Конечно, надо протестовать, разумеется! Но вы же не занимаетесь самосожжением — зачем же вы других к этому призываете?
«В одной из передач вы сказали, что кто-то из ваших учеников должен был прочитать лекцию о Викторе Франкле. Надеюсь, что я ничего не перепутала. И хотелось бы узнать, состоялась ли лекция и как она прошла. А ещё прослушать её или почитать. Спасибо».
Nicoletta, и вам спасибо. О Франкле будет лекция Лизы Верещагиной в июне месяце. А что касается ближайших лекций моих учеников, то, если мне не изменяет память, 23 мая в «Прямой речи», в нашем лектории (на сайте pryamaya.ru можете посмотреть), Костя Ярославский будет рассказывать про Ницше. Отличительная особенность Ярославского та, что я не всё у него понимаю. Но как писал, кажется, Аристотель: «Если то, что я понял, так прекрасно, то как же прекрасно то, чего я не понял!» Будем исходить из этого. Ярославский интересные вещи говорит. И я вообще его очень люблю.
«Дмитрий Львович, доброй ночи! — вам также доброй ночи. — Хочу спросить ваше мнение относительно известной истории: когда вручали почётный «Оскар» 90-летнему Элиа Казану, знаменитому постановщику «В порту» и «Америка, Америка», чья легендарная кинобиография была испорчена доносом на бывших соратников… — да, действительно был у него такой эпизод. — Во время церемонии 1999 года Голливуд разделился на два лагеря: одни аплодировали, а другие демонстрировали презрение к мастеру. Вопрос заключается в следующем: что делали бы вы, и должно ли доносительство перечёркивать художественные заслуги большого Автора?»
Чёрт, хороший вопрос, конечно! Андрюша, хороший вопрос! Я вам расскажу эпизод. Когда Лени Рифеншталь приехала в Ленинград и когда Андрюша Шемякин (привет тебе, Шем!) высадил мною дверь, чтобы мы попали на её пресс-конференцию… А Шемякин вообще очень здоровый такой. Он меня поднял — и мною продавил толпу! В результате я сидел непосредственно перед Лени Рифеншталь. Во время её трёхчасовой пресс-конференции эта 99-летняя женщина многим показала пример самообладания. Как сейчас помню, я ей задал вопрос о сравнении Ленина и Гитлера, как бы она их сравнила, — на что она сказала: «Ну что вы? Адольф был гораздо более романтичен». Вот это мне здорово понравилось! Ну, насколько я помню.
Так вот, что касается её тогдашнего появления. Там шла «Олимпия», и она вышла на сцену к огромному, тоже переполненному залу ровно в тот момент, когда Гитлер там появлялся на стадионе. Весь зал встал, её приветствуя. Сидеть осталось человек пять, и в их числе я. Понимаете, с одной стороны, мне… Ну как? Я взял у неё автограф, я задавал ей вопрос, я для того, чтобы её увидеть, приехал в Питер на фестиваль «Послание к человеку», эта женщина была мне интересна. Тем не менее, я не встал при её появлении, потому что ряд вещей в её биографии меня смущает чрезвычайно сильно. Человек, снявший «Триумф воли», даже если эта картина эстетически прекрасна (хотя, по-моему, она чрезвычайно занудна), может рассчитывать на мой интерес, но на отдание мною воинской чести он рассчитывать не может.
Что касается Казана. Там история довольно тёмная. Тогда доносительствовали многие. Тогда коммунизм многим казался ещё более грозной опасностью, чем фашизм. Я не считаю правильным доносить даже на людей, чья программа, чьи убеждения расходятся с моими. А вот Оруэлл (мне тут прислали всякие тексты) считал правильно, и он предупреждал о коммунистической опасности и перечислял конкретные имена. Это не был маккартизм, а это были его английские публикации, но тем не менее они носили доносительский характер.
Я бы доносить не стал, но Казану я бы поаплодировал. Ну как вам сказать? Всё-таки это не фашизм. Да, пожалуй, я бы его поприветствовал — и даже не за фильм «Трамвай «Желание», и не за его художественные достижения, а за то, что человек прожил 90 лет в таком веке. Причём Казан, в отличие от Лени Рифеншталь, никогда спонсорством правительства, поддержкой правительства, идеологической защитой правительства не пользовался. Он же не был художником при Маккарти, как и не был художником при Гитлере, разумеется, а Лени Рифеншталь была. Поэтому Казану я бы поаплодировал, хотя — ещё раз вам говорю — я категорически против любого доносительства.
И когда мои бывшие украинские друзья, которые заняли позицию антимайданную, пишут в московских изданиях: «Как смеет Быков работать преподавателем? Чему научит такой преподаватель?»… У меня с ними не идеологические расхождения. У меня моральные расхождения с людьми, которые много меня знали, много со мной дружили, много меня хвалили, пользовались моими какими-то рекомендациями и похвалами, а теперь пытаются отнять у меня работу. Вот эти люди поступают мерзко, эти люди поступают подло, вне зависимости от их убеждений. Они очень обижаются на такие слова. Слушайте, ведь на обиженных, вы знаете, воду возят. Если так жить, чтобы никого не обидеть, так что же?
Я ещё не могу не сказать вот о чём. Есть очень интересный текст Игоря Волгина (это глава из его книги «Последний год Достоевского»), который называется «Христос у магазина Дациаро». Я вам это рекомендую, как и рекомендую вообще читать Волгина, потому что он спокойный и взвешенный человек и потому что наши с ним идейные расхождения не мешают мне его любить и высоко чтить. Как не мешают и с Лазарчуком, например, — тоже человеком безупречной порядочности. Тут уже пришло 20 вопросов Лазарчуку. Лазарчук, торопись! Тебя хотят слышать!
Так вот, что я могу сказать об этой главе? Там разговор Достоевского со Страховым [здесь и далее — Суворин]. Достоевский сидит после очередного припадка. У него не было эпилепсии, как теперь установлено. Ну, был припадок, такая кратковременная потеря сознания. И вот он сидит весь красный, как после бани. Входит Страхов, и ему Достоевский говорит: «Знаете, я вообразил: вот стоим мы с вами на Невском у магазина Дациаро, и вдруг рядом с нами останавливается террорист и говорит: «Через десять минут Зимний дворец взлетит на воздух». Вы пойдёте в полицию?» Страхов говорит: «Нет». Достоевский говорит: «И я не пойду. Почему? Ведь это ужас». — «Что же, это мы с вами боимся осуждения либеральной общественности?» — «Нет. Но почему-то не пойдём».
Вот какой-то нравственный… Во мне тоже это сидит: «Что, я боюсь осуждения либеральной или патриотической общественности?» Нет! Какой-то мой тайный рефлекс противостоит доносу. Хотя, если бы я услышал такой разговор, наверное, я побежал бы в полицию. Правда, в наше время меня уже могло бы остановить то, что в условиях российской полиции первым арестуют того, кто сообщил, потому что ловить причастных им будет некогда, а они будут ловить экстремистов от прессы. Но, наверное, я бы всё-таки пошёл и донёс. Вот в этой ситуации — да. В других — нет.
«Есть ли надежда, что вы приедете в Армавир, Краснодар или Ставрополь с лекцией?»
Конечно, есть! Господи, обращайтесь на «Прямую речь», заказывайте лекцию. Я был в Армавире много раз, был в Таганроге дважды с лекциями, в Ростове трижды. Зовите, пожалуйста, и с концертами. Всегда пожалуйста.
«Если бы Володин попросил вас выбрать один из следующих вариантов действий Кремля, на каком бы вы остановились?»
Понимаете, nata, я не буду даже перечислять эти варианты. Всё-таки я стараюсь рассматривать только реальные ситуации. Ситуация, при которой Володин или кто-нибудь из Володиных спрашивает меня о чём-либо, абсолютно исключена. Давайте всё-таки исходить из реальности.
«Что вы думаете про конкурс музыкантов, чтобы они играли в метро?»
Это не новая идея, Оля. Эта идея высказана ещё Валерием Комиссаровым, когда он учредил сводный оркестр Московского метрополитена. Прекрасная идея! К сожалению, сейчас почти нет музыкантов, играющих в метро. Я в метро-то регулярно езжу как человек простой. Машину в центре сейчас поди запаркуй. Хотя сегодня я как раз на верных «Жигулях», но обычно это трудно. Я в метро езжу и музыкантов слышу редко. А вот в подземном переходе здесь у нас на Арбате замечательный гитарист играет. Теперь уже сводный оркестр подземных переходов был бы уместен.
«Не могли бы вы уделить несколько минут обзору творчества Льва Гумилёва, — была уже лекция про Гумилёва, — Бердяева и Чаадаева?»
О Чаадаеве — ради бога. О Бердяеве я не решусь говорить, потому что мне не близок Бердяев. Я люблю его некоторые тексты, я его уважаю, но для меня он слишком публицист. Как вам сказать? Я очень люблю его полемику с Ильиным. Вот если хотите, про полемику Бердяева с Ильиным я готов поговорить.
Понимаете, было в истории российской философии три принципиальных полемики в XX веке, мне так кажется, три важных: полемика Мережковского и Розанова по вопросу о Свинье-Матушке; полемика Бурдяева… Бердяева (Бурдяев — хорошее слово) и Ильина по вопросу о противлении злу силой; и полемика Сахарова и Солженицына в семидесятые годы по вопросу о смирении и самоограничении. Вот эти три полемики и определяют XX век для меня. Если хотите, я поговорю про все три, но, конечно, самая интересная для меня — это Мережковский и Розанов, потому что я люблю Мережковского. Если хотите, про Бердяева и Ильина — пожалуйста, пришлите отдельное письмо. Про Чаадаева? Вы знаете, я вам могу порекомендовать замечательную книгу Гжегожа Пшебинды о Чаадаеве, она вышла по-польски, очень высоко её оценил Иоанн Павел II. Выходила она, насколько я знаю, и по-русски. В общем, найдите. Всё, что Пшебинда писал о Чаадаеве, — по-моему, это наиболее интересно.
«С интересом читаю «Бегущую с волками» Клариссы Пинколы Эстес. Что вы думаете об этом тексте?» К сожалению, ничего не думаю, не читал. Но теперь прочту.
«Кого в русской литературе и публицистике [XX века] по уму и таланту вы видите реинкарнацией западника Петра Чаадаева?»
Ну какой же он западник? Понимаете, Чаадаев как раз возник до разделения на западничество и славянофильство. Один очень талантливый поэт (не буду сейчас его называть) сказал, что настоящий рай в русской культуре был до этого разделения, потому что вот тогда её цельность была изумительной. Чаадаев не западник и не славянофил, и уж, конечно, не русофоб. Чаадаев, наоборот, абсолютно уверен, что Россия поразит мир, если она по-настоящему проникнется христианством.
Другое дело, что Чаадаеву симпатичнее католичество, он лучше знает католичество. Но то, что он видит ослепительное будущее России… Ведь понимаете, из «Философических писем» читают обычно первое. А вы попробуйте прочитать ещё семь (там их восемь же, насколько я помню) — и тогда вы увидите совершенно другие вещи. «Философические письма» — это глубоко русофильский текст. Его первое письмо — это констатация современного тогда состояния России, а остальные семь — это программа её религиозного просвещения.
Кого я вижу преемником Чаадаева, ну, инкарнацией, в моей терминологии? Мне трудно такого персонажа назвать — наверное, потому, что такого персонажа… ну, не то чтобы не было, конечно, он был, но его не было видно в силу разных обстоятельств. Вы знаете, что русская философия — и особенно философия религиозная — в тридцатые годы XX века практически не существовала. Но мне представляется, что по темпераменту ему близок Флоренский (и по прозрениям своим замечательным, и по своему отношению к России). Мне кажется, что даже стилистические какие-то сходства есть в «Философических письмах» и в «Столпе и утверждении истины». Но это опять-таки к Лизе Верещагиной, которая у нас по Флоренскому главный эксперт в нашей компании. Я не знаю. У неё, кстати, была очень интересная лекция — может быть, несколько слишком идиллическая, но там полемика была страшная после неё. Не знаю. Может быть, Флоренский. В любом случае Чаадаев не западник — вот что я хочу подчеркнуть. Чаадаев — это глубочайший русофил. Просто само это разделение — во многом вредное и во многом губительное — не успело его коснуться.
«В чём, по-вашему, заключается мрачная логика войны в контексте развития цивилизации, когда массово, первыми идя в бой, не прячась в тылу, погибает цвет нации — самые смелые, отважные, совестливые, честные?»
Дорогой proshal, мне кажется, что в вашем вопросе есть некоторая подмена, потому что вы погибших объявляете лучшими. Это немного несправедливо по отношению к живым. А в чём вообще логика войны? Ну, это вопрос дискуссии Пьера Безухова со стариком Болконским, который всё время Пьеру доказывает: «Кровь вылей, воду влей — и тогда войны не будет», — а Пьер говорит: «Фатальность, неизбежность войны — это иллюзия».
Я могу вам сказать, в чём логика войны. Война возникает не потому, что это «дело молодых, лекарство против морщин», и не потому, что воевать необходимо, и не потому, что варварство прекрасно. Сейчас много людей, которые это утверждают. Эти люди подонки в общем, потому что они доказывают пользу убийства. Война возникает как божья кара, когда люди забывают простейшие вещи, когда надо им об этих простейших вещах напомнить, а другого способа нет. Невроз тридцатых с чудовищной потерей лица всеми, с чудовищной ложью не мог ничем разрешиться, кроме войны. Невроз семидесятых в России — тоже была попытка разрешить его Афганской войной. Когда слишком долго люди теряют лицо, они могут его выправить только таким ужасным способом.
Вернёмся через три минуты.
РЕКЛАМА
Д. Быков― Продолжаем разговор. Дмитрий Быков в программе «Один».
Я продолжу тему насчёт войны. Понимаете, вовсе не так, что гибнут первыми лучшие. И вообще этот культ смерти мне не очень понятен. Но причины войны, механизм войны… Война, конечно, нужна живым, выжившим, чтобы они научились что-то понимать. Война нужна стране, которая забывает о приличиях. Ужасно это звучит, но если нет другого способа об этом напомнить, Бог устраивает вот такую встряску.
Интересные пролегомены к этой теме, интересные подступы к ней содержатся в романе Марины и Серёжи Дяченко (моих двух, по-моему, выдающихся друзей) «Армагед-дом». Это спорный роман, очень полемический. Я знаю разные отношения к нему, и я знаю людей, которые считают эту книгу крайне вредной и опасной. Ну, она неоднозначная, она непростая, она вообще довольно жестокая. Но я считаю, что в числе великих романов Дяченко, в числе тех романов, которые останутся в истории в любом случае, помимо «Vita Nostra», помимо… Сейчас, я забыл, как он называется-то, господи. Про то, как человек притягивает людей, как невозможно без него обходиться [«Долина Совести»]. Я вспомню сейчас. В общем, у них там, по-моему, неудачное название. Но вот «Армагед-дом» — это из тех романов, которые дают очень точный ответ о причинах русского цикла, о причинах цикличности российской истории и о причинах войн тоже. Так что я вам очень рекомендую эту книгу. По-моему, она выдающаяся. Мне очень жалко, что Дяченко сейчас реже публикуют прозу, а больше занимаются кинематографом.
«Недавно с интересом прочитала рецензию в «Новой Цюрихской Газете» на роман Лебедева «Предел забвения». Что вы думаете о творчестве этого писателя?»
В общем, я не очень много о нём думаю. Мне нравится гораздо больше его публицистика, которая печаталась в газете «Первое сентября». Что касается «Предела забвения» и его продолжения — «Года кометы». Я не могу сказать, что я читал эти книги. Я их просматривал. Мне показалось, что в них удивительные прозрения и точные мысли соседствуют с довольно претенциозными, многословными и довольно самоочевидными по смыслу фрагментами. То есть это такое философствование там, где автор мог бы, по-моему, гораздо увлекательнее и больше рассказать. И я вообще с большим трудом воспринимаю тексты, которые построены, как собственная духовная автобиография, — в диапазоне от «Самопознания» Бердяева и кончая автобиографическими и философскими сочинениями наших современников… Ну, не буду их называть. Мне всегда кажется, что как-то описывать свою духовную эволюцию, пока ты ещё не открыл, допустим, Теорию относительности — по-моему, это немножко неадекватно. Ну, я не знаю, кончая «Закатилось зёрнышко меж двух жерновов» [Солженицын]. Но при всём при этом, конечно, Лебедев — очень талантливый человек. А вот «Новая Цюрихская Газета» — не знал такую газету. Буду знать.
«Спасибо за лекцию о Ефремове! — и вам спасибо. — В романе «Туманность Андромеды» «слишком много коммунизма», но ведь это прорыв, открытие новых рубежей. Особого уважения заслуживает его выступление в защиту Стругацких, — да, действительно. — Как вы относитесь к идее Ефремова об обязательной антропоцентричности разумной жизни во Вселенной?»
Понимаете, я не могу здесь спорить с Ефремовым, поскольку антропологию он знал лучше меня. Больше вам скажу: палеоантропологию, происхождение человека он вообще как науку создал. Например, Лем уверен, что антропоцентричность — это глупо, что человек — это частный случай, что другие формы жизни нам будут принципиально не понятны. Здесь он как-то солидарен с Борхесом, который полагает, что мы не только не поймём другое существо, а что мы даже не сможем представить, зачем такая мебель в его доме. Кстати, это интересное упражнение у Борхеса — представить мебель в доме инопланетного существа. Оно же, наверное, перетекает. Может, оно — гигантская гусеница. А может, оно отдыхает не на диване, а на чём-то подвесном. Вот неантропоцентричность Лема — это такой холодный мир, в котором всё возможно; мир, в котором никто не увидит квинтян или увидит их в момент смерти. Кто читал «Фиаско», тот меня понял. Я в этом смысле более оптимистичен. Мне приятно думать, что антропный мир, антропный принцип — это реально; что мир задуман таким, чтобы его мог понять человек. Мне это приятно, поэтому я думаю так. Как сказала когда-то Надя Рушева: «Я никого не заставляю думать, как я».
«Третий раз задаю вопрос, — Наташа, пожалуйста. — Неужели ни советская, ни современная литература не касались темы лишнего человека? Конфликт с обществом, конфликт сердца и рассудка остались, а таких людей, как Онегин, Печорин и славные герои XIX века, больше в литературе нет? Кроме Григория Мелехова, и то с натяжкой, на ум никто не приходит».
Наташа, я только что приехал с лекции по Рязанову («Рязанов и русская литература»), где рассматривал эволюцию у Рязанова — всё-таки очень литературного режиссёра — трёх тем: тема человека государственного (это Мерзляев, например, или гэбист из «Предсказания»), тема человека маленького (это Лукашин, например, Новосельцев) и тема человека лишнего, сверхчеловека, если угодно. Дело в том, что тема лишнего человека в российской литературе очень быстро начала эволюционировать (обратите на это внимание) в тему сверхчеловека. Онегин — классический лишний человек, и, в общем, он ничтожество. Пушкин и относится к нему, как к ничтожеству, и весь роман — это акт мести Александру Раевскому.
Я помню, кстати, какой прекрасный доклад Дашка Ливанова, моя студентка, делала… Фу! Не Дашка, а Ксения. Ксения Ливанова делала доклад на нашем семинаре в МГИМО про этого лишнего человека и про Раевского. Какой он был увлекательный и как там чувствовалось её увлечение Раевским! Раевский — действительно такая личность, которая может вызвать восторг, но всё-таки стихотворение «Коварность» никто не отменял. Понимаете, Раевский — фигура довольно противная, демоническая, но противная, вот ничего не сделаешь. И статья Цевловской «Храни меня, мой талисман» добавляет нам много интересных фактов к этому моменту.
Онегин — лишний человек. А следующие русские «байрониты», как называл их Аксёнов, — это, конечно, в первую очередь Печорин, это Рудин отчасти, это безусловно разнообразные Рахметовы и Базаровы. То есть лишний человек двадцатых-тридцатых годов, лишний человек николаевской эпохи становится сверхчеловеком эпохи реформ, сверхчеловеком эпохи александровской. Очень важный извод этой темы — это Долохов, например.
Так что я не понимаю, почему вы лишних людей называете любимыми. Я байронитов не люблю. Я считаю их людьми бесчеловечными, их презрение к ближним ни на чём не основанное. Писарев очень интересно разоблачает этого героя, кстати, в статье об Онегине: с чего бы у него такое самомнение? Только с того, что он объелся пудинга? Как он пишет: «…что, тем не менее, не зависит от его теоретических понятий о пудинге». Я не понимаю, почему мы должны лишнего человека любить.
И, конечно, мне представляется, что эволюция этого типа, эволюция сначала его в блестящего барина Паратова (это произошло уже в XIX веке), а потом в такого сверхчеловечка фон Корена (другой тип, но тоже всё время презирающий людей), вот эта эволюция, идущая по разным ветка, но неизбежно приводящая к деградации, мне не симпатична. Лишний человек — это почти всегда человек, презирающий остальных и уверенный в своей исключительности (ну, Байрон и его герои). Мне это неприятно.
Другое дело, что Владимир Гусев (кстати, неплохой литературный критик), считал вариантом лишнего человека, например, доктора Живаго. И у него (Гусева) было своё довольно интересное определение лишнего человека, он говорил: «Лишним человеком в любую эпоху называется человек, соотносящий себя с вневременными этическими принципами», — то есть это принципы, которые не адекватны данному моменту, которые не меняются вместе с данным моментом. И в таком смысле лишний человек — и русские эзотерики в диапазоне от Андреева, например, до Гумилёва (я считаю его эзотериком тем не менее, его само учение эзотерично, по-моему, по своей природе). В этом плане и доктор Живаго — лишний человек. В этом плане и почти все герои эмигрантской литературы, например, Газданова, — это лишние люди. Это люди, которые отказываются косить под текущий момент и приспосабливаться к нему. В этом смысле я с вами готов согласиться. В этом смысле лишний человек очень привлекателен.
«Посоветуйте книги для изучения английского языка».
Только Уайльд и Киплинг — вот где правильный, классически чистый и понятный язык. После этого можно переходить к некоторым главам из «Улисса» для изучения разговорного языка, потому что, как совершенно правильно замечал академик Лихачёв, Царствие ему небесное, настоящая стихия английского языка (именно стихия, вольность, именно роскошь его употребления) может быть только в «Улиссе». И я с этим совершенно согласен.
«Как вам «Князь» Богомолова?»
Много почему-то вопросов об этом. Я его не видел. Я видел другие спектакли Богомолова. Что я могу сказать об этой полемике вокруг Минкина, Богомолова и Лариной? Я считаю, что спектакли Богомолова — это что-то глубоко мне чуждое и глубоко неприятное. Статья Минкина, при всём уважении к нему, мне глубоко чужда и неприятна. Отклик Лариной мне глубоко чужд и неприятен. Ужас современной ситуации в том, что плохое противостоит худшему. Я не видел ещё спектакля «Князь», и вряд ли я пойду его смотреть. Вы очень настаиваете, вам интересно моё мнение. Не думаю, что оно вам интересно. Я не театрал и не театровед. В кино я понимаю больше, в литературе — ещё больше. И, судя по тому, что я прочёл об этом спектакле, мне это не будет интересно.
Но даже сейчас — вне контекста этого спектакля — я вам хочу сказать: люди, которые являются апологетами «Pussy Riot» мне не близки; люди, которые осуждают «Pussy Riot», мне не близки. Всё это мне напоминает классический анекдот: «За что вы сидите?» — «Я сказал, что Рабинович — враг народа». — «А вы за что?» — «А я сказал, что Рабинович — не враг народа». — «А вы за что?» — «А бог его знает. Я — Рабинович». Понимаете, все участники этой полемики мне одинаково неприятны в данном контексте, независимо от того, какие они есть. Точно так же неприятна сама эта ситуация, когда авангардный спектакль получает политическую интерпретацию. Вот это всё мне не нравится. И не нравится мне тон большинства нынешних полемик.
Но должен сказать, что сейчас действительно ситуация такова, что очень трудно сохранить лицо, очень трудно сохранить правильный тон. Больное время, понимаете, а в больные времена не может быть здоровой культуры, каких-то здоровых проявлений. Мне часто приходилось говорить, что проблемы, которые ставятся, например, в прозе такого морального беспокойства — в прозе Тендрякова семидесятых годов, — они не имеют разрешения, потому что это проблемы больного общества. В атеистических координатах они неразрешимы, а никакие религиозные координаты в этом мире невозможны. Поэтому что говорить? Это «может ли Бог создать камень, который он не может поднять?» и так далее.
«Почему в вашем списке 100 книг нет ни Фейхтвангера, ни Голсуорси?»
Слушайте, потому что это список достаточно субъективный. Потому же, почему там нет и Клейста, например, почему там нет и Гёте, или почему там нет, скажем, Гейне. Если вас интересует моё персональное мнение, то я не считаю Фейхтвангера сильным писателем. Считайте, это моё заблуждение. Я считаю, что это писатель класса Сенкевича. Хотя Сенкевич и лауреат Нобелевской премии, насколько я помню (если я ничего не путаю), но всё равно Сенкевич — это писатель не того класса. Пруст, Сенкевич, Фейхтвангер — я считаю, что это авторы такого ряда.
Что касается Голсуорси. «Фейхтвангер — уж точно великий романист, одна «Иудейская война» чего стоит». Bob, если вам так кажется — ради бога! Составьте свой список из 100 книг. «Почему там нет «Трёх мушкетёров», «Трудно быть богом» и Ветхого Завета?» Нет, Ветхий Завет там есть, там есть Библия в целом, но я выделил, насколько я помню, именно Новый Завет, потому что для меня Новый Завет — более любимая и более важная для меня книга. Если хотите, включите туда… «И вообще очень странный список!» Слава богу, что он странный, Bob. Помните, как сказано у Шекспира в одной пьесе: «О, счастливый сын, умеющий удивлять свою мать!» Всегда приятно немножко удивить.
«Когда же будет лекция о Балабанове?» Господи, пожалуйста, она будет в следующий раз! Давайте в следующий раз будет лекция о Балабанове.
«Постоянно пересматриваю фильмы Фассбиндера. Устойчивое впечатление, что режиссёр стремится разобраться в причинах, породивших нацизм. Он хочет изжить прошлое и обрести для нации лёгкое дыхание свободы. Удалось ли это ему?»
Нет конечно. Андрей, понимаете, Фассбиндер разбирается в ситуации задним числом, и разбирается уже в мёртвой ситуации — вот в чём проблема. Та Германия, которую создал, которую знал Фассбиндер, — это уже мёртвая страна. Та Германия, которую знаем мы сегодня, — это уже что-то совсем другое, что-то принципиально новое. Я же говорил, у нации бывает рак. Она может его пережить, а может не пережить. Весь вопрос в глубине этого переживания. Вот Россия переживает тоталитаризм за тоталитаризмом, но он не затрагивает её сущности как-то, потому что 30 процентов верят, а 70 насмехаются. И является ли это особой формой рабства или особой формой свободы? Это является самой свободной из форм рабства или самой рабской из форм свободы — как вам больше нравится.
Что касается Фассбиндера, то он и не мог обрести никакого лёгкого дыхания. Его кокаиновое самоуничтожение было, конечно, одной из форм, одной из попыток как-то наверстать утерянный темп жизни, утерянное её напряжение. Такие его фильмы, как «Тоска Вероники Фосс», или «Берлин-Александерплац», или «Лили Марлен», — это, конечно, выдающиеся художественные свершения. Там даже не надо докапываться до истоков нацизма, они к тому времени довольно-таки понятны. Просто у Фассбиндера, на мой взгляд… Хотя в «Лили Марлен» уже это есть. По-моему, ему просто не хватало решимости сказать: «Ребята, игра сыграна, всё кончено». Знаете, «роды, осуждённые на сто лет одиночества, вторично не появляются на земле». Нации, которые через такое прошли и такое сделали, не заслуживают возвращения (ещё Набоков об этом сказал). Ну что поделаешь? Это не было проблемой только воюющих или только фашистов, а это было проблемой населения в целом, потому что одни посылали посылки с восточных территорий, а другие носили то, что в этих посылках было.
Позвольте вам напомнить стихи Павла Антокольского, одного из любимых моих поэтов, я тут их давеча вспоминал, наизусть их помню:
Он писал:
«Дорогая жена. Я пропал
В этой чёртовой страшной войне.
Ровно месяц не мылся, неделю не спал.
Дорогая, молись обо мне».
Он писал:
«Посылаю в подарок браслет
И кавказский каракуль седой.
На каракуле крови запекшейся след.
Надо смыть эту гадость водой».
Где-то ухнула бомба, и рухнул настил.
Вот лежит он, ещё не остыл.
Он недолго на нашей земле прогостил.
И письмо не отправлено в тыл.
Ни браслет золотой, ни каракуль седой
Не дошли до вдовы молодой.
Нашей крови не смыть никакою водой —
Ни дунайской, ни рейнской водой.
Это очень хорошие стихи. И у меня есть ощущение, что нация, которая вся целиком, за ничтожными исключениями (количественно ничтожными), поверила фашизму и купилась на фашизм, — для такой нации нет возрождения. Для неё есть попытка начать с нуля, но возрождать там нечего, так мне кажется.
«В фильме Ридли Скотта «Дуэлянты» рассказана история роковой дуэли наполеоновских офицеров, — замечательная история, да. — Это явное отражение безумной дуэли Наполеона со всем миром. Что вы думаете о личности императора? Мог ли он остановить свою дуэль?» — это второй вопрос Андрея.
Он её остановил. Я вам настоятельно рекомендую книгу Юрия Арабова (и вообще всем её рекомендую), книгу «Механика судеб». Это книга, в которой сделана попытка понять феномен Наполеона. Этот феномен заключается в том, что в какой-то момент Наполеону стало стыдно, в нём взыграла совесть. Когда мегазлодею и великому грешнику становится стыдно, как правило, это приводит к тому, что дьявол перестаёт его поддерживать — и он, видимо, трагически теряет свою никогда ему не изменявшую удачу.
Хороший вопрос: «Почему вы в костюме?»
В костюме я потому, что я приехал с лекции о Рязанове. Вот в «Эльдаре» мне почему-то хотелось быть в костюме, потому что Рязанов сам всегда был такой очень подтянутый, чёткий, строгий, не терпел опозданий. Ну, хочется иногда хорошо выглядеть.
«Лишний человек — это Зилов из «Утиной охоты»?»
Нет, я бы так не сказал. Фильм «Райские кущи» Прошкина не кажется мне большой удачей. Хотя Прошкин — один из любимых моих режиссёров, в частности «Чудо» я считаю великим фильмом, и экранизация Горенштейна [«Искупление»] очень хорошо у него получилась. Но я не считаю Зилова лишним человеком. Как бы вам сказать? Я уже сказал, что лишний человек — это тот, кто соотносит себя с вневременными этическими критериями. А с какими этическими критериями (тысяча извинений) себя соотносит Зилов?
Вот Лазарчук спрашивает, где вход. Он уже внизу. Я ему отвечаю: «Где «Геликон-Опера». Извините, я отвлекаюсь просто на SMS. Лазарчук уже здесь.
«Расскажите о Борхесе. Я проводил опрос в петербургской школе, и все пишут о нехватке иностранной литературы. Читают Хаксли, Толкина, Брэдбери, Кинга. Можно ли давать в школе Борхеса? Вопрос открытый. Ваше мнение. Маркеса точно можно».
Да, Маркеса можно. Маркес — по-моему, гениальный писатель. Что касается Борхеса. Три вопроса по нему пришло. Я совершенно не понимаю, какова механика, почему вдруг одно имя начинает привлекать нескольких людей — как в прошлый раз Ефремов, а сейчас вдруг сатириконцы. Борхеса я когда-то в одной статье в журнале «Новое время» назвал «самым живым из всех мертворождённых явлений по обе стороны океана». Да, я считаю Борхеса мертворождённым писателем. Я не люблю его. Я считаю, что Борхес наиболее адекватно изображён, конечно, у Умберто Эко в виде этого страшного Хорхе в «Имени розы», это действительно человек без смеха. У него есть гениальные тексты (никто этого совершенно не отрицает), такие как «Отрывок [фрагменты] из апокрифического Евангелия» (блистательный текст, по-моему) или этот рассказ, где два ножа доигрывают драму своих владельцев, или «Эмма Цунц». Ну, у него много есть замечательных текстов. Но при всём при этом Борхес по своей невероятной книжности, определённой патетичности и при этом расчеловечнности (не назову это «бесчеловечностью», а назову именно «расчеловечнностью»), он мне скучен, честно говоря.
Ну, есть бесспорно великие имена в латиноамериканской прозе — это Маркес, это Хуан Рульфо с романом «Педро Парамо» (абсолютно великий роман, может быть лучший латиноамериканский). Вот Кортасара я не могу включить в это число, потому что Кортасар замечательно придумывает приёмы, а ткань его прозы тоже мне кажется мёртвой. Ну, ничего не поделаешь. Я не могу спокойно читать ни «Модель для сборки», ни «Игру в классики», потому что всё нанизано на замечательные приёмы, а герой всё время любуются собой, и я ничего не могу с этим сделать. Все эти тексты по своей энергетике, изобретательности, точности не дотягивают до «Осени патриарха», даже ни до одной страницы «Осени патриарха». Вот здесь я должен признаться, что я солидарен с Евтушенко, который сказал, что лучше «Осени патриарха» в XX веке ничего не написано. Это действительно великий роман, абсолютно!
«Пересмотрел «Утомлённых солнцем» и снова отметил для себя, что это добротно снятое кино, сильная и хорошо сыгранная драма (при том, что отношение к Михалкову не дружественное). Возможно, вы не разделяете мою оценку этого произведения, но даже в этом случае трудно отрицать контраст между оригинальной историей и её продолжением: чудовищная фальшь, ненатуральная игра, картонность, грубая, пришитая к сюжету идеология. Что случилось с Михалковым?»
Понимаете, во второй части этого продолжения — в «Цитадели» — было два эпизода, в которых мне почудился прежний Михалков. Вот если бы он снял одну картину, в которой были бы эти два эпизода, а именно возвращение Котова, его сон в этой бане, его разговор с Ильиным, а потом вот эта сцена, когда солдаты толкают машины и засыпают в процессе, и потом камера панорамирует на небо, — это прежний Михалков, это два великих эпизода. Всё остальное, конечно, никакой критики не выдерживает. Вот если бы только эти два эпизода остались — возвращение Котова и его понимание, что он не нужен больше, что он вернулся, а продолжения жизни для него нет, — это было бы грандиозно.
Михалков разучился вовремя останавливаться. Мне кажется, что около него раньше были люди, которые как-то его корректировали: покойный Павел Лебешев, отошедший как-то от него Александр Адабашьян, чей прекрасный вкус очень чувствуется в раннем Михалкове. Но в любом случае у меня есть ощущение, что есть неумение вовремя остановиться. И, конечно, страшные недостатки сценария. Хичкок говорил: «Для хорошего фильма нужны три вещи: сценарий, сценарий и ещё раз сценарий». Я боюсь, что здесь именно вот эта проблема. Ну и потом, всё-таки когда человек перестаёт как-то фильтровать себя, когда он начинает считать себя истиной в последней инстанции, он не может остановиться, он перетягивает каждый кадр. Ну посмотрите, как нечеловечески затянут фильм «Солнечный удар». У меня когда-то была рецензия, которая называлась «Тяжёлое дыхание» (по аналогии с «Лёгким дыханием» Бунина, по контрасту с ним). Тяжёлое, одышливое дыхание.
«Как бы вы оценили поэзию Джима Моррисона?»
Я вообще не очень люблю поэзию Джима Моррисона. Мне нравится его музыка, его группа. Я считаю, что «Doors» — это группа абсолютно великая. Но музыкальнее он мне кажется интереснее, чем поэтически (такие прелестные фразы, типа: «Нам нужны роскошные и золотые совокупления»). Мне кажется, что сама эта фигура избыточна, демонизирована, преувеличена. И я много встречал подражающих ему, косящих под него молодых людей, безумно претенциозных. Ну, такой культ смерти довольно скучный. Я не очень это люблю. Мне интересен Моррисон как музыкант.
«Лежу в больнице с пневмонией. Чем книжным ускорить выздоровление? Спасибо. Сергей». Серёжа, отвечу вам ровно через три минуты.
НОВОСТИ
Д. Быков― Ну что, продолжаем разговор. Редакторы убежали встречать Лазарчука, а я отвечаю на вопрос… А вот и Лазарчук! Здравствуй, Андрей Лазарчук! 35 вопросов ожидают тебя. Садись в это кресло. Я сначала отвечу всё-таки на вопрос: «Лежу в больнице с пневмонией. Чем книжным можно ускорить выздоровление? Спасибо. Сергей».
Серёжа, во-первых, выздоравливайте. Во-вторых, книги — это не единственная возможная терапия. И дай бог, чтобы вас правильно лечили. Но вас интересуют книжки. Борис Виан — абсолютно любые тексты на моей памяти всегда ускоряют выздоровление. Джозеф Хеллер — любые книжки абсолютно, но больше всего роман «Что-то случилось». Вот Лазарчук гнусно хихикает. Кстати говоря, вот и Лазарчук очень ускоряет. Я рад, что он пришёл. Я помню, что я несколько раз при сильном насморке читал «Опоздавших к лету», и эта книга настолько меня всегда как-то заводила, что я про насморк и забывал. А особенно рекомендую вам «Жестяной бор», который мне представляется лучшей оттуда главой. Можно ли их читать поврозь? Можно совершенно.
Мне сегодня подрали книгу, которая, я думаю, никому не поможет, может быть, выздороветь (а может, и поможет, не знаю), но она многих здоровых встряхнёт. Это книга Кирилла Волкова «Несерьёзная книга об опухоли». Кириллу было 28 лет, когда он узнал, что у него опухоль мозга. В 29 он умер, Царствие ему небесное. Он за год написал эту книгу. И я думаю, что это потрясающая книга. И маме его, которая это собрала, я передаю свою самую горячую благодарность за то, что она мне это принесла. Эта книга, во-первых, многим здоровым поможет перестать жаловаться, а во-вторых, вообще она о смысле жизни, о каких-то главных вещах. И поскольку это голос из очень тёмного, очень мрачного пространства, и голос очень жизнеутверждающий, здоровый и ясный, мне кажется, это из тех книг, которые очень укрепляют веру во всякие прекрасные вещи.
А теперь мы приветствуем Андрея Лазарчука. Это тот редкий случай, когда я в студии не один. Но, имея любимого писателя в Москве, разумеется, грех его не спросить. С вашего позволения я сначала задам вопрос от себя лично: что происходит с новым романом, и когда мы будем его читать?
А. Лазарчук― Первая книга вышла уже и продаётся достаточно активно.
Д. Быков― Как она называется?
А. Лазарчук― «Соль Саракша».
Д. Быков― Нет, я интересуюсь «Московским гриппом» пока.
А. Лазарчук― А, извини, это ещё пишется.
Д. Быков― И сколько ещё будет писаться?
А. Лазарчук― Ты знаешь, это непредсказуемо. Эта вещь пишется с 1999 года.
Д. Быков― А можно сказать, что это за жанр по крайней мере?
А. Лазарчук― Роман дороги, наверное.
Д. Быков― Умеешь ты ответить красиво и загадочно. Что про «Соль Саракша» можно узнать? Ваша последняя совместная книга с Успенским.
А. Лазарчук― Наконец вышла. Первая книжка вышла две недели назад.
Д. Быков― А вторая?
А. Лазарчук― Вторая — где-то в мае. Третья — очевидно, в сентябре.
Д. Быков― А почему три? Там же было две.
А. Лазарчук― А там, Дима, три. И ты, небось, ещё последнюю-то и не читал?
Д. Быков― А где? Нет конечно. А что это за третья?
А. Лазарчук― А, я тебе не посылал, значит.
Д. Быков― Ну расскажи тогда.
А. Лазарчук― Это завершающая часть трилогии, которую мы с Мишкой придумали, так сказать, разбросали по эпизодам. А потом случилось то, что случилось…
Д. Быков― То есть третью часть ты дописывал один?
А. Лазарчук― Третью часть я дописывал один.
Д. Быков― А как она называется?
А. Лазарчук― Она называется «Стеклянный меч».
Д. Быков― Для тех, кто не знает: трилогия «Весь этот джакч» является упражнением на темы «Обитаемого острова», как бы такая альтернативная его история.
А. Лазарчук― Не альтернативная, а параллельная.
Д. Быков― Параллельная, да. Конечно, не могу тебя не спросить: как ты относишься к экранизации?
А. Лазарчук― К той?
Д. Быков― К той.
А. Лазарчук― Плохо.
Д. Быков― Понял, спасибо. Андрюша, вопрос Андрея тоже, тёзки твоего: «Где обещанная русская утопия?»
А. Лазарчук― Этот роман дороги — он, по идее, и есть русская утопия. Но дописываться он будет, наверное, ещё ряд лет.
Д. Быков― А можно объяснить, что ты вкладываешь в понятие «русская утопия»?
А. Лазарчук― Россия, в которой хорошо жить.
Д. Быков― Как ты её себе рисуешь?
А. Лазарчук― Вот напишу — и все узнают, как я её рисую. В трёх словах я не смогу это выразить.
Д. Быков― Я понимаю. Устраивает ли тебя утопия, скажем, Хольма ван Зайчика, утопия Ордуся?
А. Лазарчук― Нет.
Д. Быков― Почему?
А. Лазарчук― Не знаю. Мне там неуютно, мне там беспокойно.
Д. Быков― Тут, кстати, сразу же вопрос Кирилла: «Что вы можете сказать о последних произведениях Рыбакова?» Видимо, имеются в виду «Звезда Полынь» и сопутствующие.
А. Лазарчук― Так, «Звезда Полынь» — это…
Д. Быков― Ну, где спецслужбы вместе с учёными…
А. Лазарчук― Разрабатывают звездолёты.
Д. Быков― Да.
А. Лазарчук― Поскольку Славе я это сам говорил в лицо, то могу сказать и вслух. Мне эта вещь активно не понравилась своей плакатностью и картонностью. То, что у него было всегда очень сильной частью творчества, — он отлично выписывал характеры, это было вообще что-то сверхъестественное. Здесь он либо не смог, либо не захотел, либо материал не позволил. Вот так вот. Поэтому, к сожалению, хотя и интересно читается, но абсолютно не заводит.
Д. Быков― Вопрос Всеволода: «Что вы можете сказать о моде на попаданцев?»
А. Лазарчук― Ничего! (Смех.)
Д. Быков― Нет, ну всё-таки?
А. Лазарчук― Ничего цензурного я сказать про это не могу.
Д. Быков― Нет, а чем эта мода объясняется?
А. Лазарчук― Я не знаю. Есть попаданцы и есть зомби.
Д. Быков― Это две моды.
А. Лазарчук― Две моды. Откуда они взялись и почему они модные, какой в них смысл, какую находят прелесть — я не понимаю. Среди попаданческих романов на самом деле попадаются иногда и хорошие, но это очень большая редкость. Господи, вылетела из головы фамилия… «Византийскую тьму» кто написал?
Д. Быков― Я сейчас узнаю, у меня есть волшебный прибор.
А. Лазарчук― Посмотри.
Д. Быков― «Византийская тьма» ты говоришь? А я не читал. Про что это?
А. Лазарчук― Это, по-моему, первый русский роман про попаданцев, и он сразу где-то близок к гениальности.
Д. Быков― Сейчас узнаем. А пока просит Анна: «Что вы можете сказать о творчестве Владимира Данихнова?»
А. Лазарчук― Я не читал просто, ничего не могу сказать.
Д. Быков― Александр Говоров — «Византийская тьма».
А. Лазарчук― Александр Говоров, точно.
Д. Быков― А ты из Данихнова вообще ничего не читал?
А. Лазарчук― Да, ничего не читал.
Д. Быков― Напрасно. Он же получал все последние…
А. Лазарчук― Ну, я не могу всё читать.
Д. Быков― Я понимаю, да. Но тогда уж я спрошу: что из последней фантастики, которую ты прочёл, вызвало у тебя добрые чувства? (Пауза.) Надолго задумался. Понимаете, мне же приходиться комментировать, заполнять эфир.
А. Лазарчук― Пожалуй, «Мерзость» Симмонса… Ну и всё.
Д. Быков― «Мерзость» Симмонса — звучит хорошо. В российской фантастике ничего, что ли, нет?
А. Лазарчук― Нет, ничего нет.
Д. Быков― Почему? Чем ты это объясняешь? Что нет проекта будущего?
А. Лазарчук― А фантастика не о будущем. Это как раз такое страшное заблуждение, которое всегда уводит в сторону. Фантастика всегда о настоящем и о представлениях о жизни. Видимо, да — хреновость настоящим и хреновость представлениями о жизни.
Д. Быков― «Ваше мнение о романе Симмонса «Смертельный гамбит»?»
А. Лазарчук― Ещё не дочитал, только начал.
Д. Быков― Ну и что пока?
А. Лазарчук― Симмонс всегда качественен.
Д. Быков― Симмонс — это который «Террор», что ли?
А. Лазарчук― Да.
Д. Быков― Слушай, по-моему, ужасно занудная книга!
А. Лазарчук― Ужасно занудная.
Д. Быков― Что вы с Мишкой в ней находили?
А. Лазарчук― Она многословная, и там абсолютно излишние фантастические элементы.
Д. Быков― В смысле — чудовище?
А. Лазарчук― Да. Вот если его выбросить, то получился бы вообще шикарный роман, гениальный, на уровне «Моби Дика», может быть.
Д. Быков― Так он и есть абсолютный «Моби Дик», только переписанный в полярном антураже.
А. Лазарчук― Ну да.
Д. Быков― «Роман Боба Маккаммона «Жизнь мальчишки» — один из лучшего, что я читал в девяностые годы. Как вам?»
А. Лазарчук― Никак, не помню.
Д. Быков― Лазарчук, счастливый ты человек — ты можешь себе позволить забывать прочитанное!
А. Лазарчук― Я и фамилию-то такую не вспомню.
Д. Быков― «Что изменилось в вашем творчестве после переезда из Красноярска?» Имеется в виду переезд в Петербург. (Пауза.) «Я стал чаще простужаться!»? (Смех.)
А. Лазарчук― Нет, я стал реже простужаться, слава богу. Здесь оказалось ближе к издателям и ко всяким, так сказать, литературным проектам, и я по неосторожности в некоторые из них вписался. Славы и денег не принесло, времени заняло много, ну и некоторое «размагничивание» тоже наступило.
Д. Быков― Андрюха, можно я тебе задам вопрос…
А. Лазарчук― Так что я несколько недоволен своим творчеством. Не всем, конечно.
Д. Быков― Да ладно!
А. Лазарчук― Один хороший роман я написал.
Д. Быков― Какой? «Мой старший брат Иешуа», да?
А. Лазарчук― Да.
Д. Быков― Это не просто хороший, я думаю, а это прорывный роман. У нас есть несколько человек, которые считают это твоим лучшим произведением.
А. Лазарчук― Ну, я тоже так считаю.
Д. Быков― Никита Елисеев тоже так считает.
А. Лазарчук― Никите привет.
Д. Быков― Привет Никите Елисееву, с которым я надеюсь повидаться 25-го, когда — подчёркиваю — буду читать в Петербурге лекцию про Высоцкого и Бродского.
Вопрос мой, я могу его задать, и он не литературный: где для тебя пролегает грань, которая предопределяет, что люди становятся или «крымнаш» или, условно, «намкрыш»? То есть в чём источник этого разделения? Понимаешь, они раньше общались совершенно нормально — и вдруг это их разделило навеки!
А. Лазарчук― Ну подожди, мы с тобой общаемся совершенно нормально.
Д. Быков― Подожди, про нас с тобой разговора нет. Я не знаю, какие должны быть твои убеждения, чтобы я стал к тебе иначе относиться. Но очень многих это разорвало.
А. Лазарчук― К сожалению, да. Почему — не знаю. У меня, правда, разорвало только с одним человеком.
Д. Быков― Ты его не назовёшь?
А. Лазарчук― Нет. Зачем?
Д. Быков― Но он известный человек?
А. Лазарчук― Ты его знаешь.
Д. Быков― Понятно. Ну как бы ты определил?
А. Лазарчук― И всё, один только.
Д. Быков― Подожди. Предпосылки, что один оказывается там, а другой — здесь? Ты никогда же не был авторитарием.
А. Лазарчук― Я не знаю. На самом деле я не знаю, почему происходит такое: почему у одних возникают одни предпочтения, а у других — резко противоположные; почему они не могут между собой нормально поговорить, найти общий язык, так сказать, устаканить позиции, а обязательно лезут в спор. Не знаю. Наверное, такова человеческая природа.
Д. Быков― Нет, может быть, это биографическое? Потому что, скажем, ты — муж русской одесситки, Иры Андронати. Может быть, это от этого произошло?
А. Лазарчук― И от этого тоже, безусловно. Но кроме того… Это долгая история. Я не знаю, стоит ли её, так сказать, всю излагать.
Д. Быков― Расскажи хоть что-то.
А. Лазарчук― Хорошо. Был у меня очень хороший друг на Украине, он занимал довольно высокий пост в украинском политикуме (я его тоже не буду называть). В начале 2013 года мы с ним общались по Skype, и он мне рассказал о том, что готовится переворот, будет он проходить так-то, так-то и так-то, и в результате начнётся война в Крыму, это цель заговорщиков. Через неделю его убили.
Д. Быков― Ты связываешь эти события?
А. Лазарчук― Я связываю эти события.
Д. Быков― Хорошо. Вот вопрос для меня принципиальный: то, что ты поддерживаешь ДНР и ЛНР — это сделало тебя более лояльным к Путину?
А. Лазарчук― Не изменило отношения.
Д. Быков― Не изменило. То есть это отдельно существует?
А. Лазарчук― Это отдельно.
Д. Быков― В чём для тебя опасность, угрожавшая Русскому миру в Донецке?
А. Лазарчук― Как тебе сказать…
Д. Быков― Так и скажи. Все свои! Всё равно никто ничего не слушает ночью. Хотя, судя по количеству вопросов, слушает вся Москва!
А. Лазарчук― Как тебе сказать? Там было бы очень много крови.
Д. Быков― Было бы?
А. Лазарчук― Да. И, наверное, значительно больше, чем…
Д. Быков― Чем сейчас.
А. Лазарчук― Да. То есть там бы началась активная партизанская война.
Д. Быков― Даже без участия Стрелкова (Гиркина)?
А. Лазарчук― Это вообще дутая фигура по большому-то счёту.
Д. Быков― Я думаю, он с тобой не согласится.
А. Лазарчук― Он со мной не согласится, потому что он считает себя вторым после Бога.
Д. Быков― А ты так не думаешь?
А. Лазарчук― Нет.
Д. Быков― А вообще твоё отношение к нему какое?
А. Лазарчук― Как тебе сказать…
Д. Быков― Писатель он, наверное, не очень хороший.
А. Лазарчук― «Вышел зайчик пострелять». Вот.
Д. Быков― Суров ты, Андрюха! (Смех.)
Я возвращаюсь по воле публики к литературным вопросам. «Жалеете ли вы об отходе Алексея Иванова от фантастики?» Имеются в виду, видимо, его ранние сочинения.
А. Лазарчук― Мне не нравилась его фантастика, а мне как раз нравятся его реалистические произведения.
Д. Быков― То есть «Географ [глобус пропил]»?
А. Лазарчук― «Географ», «Золото бунта».
Д. Быков― А мне казалось, что «Земля-Сортировочная» — это такая прелесть!
А. Лазарчук― А мне не понравилась. Я ещё тогда, когда я её читал на Семинаре [Бориса Стругацкого], она мне что-то не пошла совершенно. Не знаю почему.
Д. Быков― «Что вы думаете о позднем творчестве Сергея Лукьяненко?» — спрашивает Василиса. Привет вам, Василиса!
А. Лазарчук― Так, Сергей Васильевич, если ты меня слушаешь, ты знаешь, что я к тебе как к человеку отношусь хорошо, но я тебя не читал и…
Д. Быков― «И читать не буду!» (Смех.) Андрюха, а ты много читаешь коллег вообще?
А. Лазарчук― Мало. Я читаю мало коллег.
Д. Быков― Тебе это мешает просто?
А. Лазарчук― Мне это не мешает. Мне это просто не очень интересно.
Д. Быков― Очень интересный вопрос от Артура… Это я уже из своей почты зачитываю. Напоминаю: dmibykov@yandex.ru. «Что предопределяет отношение человека к фантастике? Почему один писатель становится фантастом, а другой — реалистом?»
А. Лазарчук― Хороший вопрос, на который можно дать массу ответов, и ни один из них не будет правильным.
Д. Быков― Ну расскажи про себя.
А. Лазарчук― Вообще-то, поскольку я писал и то, и другое, то… Я полагаю, что фантастика задумывалась когда-то как просто приём остранения — то есть придание действительности каких-то необычных черт, которые делали бы её чуть более переносимой, с одной стороны, а с другой — чуть более понятной. Потому что затёртость образов приводит к тому, что ты перестаёшь понимать, перестаёшь воспринимать картину. Фантастика привносила во всё это какие-то специфические черты, которые позволяли более внимательно вглядеться в реальность. А потом, когда это стало жанром массовой литературы, там пошла совершенно другая пьянка. Это как раз то, что меня интересует значительно меньше.
Д. Быков― Очень интересное не письмо, а вопль такой от Николая Пронина. Привет вам, Николай! Ну, я озвучиваю, потому что вы полностью подписались. «Допредсказывался Лазарчук в «Опоздавших к лету»!»
А. Лазарчук― Ну, извините.
Д. Быков― Нет, я не про то. Я про то, что действительно идея войны носилась в воздухе. Ты помнишь, что Переслегин написал, что «большая война просматривается на всех путях»?
А. Лазарчук― Да, носилась в воздухе.
Д. Быков― Как ты можешь это объяснить? Почему это?
А. Лазарчук― Потому что, видимо, периодически происходит в человечестве такое движение: либо к самосокращению, либо к смене парадигмы существования.
Д. Быков― И без войны это никак?
А. Лазарчук― Да, поскольку война полностью размягчает план бытия, она делает его очень пластичным.
Д. Быков― Меняемым.
А. Лазарчук― Меняемым. Пока не придумали, как это сделать без войны.
Д. Быков― А можно сказать, какие предвестия ты видел, когда писал «Опоздавших»? Это же начало девяностых, насколько я помню?
А. Лазарчук― Нет, это с 1984 года, с 1982-го даже.
Д. Быков― Господи, так ты же был дитя!
А. Лазарчук― Ну да.
Д. Быков― Сколько тебе было? 25 лет?
А. Лазарчук― Да.
Д. Быков― И что тебя к этому сподвигло? Афган? Другие вещи?
А. Лазарчук― Нет, Афгана ещё не было… Нет, Афган уже был.
Д. Быков― А что?
А. Лазарчук― Вот носилось в воздухе, это как-то снималось.
Д. Быков― Очень интересный вопрос от Елены: «Дорогой Андрей, надеюсь, вы не принадлежите к секте поклонников «Звёздных войн». Что ты можешь сказать?
А. Лазарчук― Я смотрел одну серию давно.
Д. Быков― Какую?
А. Лазарчук― «Империя наносит ответный удар».
Д. Быков― И что?
А. Лазарчук― Вообще ничего не помню.
Д. Быков― То есть это на тебя не произвело впечатления?
А. Лазарчук― Нет.
Д. Быков― А чем ты можешь объяснить культовость данной картины?
А. Лазарчук― Ничем. Не знаю. Я её не видел, поэтому объяснить не могу. Вообще, как правило, культовыми становятся вещи совершенно…
Д. Быков― Примитивные.
А. Лазарчук― Скажем так, комиксовые, которые работают на чистых архетипах, причём простейших.
Д. Быков― Очень антропные такие.
А. Лазарчук― Да. И понятные огромному количеству людей, и запоминающиеся. В «Звёздных войнах» были запоминающиеся моменты. Мне помнится этот огромный «дромадер» металлический, которому истребитель запутывает леской ноги.
Д. Быков― Это классическая схема! (Смех.)
А. Лазарчук― Это была шикарная картина. По-моему, что-то ещё. И, пожалуй, я не помню больше ничего.
Д. Быков― Вопрос Юрия: «Чем вы можете объяснить славу Толкина? Как относитесь к нему?»
А. Лазарчук― Я к Толкину отношусь плохо, а славу его поясняю тем же самым, чем объяснил сейчас…
Д. Быков― А почему ты плохо к нему относишься? Я тоже плохо.
А. Лазарчук― Потому что он фашист.
Д. Быков― Ну ладно! Объясни. Он же антифашист, вообще-то.
А. Лазарчук― Вообще-то — нет.
Д. Быков― Как говорил Умберто Эко: «Нет больших фашистов, чем антифашисты». (Смех.) Тем не менее, скажи.
А. Лазарчук― Ну да. Скажем, на словах он, может быть, что-то и произносил… Хотя его фраза «Мы, — люди, — воюем с орками против орков» относилась и к немцам, и к нам, то есть он выделил, вычленил из человечества. Ну, это у британцев, в общем-то, распространено.
Д. Быков― Ещё скажи «англосаксов».
А. Лазарчук― Нет, я не люблю слово «англосаксы».
Д. Быков― Я тоже не люблю. Это первый признак «невминосов».
А. Лазарчук― Да.
Д. Быков― Денис спрашивает: «Читали ли вы книгу Анара «Контакт»? Нравится ли они вам?» Если вы интересуетесь ещё и моим мнением, Денис, то мне очень нравится.
А. Лазарчук― Как?
Д. Быков― Был такой (и есть такой) азербайджанский писатель Анар, и у него была фантастическая повесть «Контакт». Ты её не читал?
А. Лазарчук― Я про неё что-то слышал, но у меня ещё просто руки не дошли.
Д. Быков― Мне она чрезвычайно нравится.
А. Лазарчук― А, да-да-да, знаю!
Д. Быков― Помнишь, где машина с двумя рулями?
А. Лазарчук― Я не читал, а я просто помню, что мне её надо прочитать, она у меня лежит в списке ещё не прочитанного.
Д. Быков― «Дорогой Андрей, во время гражданской вы были бы за красных или за белых? Вадим, Самара».
А. Лазарчук― За белых.
Д. Быков― Почему?
А. Лазарчук― По традиции. У меня все были за белых. (Смех.)
Д. Быков― Ну-ка, ну-ка, вот с этого момента поподробнее. Я не знаю твою родословную.
А. Лазарчук― У меня оба деда воевали за белых: один — в Кубанской армии, а другой — у Колчака.
Д. Быков― А как по-твоему, почему они это делали? Неужели не соблазнительнее было бы поверить в утопию?
А. Лазарчук― Видимо, они разглядели в этой утопии все её характерные черты.
Д. Быков― Ты согласен с мнением Роднянской, что утопия — это отказ от исторического усилия… то есть антиутопия — это отказ от исторического усилия, и что без утопий не живёт литература?
А. Лазарчук― Согласен. Потому что — ну а как иначе?
Д. Быков― И красная утопия тебя не привлекает?
А. Лазарчук― Поскольку мы все сильны послезнанием, то всё это легко объяснить. Как бы я себя чувствовал, не зная неизбежного будущего, — я не могу сказать, я не знаю этого. Но подозреваю, что в силу некоторых особенностей характера я бы предпочёл, наверное, традицию.
Д. Быков― Многие спрашивают, и я от себя спрошу: почему не получилось мощного нового поколения фантастов, сравнимого с Семинаром Стругацкого?
А. Лазарчук― Потому что фантастика стала развлекательным жанром. Всё.
Д. Быков― А она разве не была им когда-то?
А. Лазарчук― Нет, она была достаточно серьёзным, тяжёлым, берущим на себя какую-то непосильную роль. Это были поздние восьмидесятые — девяностые. Но уже в девяностых началось это раздувание развлекательной части, и сейчас это чисто развлекаловка: стрелялки, ходилки…
Д. Быков― Вопрос Ильи: «Ваше отношение к циклу «S.T.A.L.K.E.R.»?» Имеются в виду эти все зоновские дела.
А. Лазарчук― Это компьютерная игра, которая перенесена на страницы. Я и сам поучаствовал [«Спираль»], и Мишка поучаствовал [«Остальное — судьба»]. Ну, это просто было от безделья, что ли.
Д. Быков― Я понимаю, но вот мнение Лукьяненко, что мы живём в постмире, оно объясняет популярность этого.
А. Лазарчук― В постмире?
Д. Быков― В постмире. Действительно это мир Зоны, мир катастрофы: что-то случилось, а мы ходим за хабаром…
А. Лазарчук― Господи боже мой! Это постоянное состояние мира. Почему только мы живём? Все предыдущие поколения жили в мире-катастрофе. Никогда не было… Даже предкатастрофы-то я не припомню.
Д. Быков― Очень хороший вопрос: «Скоро день рождения Ленина. Что вы о нём думаете?» Мы о нём не думаем! (Смех.) Нет, думаем. Куда же мы денемся? Конечно, мы думаем.
А. Лазарчук― Всё, что я думал, я написал.
Д. Быков― Где?
А. Лазарчук― В «Мумии».
Д. Быков― А что это такое, расскажи?
А. Лазарчук― «Мумия» — это такой рассказ.
Д. Быков― Где? Когда?
А. Лазарчук― Давным-давно, ещё в 1990 году. А ты что, не читал?
Д. Быков― Нет. Расскажи.
А. Лазарчук― Ёшкин кот!
Д. Быков― Ну расскажи, про что рассказ-то.
А. Лазарчук― Про то, как Ленин жив.
Д. Быков― Живее он всех живых, или всё же чуть-чуть…
А. Лазарчук― Да-да-да. Всё, я тебе пришлю это. Это надо читать. Ты недостаточно напуган, видимо.
Д. Быков― «Верите ли вы в существование вашей бессмертной души после смерти?»
А. Лазарчук― Нет.
Д. Быков― Почему?
А. Лазарчук― Не знаю.
Д. Быков― То есть тебе не хотелось бы, или ты не веришь?
А. Лазарчук― Я просто не верю.
Д. Быков― «Почему в России так мало женщин-фантастов уровня Урсулы Ле Гуин?» И вообще почему мало женщин-фантастов? Скажи как муж женщины-фантаста.
А. Лазарчук― А я бы не сказал, что мало.
Д. Быков― Кроме Трускиновской и Громовой, кого мы можем назвать?
А. Лазарчук― Нет, можем набрать, конечно, но дело в том, что был задан вопрос — уровня Ле Гуин. А Ле Гуин — это действительно уровень.
Д. Быков― Уровень, да.
А. Лазарчук― И мужчин-фантастов уровня Ле Гуин у нас…
Д. Быков― Не так много.
А. Лазарчук― Не так много, да.
Д. Быков― А кто эти две девушки, я забыл, которые в соавторстве получили за какой-то роман недавно? Что-то про зеркала… Забыл.
А. Лазарчук― Да-да-да. Ну, они ещё молоденькие.
Д. Быков― Короче, оба мы не помним.
А. Лазарчук― Да, оба мы не помним.
Д. Быков― «Что вы можете сказать о современной позиции Бориса Стругацкого, если бы он был жив?»
А. Лазарчук― Я думаю, что он бы не изменил своих предыдущих мнений о происходящем, вряд ли бы у него были какие-то революционные изменения в сознании.
Д. Быков― Вот очень интересный вопрос: «Что хотели Стругацкие сказать повестью «Малыш»?» «Малыш» действительно стоит наособицу.
А. Лазарчук― Абсолютно.
Д. Быков― Ну а почему? И что ты можешь о нём сказать?
А. Лазарчук― «Малыш» — повесть о непостижимом и о невозможности правильного выбора.
Д. Быков― А в чём там непостижимость?
А. Лазарчук― Непостижимость Малыша, собственно говоря, и невозможность правильного выбора, потому что какой выбор ни делают взрослые герои, он обязательно будет неправильный.
Д. Быков― И ведёт к худшему.
А. Лазарчук― И ведёт к худшему, да.
Д. Быков― То есть любое воспитание невозможно, потому что мы не знаем, откуда ребёнок пришёл.
А. Лазарчук― Это не воспитание. Собственно говоря, воспитан-то он уже, то есть это мальчик, который аватар некой сверхмогущественной цивилизации.
Д. Быков― Но при этом он человек.
А. Лазарчук― Но при этом он человек. С другой стороны, если бы они развили эту тему, то было бы, конечно…
Д. Быков― Отдельное направление Полудня.
А. Лазарчук― Отдельное направление, да.
Д. Быков― Может, это поразвивать, кстати? Могла бы быть интересная идея.
А. Лазарчук― Да, могла бы быть.
Д. Быков― «Андрей, нравятся ли вам компьютерные игры? Во что вы играете?»
А. Лазарчук― Не нравятся. Ни во что не играю.
Д. Быков― Что, и в «Сапёра» не играешь?
А. Лазарчук― Нет. (Смех.)
Д. Быков― А я довольно часто. Просьба к Лазарчуку посидеть ещё. Лазарчук посидит, конечно, но вы спрашивайте его не только про литературу, он довольно интересный человек. Я тебя спрошу. Как по-твоему, чем можно сейчас помогать так называемому Русскому миру, ну, условно говоря — Донецку?
А. Лазарчук― В первую очередь надо спрашивать: «Вот чем мы вам можем помочь?» — задавать прямой вопрос. Там будут раздаваться самые разные ответы, причём некоторые достаточно некомплементарные для нас. Главное — это именно узнавать, узнавать и узнавать, потому что это уже сложившаяся культура.
Д. Быков― А тебе не кажется (вот многие говорят), что это бандитская культура?
А. Лазарчук― Нет конечно.
Д. Быков― А почему у неё такой имидж, такой образ?
А. Лазарчук― Извини, во время войны военная пропаганда противника обязательно…
Д. Быков― А кто люди, которые туда едут?
А. Лазарчук― Туда едут разные люди. Как тебе сказать…
Д. Быков― Лазарчук всегда делает долгие паузы.
А. Лазарчук― Понимаешь, если бы не мои проблемы с… Ну, не буду рассказывать.
Д. Быков― Не будем говорить с чем, да.
А. Лазарчук― То я бы и сам поехал.
Д. Быков― А, ты имеешь в виду всё-таки проблемы с глазами?
А. Лазарчук― С глазами, да.
Д. Быков― Ты бы поехал?
А. Лазарчук― Конечно. То есть я понимаю, что в окопе мне делать нечего, но так…
Д. Быков― Нет, ты стреляешь-то хорошо, но вопрос: зачем тебе стрелять?
А. Лазарчук― С этими глазами я уже не так.
Д. Быков― Подожди, Андрей, хорошо ли тебе стрелять, нужно ли это тебе?
А. Лазарчук― Иногда нужно.
Д. Быков― Объясни.
А. Лазарчук― Не знаю, не могу объяснить. Вот это то необъяснимое внутри, которое, в общем, делает нас людями.
Д. Быков― Нет, Геннадьевич, ты писатель, тебе положено…
А. Лазарчук― Я тогда должен книжку написать, чтобы объяснить.
Д. Быков― Это могла бы быть неплохая книжка. Вот такие персонажи, как Моторола, какие вызывают у тебя чувства? Это может быть потенциально герой книги?
А. Лазарчук― Я его не знаю, к сожалению.
Д. Быков― Но кого-то ты знаешь?
А. Лазарчук― О, да! Наверное, персонаж был бы очень колоритный.
Д. Быков― Знаешь, колоритный — это не значит хороший.
А. Лазарчук― Нет, естественно. Где-то даже эпический, я бы сказал.
Д. Быков― В значении «эпическая сила», да?
А. Лазарчук― Да.
Д. Быков― Если я правильно понимаю, мы должны сделать паузу. Лазарчук, ты можешь посидеть ещё 20 минут?
А. Лазарчук― Да легко.
Д. Быков― Хорошо, продолжим.
РЕКЛАМА
Д. Быков― Привет, полуночнички! По бесчисленным просьбам остаётся Андрей Лазарчук — прославленный фантаст, многократный лауреат всех возможных фантастических премий; как говаривал Миша Успенский, «двадцать килограммов странника и семь погонных метров меча» [премии «Странник» и «Меч в камне»].
Тут целая серия гневных вопросов: «Каким образом убийство может позволить стать человеком? Почему польза убийства в войне?» Даже Катя пишет: «Вы врач. Как вы можете такое говорить?» А ты врач?
А. Лазарчук― Ну да.
Д. Быков― Ты фельдшер или врач?
А. Лазарчук― Нет, врач.
Д. Быков― А, ты врач. Вот каким образом вы, врач, можете…
А. Лазарчук― На войне, в общем, достаточно часто убивают.
Д. Быков― Так зачем это надо?
А. Лазарчук― Зачем нужна война? Мы уже говорили.
Д. Быков― Я понимаю, что это делает пластичным план бытия.
А. Лазарчук― Да.
Д. Быков― Но почему это нужно было в Украине, ты объясни?
А. Лазарчук― Зачем они это затеяли? Опять же повторю, что план переворота, который был создан давно… Собственно говоря, народная революция, ведущую роль в которой сыграли два предыдущих директора СБУ, один из которых снова сел в это кресло, а другой стал исполняющим обязанности президента, — согласись, это довольно странная народная революция. Им необходимо было затеять именно войну с Россией для того, чтобы эта власть была признана Западом.
Д. Быков― Только для этого?
А. Лазарчук― Только для этого.
Д. Быков― Ох, Андрюха, вот как бессмыслен любой спор на эту тему!
А. Лазарчук― Абсолютно.
Д. Быков― Вопрос от Сергея из Донецка: «Согласны ли вы, что Достоевский — первый русский фашист?»
А. Лазарчук― Хм, хороший вопрос.
Д. Быков― А из Донецка вообще хорошие вопросы.
А. Лазарчук― Тогда не первый всё-таки, но очень такой колоритный. Тогда мы просто должны определиться с понятием «фашизм», взять его, так сказать, в неэмоциональном плане, рассмотреть подробности. Да, можно согласиться с этим.
Д. Быков― Вопрос Олега: «Что такое Русский мир?»
А. Лазарчук― Каждый вкладывает в это…
Д. Быков― Спрашивают, что ты вкладываешь.
А. Лазарчук― Я ничего не вкладываю. Я не употребляю это выражение.
Д. Быков― Почему не употребляешь, интересно?
А. Лазарчук― Не знаю. Потому что оно…
Д. Быков― Оно ненаучное.
А. Лазарчук― Оно у меня не вызывает никакого отклика. Я не понимаю, что это такое.
Д. Быков― «Что принципиально нового вы ожидаете от ближайших 20 лет: а) в плане литературы; б) в плане технологий? Станут ли люди бессмертными и превратятся ли в киборгов?»
А. Лазарчук― Ничего невозможного в этом нет, я так скажу.
Д. Быков― Это хорошо, если это будет?
А. Лазарчук― Ну, это будет иначе просто. Вряд ли это можно…
Д. Быков― Интерпретировать в терминах «хорошо/плохо».
А. Лазарчук― То, что историческое событие произошло 12 апреля, ты уже в курсе, да?
Д. Быков― Нет.
А. Лазарчук― Начали разрабатывать первую звёздную экспедицию.
Д. Быков― Ты шутишь, что ли?
А. Лазарчук― Нет.
Д. Быков― А что это такое, расскажи? Наши начали разрабатывать?
А. Лазарчук― Нет, это Хокинг и примкнувший к нему… [Мильнер]
Д. Быков― А, Хокинг. Они начали разрабатывать в каком плане?
А. Лазарчук― В практическом.
Д. Быков― Бабки собирать, что ли?
А. Лазарчук― Сначала собрать бабки (хотя уже 100 миллионов вложили) и начать производство нанокорабликов.
Д. Быков― Как нано? Вот такусеньких, что ли?
А. Лазарчук― Вот такусеньких. Которые будут с солнечными парусами, вернее… солнечными — это неправильно называть, со световыми парусами, которые будут разгоняться лазерным лучом.
Д. Быков― А, понятно. А люди?
А. Лазарчук― Подожди. Это автоматы. Люди, как ты понимаешь, к звёздам не полетят. Вот в таком виде, в каком мы существуем, мы никуда переместиться далеко не сможем. Я даже ставлю под сомнение возможность марсианской экспедиции. Ну, слишком велики даже не риски, а просто вредоносные факторы.
Д. Быков― То есть, по всей вероятности, фильм «Марсианин» тебя тоже не вдохновляет?
А. Лазарчук― Понимаешь, это такая лапша.
Д. Быков― Голимая лапша! (Смех.)
А. Лазарчук― Вот два фильма, от которых что-то народ прётся, — от «Гравитации» и от «Марсианина». Люди в школу не ходили, которые их ставили.
Д. Быков― Да какая разница? Зрелищно!
А. Лазарчук― Ну, зрелищно — и всё.
Д. Быков― Лучшая рецензия на фильм «Гравитация» называлась «не разжимая булок». (Смех.) Нужно сказать, что я просидел действительно весь фильм в страшном напряжении! И Буллок сыграла, в общем, неплохо.
«Господин Лазарчук, неужели вы считаете, что историческую справедливость должен устанавливать тот, кто сильнее?» Good question, кстати, от Серёжи. Из Украины пришёл вопрос, естественно.
А. Лазарчук― Если он имеет в виду США…
Д. Быков― Нет, он имеет в виду всех вообще.
А. Лазарчук― Скажем так: слабаки действительно историческую справедливость не устанавливают никогда.
Д. Быков― То есть историю пишут сильные?
А. Лазарчук― Историю пишут сильные.
Д. Быков― Очень много вопросов: «Каким вы видите будущее России?»
А. Лазарчук― Скажем так: с понедельника по пятницу у меня изменяется несколько картин. В понедельник — очень тяжёлая, а в пятницу — ну, так…
Д. Быков― Андрюха, расскажи, что ты видишь в субботу? «Суббота — лучший день недели», потому что ещё воскресенье впереди. Расскажи. Хочется оптимизма!
А. Лазарчук― Скажем так: всё будет хорошо. Я узнавал.
Д. Быков― Ну ты хоть расскажи, как оно будет хорошо. Это же очень важный вопрос. Хорошо — это так же растяжимо, как и…
А. Лазарчук― Ладно. Будущее на сколько? Будущее ближайшее?
Д. Быков― 20 лет меня интересуют.
А. Лазарчук― 20 лет? Да ты дольше проживёшь.
Д. Быков― Да я проживу гораздо дольше! Вопрос, так сказать, надо ли мне это?
А. Лазарчук― Вообще надо. Почему? С другой стороны, я так часто пролетал с прогнозами, потому что был излишне оптимистичен, так что не буду давать их. Нет, не буду. А то опять скажут, что накаркал. Ничего сверхплохого и ничего сверххорошего, конечно, не будет.
Д. Быков― То есть всё будет так же?
А. Лазарчук― Так же, но иначе.
Д. Быков― Тут очень хороший вопрос: есть ли какое-то взаимное влияние твоего романа «Все, способные держать оружие…» и повести Сорокина «Месяц в Дахау»?
А. Лазарчук― Вопрос: кто такой Сорокин?
Д. Быков― Владимир Сорокин! Это тот Сорокин, который…
А. Лазарчук― Я не читал из Владимира Сорокина, по-моему, вообще ничего.
Д. Быков― Страшное огорчение! Представляешь, если окажется, что и он тебя не читал? Значит, великие умы случайно совпали, вот такое бывает.
«Вопрос к вам как к сибиряку: что вы думаете об Александре Вампилове?»
А. Лазарчук― По-моему, совершенно недооценённый и недопоставленный драматург.
Д. Быков― А чем он для тебя так значим?
А. Лазарчук― Да чёрт его знает. Знаешь, по-моему, только со стихами так бывает: читаешь — и мурашки по коже. И с единственным драматургом было это — с Вампиловым.
Д. Быков― А что ты у него любишь больше всего?
А. Лазарчук― Любишь, не любишь, а ценишь, наверное, «Утиную охоту».
Д. Быков― А ты можешь объяснить мне, что ты там ценишь?
А. Лазарчук― Не знаю! Нет, не могу.
Д. Быков― Меня бесит эта пьеса!
А. Лазарчук― Вот!
Д. Быков― Тебя тоже, да?
А. Лазарчук― Она не то чтобы бесит, а выводит из равновесия, выводит из себя, но оторваться не можешь.
Д. Быков― Но ведь герой омерзительный.
А. Лазарчук― Да.
Д. Быков― А пьеса хорошая.
А. Лазарчук― Да.
Д. Быков― Я очень люблю «Прошлым летом в Чулимске».
А. Лазарчук― Это попроще.
Д. Быков― Попроще, да. Ну, я вообще малый простой. «Утиная охота» — видимо, лучшее его произведение? Ну, если не считать «Двадцать минут с ангелом».
А. Лазарчук― А это вообще практически неизвестная вещь.
Д. Быков― А очень хорошая. Ну, это из «Провинциальных анекдотов», вторая часть. А почему так сложилась его судьба, что он сегодня и недооценён, и недопонят? Это что, только сибирский генезис его так сработал?
А. Лазарчук― Нет, Дима, по-моему, он просто не в струе ни тогда был, ни сейчас.
Д. Быков― «Ваше отношение к фантастике Алексея Н. Толстого?» Ну, прежде всего имеется в виду…
А. Лазарчук― Наверное, «Аэлита» и…
Д. Быков― И «Союз пяти», конечно.
А. Лазарчук― «Гиперболоид [инженера Гарина]» и «Союз пяти». У меня есть просто давняя заветная мечта — написать сценарий блокбастера, который бы соединял все эти три произведения в одно. Тем более что они, в общем-то, и есть одно произведение, все происходит в одном вымышленном мире.
Д. Быков― В мире такой Европы.
А. Лазарчук― Ну да. Вот единый мир для всех этих трёх вещей. Так что я отношусь очень хорошо.
Д. Быков― «Если вам так нравится белая идея, — спрашивает Александр, — что вы думаете об «Острове Крыме»?»
А. Лазарчук― Три четверти роман был очень хорош, а последнюю четверть он [Аксёнов] просто начал выдумывать. Когда писатель начинает выдумывать, а не идёт за пером, то она и оказалась провальной.
Д. Быков― «Что вы думаете о творчестве Леонида Каганова?»
А. Лазарчук― Из того, что я читал (я не могу сказать, что я читал всё), мне практически всё нравится.
Д. Быков― И мне нравится. И обрати внимание, что твои убеждения совершенно противоположны кагановским, но…
А. Лазарчук― Да, мы с ним ругаемся постоянно.
Д. Быков― Но взаимная любовь, так сказать, не ржавеет. Ты мне можешь объяснить, почему в среде фантастов всё-таки отношения лучше, чем в среде нефантастов?
А. Лазарчук― Потому что они ненормальные все.
Д. Быков― Пацаны, как говорит Лукин, да?
А. Лазарчук― Да.
Д. Быков― Вопрос Игоря: «Чем объяснить славу и награждённость Лукина?» Очень многим людям вообще не понятно, что за феномен Евгений Лукин; почему все фантасты встают при его появлении, а большинство нефантастов о нём не знает.
А. Лазарчук― Знаешь, это ведь действительно очень непонятная вещь для меня тоже, хотя я всегда страшно рад… Может, потому, что он так радуется этому? Поэтому ему с удовольствием…
Д. Быков― Нет, Лукин — настоящий писатель.
А. Лазарчук― Да, безусловно, настоящий писатель, настоящий поэт, он прекрасный исполнитель.
Д. Быков― Да, он и песни неплохо поёт. Я помню, что я по-настоящему его оценил после «Катали мы ваше солнце». Прелестное произведение! И очень мне нравится «Работа по специальности». Вот что ты хочешь, но «Работа по специальности» — отличный роман! Кстати, тут спрашивал человек с пневмонией. Достаньте «Работу по специальности» Лукина или «Бытие наше дырчатое» — и вся пневмония из вас вылетит, как из Лимонова она вылетела после стакана денатурата в известном его рассказе. Ну, это такой стакан денатурата.
Кстати, тут очень много вопросов: «Как вы относитесь к творчеству Лимонова?»
А. Лазарчук― К раннему — хорошему. К позднему — плохо. Вот и всё, что могу сказать. (Смех.)
Д. Быков― Интересный вопрос: «Андрей, вам за шестьдесят…» Вам за шестьдесят?
А. Лазарчук― Нет, мне до шестьдесят.
Д. Быков― До шестьдесят. «Можете ли вы оценить, что делает возраст с писателем: умнеем ли мы — или наоборот?» Видимо, вопрос от писателя («умнеем ли мы?»).
А. Лазарчук― Думаю, что мы не умнеем, это совершенно точно. Мы набираемся опыта, но вряд ли наши умственные способности от этого возрастают. Нет, не умнеем, точно.
Д. Быков― «Что вы думаете о романе Гессе «Степной волк»?»
А. Лазарчук― Я его давно читал с большим удовольствием, но сейчас я о нём уже не думаю.
Д. Быков― Ну, детский роман абсолютно.
А. Лазарчук― Да. Он уже закрылся как-то большим пластом последователей в этом направлении.
Д. Быков― Да и жизнь стала, знаешь, настолько сложной, что уже как-то недо Волка с его страданиями.
А. Лазарчук― Да. А так — очень прекрасный и милый роман. У Гессе вообще, по-моему, плохих вещей нет.
Д. Быков― Ну, «Паломничество [в Страну Востока]» мне скучно было читать, честно скажу. Ну, это ладно.
«Почему у фантастов нет хороших критиков»? Ну, можно сказать, что есть, в принципе.
А. Лазарчук― А кто?
Д. Быков― Кроме Романа Арбитмана, к которому мы сложно относимся, я думаю, трудно кого-то назвать.
А. Лазарчук― Да вообще нет — ни хороших, ни плохих, мне кажется.
Д. Быков― «Читали ли вы книгу Прашкевича о Леме? Если да, то что скажете?»
А. Лазарчук― Это отличная книга.
Д. Быков― Отличная?
А. Лазарчук― Да.
Д. Быков― Мне тоже показалось, что книга отличная, хотя Лем там вышел неприятный.
А. Лазарчук― А Лем и был неприятный.
Д. Быков― А какой был Лем?
А. Лазарчук― Он был неприятный, он был высокомерный, он ненавидел человечество. При этом он гениальный писатель.
Д. Быков― Писатель гениальный. А что ты любишь больше всего? Я — «Расследование». А ты?
А. Лазарчук― А я, будешь смеяться, «Насморк».
Д. Быков― Ну, это почти то же самое. А ты тоже считаешь, что мир состоит из непонятного?
А. Лазарчук― И «Глас Божий».
Д. Быков― Вот «Глас Божий» — совершенно отличная вещь! И заметь, что она не скучная.
А. Лазарчук― Как-то я не помню, чтобы у него были скучные вещи.
Д. Быков― Нет, через «Голема» продраться совершенно невозможно!
А. Лазарчук― Хотя можно!
Д. Быков― Хотя можно. (Смех.)
Тут, кстати, сразу прилетел вопрос от того же автора: «Как вы относитесь к проблеме «Маски»?» Ну, имеется в виду повесть «Маска». Может ли система перепрограммировать себя?
А. Лазарчук― Человек поставил вопрос, на который сам не знает ответа. Я как читатель понял проблему, но ответа я тоже не знаю.
Д. Быков― Но ты можешь себя перепрограммировать, как тебя кажется?
А. Лазарчук― Нет конечно.
Д. Быков― Вопрос от Инны: «Почему так мало фантастики о любви?» (Смех.) Это очень женский, прелестный вопрос! Инна, я не издеваюсь, клянусь вам!
А. Лазарчук― Мало фантастики о любви, наверное, потому, что любовь — сама по себе фантастика, и это отдельный жанр. Любовные романы фантастичны от и до.
Д. Быков― Вот уточняет: «Если Россия слабее США, вы смиритесь с несправедливостью?»
А. Лазарчук― Нет, я пойду партизанить.
Д. Быков― Ну, как Кандид, пойдёшь ловить мертвяков.
А. Лазарчук― Да.
Д. Быков― Кстати, ты можешь объяснить (это уже от меня вопрос), почему Стругацкие из всех своих текстов больше всего любили «Улитку [на склоне]»?
А. Лазарчук― Наверное, потому, почему и я.
Д. Быков― А ты почему?
А. Лазарчук― Очень глубокая вещь. Они сумели подпрыгнуть выше макушки, сами того не ожидая, потому что они же начали делать из развлекухи совершеннейшей — и вдруг у них получился гениальный текст, который они сами не поняли.
Д. Быков― Ну, «Беспокойство», первый вариант, — тоже неплохой, кстати.
А. Лазарчук― Да, я и говорю. Но это развлекуха совершеннейшая, согласись.
Д. Быков― Ну да, конечно. А чем ты можешь объяснить, что Лес не меняется, а Институт всё-таки изменился? Сегодняшняя российская власть — это ведь не Институт, нет?
А. Лазарчук― Там же нет таких привязок конкретных. Современная российская власть — нет, это не Институт.
Д. Быков― Это скорее хоздвор этого Института, если уж на то пошло. Ну, или какая-то…
А. Лазарчук― Биостанция, я бы сказал.
Д. Быков― Биостанция! А Лес остался прежним.
А. Лазарчук― А Лес остался прежним, потому что Лес — он и есть то, в чём мы живём, не видя его; это то, что определяет структуру нашего мироздания.
Д. Быков― Ну, Лес — это будущее, как они говорят.
А. Лазарчук― Они сказали, что будущее, но они упростили этим резко, потому что Лес — это не только будущее и не совсем будущее, необязательно будущее. Лес — это нечто данное нам на расстоянии вытянутой руки…
Д. Быков― Но не понимаемое нами.
А. Лазарчук― И абсолютно непостижимое.
Д. Быков― Ты помнишь… Нет, ты не помнишь, наверное. Мне когда-то сказал Рыбаков: «Мы ждали жриц партеногенеза, а пришли партайгеноссе». (Смех.) Очень интересная формула, по-моему.
Совершенно неизбежные вопросы, достаточно часто задаваемые: «Как вы понимаете финал «Града обреченного»?» Ну, все задают этот вопрос.
А. Лазарчук― К сожалению, это не финал, а это просто оборвали, потому что надоело писать, я так думаю.
Д. Быков― А то, что он выстрелил в себя и после этого [оказывается в точке отбытия]?
А. Лазарчук― Это простой ход, в общем, напрашивающийся сразу, примитивный, резко снижающий накал вообще всего этого произведения.
Д. Быков― А про что «Град обреченный» вот для тебя? Я не считаю его лучшей вещью, но она очень важная.
А. Лазарчук― Очень важная вещь. Про сопротивление очевидным обстоятельствам.
Д. Быков― То есть эксперимент есть эксперимент, но сопротивляться надо, тем не менее?
А. Лазарчук― Да. Про соблазн постоянный опять же.
Д. Быков― Знаешь, что мешает, как мне кажется? Красное Здание мешает.
А. Лазарчук― Это просто втиснуто, действительно незачем. Возник образ, понравился — вставили.
Д. Быков― Последний вопрос этого часа…
А. Лазарчук― Я из Красного Здания только не могу забыть, кто там мог кричать…
Д. Быков― «И аняняс!»? Ленин, конечно. «Наденька, рюмку кюгасо и аняняс!» (Смех.) Вот это мы помним.
Последний вопрос: «Что вам надо, чтобы хорошо писать?» В смысле — что тебя стимулирует?
А. Лазарчук― Нужно поймать хорошую идею.
Д. Быков― А что для этого надо? Курить, пить, я не знаю, любовь?
А. Лазарчук― Да нет, знаешь, всё идёт в дело, всё в топку, всё на продажу. Ну, за хорошую идею и убить можно в конце концов.
Д. Быков― Ты изящно закольцевал! Тут, кстати, пишут из Красноярска: «Мы ваши читатели. Андрей, вы неплохо выглядите».
А. Лазарчук― Спасибо.
Д. Быков― Могу и вам это сказать. Спасибо. С нами был Андрей Лазарчук. А мы продолжим, ещё час у нас с вами на общение. Спасибо.
НОВОСТИ
Д. Быков― Мы продолжаем разговор в программе «Один». Дружный вой: «Верните Лазарчука!» Ребята, ну что же я сделаю? Лазарчук ушёл домой. Слоники устали. Ну, если его удастся вернуть, то, может быть, попробуем.
Пришла масса вопросов фантастических, фаны дружно подключились. Привет, спасибо, очень рад.
«Что вы думаете о фильме «Космическая одиссея [2001 года]»?» Считаю, что это лучший научно-фантастический фильм когда-либо снятый, наряду с «Солярисом» Тарковского. Впрочем, я думаю, он находился, конечно, под сильным влиянием, я имею в виду — Тарковский под сильным влиянием Кубрика, и это совершенно очевидно.
«Что вы можете сказать о современном состоянии фантастического кинематографа?» Мне кажется, что пока он идейно, теоретически, литературно очень сильно отстаёт от своих технических возможностей, и таких фильмов, как «Солярис», и таких книг, как «Солярис», не появляется уже очень давно.
«Случайна ли дата рождения Переца в «Улитке на склоне — 5 марта?» Нет, конечно, не случайна, абсолютно не случайна, а вполне закономерна. Кто помнит, что такое 5 марта, — по-моему, совершенно очевидно [дата смерти Сталина].
Оля из Москвы: «Слушаю ваш эфир и поражаюсь совпадению — как раз хотела спросить о «Малыше». Не кажется ли вам, что там описана как раз цивилизация люденов, причём странники поставили запрет на общение с ними. По отношению к Малышу они не вполне людены — они сделали из него такого же людена, но это сделало его уязвимым по отношению к сородичам. И ещё не факт, что это благо для него».
Хороший вопрос, Оля. Конечно, люден необязательно становится счастливее, это совершенно очевидно. Больше того — он обречён на одиночество. Единственное его преимущество в том, что он умеет сделать себя невидимым, незаметным, непонятным, он может исчезнуть из плана восприятия обычного человека. Помните, Лев Абалкин существует в том темпе восприятия, что Каммереру — очень высокому профессионалу — трудно его воспринимать. Я думаю, что главная, отличительная способность люденов заключается в том, что они умеют исчезать из нашего поля зрения. И, может быть, так получается у них, что Тойво Глумов живёт среди них, а они его не видят.
«Дочитываю «Тихий Дон». Ужасно много жестокости, крови, начиная от самоубийств до убийств: красные режут белых, казаки — и белых, и красных; Мишка Кошевой убивает деда Гришаку, Митька Коршунов — всю его семью. Неужели невозможно в этой системе остаться самим по себе — ни белым, ни красным, ни зелёным?»
Тут даже более важный вопрос, мне кажется, Вадим. Тут вопрос в том, что делает человека белым, красным или зелёным, каковы его предпосылки. Вот Григорий Мелехов не белый, не красный и не зелёный, потому что он особенный…
А, Лазарчука вернули! Лазарчука остановили у входа. Давайте сюда Лазарчука! Сбылась ваша мечта, господа! Ещё 10 или 15 минут он с нами.
То, что делает человека белым или красным, каково предрасположение его, каковы особенности его — на этот вопрос Шолохов не отвечает. Один ответ есть в «Тихом Доне»: если человек сильнее всех остальных, как Григорий Мелехов, умнее, талантливее, физически сильнее, то он не вписывается ни в одну парадигму и его отторгают все. Это верная догадка. А что делает белым или красным? Понимаете, лучше всего чувствует себя конформист, который при белых белый, а при красных красный. И то, что это век конформистов, век приспособленцев, век хамелеонов, — это тоже почувствовано у него абсолютно точно.
«В шестой раз пробую задать вопрос, — хорошо, я отвечу. — Как вы думаете, как мог Наровчатов, которого вы упомянули как слабого поэта, — не как слабого, а как неровного, — написать такую сильную прозу, как «Диспут» и «Абсолют»?»
Я не считаю ни «Диспут», ни «Абсолют» сильной прозой. Мне кажется, это уровень хорошего Пикуля. Это два рассказа Наровчатова, из которых абсолютно, на мой взгляд, гораздо сильнее рассказ о временах Екатерины Великой [«Абсолют»], когда она приказала: «А из Корпа набить чучело!» — имея в виду, что Корп — это умерший пудель. А под Корпом подразумевали его владельца, немецкого купца, подарившего его, из которого она приказала набить чучело, — и его уже чуть было не набили! Его уже там собирались поставить с протянутой рукой в назидательной позе. Ну, это такой рассказ об абсурдизме абсолютизма. Нет, у него были хорошие рассказы, хорошие такие исторические стилизации (о, пойманный идёт!), но совершенно невозможно назвать это шедеврами. Хотя, по-моему, это замечательные произведения.
Так, вернули Лазарчука — и его, естественно, начинают немедленно спрашивать. Вот тебя просят прокомментировать: что ты можешь сказать о «Космической одиссее» Кубрика?
А. Лазарчук― Для своего времени это был потрясающий фильм.
Д. Быков― А для нашего?
А. Лазарчук― Для нашего? По-моему, уже просто его закрывает большое количество снятых где-то на ту же тему, хотя, может быть, не таких умных. Всё-таки фильм Кубрика был интеллектуальный, а интеллектуального кино сейчас как-то очень трудно добыть.
Д. Быков― Представить себе.
«Можно ли сказать, что нынешнее поколение российских людей будет жить при бессмертии?» Понятно, что это перефразировано.
А. Лазарчук― Это хорошая тема. Вероятно, что-то будет в этом направлении делаться: продление жизни, перенос сознания в кристаллическую форму, разделение сознания, так сказать, на множество мозгов.
Д. Быков― Вот это интересная версия: несколько человек смогут испытывать одинаковые ощущения.
А. Лазарчук― Не совсем так. Ну, ты как бы впускаешь себе в голову квартиранта.
Д. Быков: А―а-а! А это было бы неплохо, Андрюха.
А. Лазарчук― Да.
Д. Быков― А помнишь альтруизин у Лема [притча «Альтруизин, или Правдивое повествование о том, как отшельник Добриций Космос пожелал осчастливить и что из этого вышло»], когда можно испытывать оргазм, стоя рядом с парочкой? (Смех.) Это было бы очень интересно, да.
А. Лазарчук― Я думаю, что поскольку всё это технически возможно, оно рано или поздно будет выполнено.
Д. Быков― «На днях прочитал «Кого за смертью посылать» Успенского. Там классные стихи. Расскажите о нём как о поэте. Выходил ли у него сборник стихов?» Сборника не было.
А. Лазарчук― Нет, почему?
Д. Быков― Есть?
А. Лазарчук― Сборничек. Вот только вышел ли он? Сделать-то мы его сделали… Вышел, вышел.
Д. Быков― Да? Ну, какие-то его стихи тут просят, естественно. Давайте мы его процитируем:
Аты-баты, шли солдаты.
Кем солдаты аты-баты?
Кто посмел, едрёна мать,
Их, служивых, аты-бать?
(Смех.) Это замечательный текст! Кажется, тоже из «Кого за смертью…» или из «Там, где нас нет».
А. Лазарчук― Нет, это было раньше.
Д. Быков― В «Дорогом товарище короле» была гениальная «Баллада о Политбюро». Ну и знаменитая басня:
Однажды Дурака Работа полюбила
И всё ей сделалось немило.
Не спит, не ест, глазами дико водит
И молвит примерно так:
«Ах, миленький Дурак!
Со мною вот что происходит:
Никто меня не производит!
И молча гибнуть я должна,
Хотя бываю и опасна, и трудна.
А ты хоть и Дурак, но сильный, смелый!
В объёме полном ты меня тотчас проделай!
Определённую меня ты проведи —
И отдыхать иди!»
А мне больше всего нравится басня «Блудница и Енот»:
Блудница как-то раз увидела Енота,
И тут припала ей охота…
(Смех.) Прости господи! Всё-таки Мишка — это чудо какое-то! Очень много, кстати говоря, вопросов об Успенском.
А. Лазарчук― А «Стансы до упаду»?
Д. Быков― А, вот! «[Тень Данта, или] Стансы до упаду» — чудовищное, огромное произведение.
«Чем объясняется сравнительно малая популярность Успенского вне «фантастического гетто»?» — спрашивает Антон. Вопрос гетто довольно сложный.
А. Лазарчук― Вопрос гетто на самом деле достаточно простой. Чем объясняется презрение критиков, которые не читают фантастику, а читают не пойми что, к авторам фантастики — вот этого я понять не могу. Наверное, потому что они не понимают, что там написано, и не читают.
Д. Быков― «Ваше отношение к публицистике Антона Первушина?»
А. Лазарчук― Наверное, не к публицистике, а к документалистике.
Д. Быков― Ну, назовём это так.
А. Лазарчук― Он очень интересный исследователь.
Д. Быков― Поясни людям, он исследователь чего?
А. Лазарчук― Он инженер по средствам космической связи… Нет, не космической связи. В общем, инженер-ракетчик. Ушёл в литературу, но очень много пишет о космосе, об истории покорения, о перспективах, о легендах и прочем-прочем. Эту научно-популярную ветвь его творчества я очень высоко ставлю.
Д. Быков― «Как вы относитесь к Сергею Переслегину?» Понятно, что Сергей Переслегин — это один из выдающихся исследователей.
А. Лазарчук― Мы с ним давно как-то не пересекались, поговорить не удавалось о чём-то серьёзном. Нормально я к нему отношусь.
Д. Быков― Как же ужасно будут чувствовать себя люди, знающие, что бессмертие уже завтра, а умирать придётся сегодня!
А. Лазарчук― Записываться надо, сохраняться. (Смех.)
Д. Быков― Об этом есть очень хороший рассказ у Ильи Кормильцева. А ты веришь в то, что человека возможно будет записать?
А. Лазарчук― Думаю, что да.
Д. Быков― А ты хотел бы существовать в таком качестве?
А. Лазарчук― Вопрос не в том, хотел бы я, а возможно ли это технически? Что касается меня — ну, не знаю. Может, хотел бы. Может — нет. Я к этому без эмоций отношусь.
Д. Быков― «В России традиционно уважали диссидентов. Сегодня большинство их презирает. Чем вы это объясняете? Хорошо ли это?»
А. Лазарчук― Я не уверен, что большинство. Хотя чёрт его знает… Не задумывался.
Д. Быков― Ну, «либерасты», всё это.
А. Лазарчук― Так «либерасты» и диссиденты — разные люди.
Д. Быков― Ну-ка, ну-ка, подробнее.
А. Лазарчук― Диссиденты — это совершено определённая страта, которая существовала на исходе советской власти. С ними всё понятно, их действительно уважали. А почему сейчас к ним относятся с презрением — я не знаю. Я не сталкивался с таким. А что касается современной оппозиции так называемой, то, конечно, драть надо как Сидорову козу, — портят хороший продукт.
Д. Быков― Какой продукт?
А. Лазарчук― Протест переводят на говно.
Д. Быков― Отважное заявление. Хорошо, а каким должен быть этот протест, чтобы не переводиться на этот продукт?
А. Лазарчук― Умный должен быть.
Д. Быков― Ну как?
А. Лазарчук― Как? Вот сейчас тебе всё и расскажу.
Д. Быков― А ты занимаешься им вообще?
А. Лазарчук― Ну, занимаюсь.
Д. Быков― Так и хочется расспросить, но как-то удерживает опасение за твою и без того хрупкую жизнь. (Смех.)
«Почему в России до сих пор нет масштабного романа о Великой Отечественной войне?»
А. Лазарчук― Подожди, а Симонов?
Д. Быков― Ну, Гроссман. Но имеется в виду — такого, как «Война и мир», чтобы было уж прям…
А. Лазарчук― По-моему, то, что написал Симонов…
Д. Быков― А ты давно перечитывал Симонова? Это плохой роман, Андрей.
А. Лазарчук― Который? Во-первых, их много.
Д. Быков― Ну, трилогию я имею в виду, «Солдатами не рождаются».
А. Лазарчук― Трилогия, лопатинский цикл…
Д. Быков― Вот лопатинский цикл — замечательные романы: «Мы не увидимся с тобой», «Так называемая личная жизнь». Да, это хороший роман.
А. Лазарчук― «Двадцать дней без войны» опять же.
Д. Быков― Да, это замечательная проза. А вот предыдущий — «Солдатами не рождаются» — мне не нравится.
А. Лазарчук― «Солдатами не рождаются» — там просто вставлен большой пласт позднейших, шестидесятнических…
Д. Быков― И никому не нужного Синцова, не самого приятного персонажа.
А. Лазарчук― Да. А вот «Живые и мёртвые» — роман замечательный.
Д. Быков― Вопрос от Андрея тоже: «Если бы вы жили в Донецке, вы бы партизанили. А если бы жили в Киеве, пошли бы на Майдан?»
А. Лазарчук― Нет, на Майдан бы не пошёл.
Д. Быков― Почему?
А. Лазарчук― Я тогда уже понимал, что это такое.
Д. Быков― Ну а что это такое?
А. Лазарчук― Что это дымовая завеса государственного переворота. Нафиг я буду участвовать в тех действиях, которые мне, собственно говоря, глубоко против сердца?
Д. Быков― А как ты разделяешь революцию и государственный переворот?
А. Лазарчук― Это не революция, там не было революции.
Д. Быков― Ну как же не было?
А. Лазарчук― Строй не сменился.
Д. Быков― А в результате революции необязательно меняется строй.
А. Лазарчук― Меняется строй. Иначе какая это революция?
Д. Быков― Ну как? В некотором смысле он, конечно, сменился…
А. Лазарчук― Как?
Д. Быков― Потому что это был такой олигархат, а сейчас…
А. Лазарчук― И сейчас олигархат. (Смех.)
Д. Быков― Другой олигархат.
А. Лазарчук― Абсолютно те же лица. Басня «Квартет».
Д. Быков― То есть ты полагаешь, что они просто пересели?
А. Лазарчук― Естественно.
Д. Быков― А на что может смениться сегодня социальный строй? В Ливии он тоже не сменился.
А. Лазарчук― Там распад.
Д. Быков― Ну как ты видишь?
А. Лазарчук― Я подозреваю, что сейчас изменить в результате революции социальный строй можно только в сторону…
Д. Быков― Распада, деградации, энтропии.
А. Лазарчук― Перехода на более низкую стадию развития.
Д. Быков― Вот у меня вопрос: как по-твоему, почему Дяченко перестали писать? И что ты любишь у Дяченко больше всего? (Пауза.) Долгая пауза.
А. Лазарчук― Нет, я просто не могу выделить. У них, во-первых, как-то очень ровно.
Д. Быков― Ровно, но они хорошие вещи пишут.
А. Лазарчук― Выдирается из всего, на мой взгляд, неудачный роман «Армагед-дом»…
Д. Быков― А мой любимый.
А. Лазарчук― Который в то же время мне нравится.
Д. Быков― Самый точный, да.
А. Лазарчук― Всё остальное…
Д. Быков― «Пандем» — неплохая вещь, по-моему.
А. Лазарчук― Нет, «Пандем» — по-моему, как раз плохая вещь. Это уже искусственно всё.
Д. Быков― Андрюха, ну ты строг невероятно!
А. Лазарчук― Да, я строг невероятно. Редкая сволочь…
Д. Быков― Долетит до середины Днепра. (Смех.)
«Видели ли вы фильм «Она»? И можно ли влюбиться в компьютерную программу?»
А. Лазарчук― Нет, я не видел фильм «Она». А влюбиться, наверное, можно. Тут нет ничего сверхъестественного.
Д. Быков― Ты помнишь, я носился с идеей — скачать компьютерного человека, подселить к тебе человека?
А. Лазарчук― Да-да-да.
Д. Быков― Ты веришь в перспективу искусственного интеллекта? Вот вопрос.
А. Лазарчук― Он неизбежно будет.
Д. Быков― Неизбежно?
А. Лазарчук― Да. Причём мы не знаем… Он вылезет откуда-то из такой дыры, о которой мы даже не догадываемся. Допустим, первыми искусственный интеллект обретут сексуальные игрушки.
Д. Быков― Потому что это им нужно, понимаешь. Потому что скучно же иметь дело с неинтеллектуальной игрушкой.
А. Лазарчук― Вот! То есть это будет обязательно.
Д. Быков― То есть он востребован? А всё, что востребовано…
А. Лазарчук― Не потому, что он востребован, а потому, что он возможен.
Д. Быков― Ну как же он возможен? Как ты оцифруешь свободную волю?
А. Лазарчук― Ты знаешь, никто не пытался ещё. Может быть, она не свободная воля, а бросок кубика.
Д. Быков― Ох, господи, какой ужасный взгляд на вещи! Вот это взгляд врача, в чистом виде.
А. Лазарчук― «Патанатома» скажи ещё.
Д. Быков― Совершенно верно. Тут, кстати, многие спрашивают (Булгаков, Чехов, Лазарчук — «Гомер, Мильтон и Паниковский»): «Чем объясняется наличие большого количества врачей в литературе?»
А. Лазарчук― Потому что приходится очень много писать от руки, писать точно и так, чтобы не было возможности понять двусмысленность. Либо наоборот — написать так, чтобы…
Д. Быков― Чтобы вообще уже не понял никто.
А. Лазарчук― Да, чтобы скрыть свою мысль и чтобы никто не подкопался.
Д. Быков― Помнишь, как Стругацкий говорил: «Писать надо либо о том, что знают все, либо о том, чего не знает никто».
А. Лазарчук― По-моему, это не он. Это он кого-то цитировал.
Д. Быков― Может быть. Но формула совершенно замечательная.
«Что вы думаете о сценарии Леонова «Бегство мистера Мак-Кинли»?»
А. Лазарчук― Сценарий я когда-то прочитал с удовольствием, а фильм я посмотрел без удовольствия.
Д. Быков― Ну, сценарий ты прочитал, потому что он был напечатан в книге «Нефантасты в фантастике».
А. Лазарчук― Да.
Д. Быков― Совершенно верно. А ты веришь в перспективу этой заморозки?
А. Лазарчук― Нет, заморозка — это слишком просто. Вот такая заморозка, как мы её понимаем, то есть берётся тельце и погружается в жидкий азот, — это невозможно.
Д. Быков― А как?
А. Лазарчук― Ну как? Создаются специально нанороботы, которые вводятся тебе в переносное русло. Они расползаются по твоему организму, они его запоминают. Они его консервируют, а потом воспроизводят.
Д. Быков― Замечательный вопрос про «Старшего брата Иешуа». Пишет Лидия, что теперь она понимает, как всё было на самом деле, цитируя Томаса Манна, разумеется. «Сами ли вы придумали эту версию или позаимствовали из какого-либо источника?»
А. Лазарчук― Нет, я не придумывал версию. Поскольку я довольно много почему-то вдруг начал читать на эту тему, версия родилась сама.
Д. Быков― Ты можешь тогда рассказать эту версию? Потому что есть люди, которые не читали роман.
А. Лазарчук― Версия состоит в том, что Иешуа был действительно царским сыном и в перспективе царём Иудейским, которого в очень опасное время (там назревали события покруче гражданской войны) поместили, так сказать, в надёжные руки приёмных родителей.
Д. Быков― То есть, условно говоря, к Марии и плотнику?
А. Лазарчук― Да, к Марии и Иосифу. И он, собственно говоря, у них вырос как родной сын, не был долгое время раскрыт. А потом, когда пришла пора ему, что называется, брать власть, он…
Д. Быков― Обзавёлся «рыболовным кружком».
А. Лазарчук― Он обзавёлся «рыболовным кружком», да. Меня всё время спрашивают: «Ну как? Вот царь, он уже пришёл, он уже в столице, его уже все признают. Почему же он не брал власть-то?»
Д. Быков― Ну и как ты на это отвечаешь?
А. Лазарчук― Вот никак. Я на это никак не отвечаю. Так случилось.
Д. Быков― Нет, это вечный вопрос про Христа: он же мог спастись, но не спасся.
А. Лазарчук― Очевидно, он не мог использовать то, что досталось «мне от тебя».
Д. Быков― То есть он по моральным соображениям, а не по каким-то внешним причинам?
А. Лазарчук― По моральным соображениям.
Д. Быков― Естественно, вопрос: «Как вы относитесь к другим историческим сочинениям на эту тему?» И в частности, естественно, к евангельской линии «Мастера и Маргариты».
А. Лазарчук― Евангельская линия «Мастера и Маргариты» ведь… Ой, это очень долгий разговор.
Д. Быков― Да и ради бога. Ну, тебе нравится?
А. Лазарчук― Дело в том, что евангельская версия «Мастера и Маргариты», во-первых, представляет собой завуалированное повествование Булгакова о собственных отношениях с властью, личный опыт.
Д. Быков― Ну да, правильно.
А. Лазарчук― А во-вторых… Нет, всё нормально. Просто дело в том, что я эту версию не принимаю, она не моя.
Д. Быков― Тебе интересно, что он был царский сын.
А. Лазарчук― Мне интересно, что было на самом деле. Мне неинтересно, когда что-то решается вмешательством высших сил.
Д. Быков― Хороший вопрос от Коли: «Согласны ли вы, что богатые — не такие люди, как мы с вами?» Имеется в виду, конечно, реплика из Фицджеральда.
А. Лазарчук― Вообще не замечал такого.
Д. Быков― А я замечал.
А. Лазарчук― Серьёзно?
Д. Быков― Вот интересный вопрос (понятно, что имеется в виду последний роман Мирера «Мост Верразано»): «Нефть — это проклятие или благословение для страны?» У Мирера, как вы помните, если кто читал роман, там описано общество, в котором построили сверхаккумуляторы — и нефть стала не нужна.
А. Лазарчук― Там не сверхаккумуляторы, а там холодный термояд.
Д. Быков― Ну да. Грубо говоря, коробка, которая может двигать бесконечно всё.
А. Лазарчук― Рано или поздно к этому всё и вырулит, я так думаю. Может быть, это не будет каждый реактор в своей коробке. Но уже размножительные реакторы строят в промышленном масштабе. Можно сказать так: проблема энергетическая, в принципе, решена. Нет этого барьера, которым пугал тот же Римский клуб. Нефть будет востребована хотя бы как сырьё для химической промышленности, её необязательно сжигать.
Д. Быков― Ну да, сказал же Менделеев, что «можно топить и ассигнациями». Но к вопросу: то, что у России много нефти — это проклятие её или благословение?
А. Лазарчук― Вот у Норвегии много нефти. Это её проклятие или благословение?
Д. Быков― Послушай, у Норвегии совершенно другая история, и она иначе этой нефтью распоряжается.
А. Лазарчук― Как иначе? Точно так же — она её продаёт, выручает, складывает в банк.
Д. Быков― Но она же не только её продаёт?
А. Лазарчук― Только.
Д. Быков― Только, да? Интересно, не думал я. Ну, хорошо. Для Норвегии — думаю, благословение. Для России — не знаю. Ты как думаешь?
А. Лазарчук― Я думаю, что и то, и другое. Может же так быть, что одно и то же явление является и в плюс, и в глубокий минус. Однозначно не скажешь — и не потому, что невозможно сказать, а потому, что в принципе невозможно определить. Оно «и…, и…».
Д. Быков― Вот неизбежный и важный вопрос: «Предполагаете ли вы, что изменится биологический носитель?» Ну, скажем, что человек может трансформироваться — ухо на руке и т.д.
А. Лазарчук― Я думаю, что так или иначе это будет происходить постепенно.
Д. Быков― В какую сторону?
А. Лазарчук― Да необязательно «в какую сторону». Главное — когда это научатся делать… А это научатся делать, потому что уже видно, что препятствий к этому, пожалуй, кроме моральных запретов, нет. А когда где-то припечёт, моральные запреты мгновенно исчезают.
Д. Быков― То есть и запрет на клонирование будет преодолён?
А. Лазарчук― Клонирование — я думаю, бессмысленная вещь.
Д. Быков― Как и воскрешать покойников.
А. Лазарчук― Ты воскресишь его тело, но не…
Д. Быков― Не мозг. То есть это будет вот этот фантом из «Пикника [на обочине]»?
А. Лазарчук― Да, он будет похож — и всё.
Д. Быков― А душа никак?
А. Лазарчук― Что касается души, внутреннего состояния, так сказать, сознания. В принципе, сейчас народ подумывает о том, как бы это действительно записать и воспроизвести.
Д. Быков― То есть только копировать?
А. Лазарчук― Пока — копировать.
Д. Быков― По-моему, первыми это описали Стругацкие в «Полудне», если я ничего не путаю.
А. Лазарчук― Был у них такой рассказ.
Д. Быков― Где профессор этот, помнишь, японец?
А. Лазарчук― Я не уверен, что они описали это первыми, но такой рассказ у них был — «Свечи перед пультом».
Д. Быков― Да, совершенно верно.
Очень интересный вопрос Максима (и я тоже хотел бы присоединиться): «Как вы понимаете рассказ Гансовского «День гнева»?» Кстати, как правильно — Севе́р Гансовский или Се́вер всё-таки?
А. Лазарчук― Он говорил — Се́вер.
Д. Быков― Се́вер? А по-моему, Севе́р, потому что у римлян принято… Ну, бог с ним. Как ты понимаешь «День гнева»? Я вот не могу ответить на этот вопрос. Я понимаю, как «Полигон» можно истрактовать. Если кто не знает, «День гнева» — это самый популярный рассказ Севера Гансовского, который действительно… Ну, про атарков. Не буду вам рассказывать, что это такое. Он однозначной трактовке не поддаётся. Ты помнишь его?
А. Лазарчук― Конечно, помню. Я пытаюсь сказать, что действительно хотел сказать автор своим произведением.
Д. Быков― Там есть какая-то мысль.
А. Лазарчук― Да, там есть что-то неуловимое и сложное.
Д. Быков― Он пытается объяснить, что делает человека человеком.
А. Лазарчук― Дело в том, что он и атарков-то в конце концов увидел людьми. Вот в чём дело.
Д. Быков― Да. Больше того — у атарков есть солидарность, а у людей она просыпается только в конце. Помнишь, когда фермеры начинают объединяться? Кстати, это интересная мысль.
А. Лазарчук― Доведённые до отчаяния фермеры начали…
Д. Быков― Начали сопротивляться, да, разумеется. Кстати, если это действительно кому-то интересно, братцы, вы прочтите сейчас этот рассказ. Очень многие спрашивают, что почитать интересного. Это дико увлекательный рассказ! И моя мечта — сделать когда-нибудь фильм по нему.
А. Лазарчук― А фильм был.
Д. Быков― Был?
А. Лазарчук― Да.
Д. Быков― А я не знал. Ну, это не сложно — там они всю дороги едут, больше ничего. Просто прочитайте, потому что это очень хорошая, страшная история с очень неоднозначным финалом.
Тут очень многие спрашивают: «Кто ещё из фантастов семидесятых годов заслуживает внимания?» Михановский, харьковский автор.
А. Лазарчук― Михановский.
Д. Быков― А он жив, кстати?
А. Лазарчук― Не знаю.
Д. Быков― Сейчас уточню. Ещё кто?
А. Лазарчук― Ларионова.
Д. Быков― Ларионова — замечательный писатель. Это к вопросу о женщинах, кстати говоря.
А. Лазарчук― Почему-то ныне забытый Пухов.
Д. Быков― А я его совсем не помню.
А. Лазарчук― Он вообще с очень интересными идеями.
Д. Быков― Ну назови хоть одно его произведение… Слава богу, жив Михановский, дай бог ему здоровья, харьковский автор, 84 года. Привет ему большой! Надо найти его. Я «Двойников» когда-то читал с огромным интересом.
А. Лазарчук― Нет, можно набрать, из семидесятых годов можно набрать достаточно много.
Д. Быков― Мне чрезвычайно нравился Емцев.
А. Лазарчук― Журавлёва, Емцев.
Д. Быков― Журавлёва, Емцев, да. Ну, надо сказать, что и Парнов — неплохой писатель.
А. Лазарчук― Ну, они вдвоём были.
Д. Быков― И вдвоём, и поврозь. Емцев отдельно интереснее.
А. Лазарчук― Чем вдвоём?
Д. Быков― Да. «Притворяшки» — великолепная вещь, по-моему.
А. Лазарчук― Может быть.
Д. Быков― Помнишь ты её, да?
А. Лазарчук― Да. Войскунский с Лукодьяновым — безусловно.
Д. Быков― Как-как?
А. Лазарчук― Войскунский и Лукодьянов.
Д. Быков― А я ничего у них не читал. Расскажи.
А. Лазарчук― А зря.
Д. Быков― А что там?
А. Лазарчук― «Плеск звёздных морей» и «Экипаж «Меконга» — это надо читать обязательно. И главное, что мы Мирера упомянули, его неудачный роман, а его самый знаменитый — «Главный полдень».
Д. Быков― А про что там?
А. Лазарчук― Про вторжение.
Д. Быков― Кого? Куда?
А. Лазарчук― Пришельцев.
Д. Быков― «Что вы можете сказать о прозаике Сергее Павлове?» А я не знаю такого прозаика.
А. Лазарчук― Прозаик Сергей Павлов. Далёкая… ой, не далёкая, а звёздная…
Д. Быков― Лунная!
А. Лазарчук― «Лунная радуга», да.
Д. Быков― Не читал.
А. Лазарчук― «Лунная радуга» мне не пошла, не в моём вкусе. Но то, что мне у него понравилось, — это «Чердак Вселенной», небольшая повесть, но обалденно написанная.
Д. Быков― Ура, отпускаем Лазарчука! Следующая четверть — лекция. А потом — наконец спать.
РЕКЛАМА
Д. Быков― Мы продолжаем разговор. Сейчас будет обещанная лекция про Сашу Чёрного и сатириконцев в целом.
Это довольно непростая тема, как вы понимаете, потому что есть у меня такая концепция, что всякий поэт всегда приходит как бы в двух версиях. Сначала приходит его несовершенный, как бы пробный вариант, — как пробным вариантом Пушкина был Батюшков или Жуковский, как пробным вариантом Окуджавы был Светлов. Вот Маяковский появился сначала в образе Саши Чёрного. Саша Чёрный, может быть, и глубже в каком-то смысле, и неоднозначнее, и у него были большие потенции развития, но той силы, которая была у Маяковского, у него не было. И мировоззрения (к вопросу о мировоззрении) у него тоже не было, он человек недооформленный как бы. Он великолепно выражает те же чувства… Он такой «русский Гейне» — тоже со своей больной еврейской темой, тоже со своей раздвоенностью, со своей мизантропией. Я всегда говорил (простите, повторюсь) о том, что поэт — всегда преодоление какого-то неразрешимого, мучительного противоречия. Есть неразрешимое противоречие и в Саше Чёрном, оно состоит в мизантропии и сентиментальности. Он очень любит детей, он любит стариков, как Штирлиц, а людей не любит.
Набив закусками вощёную бумагу,
Повесивши на палки пиджаки,
Гигиеническим, упорно мерным шагом
Идут гулять немецкие быки.
Идут за полной порцией природы:
До горной башни «с видом» и назад,
А рядом их почтенные комоды
Подоткнутыми юбками шумят.
Влюблённые, напыживши ланиты,
Волочат раскрахмаленных лангуст
И выражают чувство деловито
Давлением локтей под потный бюст.
Мальчишки в галстучках, сверкая глянцем ваксы,
Ведут сестёр с платочками в руках.
Тут всё: сознательно гуляющие таксы
И сосуны с рожками на шнурках.
Деревья ропщут. Мягко и лениво
Смеётся в небе белый хоровод,
А на горе пятнадцать бочек пива
И с колбасой и хлебом — пять подвод.
Именно из этого стихотворения целиком вырос рассказ Набокова «Облако, озеро, башня», написанный 27 лет спустя, потому что это стихи 1910 года. Удивительно, что Набоков, ненавидя Маяковского, называя его своим тёзкой и относясь к нему с крайне насмешливой брезгливостью, обожал Сашу Чёрного, писал восторженные рецензии на его стихи, на его прозу, восторженно упоминал, что всегда какое-нибудь маленькое и симпатичное животное живёт в уголке его стихов. И, конечно, «Облако, озеро, башня» — всё здесь есть. Кстати, есть и облачный хоровод в небе, белый хоровод. Есть и радость прогулки: вот эти немецкие быки, закуски в вощёной бумаге, и комоды в подоткнутых юбках, и то, что они сладко молвят «Ах!». «Идёт ферейн «Любителей прогулок». По-моему, никто ещё не проследил (дарю идею) связь между стихотворением Саши Чёрного «Ins Grüne» и произведением Набокова, написанный уже в германской эмиграции. Здесь тоже та же ненависть к человеку и любовь к тому, что его окружает: к природе, к животным, к зверью несчастному — к тому, что человек загаживает; вот «бессмертной пошлости людской», ненависть к этой бессмертной пошлости.
Чем Саша Чёрный отличается от Маяковского? Ведь они очень близки своей ненавистью к быту, ненавистью к человеческой природе, они близки своим смакованием чудовищных, омерзительных деталей. Ну, знаменитое, помните:
«Устали, Марья [Варвара] Петровна?
О, как дрожат ваши ручки!» —
Пропел [шепнул] филолог любовно,
А в сердце вонзились колючки.
«Устала. Вскрывала студента:
Труп был жирный и дряблый.
Холод… Сталь инструмента.
Пальцы [руки], конечно, иззябли.
Потом у Калинкина моста
Смотрела своих венеричек.
Устала: их было до ста.
Что с вами? Вы ищете спичек?
Ну, мы всё это помним. «Возьмите варенья,— // Сама сегодня варила — Я роль хозяйки забыла».
Конечно, Саша Чёрный — в некотором смысле генеральная репетиция Маяковского и в плане смакования этой всей ненависти, и ненависти к быту в том числе, и конечно, в плане страшной тоски по человечности, которая у Маяковского, например, в «Дешёвой распродаже» очень есть (»…за одно только слово // ласковое, // человечье»). Другое дело, что у Саши Чёрного нет тех гипербол. Но Маяковский был буквально набит, голова его была нафарширована текстами Саши Чёрного. Он при первом знакомстве с Горьким назвал его своим любимым поэтом. Вспоминает Чуковский, что он всё время его декламировал. И действительно двух поэтов любил по-настоящему Маяковский — Блока и Сашу Чёрного. И таким своеобразным синтезом блоковского отчаяния и брезгливости Саши Чёрного он и явился.
Тут надо сказать сразу, что вопрос о сатириконцах и вопрос о Саше Чёрном — это два разных вопроса, потому что сатириконцы всегда Сашу Чёрного отторгали, и он выпал в конце концов из их круга, в «Новый Сатирикон» он за Аверченко не пошёл. Но все сатириконцы были довольно разные ребята. Бухов отличается от Д’Ора, который и рисовал, и сочинял. И естественно, что сам по себе Аверченко ничего общего не имеет с Тэффи. Просто это было такое содружество необычайно талантливых людей. И раз уж весь застой Серебряного века сопровождался таким расцветом талантов, неудивительно, что и сатирические таланты тоже прекрасно себя чувствовали. Это были очень разные люди.
Саша Чёрный вообще ненавидит человеческое общество, он немножко похож на Чаплина, немножко похож на Иртеньева: такие насмешливые, с усиками мизантропы, всегда наособицу, всегда отдельно. Я думаю, что сегодня Иртеньев — такая настоящая реинкарнация Саши Чёрного. Просто ещё своего Маяковского не пришло, который взял бы его приёмы, но снабдил бы это сильными гиперболами.
Саша Чёрный привлекателен прежде всего тем, что он проговаривает вслух вещи, которые каждый таит про себя. Он поэт раздражения. Вот если Аверченко — всё-таки это такая улыбка благолепная, царящая над миром, это всё-таки харьковское веселье (он же всё-таки, в отличие от Саши Чёрного, выходец не из Западной Украины, насколько я помню, не из мрачных и серых областей, а он выходец из роскошного Харькова, из пышного юга, и сам он такой роскошный и весёлый южанин), а Саша Чёрный — это, наоборот, поэт раздражения, скудости, скуки. Вечно он Петра Первого ругает за то, что не надо было там делать столицу, потому что «девять [восемь] месяцев зима, вместо фиников — морошка», а надо было бы где-нибудь на юге. Саша Чёрный действительно постоянно проговаривает вслух то, что мы сказать не решаемся. И его муза — это муза брезгливости.
Жил на свете анархист,
Красил бороду и щёки,
Ездил к немке в териоки
И при этом был садист.
Вдоль затылка жались складки
На багровой полосе.
Ел за двух, носил перчатки —
Словом, делал то, что все.
Раз на вечере попович,
Молодой идеалист,
Обратился: «Пётр Петрович,
Отчего вы анархист?»
Пётр Петрович поднял брови
И, багровый, как бурак,
Оборвал на полуслове:
«Вы невежда и дурак».
Ну а кто не видел этого? Понимаете, любой «-ист» в России — анархист, садист, мазохист, популист — это всегда пародия. В остальном он делает то же, что и все. Просто он наметил себе такую странную маску, а убеждений его и образа жизни его это никаким образом не меняет.
Саша Чёрный — конечно, замечательный реформатор русского стиха. Не совсем это верлибры, это такие разностопные стихи, иногда дольники, но он, конечно, очень раскрепостил форму. Вот возьмите, например, такой почти верлибр:
Вы сидели в манто на скале,
Обхвативши руками колена.
А я — на земле,
Там, где таяла пена,—
Сидел совершенно один
И чистил для вас апельсин.
Оранжевый плод!
Терпко-пахучий и плотный…
Ты наливался дремотно
Под солнцем где-то на юге,
И должен сейчас отправиться в рот
К моей серьёзной подруге.
Судьба!
Ваш веер изящно бил комаров —
На белой шее, щеках и ладонях.
Один, как тигр, укусил вас в пробор,
Вы вскрикнули, топнули гневно ногой
И спросили: «Где мой апельсин?»
Увы, я молчал.
Задумчивость, мать томно-сонной мечты,
Подбила меня на ужасный поступок…
Сожрал, да.
Но дело в том, что для Саши Чёрного (кстати говоря, здесь очень важный момент), конечно, любовь осмеянию не подлежит. Много здесь вопросов: «А как вы относитесь к его любовной лирике?» Ну, она квазилюбовная, конечно. Дело в том, что у Саши Чёрного много издевательств над любовью — но только над тем, что называют любовь обыватели. Ну, помните [«Крейцерова соната»]:
Квартирант и Фёкла на диване.
О, какой торжественный момент!
«Ты — народ, а я — интеллигент, —
Говорит он ей среди лобзаний, —
Наконец-то, здесь, сейчас, вдвоём,
Я тебя, а ты меня — поймём…»
Это, конечно, измывательство, что и говорить. Но дело в том, что для Маяковского любовь квартиранта и Фёклы — это тоже омерзительно, это оскорбление самой идеи любви. Для Саши Чёрного идеальная любовь описана в стихотворении «Мой роман»:
Кто любит прачку, кто любит маркизу,
У каждого свой обман [дурман],—
А я люблю консьержкину Лизу,
У нас — осенний роман.
Свою мандолину снимаю со стенки,
Кручу залихватски ус…
Я отдал ей всё: портрет Короленки
И нитку зелёных бус.
…Лизе — три с половиною года…
Зачем нам правду скрывать?
Вот это-то и прелесть, что по-настоящему любить можно любовью отеческой, любовью соседской или любовью старшего к детям. Саша Чёрный действительно обожает этих бледных детей городских улиц, катает их в лодке, покупает какие-то сладости. Он понимает, что любить можно только тех, кто беспомощен, кто одинок; вот ребёнка можно любить чистой любовью, а всех остальных… Ну, взрослый человек вызывает у Саши Чёрного какую-то априорную брезгливость. Он любит книжки, он любит пейзажи, он любит то, чего нельзя потрогать. «Дева тешит до известного предела» [«Письма римскому другу», Бродский].
Тут многие спрашивают, есть ли у него собственно лирика. Да это всё лирика! Понимаете, не нужно думать, что лирика — это только что-то восторженное, или что-то эротическое, или что-то слащавое. Лирика может быть продиктованной и довольно мрачными эмоциями: например ненавистью, например брезгливостью. И мизантропия Саши Чёрного… Вот:
Бессмертье? Вам, двуногие кроты,
Не стоящие дня земного срока?
Пожалуй, ящерицы, жабы и глисты
Того же захотят, обидевшись глубоко…
Мещане с крылышками! Пряники и рай!
Полвека жрали — и в награду вечность…
Торг не дурён. «Помилуй и подай!»
Подай рабу патент на бесконечность.
Тюремщики своей земной тюрьмы,
Грызущие друг друга в каждой щели,
Украли у пророков их псалмы,
Чтоб бормотать их в храмах раз в неделю…
Конечно, я думаю, это немножко потом и у Блока аукнулось [«Грешить бесстыдно, непробудно»]:
…Поцеловать столетний, бедный
И зацелованный оклад.
И на подушки [перины] пуховые
В тяжёлом завалиться сне…
Да, и такой, моя Россия,
Ты всех краёв дороже мне.
У Саши Чёрного нет этого умиления. Он, наоборот, говорит:
Не клянчите! Господь и мудр, и строг, —
Земные дни бездарны и убоги,
Не пустит вас Господь и на порог,
Сгниёте все, как падаль, у дороги.
Знаете, может быть, это и жестоковато сказано, но в этом есть необходимый укол, необходимый пинок. «Больному дать желудку полезно ревеню», — писал тоже очень желчный поэт Алексей К. Толстой. Наверное, здесь имеет смысл понять, что Саша Чёрный выполняет важнейшую роль санитара леса в русской поэзии, он возвращает лирике её полновесность, полноценность. У него есть стихи, исполненные глубочайшей тоски, например:
Хочу отдохнуть от сатиры…
Ну просто хочется запеть на мотив Градского! Потому что, по-моему, лучший вокальный цикл Градского — это, конечно, его сатира на стихи Саши Чёрного.
Хочу отдохнуть от сатиры…
У лиры моей
Есть тихо дрожащие, робкие [лёгкие] звуки.
Усталые руки
На умные струны кладу,
Пою и в такт головою киваю…
Васильевский остров прекрасен,
Как жаба в манжетах.
Отсюда, с балконца,
Омытый потоками солнца,
Он весел, и грязен, и ясен,
Как старый маркёр.
Над ним утомлённая [углублённая] просинь
Зовёт, и поёт, и дрожит…
Задумчиво осень
Последние листья желтит…
И так далее. Понимаете, в этом есть редкая такая нота, очень редкая в русской поэзии, — нота брезгливого умиления всё-таки, некрасовская такая.
Саша Чёрный — конечно, во многих отношениях поэт, как сказал Маяковский, «гейнеобразный», но у Гейне гораздо больше было так называемой романтической иронии, а у Саши Чёрного, конечно, достаточно жёсткая насмешка преобладает над всем. Ну и откуда было бы взять ему романтическую иронию? У него совершенно нет веры в будущее, он и революции никакой не желает, но у него есть вера, может быть, в какой-то бессмертный инфантилизм, в то, что люди когда-то станут подобны детям. В этом смысле как раз он поэт довольно христианский («Будьте, как дети, и войдёте в Царство Небесное»). Лучшее, что он написал… ну, не лучшее, а самое умильное и трогательное, что он написал, — это детские стихи. И неслучайно начал он со стихотворения «Колыбельная»: «Спи, мой птенчик, спи, мой чиж… // Мать уехала в Париж».
Конечно, очень многие тексты Саши Чёрного ушли в речь. Вспомните «Песнь песней»: «Царь Соломон сидел под кипарисом // И ел индюшку с рисом». Ну, там, где царю Соломону скульпторы по его описаниям создают портрет Суламифи, по всем его гиперболам: «Рот, как земля Ханаана, // И брови, как два корабельных каната». И тогда ему объясняют: «Но клянусь! В двадцатом веке по рождении Мессии // Молодые человеки возродят твой стиль в России…». Это довольно жёсткая пародия на пышную барочную поэтику Серебряного века.
Ушли в речь его замечательные цитаты, типа «Есть ли у нас конституция, Павел?» и так далее. Ушли его знаменитые политические стихи: «Давайте спать и хныкать // И пальцем в небо тыкать»; «Отречёмся от старого мира… // И полезем гуськом под кровать». Всё это, безусловно, стало частью языка. Почему? Не только потому, что это афористично и ловко сделано, а прежде всего потому, что это выражает наши собственные заветные эмоции, наши собственные невысказанные тайны. Помните:
Жить на вершине голой,
Писать простые сонеты…
И брать от людей из дола
Хлеб, вино и котлеты.
А кто из нас не желал о чём-то подобном, не мечтал о чём-то подобном?
Конечно, Саша Чёрный — поэт жестокий и принципиально антиэстетичный. И всё-таки мы любим его за то, что это один из последних в России поэтов по-настоящему живого чувства — не плакатного, не мёртвого. Маяковский довёл его приёмы действительно до плакатности, до грубости и до омертвения, что там говорить. Отсюда — некоторая тупиковость лирического пути Маяковского. У Саша Чёрного были варианты развития, и у него, прямо скажем, поздние его стихи совершенно не хуже ранних, и более того — в каком-то смысле они умиротворённее, умилённее. Он был поэт эволюционирующий, и это чрезвычайно мило. Почему? Может быть, потому, что люди, которых он видел — вот эти страшные, брезгливо им описанные обыватели, — они под конец превратились в полунищих эмигрантов, в разорённых петербуржцев и москвичей. Портрет приготовишки упоминается у него в военных стихах, потому что раньше это была пошлость («Ревёт сынок. Побит за двойку с плюсом»), а когда началась война, эта пошлость стала вызывать умиление.
Тут хороший вопрос: почему Саша Чёрный пошёл на войну? Он действительно добровольцем пошёл, хотя он и как еврей не подлежал призыву, и как неблагонадёжный тоже не подлежал. Да он даже по возрасту не подлежал — не будем забывать, ему было 34 года (даже больше, по-моему). И он пошёл на войну, тем не менее, и пошёл добровольцем. Два поэта записались добровольцами… Ну, ещё Лившиц, которого, по-моему, не взяли. Маяковский, кстати, порывался, но его не пустили из-за неблагонадёжности, и он потом называл это одним из добрых дел московской полиции. Пошёл Гумилёв и Саша Чёрный — вот две таких крайности. Гумилёв пошёл, потому что он романтический поэт, акмеист, и он должен быть там, где воинская доблесть! Немножко лазарчуковский такой взгляд на вещи, точнее у Лазарчука — гумилёвский: что «война — это великая переделка мира», «иногда хочется пострелять». Хотя тут уже пришёл шквал негодующих комментов, и я чувствую, сколько мы ещё пожнём завтра.
А Саша Чёрный пошёл по другим причинам. Вот он — такой поэт, такая боль мира, страданий мир, трещина проходит через его сердце, и он должен быть на войне. И надо сказать, что военные стихи Саши Чёрного удивительно трогательны, и как-то по-новому он оценил человечность. Вот он, ненавидя всё человеческое в период с 1905-го по 1914-й — в период наивысшей его славы, — в 1914-м он понял, что человеческое кончается, и в его стихах зазвучала какая-то нота живая, горькая и необычайно трогательная. Поэтому я его стихи предреволюционные ценю необычайно высоко. А потом, как и у всей русской поэзии, начиная примерно с 1916 года, у него пошёл период лирического молчания по совершенно понятной причине: потому что всегда, когда замирает жизнь, когда происходит что-то главное, здесь Господь как бы вешает какую-то завесу.
Вот Саша Чёрный поздний, образца 1922 года:
Грубый грохот Северного моря.
Грязным дымом стынут облака.
Чёрный луг, крутой обрыв узоря,
Окаймил пустынный борт песка.
На рыбачьем стареньком сарае
Камышинка жалобно пищит,
И купальня дальняя на сваях
Австралийской хижиной торчит.
Но сквозь муть маяк пробился [вдруг брызнул] светом,
Словно глаз из-под свинцовых век:
Над отчаяньем, над бездной в мире этом
Бодрствует бессоный человек.
Какая неожиданная вещь! 1922 год! Бессоный человек. То, что раньше ему представлялось бессмертной пошлостью, теперь представляется бессмертной мыслью. И это для Саши Чёрного прекрасная эволюция.
А закончить хочется мне чрезвычайно оптимистичным его стихотворением [«Диета»]:
Получая аккуратно
Каждый день листы газет,
Бандероли не вскрывая,
Вы спокойно, не читая,
Их бросайте за буфет.
Читайте Сашу Чёрного, а газет не читайте — и вы получите полное представление о том, как всё устроено.
Услышимся через неделю. Пока!
*****************************************************
27 апреля 2016
-echo/
Д. Быков― Добрый вечер, дорогие полуночники! Проблема в том, что сегодня у нас с вами всего час. Ну, так вышло, что я не мог подмениться ни на какой другой день — я улетаю. Улетаю я в среду на четыре дня всего, опять с концертами и лекциями, поэтому так получается, что мы сегодня говорим с вами только час. Ну, ничего страшного, в прошлый раз было три часа — соответственно, мы как-то немножко более или менее выходим в ноль. Я попробую сегодня обойтись без лекции и поотвечать только на вопросы, касающиеся, понятное дело, в основном личной проблематики, личных моих вкусов и рекомендаций.
Подавляющее большинство людей просит лекцию о Балабанове, а Балабанова я не хочу укладывать в короткий срок. Это серьёзный разговор на полчаса, если не на час. Поэтому, поскольку я получил больше 20 заявок на него, то Балабанов — наша следующая тема. Это не совсем литература, хотя Балабанов сам сценарист большинства своих картин, и именно по сценариям мы можем судить о многих не поставленных вещах — например, об «Американце», например, о частично осуществлённой «Реке» и так далее. И последний сценарий, опубликованный в «Сеансе», по-моему, самый безумный, — он тоже, к сожалению или к счастью, не знаю, но остался литературным произведением, синопсисом. И мы обо всём этом поговорим. А пока я отвечаю на то, что пришло.
Имея в виду моё давнее любовное отношение к рассказу Урсулы Ле Гуин «Ушедшие [уходящие] из Омеласа»: «Куда уйти из Омеласа? Куда они все уходят? Когда вы будете готовы уйти, вы поймёте куда», — кандидат психологических наук, кстати, Виктор (фамилию уж я не озвучиваю).
Видите ли, Виктор, во-первых, действительно, куда уйти из Омеласа — совершенно непринципиально; мир велик. Но, во-вторых, мне вспоминается моё интервью с Верой Хитиловой, постановщицей фильма «Турбаза «Волчья», — фильма, который я очень люблю и который я пересматривал бесконечно. И вот я ей говорю: «Вера, какой прекрасный у вас финал, когда они едут на этом подъёмнике, и звучит мужской хор, и дети сбегают из этой страшной турбазы «Волчья», где инопланетяне пытались их натравить друг на друга». И Хитилова, глядя на меня из-за своих знаменитых чёрных очков, спрашивает: «А почему вы думаете, что они едут в какое-то хорошее место? Они просто едут на другую турбазу «Волчью», несколько большего размера». Это очень точная мысль.
Конечно, уйти из Омеласа можно только в другой Омелас, но важно, что вы уходите. Важно, что вы своим фактом ухода не соглашаетесь уже с тем, что ребёнок-олигофрен обгаженный сидит в этой комнате и продолжает собой уравновешивать благоденствие Омеласа. Кстати говоря, я думаю, что это лучший фантастический рассказ, написанный по-английски в XX веке. Весь Брэдбери, весь Азимов, весь Кларк не написали такого рассказа. Я думаю, что он, может быть, сравним только с самыми мощными русскоязычными или японскими текстами. Это просто лучшее, что по-английски в XX веке написано в жанре новеллы.
Вот довольно лихой вопрос: «Как вы считаете, имеет ли смысл сравнение между старым и новым НТВ, как между модернизмом и постмодернизмом?»
Миша, постмодернизмом было уже и старое НТВ. И появление там Парфёнова — величайшего русского телевизионного постмодерниста — тому порукой. И тамошние люди уже в девяностые годы (что меня довольно резко от них отвращало) не слишком верили в то, что говорили, или во всяком случае осуществляли заказ, который пусть и исходил от хозяина канала с полным правом, но тем не менее это был заказ. Уже тогда было понятно, что и Аркадий Мамонтов, и Мацкявичюс, и Корчевников — это люди, скажем так, отчасти манипулируемые. Хотя я подчёркиваю, что это моя личная оценка. Постмодернизм там уже господствовал. А то, что происходит сейчас, довольно точно совпадает (приятно всегда лишний раз с самим собой согласиться) с моим собственным определением: «Фашизм как высшая стадия постмодернизма». Я год назад делал такой доклад в Питтсбурге — и вызвал тем самым, как сейчас помню, довольно бурную дискуссию. Но эти люди просто не смотрели этого телеканала, поэтому и не понимали, о чём идёт речь.
«Мне хотелось бы узнать ваше мнение, — спрашивает Володя, — о романе «Ложится мгла на старые ступени» Чудакова. Мне роман понравился, но и знаком с теми, кому не понравился совсем. Что ещё можете сказать об этом авторе?»
Об этом авторе, как и писателе, много-то не скажешь, потому что он написал один роман. Александр Чудаков гораздо более известен как исследователь творчества Чехова, автор по крайней мере одной книги, где о Чехове, о мастерстве его речь идёт, и это достаточно фундаментальная работа. Там говорится о роли детали у Чехова, о том, что чеховская деталь не функциональна, как бы там детали танцуют свой отдельный балет, и поэтому все попытки привязать чеховские рассказы к одному конкретному смыслу безуспешны; там сложная игра разных лейтмотивов, нет фабулы в обычном смысле, а есть несовпадающие, непараллельные, неочевидным образом между собой связанные мотивные комплексы. Это довольно интересно. И эта работа Чудакова наряду с его довольно пространным комментарием к «Евгению Онегину» и подробным анализом его — это серьёзные филологические заслуги.
Что касается «Ложится мгла на старые ступени». Володя, наверное, я принадлежу к числу ваших немногочисленных знакомых, которым роман не понравился. Ну, не то чтобы не понравился… Он хороший (и я понимаю, что он хороший), но он меня некоторым образом не увлёк, не зажёг. И мне кажется, что это именно мемуары, а настоящего художественного произведения я в этом не увидел. Мне очень горько, что это так. Ну, в конце концов, я же не обязан совпадать с вашим мнением, а вы не обязаны совпадать с моим. Это совершенно свободное дело.
«Вы против того, чтобы «нюхать» жизнь. Но как без этого можно понять других? И как приобрести выносливость для выживания и иммунитет к «прелестям» жизни?»
Отвечаю. Количество опыта, который вы получите, никак не коррелируется с вашей готовностью к жизни. Один мой приятель, очень хороший поэт, когда-то сказал: «Бывает опыт лишний. Не полезный, не вредный, а именно лишний. Опыт, без которого можно было бы обходиться». То есть служба в армии, сидение в тюрьме или регулярные избиения — они не делают человека ни умнее, ни опытнее, они не прибавляют ему того главного, на чём держится личность. А держится она всё-таки, по моим ощущениям, на эмпатии, на сопереживании. И когда я сейчас задним числом пытаюсь вспомнить (опять-таки для романа), какие женщины на меня производили самое сильное впечатление и по каким критериям я их выбирал… Вот если женщина кривится при рассказе о чужой боли, если они начинает её чувствовать, как свою, — это мне привлекательно, потому что она сопереживает, она умеет примерить чужой опыт. А вот умение примерить чужой опыт (это и в мужчине, кстати, очень важно) — оно не приобретается путём знакомства с жизнью, а наоборот, чаще всего человек грубеет от этого соприкосновения.
Но боюсь: в пылу сражений
Ты утратишь навсегда
Прелесть лёгкую движений,
Чувство неги и стыда!
[Но боюсь: среди сражений
Ты утратишь навсегда
Скромность робкую движений,
Прелесть неги и стыда!]
Что-то я, вероятно, искажаю сейчас несколько пушкинский текст, потому что по памяти его произношу. Да, «боюсь: в пылу сражений ты утратишь навсегда».
Кому-то принадлежала… по-моему, чуть ли не самой Ольге Окуджаве… хотя, может быть, и Владимиру Новикову… На какой-то из конференций по Окуджаве была высказана мысль: да, Окуджава воевал сравнительно мало, он провёл 200 дней на передовой, вообще 200 дней в боях. Это довольно много в принципе, потому что и за один день, и за одну секунду на передовой могут уничтожить тебя за милую душу. Он провёл там около 200 дней. Как он написал около 200 песен, так около 200 дней он был на передовой. Сравнительно с чужим опытом — например, с астафьевским — это мало. Но если бы было больше, то не факт, что человек с его душевной организацией мог бы после этого что-то написать. Возможно, Окуджаву для нас так пощадили, чтобы он получил военный опыт дозированно, не слишком много. Но этого всё равно хватило ему для того, чтобы быть раненым и после этого ещё долго, как вы помните, мотаться по разным командам, когда его перебрасывали из одной формирующейся команды в другую, пока не комиссовали.
«Смотрели ли вы мини-сериал «Измены»?» Да нет, конечно. Откуда же?
«Как у вас получается дружить с людьми, вроде Максима Шевченко или вашего друга-фантаста Лазарчука? О чём вы с ними общаетесь? Есть ли точки соприкосновения? Хорошо ли им спится после того, что они продвигают, скажем так, помимо литературы? Я бы с ними общаться не смог — уж больно разные взгляды на ситуацию».
Ну, я не могу сказать, что с Максимом Шевченко я дружу. Я хорошо к нему отношусь, — вот скажем так. Мне кажется, что он человек честный, то есть что его заблуждения добровольные и бесплатные. Кроме того, он хороший поэт и неплохой аналитик.
Что касается Лазарчука. Понимаете, это не тот случай, когда мы можем из-за убеждений разойтись. Есть дружбы столь давние, отношения столь глубокие и сходства столь важные, что уже никакие идеологии не могут этого развести. У меня достаточно поводов, чтобы поссориться с Лазарчуком, но я знаю его 20 лет, а в моём возрасте не так легко бросаются дружбами. С некоторыми из «друзей» («друзей», разумеется, в кавычках, считайте, что я их «держу в руках», как говорил Маяковский), конечно, я разругался после украинской ситуации.
Понимаете, в чём тут разница? Когда я принадлежал к так называемым «хозяевам дискурса», то есть совпадал с большинством по вектору, с большинством либеральным, совпадал с властью… Хотя она никогда в России не была вполне либеральной, и я никогда не был либералом. Ну, условно говоря, когда эта власть не давила любое проявление инакомыслия. Тогда, в те времена, наоборот, я интересовался оппонентами. Мне казалось важным как можно большее число оппонентов выслушать, найти среди них талантливых и дружить с ними поверх барьеров. Потом огромное количество этих людей, которые сегодня дорвались до власти, дорвались до дискурса, которые сегодня определяют, кому называться писателем, а кому нет… Вот им очень важно меня уничтожить, я им мешаю. Мне они не мешают совершенно. Я могу спокойно говорить, что они талантливы, хотя очень подлы, хотя ведут себя очень отвратительно. Такое бывает. Им же непременно надо уничтожить меня.
И вот в этом, по-моему, и заключается вся разница. Человек, которому надо из-за несогласия со мной меня уничтожить, — это человек дурной, не заслуживающий звания «человек». А человек, который способен мириться с моим существованием, он может быть моим оппонентом, но я не настаиваю на том, чтобы он думал, как я. Вот Лазарчуку я не мешаю, он может допустить моё существование и не называть меня «пятой колонной». Равным образом и Шевченко: он может со мной полемизировать как угодно, но ему не надо меня уничтожать, потому что в конкурентной борьбе он может существовать со мной наравне. А вот люди, которым для полной конкуренции надо уничтожить, зачистить всё поле, — ну, я воздерживаюсь от ругательных слов, но это люди мне не приятные, это люди плохие; и никаких перспектив — ни творческих, ни человеческих — у них, к сожалению, нет.
Мне прислали чрезвычайно интересную статью про «Час Быка» после разговора о Ефремове. К сожалению, ненапечатанная статья ныне очень известного кинокритика и киноведа, а тогда просто новосибирского математика и преподавателя Виктора Матизена. Очень интересный текст, в котором делается попытка критики Ефремова с марксистских позиций, как ни ужасно это звучит. Спасибо большое за эту пересылку, я внимательно ознакомился и в следующий раз обязательно отзовусь.
Тут интересуются люди, выходит ли моя антология «Страшные стихи». Она не совсем моя. Её составляла в основном Юлия Ульянова. Мне принадлежит идея, отбор некоторых авторов и комментарии к ним. Что такое антология «Страшные стихи»? Я надеюсь, что она выйдет в «Эксмо». Это сборник стихотворений готического жанра: баллад, песен, рок-поэзии в частности. Видите ли, страх… таинственность, скажем так… Не страх перед жизнью, не страх перед ужасами пыток, но именно страх таинственный. Загробная тема, тема таинственных совпадений, тема загадочных гаджетов (например, как телефон Мандельштама) — эти темы легитимны, они имеют такое же право на существование в литературе, как любовь, ненависть, восторг и так далее. Тема страха, тема тайны — это порождает иногда стихи необычайно высокого порядка, настоящий лирический накал.
Ну, какие я бы мог назвать стихи? Например, «Luke Havergal» — стихотворение Арлингтона Робинсона. Просто это гениальное стихотворение, на мой взгляд. Я множество раз его читал в разных переводах, очень люблю его в оригинале и сам его переводил. Я помню, что ещё когда-то в хрестоматии американской поэзии XX века меня совершенно поразило это таинственное стихотворение, где Люк Хавергол, один из героев огромного лирического цикла Робинсона (вот этих жизнеописаний всех жителей маленького городка), приходит на кладбище, где похоронена его возлюбленная, и под серыми облаками, глядя на красный плющ, слушает её голос, шуршащий в листьях. Ну, это абсолютно потрясающий текст! И в русской поэзии есть. Господи, а «Волки» Алексея К. Толстого? А у Окуджавы какие есть замечательные, тоже страшненькие тексты? У Блока. У Юрия Кузнецова — главного поставщика русской готики. А у Ахматовой («В том было очень страшно жить»)? Мы будем это сейчас издавать. Во всяком случае книга доведена до вёрстки. Видимо, в этом году она выйдет, я надеюсь.
Подождите, здесь крайне увлекательные вопросы…
«Уважаемый Дмитрий Львович, если ваш коллега Лазарчук хочет ощутить «пластичность бытия», — вы помните, Лазарчук говорил, что война делает бытие пластичным, — ему нужно всей семьёй присоединиться к гуманитарному конвою, расположившись рядом с ящиками патронов и гранат, и действительно поселиться на освобождённом от фашистов Донбассе. Ох, это придаст свежего дыхания его творчеству! Самое ужасное — это не Гиви с Моторолами (Моторылами), а эстетствующие теоретики, сидящие за тысячи километров от смерти и страданий. То, что вас восхищают подобные лицемеры — для меня очередной шок, связанный с вашей стороной».
Света, понимаете, во-первых, Лазарчук не поехал туда не потому, что он трусит, или не потому, что он наслаждается дистанцией, а потому, что у него тяжело больны глаза. Поэтому он и не поехал ни в каком качестве, ни в качестве врача (а он хороший врач, он меня штопал несколько раз), или не потому, что он боится. Просто он действительно болен тяжело. Я не стал с ним об этом говорить в эфире, но, наверное, надо было.
Тут ещё есть несколько писем в адрес Лазарчука: «Очень жаль, что Лазарчук не поехал. Эстетом стало бы меньше».
Ну, наверное, наверное… Я могу понять людей, которые так на него реагируют. Но разрешите ему иметь такое мнение и расплатиться за него. А он будет расплачиваться, не сомневайтесь. То, что сегодня Лазарчук сегодня занимает такую позицию… Как расплачиваться? Я надеюсь, что это будет расплата ментальная. Он поймёт, до какой степени это опасные и в каком-то смысле античеловеческие взгляды. Но то, что он имеет на них право — ну, ничего не поделаешь.
Тут же вот в чём дело. Лазарчук не из тех, кто делает на этом карьеру. Он не из тех, кто ходит на ток-шоу. Он не из тех, кто торгует этими взглядами и ставит своё клеймо на разного рода производствах. Нет, он действительно искренне так полагает — разумеется, в ущерб себе. Я писал уже много раз о том, что это война фантастов, что это война людей, которые умозрительно сначала планировали такую ситуацию, предвидели её. Понимаете, он никак своей жизни не облегчает тем, что он так думает.
«Как вы относитесь к творчеству Алексея Ремизова? Интересует ваше мнение о «Взвихрённой Руси».
Я много раз говорил, что Алексей Ремизов — один из моих любимых писателей. И даже дело не в «Крестовых сёстрах», а прежде всего это «Кукха: Розановы письма». И это при том, что я не люблю Розанова, но вот живая, страстная, горячая скорбь Ремизова по нему прекрасна. И «Подстриженными глазами» — замечательная книга. Я помню, когда Лукьянова переезжала ко мне в Москву, она привезла среди очень немногих книг, которые она взяла из Новосибирска… Это были Хлебников, Гумилёв и «Подстриженными глазами» и «Взвихрённая Русь» Ремизова. И я их перечитывал. Я очень люблю Ремизова за его сентиментальность, его слёзность, жар, непосредственность, за такую общую изобретательность и одновременно унылость его прозы, потому что она, конечно, очень грустная, элегическая, она очень жалобная в каком-то смысле.
«Что вы можете сказать о писателях советской эпохи из национальных окраин? Вы говорил об Айтматове. Это, конечно, феномен. А из других республик? Как оценивали в Москве их уровень? Просто брали тех, кто вовремя подсуетился, нашёл переводчика, или какая-то объективность при отборе «национальных Шолоховых» присутствовала? Фарид».
Фарид, послушайте, а так ли много зависело в судьбе, например, Думбадзе от переводчика? У меня довольно сложное отношение к национальным литературам, потому что действительно трудно иногда отделить, где здесь заканчивался талант и начинался пиар. Но то, что Думбадзе, например, был одним из крупнейших писателей своего времени — это для меня вне сомнений. Я даже люблю не столько «Закон вечности», который мне кажется переоценённым из-за шума, из-за Ленинской премии, и вообще потому, что это его последнее произведение. Я люблю «Белые флаги» — по-моему, эта вещь предугадала очень многие трагедии, происходившие в Грузии. Естественно, я высоко ценю «Я вижу солнце», «Я, бабушка, Илико и Илларион». Но мне дороги даже не его мировоззрение, даже не его проза, а дорог мне сам этот тип человека, ныне совершенно утраченный. Думбадзе — действительно настоящая душа народа. Это не дядя Сандро, а это человек, который своим народом болеет, который его боли чувствует, прекрасно понимает и недостатки. И потом, понимаете, он же обладал даром создавать очень ярких героев. Кто не помнит Бежана — полусумасшедшего, который помешан на своей Минадоре. Это просто божественный персонаж, совершенный ангел.
Миколас Слуцкис — очень интересный автор. Экранизация его романа «Чужие страсти» (наверное, это самый известный фильм Стрейча, наряду с «Театром») — это очень здорово было сделано. Я уж не говорю о том, что это и роман хороший. А Гурам Панджикидзе, замечательный грузинский автор «Спирали»? Тут приходил вопрос об Анаре. Ну а что, Анар плохо писал, что ли? А «Контакт» какая вещь? А Максуд Ибрагимбеков? Ну, Рустам, конечно, более известен как сценарист, но старший брат его, Максуд… «За всё хорошее — смерть» или «И не было лучше брата», или «Кто поедет в Трускавец?» — это очень достойная городская проза семидесятых годов. Я уже не говорю про Василия Владимировича Быкова, который был ну просто великим писателем. Или замечательный поэт Алесь Рязанов, если говорить о Белоруссии. Украинская культура чувствовала себя недурно. Хотя постоянно сейчас раздаются голоса, что «большой брат всех угнетал», что «когда в Москве стригли ногти, в провинции рубили пальцы», но угнетали ведь и русских художников. Тем не менее, такое явление, как Параджанов, стало возможным благодаря студии Довженко. Много всего. Да, были великолепные авторы, я считаю.
И потом — вечный вопрос с Гамзатовым. Гамзатов, как вы знаете, в силу особенностей дагестанской поэзии писал не в рифму, поэтому наиболее адекватен, наверное, перевод Якова Козловского его поэмы «Омарла Батырай», которую читать практически невозможно. Но, в конце концов, то, что Гамзатов был крупным поэтом — об этом можно судить даже по подстрочникам. Конечно, его гениально переводил Солоухин. Конечно, поэма «Сказание о Хочбаре» — это подвиг переводчика, она очень здорово сделана. Кстати, он там много сделал для того, чтобы приблизиться к передаче размера. Я многое помню из этой поэмы:
Будь счастлив и ты, незнакомец. Скажи там отцу и матери…
[Что дочка благополучна, спасибо им и привет]
За то, что меня взлелеяли, за то, что меня просватали,
За то, что отдали в рабство в самом расцвете лет.
Нет, это была прекрасная поэма, она сильное впечатление производила. В общем, Гамзатов, как к нему ни относись, — это настоящий лирик.
Поэтому моё отношение к национальным культурам очень простое: если вы хотите сплотить страну, должны между собой дружить художники — и тогда всё остальное удержится. Я думаю, что надо строить, так сказать, не культовые учреждения, не мавзолеи и не памятники, а надо строить просто научные институты. И мне кажется, что довольно долго удерживались диаспоры от раздоров благодаря деятелям культуры. Я очень хорошо помню, как Инесса Туманян на ступеньках Московского дома кино обнялась с Рустамом Ибрагимбековым — армянка с азербайджанцем — в момент обострения карабахского конфликта, и она сказала: «Неужели мы с тобой позволим себя в это вовлечь?» И не позволили. И это было прекрасно. Я абсолютно уверен, что если бы художников было бы больше и они крепче дружили, Советский Союз имел бы шансы уцелеть, безусловно.
«У каждого героя «Войны и мира», — спрашивает Андрей, — своя война. Для Тушина это спектакль, — нет, не согласен, — для Ростова — азартная охота, — тоже не согласен, — для Долохова — риск. Значит ли это, что для Толстого война — явление, раскрывающее натуру человека?»
Нет, оно не раскрывает его натуру. Понимаете, натуру человека раскрывает всё — и война, и мир. Для Толстого, я боюсь, что война — это такая парадоксальная вещь. Как он пишет, «это противное разуму человеческому и совести человеческой дело», но оно как побочный эффект создаёт иногда ту скрытую теплоту патриотизма, которая формирует нацию. Это не единственный способ сформировать нацию (по Толстому), он описывает только один конкретный эпизод — войну 1805–1812 годов. Но, безусловно, для Толстого война имеет значение лишь как способ нацию сцементировать.
А мы вернёмся через три минуты.
РЕКЛАМА
Д. Быков― Продолжается программа «Один».
«С недоумением прочёл роман «Санин». Почему мерзавцу в этой книге никто не может дать сдачи?»
Видите ли, какая штука, Андрей? Во-первых, роман «Санин» очень плохой, просто очевидно плохой. И вообще Арцыбашев — это писатель десятого ряда. Но если даже отвлечься от ранжиров, то это роман своевременный. Видите ли, это такой последний русский сверхчеловек, последний этап эволюции, если хотите — вырождения сверхчеловека в русской литературе (Онегин, Печорин, Волгин, Санин, Ленин). Как мне представляется, Санин не получает сдачи именно потому, что он провоцирует всех на это и не находит равного себе человека. Но Арцыбашев, хороший он писатель или плохой, одну вещь почувствовал очень точно: такое наглое, самодовольное зло очень трудно остановить. Иногда, даже если писатель плох, он чувствует такие вещи. Пока у человека нет совести, у него нет и уколов совести, и его не во что ударить, не за что зацепить. Поэтому иногда победителями в таких ситуациях выходят люди, которые просто аморальны, принципиально аморальны, аморальны глубоко.
Тут, кстати, мне пишут: «Неужели вы настолько ничего не понимаете в Наполеоне, что говорите, что будто у него не было совести?»
Я не говорю, а я пересказываю книгу Юрия Арабова, в которой делается вывод: пока Наполеон не раскаивался в массовых убийствах, пока он видел в себе больше величия, нежели жестокости, у него всё получалось, а как только он задумался, сразу всё получаться перестало. Вы говорите: «Неужели вы настолько не понимаете, что при большой аудитории решаетесь признаваться?» Да всё я понимаю. Просто, во-первых, ваша концепция Наполеона не единственно верная. Во-вторых, умейте отличать моё мнение от пересказа.
Довольно любопытный цикл вопросов по «Дориану Грею» в связи со статьёй об Уайльде: «Вонзив кинжал в свой портрет, Дориан убивает себя. Если бы он убил кого-то, что стало бы с портретом? Если бы сам Дориан или ещё кто-то убил бы его, что стало бы с портретом?»
Я думаю, он исчез бы. Портрет же реагирует очень прямо на всё, что с ним происходит. Когда он убивает Бэзила Холлуорда, у него появляется красное пятно на руке. Ну и так далее. Соответственно, думаю, что если бы и Дориана кто-то убил, портрет бы исчез так же, как исчезают эмбрионы после смерти предполагаемых странников в «Жуке в муравейнике».
«Из текста Уайльда ясно, что Дориан получил вечную молодость, но не бессмертие, хотя даже брат Сибилы не смог его убить. Или это всё-таки бессмертие?»
Понимаете, в чём штука? Это вопрос о том же самом, о чём предыдущий вопрос о Санине. Человек неуязвим, пока он… У него нет ахиллесовой пяты. Вот у Ахиллеса она была. У Зигфрида был этот кленовый листок (или листок не помню чего уж), который попал ему на спину и сделал ему уязвимым. Герой всегда уязвим, а Дориан неуязвим, Санин неуязвим. У них вообще гладкая поверхность, мрамор, у них нет не только совести, а у них и самосознание отсутствует. Поэтому — да, наверное, Дориана Грея нельзя убить. Он получил бессмертие, потому что у него нет совести. Совесть — это и есть то немногое, что нас ограничивает.
«Что означает фамилия Грей? Намёк ли это на серость? В случае Грея из «Алых парусов» нет того же намёка?»
Нет. Слушайте, во-первых, «gray» — конечно, это не только «серый», но это ещё, как вы помните из Шекспира, и звукоподражание мурлыканию. «Gr-r-ray!» – говорит Том из Бедлама, и непонятно, звукоподражание это или «серость». Мне-то представляется, что Грей — это просто по соображениям благозвучия выбрано. Хотя Дориан — конечно, абсолютно серое и стёртое лицо, серая и стёртая личность. Если бы не внешняя красота, то ничего там особого не было бы.
«Удивляет актуальность фильма Панфилова «Прошу слова». Не кажется ли вам, что саркастичный финал, когда людей оставляют жить в доме с огромной трещиной, многое напоминает?»
Ну, она предсказала на самом деле, конечно. Предсказала она и ситуацию с «Дураком» Юрия Быкова, и в особенности, конечно, ещё более ранний маминский «Фонтан», когда дом держится только на транспарантах. Но идея дома с трещиной тоже ведь не нова. Понимаете, какое у меня есть подозрение? Когда-то Володя Вагнер, любимый мой друг и главный вожатый «Артека», открыл мне сценарий Шпаликова «Девочка Надя, чего тебе надо?», сказавши, что этот сценарий — лучшее из того, что Шпаликов сделал. Я много раз спрашивал Наталию Борисовну Рязанцеву: «Неужели Шпаликов надеялся это поставить?» Она сказала: «Конечно нет. Он это написал просто для того, чтобы было». А может быть, он их провоцировал отчасти («А что вы с этим сделаете?»). Это гениальный сценарий. Неспособность функционера функционировать, неспособность искренней, страшно принципиальной девочки Нади убрать эту гигантскую мусорную кучу, в которую постепенно превращается город, — это и есть метафора, а фильм Панфилова просто её развил. Я уверен, что этот сценарий широко считался. Да, это было такое удивительное явление, такое шпаликовское страшное завещание.
А «Прошу слова» — это всего лишь, я думаю, первый из фильмов (нет, второй) о том, что начинается женская власть, о том, что мужская власть закончилась, а женщины с их гибкой тактикой, с их умением не бороться, а побеждать хитростью, пластикой, женщины берут власть. Первым таким фильмом был, конечно, фильм «Короткие встречи» Киры Муратовой. Но там она тоже работает то ли в горисполкоме, то ли где-то. Помните, там начинается замечательно (тоже ведь своего рода «Прошу слова»), замечательный пролог у этого фильма, когда Кира Муратова репетирует речь: «Товарищи!.. Дорогие мои товарищи!.. Дорогие вы мои товарищи!..» И чувствуется такая издёвка над собственной неспособностью достучаться. И при этом ещё такая порванная струна всё время звучит. Пожалуй, первым таким пророческим фильмом были, конечно, «Короткие встречи». А дальше фильмы о женской власти пошли чередой: это и «Старые стены», это и «Странная женщина», это и «Москва слезам не верит» (конечно!), и «Время желаний», и «Сладкая женщина».
«Что вы думаете о роли Иннокентия Анненского в русской культуре начала XX века?» Согласен с Ахматовой, что эта роль была определяющей. Да и как тут спорить?
«Верите ли вы, что Лидия Корнеевна аутентично по памяти записывала всё, что говорила Ахматова в течение многих лет?»
Да, верю. Но я не думаю, что это особенность памяти Чуковской. Это особенность риторики Ахматовой: она формулировала очень чётко, и это впечатывалось в память. Есть некоторая категория людей, которые умеют так сказать, что это запоминается. Вот я интервью с Астафьевым, например, делал без диктофона — и выяснилось, что я запомнил абсолютно точно всё, что он мне сказал. Много таких. С Гребенщиковым так же всегда делаешь интервью — не надо даже ничего записывать, потому что всё ложится в голову. Владимир Леви (но, может быть, тут проявляются как-то его способности гипнотизёра). Есть люди, которые умеют так сказать, что это запоминается. Я абсолютно уверен (процентов на 90, если не больше), что записанное Лидией Чуковской аутентично. А что касается Ирины Одоевцевой, которая в начале «На берегах Невы» клянётся, что она записывала всё абсолютно точно, — вот здесь я у неё иногда, случалось, находил расшифровки чужих текстов, просто закавыченные и вложенные в уста говорящему. Ну, были случаи, например, с Чуковским, отчасти с Белым, отчасти, я думаю, и с Гумилёвым. В общем, не очень я верю ей, как Ахматова нам и завещала.
«Почитайте вопросы с форума «Эха». У нас забанили форум. Ваш форум во «ВКонтакте» забанен».
Как вы понимаете, к сожалению, я не имею никакого отношения к форуму во «ВКонтакте», не я его веду. Но я надеюсь, что его как-то разбанят, разблокируют. С чем была связана его блокировка — я не знаю. Не думаю, что с публикацией текстов Лазарчука. Думаю, там случились какие-то недоразумения. Я абсолютно уверен, что этот форум будет разбанен в течение самого ближайшего времени.
«Каковы реакции на книжку о Маяковском?»
Пока нет никаких. Она пока имеется в некотором количестве сигнальных экземпляров (свои авторские я получил, частично раздал), но нет её ещё в продаже, она не доехала до торговых сетей. Думаю, что основной реакцией будет разочарование. Я уже говорил много раз об этом. Когда-то Маяковский замечательно сформулировал: «Говорите художнику, что хотите. Только не говорите, что его предыдущее стихотворение лучше последнего». Мне всегда говорят, видимо, желая меня уязвить (а меня ведь уязвить очень трудно, поэтому здесь надо сильно размахиваться), что моя следующая книга хуже предыдущей. И это говорят, начиная с первой книги. А первая книга — говорили, что лучше бы писал я стихи. Ну, нормально, ничего не поделаешь. Людям так хочется самоутвердиться. Меня это самоутверждение давно уже не заботит, потому что, когда я пишу книгу, я решаю свою проблему, я выбрасываю из себя какой-то меня мучающий камень и пытаюсь или разрешить какие-то навязчивые вопросы, или избавиться от них. Как сказал мне когда-то Матиясевич: «Премию дают иногда не только за доказательство, но и за доказательство того, что доказательство невозможно». То есть неразрешимый вопрос меня тоже устраивает. Я эту книгу писал, чтобы разрешить свои проблемы, поэтому мнение окружающих меня заботит несколько меньше. Я не скажу, что не заботит вообще, но меня заботит оценка экспертного сообщества. А в моё экспертное сообщество входит очень небольшое число специалистов.
«Читали ли вы «Сказки тёмного леса»?» Не читал, к сожалению, но теперь придётся.
«Героиня фильма Феллини «Дорога» Джельсомина — редкой силы портрет беспримесной доброты. Дзампано погубил её. Феллини позволяет ему раскаяться. Но возможно ли преображение героя?»
Во всяком случае, если вопрос стоит о цене этого преображения, оно возможно только вот такой ценой. Собственно, как у Германа в «Трудно быть богом»: что можно сделать с этими людьми? Можно умереть у них на глазах; другого ответа не существует. У Стругацких всё не так жёстко, а у Германа вопрос стоит именно так: как можно преобразовать Арканар? Умереть за Арканар; другого способа воспитания не существует. У меня есть вопросы насчёт Джельсомины, насчёт беспримесной доброты, потому что я думаю, что это скорее образ такого юродства. Но иногда именно юродивые нужны, чтобы встряхнуть мир. Как ни ужасно это звучит, приходится согласиться с Искандером, который когда-то сказал, анализируя «Простую душу» Флобера: «Люди великой нравственности — почти всегда люди поражённого ума». С этой формулировкой трудно не согласиться.
«Во французской, английской и немецкой литературах наблюдали ли вы инкарнации?» — в смысле возвращение того или иного писательского типа. Нет, не наблюдал, потому что французская, английская и немецкая литературы (и истории, соответственно) развиваются не циклично, нет тех же фигур. Есть параллели определённые, но полное возвращение конкретного типа — политика, художника — нет, не наблюдал. Это наша эксклюзивная, прекрасная особенность.
Тут довольно важный вопрос о люденах, потому что людены, как они были заявлены в первой же программе, в первой же теме, так и продолжают людей настойчиво волновать. Вот Вячеслав тоже достаточно настойчиво спрашивает об этом: «Вы говорите, что видите явные признаки, наблюдая своих учеников, студентов. Их уровень, говорите вы, зашкаливает. Я замечаю в вас некоторый конфликт интересов. Как нам называть наставника люденов? Нетрудно заметить, что его следует отнести к ещё более высокой категории».
Нет! Нет, Вячеслав, это не так. Смотрите, я был вчера в Питере, и там меня позвали в 225-ю школу, в лицей «БиоТоп», который там у них базируется. Там сошлись дети очень разные: и талантливые, и, как мне кажется, несколько фриковатые, попавшие туда, потому что им было трудно в других коллективах. И трудно не по причине какой-то их повышенной агрессивности, а именно по причине интеллекта и нелёгкого характера. А интеллект и нелёгкий характер — они, как вы знаете, часто ходят об руку. Что я заметил в этих детях? А там этот лицей «БиоТоп» самоуправляется, там есть кабинет самоуправления, и в общем дети рулят школой, сами определяют, кого приглашать, там довольно жёстко выносят оценки преподавателям, определяют свою внеклассную жизнь и так далее.
Я заметил у них полное отсутствие пиетета. Это было для меня немножко похоже на опыт Стругацких, из которого они сделали «Гадких лебедей» (помните, когда Банев приезжает к детям). Это же Стругацкие приехали в ФМШ, в физмат школу в Новосибирске, и они столкнулись с таким отношением к себе. Для меня это вызов. Да, это challenge довольно серьёзный. Потом, конечно, они всё равно прибегают за автографом, но пока они разговаривают, они стараются сказать гадость, они стараются спровоцировать. И девушка-журналистка, которая там со мной была, она сказала… Ну, я зал там плохо видел, потому что я обычно как-то не вглядываюсь в отдельные лица, когда разговариваю, чтобы не выделять никого. Но она сказала, что на многих лицах она прочла выражение: «А ну-ка, что ты ещё ляпнешь?» Им было интересно, слава богу, потому что всё-таки я учитель более или менее профессиональный. Но нам пора расстаться, к сожалению, с представлением о том, что мы для них выше априори. Нам придётся доказывать это право. И мы по отношению к ним уже не совсем учителя. Я думаю, мы — их помощники, их ассистенты.
Что касается априорного статуса учителя, что он всегда выше. Мне приятна, конечно, мысль, что учитель имеет изначальную фору. Но ещё в «Дикой собаке Бинго», помните, там Фраерман пишет: «Что такое вся история человечества, если человека могут поднять над учащимися четыре крашеные доски?» — говорит учитель и сходит с кафедры. По-моему, сейчас наше время сойти с кафедры. Вот Фраерман понял это очень вовремя. И неслучайно поэтому ему так удавались подростковые повести.
«Проза Мопассана позволяет трезво взглянуть на жизнь. Писатель видит человека насквозь, знает, что людьми часто движут безнравственные, алчные мотивы. Почему он всё же шутит над страстями ближнего своего?»
Ну а как ему не шутить? Понимаете, Мопассан всю жизнь очень страдал (и страдал искреннее) от читательского высокомерия. Он же пишет в предисловии к «Пьеру и Жану»: «Публика кричит: «Развлеките нас! Научите нас! Напугайте нас!» И лишь очень немногие говорят: «Сделайте то, что соответствует вашему характеру и темпераменту». Это очень правильный подход к делу. Я клянусь, что Мопассан действительно жизнь положил на то, чтобы, условно говоря, критика и публика знали своё место. Художник существует не для них, он не слуга. Отсюда и его ироническая дистанция, конечно, по отношению к читателю.
Что касается вообще такой саркастической насмешливости Мопассана. У него к жизни и смерти было отношение, наверное, довольно циническое (можно проследить, в силу каких причин), потому что Мопассан видит во всём Великую загадку бытия, которую он описал в «Орля», — загадку потусторонности, загадку человеческой воли. Он не понимает, сам ли человек владеет своей волей или она ему навязана, диктуется кем-то извне. Поэтому к жизни, смерти, обряду, ритуалу, традиционному хорошему поведению у него было довольно ироническое отношение. Он же понимает, что все эти добропорядочные буржуа ходят в бордели и там оттягиваются. Вот, пожалуйста, «Пышка» — рассказ о добропорядочности, о добропорядочных людях, порядочнее которых обычная руанская проститутка, прелестная собою. В этом смысле он как раз высмеивает, как правило, человеческие классические представления. Для этого даже необязательно читать «Воскресные прогулки парижского буржуа».
Давайте вспомним один из самых прелестных его рассказов — «Пышки». По-моему, он называется «Пышки» [«Старик»]. Там помирает старик в деревне, и нельзя как-то ускорить его смерть, а очень хочется, потому что он мешает им урожай собирать, они отвлекаются. И они начинают там печь пышки, не дожидаясь его смерти. Он ещё живой, а все уже собираются на поминки, едят эти пышки и говорят: «Не поест он больше пышек. А как он их любил!» Ну, они всё это съели — а он никак не помирает! В результате всё-таки он помер сутки спустя, и пышки приходится печь заново. И муж говорит жене, папаша которой преставился: «Ну да, наверное, придётся опять напечь пышек — не каждый же день у тебя умирает отец». Всё-таки это здорово сделано!
Действительно, Мопассан — великий насмешник. Но значит ли это, что он не гуманист? Наоборот, он насмехается над жестокостью, над тупостью. Понимаете, скорее он всё-таки человеколюб. Вот этот прелестный мопассановский рассказ [«Идиллия»], когда женщина-кормилица едет и страшно страдает, потому что поезд опаздывает, а у неё дикий прилив молока, грудь раздувается, чуть не лопается! А напротив сидит пассажир, который говорит: «Сударыня, если вы не против, я мог бы облегчить вас». И она: «О, сделайте одолжение, вы меня спасёте». И он отсасывает это молоко. И когда она приезжает и прощается с ним, она говорит: «Вы спасли мне жизнь». А он говорит: «Нет-нет, сударыня, это вы спасли мне жизнь: я не ел уже три дня». Это поразительный рассказ, прелестный!
Мопассан, конечно, физиологичен, да (и Бабель это очень тонко почувствовал в рассказе «Гюи де Мопассан»), но эта физиологичность его рассказов не груба, не жестока. Мопассан довольно снисходителен к человеческой природе. Вот «Парижское приключение» — это как раз рассказ о снисходительности («Я хотела узнать порок… И это ничуть не забавно!»).
Я вовремя начал Мопассана читать, мать никогда не прятала его от меня, и поэтому он от многих заблуждений помог мне избавиться. Тот вред, который он, может быть, мне нанёс (думаю, что никакого вреда не было), он многократно компенсирован той пользой, потому что я научился благодаря Мопассану ненавидеть подчёркнуто приличных, лощёных людей, ненавидеть самодовольство, а любить таких, как Христина [Христиана] из «Монт-Ориоль». Я потому об этом много говорю, что у меня следующая-то лекция будет как раз о Мопассане, о ненаписанном романе «Анжелюс». Это будет 9 июня.
«Узнал о стрёмном проекте «Читаем песни», в котором люди, как правило провинциальные актёры, с выражением читают попсу. Лучше был бы проект «Поём стихи». Но драматическое шутовство тоже интересно. Тексты такие, что шутовство не помогает. Родилось предложение: взять стихи не очень массового и популярного поющего поэта (я имею в виду Михаила Щербакова) и предложить с экспрессией их тому, кто на это способен (имею в виду его тёзку Михаила Ефремова). И песня, как ни странно, нашлась подходящая — «Подражание Галичу». Что вы думаете о таком предложении?»
Я думаю, что единственный хороший исполнитель Щербакова — это сам Щербаков. И совершенно не нужно, во-первых, реанимировать его старую песню, которая (по его собственному желанию) объявлена несуществующей. А во-вторых, зачем Ефремову читать Щербакова, когда Щербаков может спеть себя? По-моему, это заход на чужую территорию. И мне кажется, вообще не нужно переводить стихи в песню и наоборот, потому что это всё-таки разные жанры. Щербаков сам много говорит об этом, о том, что песня — это жанр совершенно особенный, и стихи в ней подчиняются другим закономерностям.
«Конфликт Аксёнова с Бродским очень странный. Оба в переписках выглядят не очень. А тут ещё Довлатов говорит, что эмиграция первой волны не могла простить Аксёнову и прочим шестидесятникам, что они вкусно ели и встречались с красивыми женщинами, а Бродский подвергался репрессиям. Кто прав?»
Ещё раз говорю: прав тот, кому не мешают коллеги. Аксёнов помогал Бродскому, Бродский помешал Аксёнову. Это так останется в литературе. Ну, Бродский действительно сорвал издание «Ожога» в крупном и престижном издательства. Не помню, «[Фаррар,] Страус и Жиру» или где, но так или иначе это сорвалось. Я не хочу Бродского осуждать.
Тут Михаил Лемхин (привет вам, Миша) прислал мне письмо, что Бродский не писал доноса на Евтушенко, а он просто защитил от увольнения своего друга, вместо которого Евтушенко «приглашали». Защитил он его или нет, но он начальству написал гадости про Евтушенко. Хорошо это или плохо, но это так. А Евтушенко много сделал для Бродского. И, конечно, вопреки распускаемой Бродским легенде, он его за границу не выпихивал. И, наоборот, он в своём разговоре с Андроповым дал, по-моему, безупречный ответ. Ну, это долгая история, и я не хочу в это влезать.
Я просто хочу сказать одно: умейте наслаждаться поэзией Бродского, не заботясь о том, чтобы поэт был при этом ещё и хорошим человеком. Это совершенно необязательно. Бродский, на мой взгляд, перед Аксёновым грешен. Это не значит, что он лучше него как писатель или хуже как писатель. Я понимаю, почему вам так хочется подчеркнуть в данном случае правоту Бродского. Потому что для многих поклонников Бродского добро вообще скучно и аморально, а нужен такой демонический образ поэта. В этом демонизме нет ничего хорошего, а напротив, как мне кажется, он довольно провинциален. У меня вообще есть стойкое убеждение, что чем лучше ты относишься к коллегам, тем лучше это характеризует тебя. Не нужно никого выгонять из профессии. Пусть Господь распорядится. Пусть профессия очистится сама. По-моему, это самый правильный подход.
«В книге Горького «Жизнь Клима Самгина» русские люди постоянно ищут вожака. И каждый раз — крах: Варавка, Гапон, Николай, Зотова… Такое впечатление, что Горький изображает чехарду кумиров. Понял ли писатель, что главный вождь, как ластиком, сотрёт всех его героев?»
Нет, конечно, он этого не понимал. Другое дело, что у Горького открытым текстом написано то, что вы говорите. В романе «Жизнь Клима Самгина», если вы помните, поют такую песенку:
Ах, для пустой души
Необходим груз веры!
Ночью все кошки серы,
Женщины — все хороши!
Пустая душа. Роман первоначально и назывался «История пустой души». В России слишком много пустых душ. Вот против чего направлен роман Горького. И в этом смысле Самгин, конечно, не автопортрет.
И последний вопрос: «Что будет в эфире в следующий раз?»
В следующий раз я буду в эфире в четверг, будет лекция о Балабанове. Понимаете, мне самому не очень приятно много ездить, но спасибо вам за то, что вы героически терпите все эти переносы. А мы прощаемся с вами строго до четверга, 5 мая. Целую всех! Всех с наступающим праздником!
*****************************************************
06 мая 2016
-echo/
Д. Быков― Доброй ночи, дорогие полуночники! С вами «Один», в студии Дмитрий Быков. Ну, не один, поскольку с вами и с достаточно большим количеством, как мне представляется, любопытных вопросов. Я внял мольбам, просьбам и дружеским советам — и сегодня у нас лекция всё-таки об Алексее Балабанове, на которого, неожиданно для меня, пришло больше 30 заявок. Сильно отстаёт с 17 заявками Дмитрий Мережковский, он будет в следующий раз, если не появится более интенсивная и более актуальная кандидатура. Хотя для меня, как вы знаете, Мережковский актуален постоянно.
Начинаем отвечать на то, что пришло. На этот раз очень много удивительно сложных и важных вопросов, и я постараюсь более или менее их осветить.
Очень многие спрашивают: «Как вы относитесь к тому, что Москва перекрыта из-за военного парада? Невозможно добраться до «Эха», перекрыт Арбат».
Я видел очень много людей, которые пришли смотреть бронетехнику. У людей, кстати говоря, осталось не так много зрелищ в жизни: политики нет, культура в бедственном положении. Вот им осталось посмотреть на подготовку к военному параду или на сам парад, тем более что шествие техники внушает им довольно странные чувства. Я буду сегодня говорить о специфике русских эмоций, о русских эмоциях последнего времени, которые действительно очень специфичны, и уловил их один Алексей Балабанов.
Здесь тоже есть такая эмоциональная странность. С одной стороны, это чувство национального триумфа, с другой — какой-то своей к нему непричастности, поскольку то, чем гордятся эти люди, очень странно. Военная техника — это вещь такая опосредованная. И не они её делают, не они завоевали Победу. И эта техника, и эта страна к этой Победе имеют уже отношение довольно опосредованное. Мы наследники этой Победы, но вопрос: в какой степени мы её достойны? Правды о войне мы знать сегодня не хотим. Поэтому сложная эмоция у тех, кто на эту технику смотрит. С одной стороны, это восторг, с другой — это всё-таки чувство лютой, горькой непричастности. Хочется самим что-то значить, не только прятаться за великие свершения предков, но и самим что-то из себя представлять. А современная Россия, к сожалению, даёт очень мало возможностей идентифицировать себя с Родиной, ей настоящие патриоты-то не нужны; те, которые хотят для неё работать, не очень ей нужны. Ей почему-то нужны люди, которые, наоборот, ничего не умеют. Это такой странный перекос. Потому что любой профессионал подозрителен, но у профессионала есть совесть, а сегодня требуется всё одобрять, не задумываясь.
Поэтому отношение к этому параду у меня двойственное. С одной стороны, я тоже рад и горд; с другой стороны, я понимаю, что лично мне не предоставлено никакого права в этом поучаствовать и этим гордиться. Гордиться можно не только прежними достижениями, не только оружием, а гордиться надо своим вкладом во славу страны. Сегодня я очень мало вижу людей, которые бы имели для этого какие-то основания.
«Когда я прочитал мемуары Бенедикта Лившица «Полутораглазый стрелец», восхитил уровень культуры футуристов. Они на равных ведут дискуссию с Маринетти и ловко эпатируют публику. Лившиц — талантливый свидетель эпохи. Что вы думаете о его поэзии?»
Поэзия его не внушает мне особенного пиетета. Мне кажется, «Полутораглазый стрелец» — это самое яркое, что он написал.
Что касается уровня футуристов. У меня есть одна фраза в книжке о Маяковском, которая вызвала лютый гнев у многих специалистов по авангарду, в частности у моего учителя и друга Льва Мочалова, который читал книгу в больнице и выдал, по-моему, лучшую рецензию на неё. Он сказал: «Ваша книга так меня взбесила, что я ненадолго забыл о своей болезни, поэтому можете гордиться». Ну как взбесила? Его взбесило собственно отношение к футуризму (он же большой любитель авангарда). Там сказано, что «русский футуризм — это умение талантливо и изобретательно хамить публике за её деньги». В известном смысле это так.
Что касается Маринетти. Знаете, чтобы противостоять Маринетти, не надо было быть особенно умным. Маринетти был талантливый человек, талантливый эпатёр, точно такой же, как и… Ну, какого уровня? Как Бурлюк, наверное. Такой же продюсер, промоутер итальянского футуризма. А больше никакого и не было, кроме русского и итальянского. Были, конечно, английские имажисты, которых можно футуристами назвать с большим трудом. И были немецкие авангардисты, которые тоже, строго говоря, футуристами никакими не были. Но искусство будущего, как его понимал Маринетти, в конечном, в предельном своём развитии обречено смыкаться с тоталитаризмом. Вот почему Маринетти так горячо поддержал итальянский фашизм, а русские футуристы так горячо поддержали большевиков. Это естественная вещь: искусство вторгается в жизнь, поэтому оно любит радикальные политические практики. Кстати, немногие знают, что Маринетти посетил Россию дважды: один раз в 1915 году, а второй раз — в 1943-м, когда он под Сталинградом был, там тяжело заболел и из-за этой болезни умер. То есть Россия, как и предсказывал Хлебников… Вот, оцените гениальные предсказания Хлебникова! «Россия всё-таки ответит гордому пришельцу с Запада». Он заболел и умер, Восток отомстил.
«Вспоминая фильмы Пичула, понимаю, что больше всего ценю «В городе Сочи тёмные ночи». Незабываемая, странная картина о распадающемся мире 80-х. После Пичула осталась недосказанность. Чему он успел нас научить?»
Безусловно, вы правы в том, что картина, которая формально на уровне приёма наиболее адекватна сюжету и эпохе — это, конечно, «В городе Сочи тёмные ночи». Это один из первых фильмов сетевой нарративной структуры, где несколько историй (такая ризома, такая грибница), причудливо переплетающихся. Это Мария Хмелик написала весьма авангардный сценарий, блистательный сценарий, по-моему, на порядок удачнее, чем картина, хотя и картина сама очень яркая. Я вообще считаю, что ей не повезло, потому что она снята изощрённее, точнее и умнее, чем «Маленькая Вера», но «Маленькая Вера» попала на конец советской власти, и поэтому её популярность была выше.
Я вообще Пичула считал первоклассным художником, замечательным мастером острой и парадоксальной формы. Но он, как и все художники, очень зависел от времени, поэтому его последние две картины, на мой взгляд, адекватны эпохе, но профессиональной критики не выдерживают, там много лишнего. Ну, я имею в виду «Небо в алмазах» и этот… Как он назывался? То ли «Фестиваль»… Ну, уточню сейчас.
А лучшим его свершением мне представляются, конечно, «В городе Сочи…» и «Мечты идиота». Это такой фильм о Бендере, который получился, конечно, не о Бендере, а о русских 90-х годах. Там блистательная работа Сергея Крылова. И вообще это очень интересная попытка отойти от типажей. Единственный человек, попадающий в типаж, — это Корейко Андрея Смирнова. После этого фильма я убедился, что Андрей Смирнов как актёр не уступает себе же как режиссёру и литератору. Вот бывают такие многогранно одарённые люди. Конечно, Василий Пичул снял бы ещё очень много хорошего. Надо сказать, его сериалы тоже были на высочайшем техническом уровне.
Спасибо за «спасибо», Наташа. «Знакомы ли ваши американские студенты с прозой Пушкина? Помогали ли вы им понять особый реализм, историзм «Капитанской дочки»? Почувствовали ли они простую прелесть «Повестей Белкина»? И понимают ли они хоть немного, что Пушкин — это наше всё?»
Знаете, в Америке это яснее, потому что Пушкин там, как ни странно, более влиятелен. Конечно, нарративные структуры, типа романа в стихах, там усвоены с лёгкой руки Пушкина, а не Байрона, потому что (назовём вещи своими именами) «Дон Гуан» — конечно, замечательное произведение, но неудачное, это такая гениальная неудача, распадающаяся вещь, очень скучная, её просто скучно читать; это вам не «Паломничество Чайльд-Гарольда», оно ужасно многословно. Болтовня Пушкина умна, остра, провокативна, он сам называет свои лирические отступления «болтовнёй». Болтовня Байрона тяжеловесна, и даже в изумительном переводе Татьяны Гнедич она сегодня мало кого заинтересует. А уж в оригинале Байрона сегодня вообще мало кто читает, скажу вам честно.
Пушкин очень повлиял. Настолько повлиял, что один индусский автор [Викрам Сет], довольно популярный в Англии (сейчас я вам прогуглю и скажу его точное имя), прочитав «Евгения Онегина», онегинской строфой написал свой роман в стихах «Золотые ворота» («The Golden Gate») о Калифорнии, вообще о калифорнийской золотой молодёжи — замечательная, тонкая пародия на «Евгения Онегина», перенесённого в современность и, кстати говоря, с замечательной культурой рифмы. Этот роман у меня есть, я купил его в нашем родном магазине «Лабиринт» в Принстоне, где продаются всякие экзотические новинки.
Пушкин очень повлиял на английские, американские повествовательные структуры. Я уже не говорю о том, что Пушкин многое сделал для синтеза поэзии и прозы. Скажем, «Песни западных славян» — это же не просто перевод из «Гузла» Мериме, а это поэтический перевод, очень сильно расширивший границы поэтического языка. Так что Пушкин, во всяком случае культурой американской, которая особенно любит верлибр и повествовательную поэзию, конечно, он воспринят и ею понят. Лермонтов — в меньшей степени. А Байрона воспринимают сегодня именно через Пушкина и во многом благодаря ему. Ну, отчасти, конечно, потому что Набоков совершил этот свой творческий подвиг: на пике своей славы он перевёл «Евгения Онегина» и написал к нему три томика комментариев. Можно спорить об этих комментариях. Правильно сказала Берберова: «Пушкин превознесён и поколеблен», — потому что в версии Набокова Пушкин весь состоит из европейских заимствований и заимствует даже то, чего, скорее всего, не знал. Но это нормально, у Набокова свой взгляд через свою призму.
Очень многие парадоксальные догадки Набокова верны — в частности, его конъюнктура к десятой главе «Кинжал Л, тень Б», которую он прочёл как «Кинжал Лувеля, тень Бертона». Конечно, очень интересен комментарий к финалу: он полагает, что Татьяна в каждом слове своей последней отповеди Онегину говорит «да» вместо «нет». Это такой немножко мачистский взгляд. «Ещё немного — и она зардеется и упадёт в его объятья». Просто Набокову очень хочется, чтобы так было. Некоторые набоковские догадки совершенно неосновательны. Например, «Кругла, красна лицом она», интерпретация как «красива» («красна» в данном случае) — это, конечно, архаизм или, прямо скажем, некоторое несоответствие.
Но при всём при том Набоков сделал для Пушкина, как он сам писал, не меньше, а то и больше, чем Пушкин для Набокова. Когда он был без преувеличения самым известным американским профессором и одним из самых известных американских прозаиков, он выпустил эти три тома и сделал Пушкина достоянием американской культуры. После этого было ещё несколько рифмованных переводов, но точность и основательность набоковского прозаического перевода остаётся до сих пор основой для сверки, остаётся эталоном адекватности. Уилсон правильно ему возражал, что убит дух пушкинской поэтики в его переводах, но тем не менее точность для Набокова важнее. Благодаря вот этому четырёхтомнику (том перевода и три тома комментариев) Пушкин в 60-е годы благодаря Набокову сделался культовым автором, поэтому не будем этого забывать.
«В пьесах Сухово-Кобылина изображён абсурдный мир чиновной России. Система безжалостно перемалывает людей. Узнала ли бюрократическая Россия свои черты в гротескных драмах писателя?»
Нет конечно. Понимаете, если уж она в Щедрине себя не узнала… Салтыков-Щедрин тоже остался в известном смысле автором непрочитанным. Достаточно вспомнить, что статья Писарева об «Истории одного города» носит издевательское название — «Цветы невинного юмора», хотя уж более жестокой сатиры представить себя нельзя. Ну, ослепила человека вражда к «Современнику», ничего не поделаешь.
Если говорить объективно, то, конечно, Сухово-Кобылин остался не прочитан. Не прочитаны его теоретические работы, его этическая система, не прочитаны его драмы, потому что его заслонил Островский, хотя Сухово-Кобылин, на мой взгляд, более одарённый драматург, простите меня. Но вопрос: в какой степени он реализовался? Конечно, Островский написал больше и, может быть, лучше, но Сухово-Кобылин написал три драмы, трагедии, мрачных фарса, в которых он действительно зашёл несколько дальше, чем тогдашний читатель был готов. В пьесах Сухово-Кобылина вообще никакой роли человек не играет, с ним можно сделать всё. Для тогдашнего читателя это было в новинку, даже сегодняшний ещё с этим не смирился. Это действительно такие мрачные гротески, которые до сих пор по-настоящему русской культурой не освоены. Мне даже кажется, что какой-то подсознательный акт мести она осуществляет. Все знают, что Сухово-Кобылин убил свою любовницу, француженку, и никто не знает, что он собственно написал. Я со своей стороны хочу сказать, что убийство любовницы не доказано, история тёмная. И «дело Сухово-Кобылина» — это не единственное, чем он нам запомнится. «Дело», которое он написал, всё-таки важнее, чем дело, которое он совершил. А убивал он её или нет — я не знаю. У меня есть ощущение после прочтения его текстов, что он был, вообще-то, человек довольно этичный, довольно последовательный.
Кстати говоря, по-моему, в 1909-м или в 1910-м годах, в общем, ещё в Серебряном веке (он же очень долго прожил), посмертно были напечатаны какие-то этические отрывки. И вот их чтение (а я интересовался одно время этой историей, почитывал их), его философские сочинения — немного путаные, написанные с такой высокопарностью, немножко в стилистике «Мейсона и Диксона» пинчоновского: много слов с большой буквы, архаика, широкие заимствования, галлицизмы… В общем, как ни относись, но это на меня некоторое впечатление произвело. И у меня нет ощущения, что Сухово-Кобылин убивал свою любовницу, хотя есть много аргументов против него. Думаю, что муссирование этой темы — своеобразная месть ему.
«Одна девушка из соцсети спрашивает: что вы думаете о творчестве Кутзее, в частности об «В ожидании варваров»?»
Безусловно, я считаю, что «В ожидании варваров» — самая большая удача Кутзее, хотя этот роман не выдерживает сравнения со стихотворением Кавафиса, которое короче и интереснее. Но сама жизнь в этом пограничном городе… Понимаете, я люблю такие условные штуки. Это немножко похоже на «Красную [Татарскую] пустыню» Буццати, это немножко похоже на главные послевоенные утопии и антиутопии. В общем, мне скорее нравится Кутзее, но именно вот эта мрачная книга с её мрачным колоритом. Нравится мне и «Бесчестье», конечно (это такая эротическая напряжённая драма), но «В ожидании варваров» интереснее. «Жизнь и время Михаэла К.» не нравится мне совсем, потому что это, как мне представляется, роман, написанный о патологии, а о норме писать труднее и интереснее. И совсем не нравится мне его роман про Достоевского — «Осень в Петербурге», потому что это, мне кажется, очень вторично. А так он, конечно, первоклассный писатель, и Нобеля своего заработал безусловно.
«Историк Андрей Барановский обращается к вам: «Что вы имели в виду в вашем стихотворении «Мой предок гимназист из Вырицы…»?» — у меня есть такое стихотворение, «Бремя белых». — Он пишет: «На следующий год буду переиздавать свою книгу «Вырица при царе». Хотел бы расширить свой кругозор».
Видите ли, Вырица взята здесь просто как один из символов русской провинции, вовсе без какого-либо второго смысла. Там, по-моему:
Мой предок гимназист из Вырицы,
Из Таганрога, из Самары.
Это взят ряд русских провинциальных городов. Сам я Вырице никогда не бывал, и предки мои родом не оттуда, а из самой что ни на есть банальной Москвы, из дома 11 по Арбату, который принадлежал моему прадеду Зевакину, купцу. Ну, владели мы этим домом, и ничего там особенно интересного не было.
«Ждёте ли вы готовящееся продолжение «Твин Пикса»?»
Да нет. Как вам сказать? Всё, что делает Линч, мне безумно интересно. У нас в июне ещё одна моя студентка, Настя Яценко, девочка большого ума и загадочности, будет делать доклад по Дэвиду Линчу. Я как раз ей из Штатов подвёз некоторые материалы. Посмотрим, что она будет об этом говорить. Он приурочен к такому кажущемуся, конечно, иллюзорному возвращению Линча в кино, потому что никакого возвращения нет; это монтаж не вошедших в основной текст эпизодов «Твин Пикса».
Я боюсь очень сильно, что Линч больше ничего не снимет — и не по финансовым причинам, а потому, что он уже предпринял такое итоговое кино, энциклопедию всех своих приёмов — «Inland Empire» («Внутренняя империя»), которое я считаю всё-таки лучшим его произведением. Это фильм, на котором мне просто физически было плохо от страха, настолько он силён. Например, во второй трети этот эпизод с лампой все помнят. И потом, конечно, гениальный диалог актрисы с соседкой, помните, когда приходит соседка и говорит: «Один мальчик вышел в дверь, создал отражение — и родилось зло». Вот это чистый Линч.
Я считаю, что Линч — на содержательном уровне всё, что он мог сказать — исчерпывающе высказался в «Человеке-слоне», в одном из величайших фильмов XX века, и в «Синем бархате» («Blue Velvet»). Мне кажется, что Линчу с тех пор нечего к этому добавить. «Твин Пикс» был чистым постмодерном, то есть бросанием в массы высокого искусства. Ведь постмодерн — это и есть адаптация высокого искусства до уровня массовой культуры. Гениальные модернистские ранние фильмы Линча, начиная с «Бабушки», а особенно, конечно, с «Eraserhead», и продолжая «Человеком-слоном» с его системой лейтмотивов, с этими клетчатыми комнатами, с этими клубами дыма, трубами… Все линчевские лейтмотивы и идеи были реализованы в первых четырёх-пяти картинах. Дальше он занимался изобретением приёмов, и всегда очень изобретательных, остроумных.
Кстати, я считаю, что первые полчаса «Шоссе в никуда» («Lost Highway») — это вообще лучшее, что Линч снял. Правда, есть люди (и их точку зрения я уважаю), которые считают, что вообще всё это были, так сказать, юношеские экзерсисы, а великий фильм у Линча один, и это — «The Straight Story» («Простая история»), в которой ничего не происходит, в которой человек на смешной такой как бы газонокосилке, на какой-то сельскохозяйственной машине едет из одного места в другое. Это действительно очень смешной и милый фильм. Ничего не жду от «Твин Пикса».
«Как относитесь к Георгию Осипову?» Недостаточно его знаю, чтобы об этом судить. Максима Осипова знаю лучше.
«Согласны ли вы, что нации, обладающие запасом чувства юмора, иронии и самоиронии, сумели большего добиться в ходе исторического процесса? Те же британцы, которым это чувство помогло сравнительно легко пережить постимперский синдром. Как вы вообще относитесь к мнению, что нация в целом как самостоятельный субъект может в большей или меньшей степени обладать (или не обладать) свойствами отдельной личности?»
Это распространённая точка зрения. Кстати, действительно многие исследователи национального характера считают, что нацию можно представить, как единого человека. Мне кажется, что это заблуждение. Это напоминает мне знаменитые слова Калигулы: «О, если бы у римского народа была только одна шея!» Ну, в данном случае: «О, если бы у народа был только один национальный характер!» Поэтому говорить о национальном характере можно с известной долей приближения, и это поэтическая метафора почти всегда.
Что касается иронии и самоиронии. Понимаете, трудная штука. Перечитайте статью Блока 1908 года «Ирония». Конечно, Блок здесь не авторитет, потому что Блок вообще консерватор, такой архаик, он любит рыцарскую Европу, не любит Европу современную. Когда тонет «Титаник» как символ цивилизации, он говорит: «Слава Богу, есть ещё океан», — что, на мой взгляд, довольно бесчеловечно. Ну, он же и говорит в одном из интервью в анкете: «Я — художник. Следовательно, не либерал». Точка зрения Блока, как бы сказать, она очень привлекательная, и привлекательная для людей серьёзных. Когда-то Илья Кормильцев говорил: «Возврат серьёзности возможен только через архаику. Новая серьёзность». Поэтому мы обречены на архаику. Но это хорошо художнику так говорить, а человеку жить внутри этой архаики, как сейчас, — можете себе представить.
Кроме того, обратите внимание, что архаика вернулась, иронии нет сегодня, в современной России нет иронии, но всё смешно, тем не менее. И серьёзности тоже нет. И мечта Ильи Кормильцева об обретении новой серьёзности не сбылась. Серьёзность бывает там, где люди во что-то верят. Может быть, в современной России иронии гораздо больше, чем, скажем, в России постмодернистской девяностого года, просто это ирония тотальна, во-первых; и во-вторых, это ирония Бога, а не ирония власти, не ирония людей. В современной России действительно включаешь телевизор — и всё смешно! И это не потому, что люди острят, а потому, что Бог так управил. Ну не замечают они, насколько это смешно. Когда благодарили святого Владимира за возвращение Крыма и говорили: «Один Владимир Русь крестил, другой Крым вернул», — это тоже была такая ирония, но только это ирония истории, а не ирония людей, которые в этом участвуют. Поэтому, видите ли, ирония и самоирония — это разъедающие, растлевающие начала. Это тоже не всегда хорошо. Когда люди иронизируют и продолжают делать подлости, никакая ирония их от этого не удерживает.
Что касается упомянутой вами английской натуры. Там, конечно, есть некая самоирония, но как раз обратите внимание, что англичанам свойственно крайне серьёзное отношение к себе, в том числе и к своему постимперскому синдрому. Я сейчас для «Дилетанта» пишу довольно большую статью о Голсуорси. Ведь Голсуорси был так любим нацией именно потому, что главной его темой был постимперский синдром, и он предлагал — в особенности в знаменитой трилогии, мной особенно любимой, «Конец главы» — предлагал разные, довольно креативные (простите за грубое слово) выходы из ситуации постимперского синдрома.
Я в любом случае не считаю иронию панацеей от подлости, тем более не считаю её панацеей от несвободы. Мне кажется, что ирония приводит к ещё большему закрепощению. И Блок, цитируя некрасовское «Я не люблю иронии твоей…», как раз имел в виду слишком лёгкое отношение к себе, то, что ирония легко заменяет совесть.
Понимаете, какая штука? В своё время Ильф и Петров, когда они обдумывали, рефлексировали по поводу своей литературной деятельности, они формулировали очень точно. Петров в книге «Мой друг Ильф» говорит: «У нас не было мировоззрения, нам его заменила ирония, потому что все ценности были разрушены». Но это была всё-таки гуманистическая и культурная ирония, — добавлю я от себя. И всё-таки у Бендера мировоззрение есть. Бендер — плут. И поскольку первым плутовским романом было Евангелие, Бендер во многом — носитель евангельских ценностей, ценностей христианских, ценностей, мира, добра, милосердия; он ненавидит насилие, он чтит Уголовный кодекс, он издевается над дураками, но и Христос практиковал это. В общем, Бендер — скорее фигура такая христианская.
Кстати говоря, в христианстве тоже есть ирония, высокая ирония, насмешка над тупостью, предсказуемостью, косностью всякой и над злом вообще. Например, Бродский считал, что «подставить другую щёку» — это ирония, а не милосердие, это насмешка, это попытка переиродить зло. И это очень точное мнение. Но если бы вся ирония была действительно христианской, тогда прекрасно было бы жить. Но есть огромное количество иронии не высокой, а низкой, иронии глумливой, иронии, которая сводит высокие нравственные принципы на нет.
Кстати говоря, британский юмор, британская ирония — они далеко не всегда выдерживают эти показатели. Честно вам скажу, я английский юмор не люблю, Вудхауса читать не в силах, Эдварда Лира считаю замечательным мастером, но всё-таки его абсурд мне не понятен. Если уж на то пошло, ирония — это французские книги после войны, когда нация пыталась справиться со стрессом своего падения и предательства с помощью книг Виана, с помощью Анри Мишо, с помощью Раймона Кено, с помощью движения патафизиков. Вот это та ирония, которая претворяет реальность, а не тот британский юмор, который, по-моему, довольно поверхностен, как каламбур. Вот так бы я сказал.
«Прочитал книги Олега Попцова. Поздний Борис Ельцин там «голый король», ведомый фаворитами. Согласны ли вы с оценкой Попцовым первого президента России?»
Нет, категорически. Мне кажется, что всё-таки разница масштабов тут слишком очевидна, это фигуры несоотносимые. И каких бы гадостей… я бы сказал, каких бы заслуженных гадостей ни писал Олег Попцов о «царе Борисе», во-первых, всё-таки Попцов — фигура перестроечная, которая Ельцину до какой-то степени обязана (и это следует учитывать, по-моему, и самому автору); и во-вторых, сегодня, чтобы ругать Ельцина, много ума не надо. И даже вообще чтобы ругать Ельцина, много ума не надо, потому что он и при жизни не очень-то за это карал. Мне бы интереснее было прочесть хронику совсем другого… ну, «царя Владимира», например, — вот то, что написал Зыгарь [«Вся кремлёвская рать»]. И то, на мой взгляд, он скорее любуется, чем критикует. В общем, «Хроника времён «царя Бориса» мне сейчас совершенно не интересна.
«Интересно ваше мнение о писательнице Анаис Нин. Стоит ли там искать что-то, помимо эпатажа и порнографии?»
Стоит, наверное. Всё-таки она была долгое время возлюбленной Генри Миллера и кое-чему от него научилась. Я-то считаю (и я много раз об этом говорил), что лучшее, что написал Генри Миллер, — это эссе о Рембо, которое называется «Время убийц». А его так называемые эротические сочинения мне кажутся механистичными и скучными. Анаис Нин интересна там, где она разбирается в культуре; там, где она пишет об эротике, она довольно банальна.
Вернёмся через три минуты.
РЕКЛАМА
Д. Быков― Продолжаем разговор. Мне тут справедливо указывают, что не была Анаис Нин женой Генри Миллера. Я и не говорил, что она была женой. Она была его подругой, назовём это любовницей, если вам больше нравится. Замужем она была за каким-то американцем… Сейчас нет времени проверять. Тем не менее, связь наличествовала, а влияние — тем более.
Вопрос от Лизы: «Кто вы, если не либерал? И кто либерал, если не вы? Не против же вы «незыблемости прав и свобод человека»? (Если не секрет, конечно.)».
Да нет, Лиза, какой секрет? Просто у вас странное представление о либерализме, как вообще у всех. О либерализме у всех странное представление. Почему-то считается, что либерал — это тот, кто защитник прав и свобод человека. Да нет. Знаете, защитников прав и свобод человека очень много среди убеждённых консерваторов. Либерал — это тот, кто считает нужным минимизировать влияние государства в экономику и частную жизнь граждан. А антропоцентризм (вот так это называется) — это совершенно особая статья, и это бывает присуще и самым отчаянным консерваторам. Кстати говоря, я не знаю, вот Айн Рэнд — это либерал или консерватор? Она либертарианка, и это совсем другое.
Для меня права и свободы человека, конечно, незыблемы, но они не самоцельные. Для меня человек не есть мерило всех вещей. И я не думаю, что всё можно сделать ради жизни. Здесь я стою на позициях Веллера, который говорит: «Жизнь, которая стоит выше всех ценностей, на самом деле не стоит ломаного гроша». Вынужден с этим согласиться. Понимаете, есть вещи, которые хуже смерти, вот так мне кажется. Есть вещи, которые гораздо хуже смерти. И необязательно это бесчестье, это много чего. Поэтому для меня мерилом всех вещей человек не является.
«Расскажите про книгу «Толстой и Достоевский» Мережковского. Прочитал её не так давно и во многом пересмотрел свои взгляды на Толстого. Мучает вопрос: насколько эта книга субъективна? Сохраняется ли до сих пор разделение духа и плоти? Если Достоевского в XX веке воплотил Солженицын, то кто воплотил «ясновидца плоти» Толстого?
P. S. Готовясь к лекции про Балабанова, посмотрел «Груз 200». Избегал я этого фильма, нервничал, но решил, что пришло время. Ударило сильно. Чувствуется зловещая метерлинковщина в этой картине. Слишком про нас. Спасибо. Приезжайте в Новосибирск!»
В Новосибирск я готов приехать куда угодно, всё-таки родина жены. И потом, многое меня связывает с этим городом, очень много всего, как может судить пристрастный читатель лирики моей (всякое, типа «Сердце моё улетело в Новосибирск» и прочее). Многое связывает меня с этим городом, я его люблю. И если вы меня позовёте в Академ с докладом или просто в гости, я приеду. Через сайт pryamaya.ru со мной легко связаться. Про «Груз 200» буду подробно говорить в ходе лекции.
Что касается книги Мережковского «Толстой и Достоевский». Она действительно построена на довольно простой дихотомии. Мне кажется, что эта книга очень многословная, прежде всего. Невзирая на замечательные прозрения Мережковского, знаете, 500 страниц писать о том, что Достоевский [Толстой] — это «тайновидение плоти», а Мережковский… то есть Достоевский — это «воплощение духа»… Мне кажется, что мысль не стоит размазывания на такое количество страниц. Хотя лучшее, что сделал там Мережковский, — это очень тонкий анализ приёмов, с помощью которых написана «Анна Каренина». Тончайший!
Понимаете, вот было два великих открытия, две великих работы об этом романе. Лекции Набокова, где Набоков доказался о рассинхронивании времени, об асинхронности времени Анны и Левина как о великом художественном приёме Толстого (думаю, интуитивно нащупанном, но такой приём имеет место быть). И вторая великая работа — это, конечно, «Толстой и Достоевский» Мережковского, где лейтмотивы «Анны Карениной», композиция романа впервые разобраны исключительно полно.
О Достоевском там ничего особенно интересного нет, потому что Мережковский, мне кажется, всё время смирял себя. Он сильно не любил Достоевского, и не любил его в особенности за любование патологией. И не любил его ещё и за то, что в своё время Достоевский о его стихах отозвался довольно скептично. Я, кстати, не могу не вспомнить в этой связи очень смешное стихотворение Кушнера про то, как Достоевский ругает Мережковского:
У мальчика слезы вот-вот из-под век
Покатятся. Боль и обида какая!
«Страдать и страдать, молодой человек!
Нельзя ничего написать, не страдая».
А русская жизнь, тарантасу под стать,
Неслась под откос неуклонно и круто.
Конечно, нельзя ничего написать.
И всё-таки очень смешно почему-то.
Вот молодец Кушнер! Потому что призывы к страданию в русской жизни — это действительно смешно.
Конечно, работа Мережковского в большей степени о Толстом. Толстого он любил, понимал, тяготел к нему. Вот как он совсем, по-моему, не понимал Чехова, так он глубоко и точно понимал и интерпретировал Толстого. Всё, что там сказано о Достоевском, — это попытки замаскировать ярый скепсис по отношению к нему. Всё, что сказано там у Мережковского, выразил гораздо точнее и чётче Толстой в своём диалоге с Горьким. Он сказал: «Буйной плоти был человек! — сказал он о Достоевском. — И когда нервничал, то весь с шишками ходил». Вот это очень чувствуется, да.
«После очередного просмотра фильма Чаплина «Огни большого города» остался вопрос: верит ли Чаплин в прозрение людей, или он горько иронизирует над чарами великих иллюзий?»
Конечно, горько иронизирует, иначе мы бы Чаплина не любили. Если бы не этот горько-солёный или кисло-солёный синтез сентиментальности и насмешки… Не забывайте, что «Огни большого города» — это всё-таки комедия, причём комедия, пародирующая очень многие штампы. И финальный вот этот Чарли, который крутит цветочек, — понимаете, у него в глаза вся тоска и весь скепсис XX века. Вот за это мы любим Чаплина. Кстати говоря, и «Новые времена» — тоже мы не должны обманываться относительно идиллии, которая там есть. Помните, там эта сцена будущего рая, где Чарли срывает виноградину, растущую бесплатно при коммунизме. Ну, это очень здорово! И, конечно, Чаплин — великий насмешник. Я думаю, что лучший фильм Чаплина — это всё-таки «Месье Верду», как считал и он сам.
«Кто для вас Мишель Монтень?»
Ну как вам сказать? Стилистика Монтеня меня всегда привлекала больше, чем его мысли. Для меня он образец сдержанности, благородства, бесстрашия, в том числе и бесстрашия метафизического, но он никогда не был моим советником. Может быть, потому, что Роджер Бэкон с его, так сказать… Нет, не Роджер. Сейчас, подождите, я уточню это дело. Вот он, любимый! Фрэнсис Бэкон, который мне попался раньше, он для меня больше значил (и попался потому, что была дома серия «Литпамятники»). И «Опыты» Бэкона мне нравились чрезвычайно. Впрочем, Роджер Бэкон — тоже по-своему замечательный человек, просто он не писал «Опытов», к сожалению, а он был всего лишь философом, алхимиком и предположительно автором «Манускрипта Войнича». И Фрэнсис Бэкон, и в огромной степени, наверное, Блейк, ну и вообще британская традиция мысли мне нравилась больше, чем французская. Может быть, в «Опытах» Монтеня меня отпугивало то, что я прочёл их лет в двенадцать-тринадцать, когда человек, конечно, ещё до этого не дозрел. Но почему-то мне казалось всегда, что это как-то слишком от меня далеко, и лично меня это никогда не задевало. Поэтому, уж что поделать, всех любить не будешь.
«Расскажите о книге Шраера «Бунин и Набоков».
Это довольно дельная книга. Максим Шраер — если мне память не изменяет, это сын Давида Шраера-Петрова, известного российского поэта и прозаика, эмигрировавшего. Ну, книга «Бунин и Набоков» не содержит никаких революционных открытий, потому что это довольно компилятивная работа. Компилятивная в том смысле, что самое интересное в ней — это цитаты из переписки Бунина с Набоковым (по-моему, впервые там достаточно полно проанализированные) и сопоставление текстов. В принципе, из этой книги явствует только одно — что Бунин был упорным и закоренелым атеистом, а Набоков искренне и радостно верил в то, что в мире есть место чуду. Поэтому отношение Набокова к Бунину было, что ли, более снисходительным, более весёлым, более радостным, а Бунин со старческой злостью и завистью к нему относился.
И нельзя не признать, что очень многие поздние определения Бунина грешат не столько субъективностью, не столько даже старческим скепсисом, а они грешат полным непониманием набоковского «Дара», очень светлого и жизнерадостного. Ведь это надо было быть Буниным, чтобы Набокову предсказать: «Вы умрёте в совершенном одиночестве». Из-за того, что Набоков не любил задушевных разговоров под водочку и селёдочку, нельзя же сделать из этого вывод, что Набоков был холодным человеком. Да Набоков — один из самых тёплых и светлых русских писателей. Вспомните вы «Лик», вспомните вы «Истребление тиранов», вспомните «Музыку». Ну, мало ли у него рассказов, наполненных самой живой, самой яркой нежностью?
Я уж не говорю о том, что оба они были мужьями двух Вер, фанатично им служивших, — Веры Буниной и Веры Набоковой. Ну, мрачно, конечно, и, наверное, не надо этого говорить, но посмотрите, как плохо сложились в результате отношения Бунина со своей Верой Муромцевой и какая идиллическая, райская жизнь у Набокова с Верой.
Кстати, мне одна девушка очень умная пишет регулярные письма, и вот она говорит: «Я прочитала переписку Набокова с Верой, и я не верю, что он её любил — слишком всё ровно». Понимаете, это такое русское представление: «не бьёт — значит не любит». Набоков очень любил Веру. И Вера как идеальный женский образ присутствует в его текстах. Многие говорят: «Нет, он любил только Ирину Гуаданини». Ну почему? Почему мы готовы любить только безнадёжной страстью и уважать только беззаконие? На самом деле он действительно любил Веру. Вы не поверите, но такое бывает. Встретил, полюбил, прожил идиллических 60 лет… ну, 50. Бывает, ничего страшного.
И мне кажется, что Набоков даже во всех своих человеческих проявлениях… Я не говорю о прозе, так сказать, гораздо более гуманной и духоподъёмной, совершенно чуждой «старческому эротизму», который так взбесил его в «Тёмных аллеях», но и в жизни своей просто Набоков помог большему количеству людей. Он вообще распространял вокруг себя ровный свет. И все разговоры о его холоде, о его снобизме — от кого они исходят? От Зинаиды Шаховской? Ну, наверное, Зинаида Шаховская заслужила то отношение, которое ей Набоков продемонстрировал. Если бы такая женщина на моём пути встретилась, то не думаю, что я бы смог быть с ней так сдержан (простите за параллель). Зинаида Шаховская была действительно известна антисемитизмом. Что вы хотите от Набокова?
«Нравятся ли вам вокальные циклы Георгия Свиридова, в особенности на стихи Есенина и Блока?»
Я в Штатах сейчас… Передаю, кстати, радостно привет Якову Касману, замечательному пианисту, с которым я подружился в этот приезд в Бирмингеме (штат Алабама). Привет, Яша, и привет всем вашим! Тем более что ваша жена, насколько я знаю, работала на «Эхе» одно время.
Что я могу сказать? Мы как раз имели довольно бурную дискуссию о том, как следует относиться к Свиридову. Мы оба с некоторой робостью признались друг другу, что мы Свиридова любим, а в особенности, конечно, цикл к «Метели» и классический цикл к «Время, вперёд!». Можно сколько угодно говорить о том, что Свиридов — это пошлость, но «мелодия — это душа музыки». И это сказал не кто-нибудь, а Шостакович — не самый мелодичный композитор XX века. Свиридов во многих отношениях ученик Шостаковича, в общем, ученик в своё время любимый, потом уже с ним разошедшийся. Мы можем как угодно плохо относиться к свиридовскому эпистолярному и дневниковому творчеству. Это довольно сложные тексты, восторга они у меня не вызывают, как и его жидоборчество, как и его крайний консерватизм в эстетических суждениях — ничего в этом хорошего нет. Такое отталкивание от всего нового — это не делает художнику чести. Но, ничего не поделаешь, у Свиридова есть гениальные музыкальные сочинения. Музыка к «Время, вперёд!» Швейцера и музыка к пушкинской «Метели» — это великая музыка XX века.
Что касается вокальных циклов. Мне не нравятся его вокальные оратории на стихи Маяковского; совсем не нравится то, как у него звучит Пастернак. Я считаю, что «Снег идёт» гораздо лучше написал Сергей Никитин, прости господи. Хотя, может быть, к пастернаковскому замыслу ближе Свиридов, потому что у Пастернака «Снег идёт» — это довольно тревожное, довольно мрачное стихотворение; это время засыпает нас, погребает нас под собой. И у Свиридова поймана эта интонация — такое холодное ангельское пение. Это неплохая вещь.
Что касается вокальных циклов на стихи Блока, то мне кажется, что на Блока невозможно музыку писать — и не потому, что Блок сам по себе музыка, а потому, что у Блока нет зазора между формой и содержанием, некуда «втиснуть нож». Музыка возникает там, где есть противоречия, где есть, скажем, идиллическая форма и мрачное, трагическое содержание. Это, кстати, очень часто у Окуджавы (почему он и был песенником по природе своей). Понимаете, с Блоком нечего делать музыканту. Ну, разве что попробовать спеть самые романтические его стихи на какой-нибудь брутально-блатной мотивчик, но боюсь, хотя в этом и будет, конечно, противоречие, но в этом не будет уважения к оригиналу. Поэтому на Блока музыку писать, по-моему, бессмысленно. Он сам музыка. На Есенина — мне кажется, тоже бессмысленно, поскольку он во многих отношениях ученик Блока. И Блок сам о нём сказал: «Стихи свежие, чистые, голосистые, многословные». По-моему, музыка на стихи Есенина всегда подчёркивает их водянистость. Хотя, конечно, есть удачные экземпляры и удачные пробы.
«Посоветуйте авторов, чей стиль схож с Евгением Дубровиным. «В ожидании козы» и «Билет на балкон» тронули меня. «Племянник гипнотизёра» и «Дивные пещеры» — приятные и легко читаемые вещи».
Ну, я не буду говорить про этого писателя (просто потому, что это на самом деле долгий разговор). Евгений Дубровин — это советский сатирик, но добрый сатирик, лирический. «В ожидании козы» — прекрасная вещь, она самая популярная у него. Что можно почитать того же типа? Леонида Лиходеева («Я и мой автомобиль», например), Варвару Карбовскую, вот этих авторов — тоже советских человечных, гуманных сатириков. Какие-то вещи Лазаря Лагина. Про Лагина я буду отдельно говорить. Но я прежде всего рекомендовал бы Лиходеева, конечно.
«В обществе обэриутов читать газеты и говорить о политике считалось дурным тоном, однако в своём творчестве они через призму абсурда смогли отразить весь ужас жизни в 30-е годы. Как бы отреагировали на происходящее сегодня Хармс, Введенский, Заболоцкий и другие? Писали бы блоги в Интернете или сознательно изолировались бы от всего мира?»
Я не знаю, в какой степени сознательно, но движению чинарей или обэриутов… Ну, неслучайно же они чинари, а именно потому, что этим подчёркивается иерархичность и их позиций, и их взглядов, и искусства вообще. Им была присуща некая важность, — важность, которая есть в их «Разговорах», записанных Липавским, Друскиным, которая есть в переписке Хармса. Чинность. Это не чинность такой иерархической структуры, а это чинность скорее духовной иерархии — недопущение низкого в круг своих забот. У Герасимовой aka Умки в очень забавной и при этом очень точной диссертации о природе смешного у обэриутов подчёркнуто, что смешное не входит в их задачи, а это побочный эффект. Комического эффекта обэриуты не хотят. Этот эффект возникает от остранения, от предмета, который увиден без флуоресценции. Обэриуты не острят — вот что важно.
Чем бы они занимались сегодня? Скорее всего, они бы сидели, как и сидели они в 30-е годы, потому что такая фигура, как Хармс, — это просто ходячий экстремизм. Ну, это отдельный вопрос: в какой степени игра Хармса была таким евреиновским «театром для себя», в какой степени безумием, а в какой степени синдромом навязчивых ритуалов, обсессии? Лидия Гинзбург, которая видела однажды просто, как в соседней комнате Хармс приготовлялся ко сну (проделывал сложную систему молитв, поклонов, ритуалов), была уверена в том, что, в отличие от невротика Мандельштама, Хармс был полноценным систематическим безумцем. Это безумие предполагало, конечно, определённую аутичность, определённую невосприимчивость к политике. Да и кто такая политика, чтобы Хармс на неё отвлекался? Его интересовали «Страсти по Матфею». Они все были специалистами по Баху. Что мы можем сказать об отношении Баха к современной ему политике? Бах — это человек, который мирами двигает. И что ему политика?
Просто эти люди в силу своего особенно чуткого, особенно внимательного отношения к реальности не могли не почувствовать воздуха времени. Ведь трудно найти лучшую повесть о 30-х годах, чем хармсовская «Старуха». Я помню, мне Валерий Попов когда-то сказал, что он одновременно прочёл «Старуху» и «Московскую улицу» Ямпольского. И все ужасы тоталитаризма, описанные Ямпольским, бледнеют перед иррациональным страхом старухи. Ужас эпохи Хармс запечатлел лучше, чем реалисты. Поэтому, конечно, они отразили бы этот ужас, но отразили бы его крайне опосредованно — в такой хармсовской, кафкианской, я бы рискнул сказать, абсурдистской форме. Ну, это, понимаете, как вечный вопрос: в какой степени можно назвать Кафку политическим писателем? Конечно нет. Он просто предрёк фашизм, но предрёк-то он его, исходя из высокого иудейского закона, из полного бесправия человека в мире, а фашизм — только частный его случай.
«В середине фильма Пазолини «Декамерон» как точка опоры — новелла об убийце, который на предсмертной исповеди выдал себя за святого. Это циничная шутка, или Пазолини и Боккаччо думают, что вера спасёт и последнего грешника?»
Андрей, я не рискну вам ответить, я не знаю, потому что явно Пазолини и Боккаччо не могут здесь стоять через запятую. Боккаччо — это человек Возрождения при всех своих заблуждениях, противоречиях и чём хотите. И при всём игровом характере «Декамерона» Боккаччо всё-таки более известен современникам как автор трактатов о природе права, а «Декамерон» — это шутка гения, которую он сам всерьёз не принимал. Другое дело, что только она от него осталась. Что касается Пазолини, то это великий провокатор, который допровоцировался до того, что его убили по окончанию работы над «Сало́». Поэтому я думаю, что эта история для Боккаччо значила одно, а для Пазолини — другое.
«Нападение на школьников и Улицкую, конечно, за пределами добра и зла, но и та волна «упражнений в злословии» в адрес нападавших со стороны либеральных спикеров тоже за рамками. Понятно, что эмоции зашкаливают, но для НОДа всё это божья роса, а спикеры в первую очередь замазывают себя. А в итоге точнее и жёстче, чем Венедиктов, назвавший это просто «фашизмом», так никто и не выступил».
Я уже говорил вам о том, что я понимаю под фашизмом. Под фашизмом я понимаю sinful pleasure — греховное наслаждение, сознательное преступание нравственного закона, глумление над тем, кто слабее. Глумление над стариками и детьми тоже входит в это понятие, но насколько люди из НОДа могут понимать, что они преступают закон и мораль, я не в курсе. Думаю, что у них нет вот этого наслаждения своей преступностью. Думаю, они просто за деньги сделали то, что им приказали, то есть это не дотягивает даже до фашизма.
Что касается этой вашей логики насчёт того, что «конечно, плохо, что они облили зелёнкой, но и те, кто их осудили, тоже вышли за рамки добра и зла». Простите, это мне напоминает классический анекдот: «За что ваш пёсик нашего кролика задрал?» — «А зачем ваш кролик на нашего пёсика фыр-фыр сделал?» Понимаете, ну это… Одни люди облили зелёнкой детей и немолодых заслуженных писателей, а другие люди об этом как-то отозвались — и вы ставите их на одну доску. Да, нехорошо. Наверное, они обидели этих школьников — вот тех, которые обливали? «Ведь это молодые люди. Ну, это за гранью, за рамками. Зачем же так их огорчать на самом деле? У них же есть родители, и им тоже, наверное, больно». Простите меня, но я такого уравнения не принимаю. Для меня любое действие, связанное с физическим насилием, подлежит любой словесной интерпретации. Если люди кого-то оклеветали, допустим, или спровоцировали погром, или грубо солгали, то об этих людях можно сказать любые вещи. В данном случае, на мой взгляд, сдержанность излишня.
«В своём романе «Новый сладостный стиль» Аксёнов изобразил героя, который любит очень сильно и интуитивно знает всё о своей любимой, все её тайны. Герои достигли такой близости, что не могут жить вместе. Такое впечатление, что Аксёнов сам не понимает, что им делать. Нужно ли притушить слишком сильную страсть?»
Вопрос не праздный, потому что действительно у того же Валерия Попова, когда он отвечает на вопрос: «Почему они с героиней «Двух поездок в Москву» не могут жить вместе?», — он отвечает: «В нас преграда. Мы боимся не сохранить этот же уровень силы». Ну, ребята, это надо уметь. Понимаете, счастливая любовь требует больше усилий, чем несчастная, потому что в счастливой надо всё время придумывать, что дальше делать вместе, нужно заниматься какой-то совместной работой или углублять взаимные познания, выстраивать какую-то драматургию. С другой стороны, счастливая любовь… У меня было когда-то такое:
А счастливой любви не бывает.
Не бывает совсем никакой.
Счастливая любовь — это в известном смысле такое допущение. Бывает очень высокая степень совпадения. Бывает, да, но это не значит, что вы похожи, и это не значит, что вы сможете жить вместе. Люди вообще вместе жить не могут, это всегда преодоление определённого барьера. Я помню, как Нонна Слепакова мне говорила: «Я люблю мужа страшно! Я люблю мужа больше, чем кого-либо когда-либо. Но я не могу иногда отделаться от ужасной мысли, что по дому рядом со мной ходит другой человек». Это у неё выражено в одном стихотворении:
Для нас двоих соседа нет,
И нету никого…
(Ужас вот этот!)
За нашим домом в темноте
Следят сто тысяч глаз.
Ночные бабочки, и те
Из тьмы глядят на нас.
Даже если вы живёте вдвоём с человеком, ужас этого сожительства всё равно неотменим, это всё равно другой человек. Помните, как Чебурашка в классическом анекдоте, когда он входит в ванную, там плещется Гена, и Чебурашка в ужасе кричит: «Крокодил!» Понимаете, даже любя Гену, он иногда вдруг понимает, что это крокодил.
Поэтому не думайте, что счастливая любовь скучна. Счастливая любовь сулит вам преодоление множества сложнейших вещей. Несчастная — там всё понятно, там надо завоёвывать другую (ту, которая от вас отворачивается). А когда вам надо сделать так, чтобы с вами было не скучно очень любимой или любящей, — вот тут действительно проблема. Многие головы на этом сломали.
А мы вернёмся в студию через три минуты.
НОВОСТИ
Д. Быков― Продолжаем разговор. Отвечаю на вопросы, пришедшие на почту. Напоминаю: dmibykov@yandex.ru.
«Слушаю лекцию Радзинского про Сталина. Как вы считаете, Сталин — это анти-Ленин или всё-таки взращённый самим Ильичом преемник и вождь, начиная от отмазки в сотрудничестве с Охранкой? Если бы Ленин был жив ещё лет двадцать, была бы страна другой? И ваше отношение к баннерам ко Дню Победы со Сталиным?»
Отношение резко отрицательное. Я считаю, что Сталин — это самая отвратительная фигура в российском XX веке, а может быть, и в последних трёх веках российской истории. Но ваше предположение, что он анти-Ленин и при этом ученик Ленина — понимаете, одно другого совершенно не исключает, они не взаимоисключающие. Дело в том, что любой, кто пришёл бы после Ленина, был бы анти-Лениным, и поэтому заключение Ленина в Горках (не вполне добровольное) было неизбежной его участью. Он должен был пострадать от руки собственных соратников. Это закон. Революция не просто пожирает своих детей, это не особенное следствие такого аппетита революции. Просто революция всегда переживает период самоотрицания, когда приходит маленький человек (как совершенно правильно типологизирует Радзинский, это типаж Бонапарта) и начинает наводить порядок. Он, как правило, маленький, потому что всем надоели уже гиганты, вроде Дантона. Кстати, драма Бюхнера «Смерть Дантона» в этом смысле очень показательна. Бюхнер многое понимал лучше, чем большинство его современников, даром что прожил всего 24 года.
«Что, если цель человека — избежание страданий, включая сюда бесчестие как главное страдание? Вы, довольно вальяжно рассуждающий о скучности счастья, выглядите для неопределившегося пока россиянина как карикатура».
Слушайте, Астах, я вообще всегда с нежностью отношусь к вашим вопросам, но что здесь значит слово «вальяжно»? Вальяжно — это у вас такой стереотип. Если человек говорит без запинки перед каждым словом, то кажется, что он рассуждает вальяжно или самодовольно. Вы попробуйте вслушиваться в суть того, о чём я говорю. Когда я говорю о вредности счастья, я говорю об эгоизме. Больше того, я не говорю, а я цитирую Каверина: «Счастье спрямляет жизнь». Человек, который знал слишком много счастья в личной жизни, полагает это нормой и не хочет прислушиваться к чужому страданию. Счастье иногда делает человека глухим, ну ничего не поделаешь. «Душа под счастьем спит, как спит земля под снегом», — писал один автор.
Вот интересный вопрос про блатной стандарт в разделении людей: «Блатные никогда не ошибаются, отличая свои пацанов от лохов и фраеров. Но как только я начинаю понимать это отличие, на меня орут: «Кто вам дал право делить людей на белых и чёрных?!»
Конечно, вы здесь совершенно правы. Конечно, блатные сами по себе абсолютно чётко делятся. Да и не только блатные, а и чиновники, и вообще люди, принадлежащие к закрытым, мафиозным сообществам, они сами всех делят на лохов, фраеров и крутых реальных пацанов, а стоит кому-то поделить людей на честных и бандитов, они кричат: «Дискриминация! Дискриминация!» Нет уж, позвольте и нам придерживаться разделений. Если вы делите людей на тех, кто достоин жить и не достоин жить, позвольте и нам делить мир на тех, с кем мы будем разговаривать, и тех, с кем не будем разговаривать. Мне всегда очень нравилась одна фраза Папы Римского Иоанна Павла II, когда он сказал: «Простите нас за наши прегрешения. Позвольте и нам простить вас за ваши прегрешения», — это он сказал о коммунистах. Вот эту ироническую интонацию я очень помню. Позвольте и нам простить вас. Вы нас не делите, так вот позвольте и нам. Да? Ну, тут здравые рассуждения о том, что эта борьба дольше и страшнее классовой. Да, конечно.
«План Путина — это план доказать излишность для поддержания нормального функционирования человеческого общества всех ценностей, отличающих человека от животного: добра, справедливости, гуманизма, искусства, химеры совести и так далее».
Ну, много чести. Мне кажется, это не план Путина, а это вообще план всех прагматиков. Многие люди в XX веке используют опыт XX века, чтобы показать: «Вот видите, что бывает из-за культуры?» Ну, у нас многие так сейчас говорят: «Вот видите, Германия — культурнейшая нация, а породила фашизм! А мы, всегда упрекаемые в бескультурье, его победили. И кто же на самом деле светоч культуры?» Это распространённая передержка, совершенно очевидная. Дело в том, что в Германии фашизм возник не из-за избытка культуры, а из-за недостатка её, из-за того, что германская культура, наоборот, слишком долго обслуживала государство и прислуживала его интересам; и слишком легко, как Томас Манн в «Рассуждениях аполитичного», соглашалась с тем, что есть вещи повыше культуры — например, национальное единство. Поэтому Россия великая страна благодаря культуре, а не вопреки ей.
И, конечно, этот план, который вы приписываете Путину, — это не план Путина, а это план всех примитивных людей, которые считают, что примитив способствует норме, что примитив способствует жизни. Честертон ведь тоже говорил: «Я за обывателя, потому что обыватель не даст фашизму победить». А потом взял фашизм… Ну, он тогда это не называл фашизмом, а он называл это террором. А потом взял фашизм и пришёл на волне поддержки обывателя, и всё это оказалось довольно наивно. Я просто хочу сказать, что любая контркультурная, любая антикультурная риторика в основе своей ухудшает мир. Вот это важно помнить.
«Можно ли назвать социал-дарвинизм одной из форм сатанизма, в которой человеку предъявляется требование абсолютной силы?» Ну, не знаю, для меня нет принципиальной разницы между социал-дарвинизмом и фашизмом.
«Я знаю, как нам спасти Россию. Нужно продавать женщин в арабские страны, а на вырученные доллары хорошо жить».
Это, конечно, шутка (и я понимаю, что это шутка), но вообще скажу вам, что есть вещи, которые надо оставлять для себя. Нельзя экспортировать учёных, нельзя разбрасываться гениями. Я понимаю, что сейчас, может быть, я совпадаю с мнением Путина, который говорит: «Вот у нас перекупают учёных. Вот у нас ещё на стадии школы сманивают лучшие умы». Конечно, у нас нет системной борьбы с бегством мозгов, с их утеканием за границу. Но ведь бороться надо не системой запретов, а созданием привлекательных условий для того, чтобы люди были счастливы в России. А люди этой породы счастливы, когда у них есть работа, деньги их привлекают в меньшей степени. Поэтому — создать в стране условия для того, чтобы женщинам здесь было хорошо, и тогда наши женщины не будут убегать за рубеж. Утечка мозгов тоже.
Кстати говоря, я с ужасом должен заметить, что количество женщин, вышедших замуж за американцев и счастливых в этом браке (или за немцев, или за японцев), оно всё-таки не так велико, как хотелось бы, потому что разница менталитетов очень часто оказывается непреодолимой. Конечно, я не против зарубежных усыновлений, и я не хочу здесь впадать в какие-то крайности и в античеловеческие позиции, но мне хочется действительно, чтобы лучшие женщины, лучшие умы, лучшие художники и артисты оставались в России — просто потому, что тогда в России будет больше воздуха. Понимаете, для меня это очень важно.
«Когда Анна Каренина вернулась в Петербург, она уже достаточно влюблена, чтобы заметить «маленькие недостатки» мужа? Хотел ли автор этим сказать, что при выборе одного из двух спутников второй тотчас становится менее симпатичным?» — ну и раздражающим, как вы правильно пишете.
Имеются в виду его уши. Помните, когда она заметила уши мужа? Ведь роман «Анна Каренина» — это не морализаторский роман. С одной стороны, это шедевр романной архитектуры; а с другой стороны, это просто очень точные наблюдения над эволюцией любви, влюбления. Анна, конечно, в ужасе от происходящего, но она счастлива! Помните, она говорит: «Я — как голодный, которому дали есть!» До этой любви она жила, не зная. А после, когда она почувствовала… Вот после того, когда ты уже почувствовал любовь, её отнять нельзя. И там очень верно, что у неё сразу страшно возрастает самооценка, она начинает больше любить себя, потому что с Карениным она, конечно, любви не знала и она не понимала, как она прекрасна, она не видела поклонения.
В случае с Вронским тут очень трудно разделить, где кончается похоть и начинается высокая страсть. Но совершенно очевидно одно: Анна не виновата в том, что с ней происходит, потому что очень долго она жила, вынужденно загнав свою полноту жизни в русло каренинских умозрений. Ну представьте себе, что такое жить с Карениным. Это человек, который: «Я хотел бы сказать вам, что…» Слава тебе господи, у нас есть запись постановки, где Хмелёв играл Каренина. Вот это тот Каренин, от которого действительно сбежишь на край света. Это ужас! Ну, в фильме-спектакле с уже немолодой Тарасовой другой Каренин (по-моему, Кедров или Прудкин, не помню). А первый спектакль — версия Немировича-Данченко, 1938 год — вот там Каренин (Хмелёв), от которого действительно сбежишь пешком, я не знаю, босяком в тридцатиградусный мороз! Это совершенно жуткая личность, мертвящая! И для Толстого Каренин — это тоже мёртвое умозрение.
Это же, в общем, политический роман. Это роман о судьбе России, которой померещилось счастливое бегство, а в результате всё кончилось опять ничем. «Всё перевернулось и только ещё укладывается», а потом опять перевернулось и уложилось на прежнее место, и выход оказался опять через войну, как и заканчивается роман. Для меня как раз история Анны — это история физиологически точно описанного безумного увлечения свободой, всех соблазнов этой свободы.
Вопрос, как всегда, стоит очень остро: если всё кончается так, стоит ли жить, стоит ли пытаться, стоит ли увлекаться и так далее? Ребята, стоит! Потому что так кончается всё. И тут ещё большой вопрос: не бросилась ли она бы под поезд, поживи она с Карениным ещё годика два? Понимаете, там есть сцена, на которую мало кто обращает внимания, а она поразительно точная: когда Анна вспоминает своё детство, своё отрочество, когда четырнадцатилетняя Анна с большими красными руками идёт по холоду и вспоминает чувство счастья, свободы, весеннего заката. Она страшно полна жизнью в этот момент! Это ощущение того, что Ахматова называла «божьей тоской», ощущение прелести и невместимости мира. Человек с таким острым ощущением жизни — мог ли он всю жизнь прожить никак? Конечно, не мог. Что мы тут говорим, действительно? Я, например, считаю, что даже если знать, чем всё кончилось…
Вот хороший вопрос: «Извините, не могу не спросить. Что такого уж маленького, кроме роста в Наполеоне, и что такого уж великого в Дантоне, кроме способности изъясняться громкими фразами?»
Ну, Дантон велик, без вопросов, мне кажется. И дело не в громких фразах, а дело в очень точной самооценке, в самосознании. И дело в том, что Дантон первым догадался о перерождении революции и об этом сказал. Может быть, кстати, Марат догадался бы, но его раньше убили, чем он успел это сказать.
А что маленького в Наполеоне? Есть люди, которые очень любят Наполеона. Я тоже, в общем, неплохо к нему отношусь. И мой такой литературный двойник и ориентир — Мережковский — написал о Наполеоне прекрасную книгу, в которой доказал, что Наполеон вообще очень правильно всё делал, что он прекрасное явление. Я могу вам сказать, почему я называю его маленьким. Это толстовская традиция. Вот я завтра буду читать лекцию про «Войну и мир», лекцию, раньше не читанную, такую новую, потому что она для детей. У нас завтра на Ермолаевском, 25, по-моему, в шесть (ну, посмотрите, если захотите, на сайте pryamaya.ru) будет лекция про «Войну и мир». Почему Наполеон там маленький? Хотя Толстой любил всё толстое, особенно Пьера, почему толстость Наполеона там так физически неприятна? Наполеон маленький прежде всего потому, что он себя видит в центре мироздания, а это всегда масштаб человека очень снимает. А Дантону это не было присуще, хотя тоже очень противный был тип.
Вот интересно: «Какой же мерой мерять, если не человеком? Что поставить в центр мира, если не человека?»
Знаете, это хороший вопрос, но я не знаю толком, что на него ответить. Ведь человек — это же не обыватель, который хочет только есть и спать. Человек — это творец. Сверхчеловек Ницше — это же не белокурая бестия в фашистском понимании, а это Заратустра; это человек, который прыгнул выше себя, который преодолел в себе человеческое. Поэтому я не думаю, что надо обязательно уравнивать либерала и обывателя и напротив сверхчеловека и фашиста. Мы всё равно к сверхчеловечности придём. Другой вопрос: будет эта сверхчеловечность иметь форму бесконечного Человейника, о котором мы говорили много раз, будет ли это сверхсеть, объединяющая людей, или будет одиночка, который вытеснен из этой сети? Мне представляется, что обыватель более опасен, чем любой самовлюблённый сверхчеловек, потому что по большому счёту грань между обывателем и фашистом ничтожна, а вот сверхчеловек — это первая жертва любого фашизма.
Кстати, когда мы делали интервью с Янисом Стрейчем (оно выйдет в «Собеседнике»), мы довольно долго спорили о Шпенглере. Вот Шпенглер, насколько закономерен его приход к фашизму? Я говорю, что Шпенглер, вообще-то, от своего «Заката Европы», от идей кризиса гуманизма пришёл плавно к поддержке Гитлера. Стрейч говорит: «Но он же разочаровался потом в Гитлере. Гитлер его поманил, но он потом разочаровался». Ну, разочаровался, но история-то не помнит, разочаровался ты или нет, а история помнит, что ты поддержал злодея, поддержал абсолютное зло; и поддержал его потому, что тебе разонравилось добро, показалось пошлым (по-ницшеански), и тебе захотелось чего-то великого. И Шпенглер, который противопоставил культуру и цивилизацию, Шпенглер, который так любит всякого рода брутальность, — вот этот Шпенглер мне, честно говоря, сильно неприятен.
Вопрос о последнем фильме Балабанова. Хорошо, отвечу обязательно. Речь идёт о том, в какой степени последний балабановский фильм вообще можно интерпретировать как притчу, как метафору (имеется в виду «Я тоже хочу»). Интересный вопрос, поговорим об этой картине. Ну, это то, что в жанре последнего фильма. Как правильно написала Любовь Аркус, это фильм в жанре «завещание», поэтому к нему и особенные требования.
Вот хороший вопрос: «В последнее время часто слышу про русский народ много обвинений в различных отрицательных качествах, из чего делается вывод, что народ порождает именно такую власть, какую мы на настоящий момент имеем, и, следовательно, заслуживает своей судьбы. Не споря с перечнем качеств, хочу сравнить нынешнюю ситуацию с положением полуторавековой давности. Тогда интеллигенция тоже полагала, что народ дик, необразован, тёмен и подвержен заблуждениям. Тогда делался вывод о необходимости просвещения. Сейчас в этом видят оправдание для оппозиции. Так ему и надо. Я понимаю, что интеллигенции необходимо заниматься искусством для искусства, это поддерживает среду. Да и не исходит обычно творчество из чувства долга, а оно следует лишь зову неба. Но жалко, что теперь делается такой вывод из народной дремучести. На ваш взгляд, чем вызвано такое изменение позиции интеллигенции за полтора века? Постарайтесь рассмотреть этот вопрос с этической точки зрения».
Понимаете, а что там особенно рассматривать, Серёжа? Это Сергей прислал вопрос, фамилию уж не буду называть. Что произошло? — спрашиваете вы. Да то и произошло, что проблема вины интеллигента перед народом, рассмотренная Шаламовым, была снята. Шаламов всё время говорит: «Интеллигенция перед народом ни в чём не виновата». И это совершенно правильно. А то, знаете, все эти разговоры, которые ещё Пушкин так презрительно транслировал, когда народ говорит: «Да, мы глупые. Да, мы невежественные. Просвещай нас!» — а поэт отвечает:
Подите прочь — какое дело
Поэту мирному до вас!
В разврате каменейте смело,
Не оживит вас лиры глас!
Это требование такое, знаете: «Да, мы плохи, мы ленивы, непослушны, шаловливы, а ты иди и нас просвещай!» На это Ким очень хорошо ответил:
А ты, пионер, не спи,
Глаз не закрывай,
Ты меня воспи-ты-вай!
Это такая песня второгодника. «А с чего бы меня тебя воспитывать? Ты что, сам себя не хочешь воспитать? И главное — я тебя буду воспитывать, а ты же меня потом обвинишь в высокомерии, в попытке тебя учить. С какой стати? Я должен заниматься личным совершенством».
Я уж не говорю о том, что противопоставление интеллигенции и народа — это довольно дурной демагогический ход. Интеллигенция — это всего лишь лучшая часть народа, и не самозванно объявившая себя лучшей, а просто наиболее умная, наиболее серьёзная и так далее. Любой, кто хорошо работает, — интеллигенция. Любой, кого интересуют какие-то вещи, кроме набить желудок и побить бабу спьяну, — интеллигент, конечно. Интеллигент — это и есть человек, который (по точному определению Окуджавы) хочет принести свои таланты на алтарь отечества. Вот и всё, и замечательно. Который умеет дать в морду, если надо.
«Что вы думаете о Патриции Хайсмит?» К сожалению, ничего о ней не думаю. Пробовал читать — не пошло.
«Поздравляю! — вас также поздравляю. — В лекции вы упомянули незаслуженно забытых Геннадия Головина, Юрия Коваля, Георгия Семёнова. Расскажите о них подробнее в формате отдельной лекции».
Хорошо, если хотите. Я бы вообще, моя бы воля, сделал отдельную лекцию о русской городской прозе 70-х годов. Вот я недавно спросил Искандера, кого он любит из современников. И он ответил, что незаслуженно забыт действительно Георгий Семёнов, который «прекрасно противостоял официозной подлятине» (вот он так выразился). Ну, Семёнов был сложный писатель. И вообще я должен сказать вещь, которая, наверное, многих разозлит: уровень городской прозы и даже сельской прозы, нарочито старавшейся быть грубоватой и антикультурной, был в 70-е годы значительно выше, чем сейчас. Я тут недавно просто по делу взялся перечитывать Петра Проскурина, его чудовищный, на мой взгляд, роман «Судьба». Но этот чудовищный роман хорошо написан. Понимаете, он лучше написан, чем подавляющее большинство современной элитной, культурной, какой хотите прозы. Вот это для меня очень важно.
Георгий Семёнов писал по-чеховски: у него не было внятно выраженных сюжетов, а у него была игра лейтмотивов. По крайней мере, две его повести — «Сладок твой мёд…» и «Уличные фонари» — ощущение закольцованности, безвыходности тогдашней городской жизни, вообще тогдашней обывательской жизни они передавали очень точно. А особенно вот эта замечательная сцена в конце «Уличных фонарей», когда герои, купив машину, едут по Садовому кольцу и думают, что едут вперёд, не замечая, что едут по кругу. Это довольно простая метафора, но хорошо написанная. И вообще Семёнов был прекрасным бытописателем этой жизни. Его роман «Вольная натаска», его замечательные повести, рассказы (про вальс, как сейчас помню), его охотничьи истории… «Ум лисицы» — очень неслабая вещь, из которой, между прочим, сделали замечательный фильм с Дапкунайте. Интересная вещь. Это таланкинский фильм, «Осень, Чертаново…» называлась картина. Я вообще очень хорошо отношусь к Семёнову.
Ну, Геннадий Головин — это вообще был один из самых остроумных и человечных писателей того времени. Коваль не так забыт, потому что всё-таки детская литература востребованнее. Но сказать, что многие сегодня читают «Суер-Выер», тоже трудно. Это была очень культурная проза. Лучшее, что написал Коваль, — это, конечно, «Самая лёгкая лодка в мире».
«Какую роль в российской истории сыграл Григорий Распутин?»
Я вполне солидарен с Радзинским, с его книгой. Кстати, и у Варламова книга неплохая в «ЖЗЛ», на мой вкус, хотя немного апологетичная. В чём правота Радзинского? Он увидел в Распутине что-то гораздо большее, чем шарлатана. Он увидел в нём медиатора, соединяющего два мира — мир царской России и мир России крестьянской. И эти две бездны, расходясь всё дальше, они неминуемо его разорвали, они его уничтожили. То, что у России всегда есть полномочный представитель крестьянства при дворе — это, конечно, черта феодальных обществ. К юродивым прислушиваются цари, потому что институционально эти граниты и это болото никак не связаны. Конфликт этого гранита и болота предсказал ещё Пушкин в «Медном всаднике». Но Распутин — это попытка нащупать медиацию, какое-то взаимодействие этих двух стихий.
Поэтому при всей своей омерзительности, при всей своей корыстности и при всём своём разврате он был человек далеко не глупый. Ну, сейчас отрешимся от его человеческих качеств. Он был человек нишево-необходимый, эта ниша была нужна. Вот почему к Распутину столь многие люди относились серьёзно. Например, Гумилёв:
Много таких мужиков.
Слышен [по вашим дорогам]
Стук их шагов.
Вот они идут. Скажем, Бунин. Алексей Н. Толстой — хотя он и написал поганенькую пьесу «Заговор императрицы» совместно со Щёголевым, но к личности Распутина он относился с явным интересом. Так что, хотите вы или не хотите, но интересен не сам по себе мужик Распутин, интересно даже не то, умел ли он заговаривать кровь на самом деле, а интересно, что эта ниша была необходима. И это очень грустно…
Спрашивают об источнике горьковской оценки Ходасевича («проходил с несессером, делая вид, что это чемодан»). Я не могу найти сам источник этой цитаты, хотя хорошо её помню. Это из каких-то горьковских писем. Поищу. Может быть, из каких-то мемуаров. Во всяком случае, сам бы я такого не выдумал, говорю вам точно. Я поищу. Может быть, со временем это выплывет.
«В чём, по-вашему, стиль научной фантастики 70–80-х годов XX века? Можно ли дать смысловое отличие от фантастики сегодняшней?»
Ну, уже Лазарчук его давал в эфире. Та была занята социальным проектированием и решением великих вопросов; нынешняя занята развлечением. Понимаете, если вы почитаете вдумчиво Гансовского, Мирера (прежде всего «Дом Скитальцев» и «Обсидиановый нож»), Гуревича, да многих, то вы обратите внимание… Ну, Днепрова, Громову, конечно. Перечитайте «Глеги», повесть Громовой — она не слабее, чем лемовский «Непобедимый», хотя написана практически о том же. Стирание личности, превращение человека в раба. Это было серьёзное осмысление процессов, которые происходили в 70-е годы в СССР. Клянусь вам, если бы Стругацкие работали в одиночестве, они не были бы так блистательны, но они опирались на огромный опыт, на среду, и они в этой среде существовали. У Стругацкого Бориса были ученики и собеседники в Ленинграде; у Стругацкого Аркадия были любимые собеседники, как тот же Мирер или Снегов, в Москве. Без среды не существует великое. Поэтому, конечно, фантастика 70–80-х годов… И Геннадий Гор в Петербурге, перечитайте «Мальчика» того же. Фантастика живёт средой, образованием сред. И 70–80-е годы были временем глубокого социокультурного осмысления советских процессов.
«Хотелось бы услышать ваше новое интервью с Отаром Иоселиани». Мне бы тоже хотелось. Мы пригласили его в «Литературу про меня». Надеюсь, что нам будет о чём поговорить.
«Слышал ваше выступление, в котором вы касались раздвоения личности, высвобождения тёмной стороны и получения удовольствия от этого, — речь шла о Стивенсоне. — После этого прочёл «Доброго человека из Сычуани», где раскол личности — тоже ключевая тема, но герой явно не получает удовольствия от своих перевоплощений. Быть плохим приходится, чтобы сохранить возможность сделать добро. Две стороны Я неразрывно связаны. В связи с этим возникает вопрос: по-вашему, возможна ли в наши дни цельная личность?»
Не просто возможна, дорогой Юра, а она неизбежна! Потому что всякие попытки нарушить цельность этой личности заканчиваются той ситуацией, которая описана в том числе и в «Добром человеке из Сезуана» (ну, или «из Сычуани»), потому что ничто не получилось ведь в результате, все попытки творить чистое добро закончились ничем.
«Как вы относитесь к последнему сборнику Людмилы Петрушевской? Имеется в виду «Санаториум».
Сложно отношусь. Мне кажется, что там одна гениальная вещь (но гениальная!) — это пьеса «Балкон ку-ку». Она немножко провисает в середине, но это выдающееся произведение. Более точной картины сегодняшней России (а в некоторых отношениях — и сегодняшнего мира) я не встречал. Другое дело, что это продолжает основные темы, заданные в «Номере Один», действительно великом романе Петрушевской. Но там всё обжигало так, всё было так впервые, и там была такая громокипящая новизна, что многие, читая эту книгу, просто от раздражения не могли её понять — ну, уж слишком шокирующий материал. Поэтому, конечно, книга осталась недооценённой. Но при всём при этом «Балкон ку-ку» — это прекрасная адаптация идей этой книги, прежде всего идей таких этнических, строительства фантастических народностей, что Петрушевской всегда ужасно удаётся. Это высокий класс. Там есть несколько очень хороших рассказов. Две повести, которые там есть — «Письмо Сердцу» и «Санаториум», — честно вам скажу, я их не понял, и я не считаю их удачами. Но Петрушевская — это писатель того уровня, когда любая её неудача значимее десяти чужих удач, просто потому что она ищет, потому что она не успокаивается.
И, знаете, мне ещё по разным моим надобностям случилось сегодня перечитать её рассказ «Страна» из цикла миниатюр (ну, там одна страничка). Братцы, это такой великий рассказ! Да и вообще Петрушевская — такой великий писатель, хорошо она пишет или плохо. И она должна раздражать. Гений всегда раздражает. Первая реакция на гения — всегда раздражение. И если уж у нас есть автор, Нобеля достойный, то это Людмила Стефановна. Я абсолютно уверен, что со временем эта несправедливость будет устранена. А если и не будет устранена, то всё равно от нашего времени в числе очень немногих образчиков её проза останется.
Кстати говоря, среди этих пьес какие-то куски… Ну, «Кошкин дом 2», он не ровен, он не весь выдержан на одном уровне, но какие-то куски там — это самое точное, что написано про сегодняшнюю реальность. Там есть очень сильные и страшные пьесы («Девять минут», например). В общем, как драматург она мне до сих пор нравится, едва ли не больше, чем как прозаик.
Другое дело, что я не очень верю в возможность сценического воплощения этих пьес. И честно вам скажу, что читать «Три девушки в голубом» мне было интереснее, чем смотреть их, потому что, когда читаешь, поражает фактографическая точность воспроизведения речи. Вот Ия Саввина говорила, что Петрушевскую надо играть как стихи, нельзя менять ни одного слова, потому что ткань языка удивительно тонка и слово воспроизводится удивительно точно. Но когда на сцене это смотришь, то это не поражает — как будто слушаешь обыденную речь. А когда это читаешь в тексте, то тут это дёргает просто со страшной силой! И, конечно, все, кто ещё не прочёл «Балкон ку-ку», бегите покупать эту книгу! Понимаете, плохая Петрушевская, хорошая Петрушевская — это всё равно великая Петрушевская.
«Прочли с девушкой «Игру в бисер» и не можем сойтись по поводу смысла финала». Да чего? Понятно всё. Гений оправдывает мир (и это единственное, что его оправдывает), но пока он из него не уйдёт, его миссия не закончена.
Вернёмся через три минуты.
РЕКЛАМА
Д. Быков― Добрый вечер ещё раз, доброй ночи, дорогие друзья! Тут пришла масса вопросов и масса пожеланий, что немножко на них всё-таки приходится поотвечать. Я с удовольствием поотвечаю.
Просят поздравить с днём рождения Валерию Жарову. С удовольствием поздравляю Валерию Жарову с днём рождения! Он у неё сегодня. Это один из моих любимых друзей, соавторов. Вместе мы писали «Сигналы», вместе мы писали «Вомбата». И вообще один из наиболее мною любимых людей ныне существующих. Так что Жаровой большой привет! Вот она мне, кстати, тут прислала очень смешную картинку с вомбатом:
Изловил вомбата и рад зело,
Пир закачу на всё село.
Лицом пригож,
На медведя похож.
Лают на него псы,
А он улыбается в усы.
Да, правильно, так и надо делать. Это из её замечательной «лубочной серии».
Спрашивают меня: «Циклична, наверное, не только русская история, а циклична и немецкая. Есть ли сходство между Кафкой и Гофманом?»
Никакого! Если всех фантастов определять по жанру, то тогда жанровые сходства есть у всего со всем. Гофман — романтик. И мировоззрение Гофмана оптимистическое, жизнеутверждающее. Гофман — прямой наследник немецкой культуры, а Кафка — наследник культуры еврейской, ветхозаветной, и его трагическое мировоззрение с романтизмом не имеет ничего решительно общего. А есть ли вообще циклические фигуры в британской истории? Нет. Это Россия. Россия — это совершенно особенная страна, у которой есть этот цикл. Других аналогий не ищите, потому что во всём мире очень дорожат линейностью. А именно российская нелинейность — это и есть наша удивительная, прекрасная, хотя (как подчёркиваю я) всё-таки временная особенность.
Как я отношусь к аресту человека за репост во «ВКонтакте»? С ужасом отношусь и уверен, что этого человека выпустят.
«Как, на ваш взгляд, можно помочь Мохнаткину?» Как можно шире распространять сведения о нём.
«Как вы относитесь к концерту в амфитеатре Пальмиры?» Я считаю, что всё, что имеет отношение к культуре, — это хорошо. Это имеет отношение к культуре.
Естественно, очень много вопросов про парад. Я ценю изобретательность людей, которые меня стараются спровоцировать. Не выйдет у вас, ребята, ничего. Я к любым крайностям в разговоре о Победе отношусь резко негативно. Мне кажется, что запрет на исследования, например, является чудовищным нарушением прав науки и вообще оскорблением здравого смысла. Но, с другой стороны, я думаю, что Победа в России стала единственным универсальным мифом, и посягать на этот миф невозможно. Другое дело, я надеюсь, что когда-нибудь, со временем, всё-таки правдивый роман о Второй мировой войне и о метафизических причинах, её породивших, будет написан. Думаю, что во многом здесь следует опираться на «Бурю» Эренбурга — роман, который ближе всего подошёл к этому.
Вот мне подсказывают, что Андрей Бубеев осуждён за публикацию в соцсети. Мне кажется, что лозунг «Свободу Андрею Бубееву!» должен стать универсальным, потому что человек может репостить в сетях что угодно, если он при этом не призывает никого конкретного замочить и не публикует план изготовления взрывчатки. И вообще со словом можно бороться только словом. И вообще нельзя любое поведение расценивать как экстремизм, иначе вы превратите свою страну сейчас не в заповедник фашизма, а в рассадник абсурда, а это ещё более унизительно. Это то, что Евтушенко очень точно назвал «сопливый фашизм». Фашизм — это само по себе явление серьёзное. А сопливый фашизм, абсурдный, не заслуживающий серьёзного отношения, — это и есть запрет на мысль, когда вы боитесь мысли настолько, что не можете ей возражать.
А теперь — о Балабанове.
Есть такой остров Ифалук в Микронезии, там населения, по-моему, меньше тысячи человек, но этот остров стал объектом пристального внимания психологов, потому что там существует совершенно особая эмоциональная шкала: там человек занимает в социальной иерархии тем более высокое место, чем больше он может плакать. Вот если он плачет искренне, рыдает, то это значит, что он болеет за свой народ и имеет высокий шанс стать вождём. И даже дебаты проводятся (такие своего рода праймериз ифалукские) в формате «кто кого переплачет». Это очень остроумно. И это не выдумка. Если это приложить к современности (российской или западной — неважно), то это наводит на интересные размышления.
Меня тут, кстати, спрашивают, что теперь будет с Трампом. Я вернулся же из Штатов, там лекции читал. Что касается Трампа, братцы. Я очень жалею, что с одним крупным американским журналистом я не поспорил на большую сумму. Он мне предлагал пари, кажется, на 3 тысячи или на тысячу долларов, не помню сейчас, что Трампа не выдвинут от партии. Ну а теперь, когда у Трампа не осталось кандидатов, что тогда будет делать старая партия? Она будет, что ли, отказываться от выборов, сниматься с дистанции? Смешно. Так что Трамп победил уже, он безусловный фаворит этой гонки. А дальше хватит ли у Америки самоконтроля или ей захочется назло себе поставить вот такой эксперимент «могут ли люди остановить зло с помощью институций?» — посмотрим. Это интересно, это любопытно. Я не думаю, что Трамп будет избран. Но то, что Трамп будет основным кандидатом от Республиканской партии, по-моему, очевидно. Как раз когда я уезжал, один из крупных республиканцев страшно мочил Трампа по телевизору, говоря, что Трамп не отличает добро от зла, и что, вероятно, у него трудности в отношениях с женщинами, и что «я обожаю свою нацию, но моя нация стоит на пороге пропасти, на краю бездны». Ну, посмотрим, что из этого получится.
Теперь — что касается острова Ифалук. Вот там есть удивительные эмоции, которые называются, например, «фаго» — это такая странная смесь любви и жалости, любви, сострадания и умиления. А есть «кхер» — это такое сочетание боевитости и радости, такое ликующее агрессивное счастье, оскаленное. Ну и ещё штук пятнадцать эмоций, которые подробно описаны разными психологами. Это интересная сформировавшаяся в изоляции субкультура.
Так вот, Балабанов — это гениальный летописец специфически русских эмоций, тех эмоций, которые в России существуют, а в остальном мире не понятны. Я не говорю о национальном характере, потому что это скользкая материя, но я могу сказать о специфически русских ощущениях, специфически русских жанрах. И вообще циклическая история некоторые эмоции особого порядка порождает.
Например, у нас есть своё «фаго» — это сложная смесь раздражения и умиления от плюханья в родную стихию. Когда вы возвращаетесь из-за границы и вас сразу умудряются несколько человек по разным поводам обхамить, а потом вы видите пробку, а потом вы видите, что любой продавец считает себя главнее вас, вы испытываете сложные чувства. С одной стороны, вам горько, с другой — вы горды. Это такая горькая радость: «Да, вот мы такие!» А ничего, кроме горькой радости, не остаётся. Этой горькой радостью продиктован «Брат 2». «Брат 1» — это другая эмоция, это особая история. Но «Брат 2» — это: «Да, мы вот такие! Но мы горды этим и этому рады, потому что больше гордиться нечем и радоваться нечему. И мы гордимся тем, что есть». Это сложная эмоция. Я не стал бы её сводить к русофобии или русофилии. Это «полюби нас такими». Это умиление от своей особости, от принципиальной непохожести и от способности долго жить такой жизнью, которой не выдержал бы больше никто. Вот этим они горды и рады.
Смотрите, какую эмоцию, например, транслирует Борис Гребенщиков:
Меня зовут последний поворот,
Меня вы узнаете сами
По вкусу водки из сырой земли
И хлеба со слезами.
В моём дому всё хрен да полынь,
Дыра в башке — обнова;
Мне нож по сердцу там, где хорошо,
Я дома там, где хреново.
Это абсолютно та самая эмоция, которую транслирует Балабанов.
Другая эмоция Балабанова — очень сложная, редкая и тоже очень русская — это «так жалко, что убил бы!». Кстати говоря, это впервые появляется у Некрасова (тоже великого летописца русской эмоциональной сферы) в известном стихотворении «Так, служба! сам ты в той войне». Помните, это когда они сначала убили главу семейства…Там француз попался им, бегущий из России, а он везёт в кибитке, в тележке всю свою семью. Ну, они сначала — отца семейства. Потом француженка так по нему убивалась, что и её убили — и протянулась рядом с мужем. А потом дети плачут, и хором бедненькие плачут, и скачут — жалко стало, «да вместе всех и закопали». Некрасов это очень чувствовал. Такая же кисло-солёная эмоция, такая ядовитая сардоническая насмешка.
Это есть, кстати говоря, и у Балабанова прежде всего в фильме «Про уродов и людей». Фильму «Про уродов и людей» приписывали самые разные интерпретации, в том числе абсолютно нацистские, то есть: вот есть уроды, а есть люди; и настоящий человек там — вот этот Иоган, которого играет Маковецкий, а все остальные — это влюблённые в него недочеловеки. Нет, это глупо, по-моему. Это фильм, который сделан не ради смысла. И смысл его тёмен. Все эти фрейдистские намёки насчёт морковки, обмакнутой в сметану, фрейдисты благоволят оставить при себе. Мне кажется, что Балабанов нарочно их дразнил. «Про уродов и людей» — это фильм… Знаете, когда вы видите двух голых пьяных сросшихся сиамских близнецов, которые ещё при этом и песенку поют, — вот это и есть та самая балабановская эмоция; это тончайшая смесь ужаса, сострадания и отвращения. Балабанов жалел людей. Он был человек, чем-то похожий на Петрушевскую — такой же сентиментальный и такой же жестокий.
И самый страшный его фильм остался не снятым — это «Река», из которой половина снята. Это фильм о жизни прокажённых, о том, что и у прокажённых есть свои радости, о том, что и у прокажённых есть свои праздники, своя ревность, своя любовь. Но смысл фильма, конечно, гораздо шире. Я думаю, что это такое подражание Джармушу, и финал очень напоминает финал «Мертвеца». Кстати говоря, подражание Джармушу отчётливо вот в этих долгих чёрных паузах между эпизодами «Брата». Джармуш чем-то на Балабанова очень сильно подействовал. Трудно сказать чем. Вербински мне как-то в интервью сказал, что Джармуш — единственный западный режиссёр сегодня, который умеет воздействовать на подсознание, поэтому его мысли начинают казаться вам вашими собственными. Но в чём секрет джармушовского прямого контакта с подсознанием, сказать очень трудно. Наверное, в той же интонации, — в интонации отношения к миру, которая наиболее наглядно явлена в «Мертвеца» (наверное, лучшем его фильме), отношения вот такого восторженного ужаса, восторженного недоумения, понимания мира как жестокого чуда. Это есть у Балабанова. И это есть, кстати говоря, в «Трофиме» — знаменитой новелле, в которой выбрасывают целую человеческую жизнь в корзину плёнки. Это тоже отношение к кино, как к жестокому чуду, которое сжирает человека целиком и которому ничего не нужно. А у человека остался метр плёнки, и этот метр погубили.
Вот точно так же и основная эмоция в большинстве балабановских фильмов, может быть, кроме «Груза 200», где достигнута эмоция очень сложная… Понимаете, в чём интерпретация «Груза», в чём проблема интерпретации «Груза»? Балабанов, как и Пазолини, снимал кино для себя, он удовлетворял личные страсти за общественный счёт. Ну, в данном случае я имею в виду под общественным счётом не деньги, а предназначение. Пазолини якобы снимал антифашистское кино «Сало́», а на самом деле он просто удовлетворяет личные страсти, изобретательно мучая в кадре сексапильных подростков. Это чистое решение личных проблем за счёт кино. Точно так же и у Балабанова. Балабанов удовлетворял свои страсти — может быть, страсти довольно грязные, может быть, довольно чистые, это неважно (страсти бывают и чистыми). Важно, что он боролся с мучающими его демонами.
И «Груз 200» сам Балабанов интерпретировал как фильм про страшный распад страны времён застоя, про то, как всеобщая фальшь, всеобщее неверие, всеобщий цинизм приводили вот к такому маньячеству. И надо вам сказать, что хотя он пишет там, что фильм построен на подлинных фактах… Он всегда говорил: «Ну, такой истории не было, но подобные истории мне рассказывали, я слышал где-то». Это было время, когда маньяков было очень много, когда садизм молодёжных драк, жестокость молодёжных субкультур, мода на садистские частушки — всё это достигало действительно какого-то уровня запредельного. И происходило это (собственно, как происходит и сейчас) от ситуации двоемыслия, тотальной лжи, распада. Но получилось у Балабанова другое, он снял про другое, потому что нельзя сомневаться в том, что он здесь наслаждается художественным результатом, полнотой, законченностью: законченностью мерзостей в случае маньяка, законченностью святости в случае Серебрякова, гениально сыгравшего этого жителя Города Солнца. Знаете, это такой фильм об абсолютах, вот так я рискнул бы сказать. Абсолютно мёртвый, гниющий десантник вот этот…
Кстати говоря, наверное, лучшее, что снял Балабанов, как мне кажется, — это получившийся у него клип на песню Лозы «Мой маленький плот». Вот это то самое, когда музыка вставляет свой нож в зазор между формой и содержанием. Песня «Мой маленький плот» сама по себе — это довольно сопливое произведение мачо-неудачника (ну, лирического героя я имею в виду, конечно), и в этом тайна её воздействия. Но когда Балабанов подложил под это свой видеоряд, то есть маньяка, который с пристёгнутой к мотоциклу жертвой едет по дороге, по промзоне страшной, и везёт её насиловать на свою квартиру на своём милицейском мотоцикле, а кругом страшный, грязный пригород и чудовищные производственные какие-то сущности, то эта песня зазвучала по-другому. В ней отразился весь набор 80-х годов: слюнтяйство, саможаление, чудовищная грязь, цинизм, насилие — всё вместе зазвучало. Вот эту великолепную полифонию Балабанов создал в «Грузе 200».
«Груз 200» — это портрет мёртвой страны и очень живых червей, которые в ней копошатся. Это тоже русская эмоция. Это фильм про постмир, про мир, в котором всё закончилось, и теперь в нём только мертвецы, насильники, маньяки. Помните эту страшную старуху, мать маньяка, которая всё время смотрит телевизор, а по телевизору всё время идут советские бодрые передачи — и мухи жужжат над ней. Вот это был исчерпывающий, страшный кадр. Балабанов очень это чувствовал. И это тоже русская эмоция, очень русская эмоция постмира.
Я вообще скажу, что Балабанов — это режиссёр… не скажу, что посткинематографический, но в известном смысле постсоветский, режиссёр постжизни. Отсюда — вот этот гениальный метафорический трамвай в первом «Брате», пустой трамвай, трамвай, лишённый содержания. Ведь о чём, в сущности говоря, «Брат»? Я не беру сейчас «Брат 2». Я уже говорил, что «Брат 2» и «Война» вдохновлены специфическими русскими эмоциями: «Да, мы такие! И что?» Это эмоция неплодотворная, но очень сильная, и Балабанов — её летописец, Балабанов её запечатлел.
Но при этом Балабанов же ещё, конечно, замечательный метафорический описатель постсоветской реальности — в том смысле, что он описывает привлекательную, неотразимую силу пустоты. Понимаете, пришла эта страшная пустота. Данила Багров, про которого нельзя сказать ничего определённого; мальчик, выжженный изнутри. Неважно, выжженный ли он был войной или, как у героя «Войны», вот этого страшного Чадова («мальчика с нашего двора», как я тогда писал в рецензии), в нём изначально ничего не было, кроме отцовских слов «мужиком быть правильно». Я не люблю «Войну». Мне кажется, что это плохой фильм, и художественно слабый. И Балабанов в конце вообще всё больше злоупотреблял своим фирменным приёмом — проходами и проездами под музыку. Но Балабанов на пике формы — Балабанов времён «Про уродов и людей» и особенно «Брата» — он чётко дозирует эти приёмы.
Мне кажется, в чём он абсолютно велик — так это в умении найти исчерпывающую метафору. Как эти среднеазиатские люди или как эти монголоидные типы (у него было особое отношение к Азии) в «Кочегаре» и в «Про уродов и людей» маркируют собою бессильное, гибнущее добро, развращённое, спивающееся, так же у него этот пустой трамвай был метафорой эпохи, в которой не осталось содержания, не осталось смысла.
Ведь Данила Багров потому и стал любимцем… Помните эти плакаты «Путин — наш президент. Данила — наш брат»? Это очень хорошо корреспондирует с известной статьёй Александра Жолковского «Путин как пустотность» — вот эта пустотность лексики, пустотность образа. Или замечательная формула Леонида Кроля (привет вам, Лёня!), очень хорошего психолога: «Путин контактирует с внутренней пустотой каждого из нас». Блистательная формула! И вот об этой внутренней пустоте каждого из нас… Данила Багров тоже с ней контактирует. Это страшная пустота! «Мы лежим на склоне холма, но у холма нет вершины», — вот этим венчается фильм «Брат». Когда Балабанова спрашивали: «Можно ли сказать, что Данила — герой нашего времени?» — он мрачно отвечал: «Не знаю, герой ли нашего времени, но то, что герой — безусловно». Да, он первым сформулировал, первым поймал нового героя, который лишён внутреннего содержания.
Что касается таких фильмов, несколько более сентиментальных, как «Мне не больно» и «Я тоже хочу». Почему я их объединяю? Потому что здесь в названиях есть личные местоимения, и «мне» — здесь, конечно, ключевое слово. Это самые исповедальные картины Балабанова. «Мне не больно» — фильм, притворяющийся комедией или таким сентиментальным кино, хотя на самом деле это довольно мрачная история. Блистательно там сыграл Яценко. Да всем там хорошо сыграли.
Но что для меня наиболее привлекательно в этом фильме? Это тоже пойманная Балабановым сложная эмоция его отношения к жизни. Ведь там героиня Ренаты Литвиновой умирает. И вот то, что ей не больно, то, что ей уже не страшно — это тоже примета постжизни. Потому что единственное честное, единственное настоящее, что в этом мире осталось — это смерть. Страшный такой подход, конечно, ничего не поделаешь, но это здорово. Кстати говоря, блистательно там сыграла Инга Оболдина-Стрелкова, которая эту же эмоцию там и воплощает. Это такая милая, почти трогательная картина, но смертоцентризм, такой культ смерти, Балабанову присущий, там очень хорошо воплощён. Единственное честное, что есть — это смерть. Поэтому и исход его пути так трагичен и так закономерен.
И, конечно, «Жмурки» — абсолютно великая картина, где и Алексей Панин сыграл свою лучшую роль, и Никита Михалков, по-моему, одну из лучших. Это умение Балабанова договорить до конца, докрутить винт. Что там смешно? Абсолютная последовательность. Вот он снял всё, не давая иллюзии выхода, снял всё как есть, ткнул человека лицом в реальность со всей своей художественной силой. И, конечно, Балабанов остаётся гениальным летописцем нашего эмоционального состояния.
Завтра приходите на лекцию на Ермолаевский, 25. Волшебное слово вам известно. А увидимся через неделю. Пока!
*****************************************************
15 мая 2016
-echo/
Д. Быков― Добрый вечер, дорогие друзья! Мы сегодня подменились с Александром Плющевым, я буду в эфире три часа. Ну, есть такая надежда, что мы не заскучаем, потому что у нас чрезвычайно много действительно очень интересных вопросов на этот раз. Я буду отвечать в основном на те, которые пришли в письмах. Так случилось, что в письмах вопросы более филологические, и они мне в этом смысле более интересны.
Подавляющее большинство людей — в итоге больше 50 — попросили лекцию о Мережковском. Будет лекция о Мережковском. Тем более что Дмитрий Сергеевич — один из моих литературных кумиров, и говорить о нём мне всякий раз радостно.
Что касается некоторых оценок текущего момента. Спрашивают меня, естественно, как я отношусь к трагедии «РБК» (не побоюсь этого слова). Тем более что многие его сотрудники — это люди хорошо мне лично известные и крайне симпатичные. Я, конечно, солидарен с теми людьми — Антоном Орехом в частности, — которые говорят, что в наше время журналист чаще всего теряет не работу, а профессию, потому что приложить где-то профессиональные навыки не так уж и много осталось мест.
Во-первых, я абсолютно убеждён, что команда, которая уходит из «РБК», найдёт новую платформу. Сейчас найти такую платформу возможно. Не скажу, что это не проблема, но уверен, что это возможно. А во-вторых, это тот случай, когда всякое новое закручивание гаек, всякая новая ликвидация талантливых СМИ, всякая новая попытка давления на гражданское общество работает на одну совершенно конкретную и предсказуемую цель — на крах и схлопывание той политической модели, которая сегодня возобладала. Чем быстрее эта модель закончится, тем быстрее начнётся новая. Поэтому я не скажу, что я радуюсь происходящему (я, конечно, огорчаюсь происходящему — хотя бы потому, что значительно меньше стало чего читать), но я абсолютно верю в то, что вечными такие модели не бывают.
Кстати, меня спрашивают, как я отношусь к модели Андрея Мовчана, которую он недавно изложил, доказав, что у российской системы практически безграничный экономический ресурс.
Это не экономический ресурс — вот что мне кажется важным. Главный ресурс любой системы — это ресурс народного терпения. Мне кажется, что Андрей Мовчан не учитывает какие-то факторы надстройки, условно говоря; его теория очень марксистская. Думать, что всё зависит исключительно от экономических факторов, позволительно было в 70-е годы позапрошлого века, когда марксизм входил в моду, когда «Капитал» переводился в России. Сегодня, по-моему, совершенно очевидно, что экономический ресурс царской России в 1916 году выглядел достаточным для ещё каких-нибудь даже более чем 50 лет, я думаю, абсолютно спокойного развития. А уж в 1913 году как всё было хорошо (большевики всё время сравнивали свои показатели с 1913 годом). И всё-таки как-то это очень мало помогло. Поэтому мне кажется, что такой «экономизм», как называл это Ленин, или экономический фетишизм, к сожалению, ни на один вопрос не позволяет ответить, хотя выглядит это всегда очень убедительно.
«Как вы оцениваете творчество Роберта Хайнлайна? Что вы думаете о романе «Чужой среди чужих»? Повлиял ли он на Стругацких?»
Совершенно не могу об этом судить. Мне, грешным делом, всегда было Хайнлайна скучно читать, потому что мне кажется, что его фабульная изобретательность не подкреплена собственно художественными средствами. Он не умеет писать так динамично и страшно, как Стругацкие. И, по-моему, слишком он нейтрален в смысле языковом. Но это я говорю, читавши по-английски две или три его книжки ещё тогда, когда с помощью фантастики пытались старшеклассников-спецшкольников заинтересовать литературой. На меня совершенно никакого впечатления это тогда не произвело. Шекли мне нравился гораздо больше. Наверное, надо перечитать.
«Пересматривая «Весёлых ребят» Александрова, понял, что мне напоминает нашествие животных в санаторий. Это революционные массы народа вторгаются во дворец. Тут не обошлось без острой сатиры сценариста Эрдмана. Россия соберёт когда-нибудь по осколкам его наследие?»
Андрей, оно давно собрано. И даже черновики несостоявшейся пьесы «Гипнотизёр» опубликованы. Но мне кажется, что Эрдман ничего подобного в виду не имел. Эрдман и Вольпин [Владимир Масс] были двумя сценаристами этого сценария, двумя авторами этой комедии. Мне кажется, они имели в виду гэг замечательный. А вторжение трудящихся масс во дворец, вы не поверите, многими людьми из этого поколения (даже такими умными снобами, как Эрдман) рассматривалось всё-таки скорее как акт исторической неизбежности, может быть, даже как акт исторического возмездия. Так что так глубоко, я думаю, они не копали.
«Что вам больше нравится — «Ляпис Трубецкой» или нынешнее «Brutto»?»
Я совершенно не в курсе того, что делает Михалок. Я просто всегда с любовью слушал «Ляписа Трубецкого», а нынешние его занятия, к сожалению, прошли мимо меня.
«Что вы думаете о творчестве Фоера?»
Я читал Фоера только в переводах друга моего Васи Арканова (если имеется в виду тот Фоер, у которого «Полная иллюминация»). «Полная иллюминация» показалась мне забавной, но не более того. Хотя перевод мне кажется лучше оригинала. Я книгу просматривал, но не читал. Перевод прочёл, мне его тогда прислали. И вообще всё, что делает Арканов, мне чрезвычайно симпатично.
«Читали ли вы Аствацатурова? Слушали ли его лекции? Что думаете о его мировоззрении?»
Я очень люблю Андрея Аствацатурова — и как человека, и как лектора, и как писателя. Кстати, «Осень в карманах» — это роман, который написан на тему, подсказанную стихотворением Нонны Слепаковой «Рисунок Бенуа к «Медному Всаднику». И мне очень приятно, что Аствацатуров основные лейтмотивы слепаковского текста так замечательно препарировал. Там и мне несколько приветов передано. Я очень люблю Аствацатурова как человека. Он совершенно лишён снобизма, хотя принадлежит к очень старой и очень почётной петербургской филологической семье. Он человек весёлый, страшно обаятельный, по-питерски самоироничный. И даже снобизм его очарователен, хотя это скорее пародия на снобизм. Что касается его мировоззрения, то мне кажется, что о каком-то мировоззрении в его случае надо говорить с большой осторожностью. Аствацатуров — человек очень скрытный, опять-таки иронический. Он может играть в те или другие мировоззрения, но думаю, что единственная религия, которую он исповедует, — это гуманизм, гуманизм в версии просвещения. И это мне очень в нём симпатично.
«Есть ли у вас видение будущего для литературы? Возникнет ли новое течение?»
Мне представляется, что в ближайшее время главным жанром станут романы-сценарии, сценарии для компьютерных игр и для ролевых игр. Будет такое слияние метажанров и окончательное вторжение литературы в жизнь. Например, такая история, как «Голодные игры», — по сути, это уже сценарий для ролевиков, это готовая программа будущей ролевой игры. Как литература это слабо; как кино — довольно несовершенно, хотя очень увлекательно временами и технично. Но это имеет другую ценность: это — мегажанр. У Марии Галиной в «Хомячках в Эгладоре», в одном из любимых моих современных романов, очень точно предсказано это слияние ролевой игры и жизни, когда они почти незаметно и довольно опасно перетекают друг в друга.
Мне кажется, что жанр будущего — это то, что описано впервые у Тендрякова в «Путешествии длиной в век», потом более подробно — у Славниковой в «2017». Мне кажется, это… Как бы это так сформулировать? Мне кажется, это превращение литературы в сценарий жизни. Там у Тендрякова люди больше года к очередному какому-то юбилею революции (кажется, к 100-летию), разыгрывают гражданскую войну, причём в процессе этого розыгрыша настолько увлекаются, что красные чуть не начинают убивать белых. Мне кажется, мы недооцениваем движение ролевиков, а это и есть тот стык, створ, в котором литература смыкается с жизнью. Это сейчас на самом деле очень популярное дело у молодёжи, очень популярная форма творчества. Мне кажется, что это продолжение модерных практик, практик жизнетворчества, как это называл Ходасевич, жизнестроительства, как это называли многие. В общем, с этого, мне кажется, начнётся литература нового типа.
«Как вы относитесь к персонажу Петра Верховенского в «Бесах»?»
Я к «Бесам» вообще отношусь резко негативно — при том, что я люблю этот роман как произведение искусства, люблю это нарастание темпа, люблю образы, которые там есть. Там совершенно грандиозная догадка о Кириллове, который действительно пытается путём самоубийства уровнять себя с Богом и понимает, что единственная свобода выбора — это свобода выбора смерти. Это интересная мысль. И, конечно, крайне интересная там фигура Верховенский-старший — такой приговор движению Грановского и русским гуманитарным кружкам 1840-х годов, такой вклад в проблему отцов и детей. И Варвара там интересная. И Ставрогин — конечно, гениальная догадка.
Почему он не ограничился Верховенским? Почему ему понадобился Ставрогин? Ведь Ставрогин — это и есть самый точный портрет русского народа, который всё время ищет, нащупывает свои пределы и не может найти предела, за которым бы Бог его остановил. Это очень интересно. Что касается Верховенского, то это образ плоский, и плоский прежде всего потому… Понимаете, гениально сыграл его Шагин. Привет вам Антон (мы дружим). Я вообще считаю Шагина одним из выдающихся актёров современности. И в фильме Хотиненко, который не вызвал у меня особо положительных эмоций, самая яркая работа — это, конечно, Шагин. Вот он сыграл настоящего беса, причём прелестного беса, в полном смысле, очаровательного прельстителя. Так вот, Верховенский, каким он описан у Достоевского, — фигура суетливая, плоская. Достоевский точно почувствовал, что ключевой фигурой Русской революции будет провокатор, но он совершенно не увидел другого — он не увидел святости Русской революции.
Кстати (я не помню, рассказывал я или нет), я читал тут давеча детям лекцию, был у нас детский лекторий, и я читал про «Бесов». И для того чтобы проиллюстрировать отношение к русскому террору, к революции, я прочёл известное стихотворение в прозе Тургенева «Порог». Ну, помните, там, где:
— Дура! — проскрежетал кто-то сзади.
— Святая! — донеслось откуда-то в ответ.
Я прочёл им это и говорю: «Ребята, как по-вашему, куда вступает эта девушка?» Ну, думаю, сейчас все хором заорут: «В революцию! В революцию!» И раздаётся одинокий голос: «Во взрослую жизнь…» Меня это бесконечно тронуло! То есть у них мысль о том, что для молодёжи 70-х годов того века естественно было вступление в революцию, естественнее, чем во взрослую жизнь, — вот это им в голову не приходит. Всё-таки мы успели отбить у людей очень многие знания. Как христианство начисто упразднило в своё время массу языческих практик, мы совершенно упразднили у людей представление о социальной борьбе как о содержании жизни.
Но как бы то ни было, Пётр Верховенский — это действительно пошлая карикатура на русское революционное движение. Такие люди были. Конечно, были. Но даже Нечаев, в образе которого сошлись, сфокусировались для Достоевского наиболее отвратительные черты, Нечаев, автор «Катехизиса революционера», всё-таки был человеком такой духовной силы, что сумел завербовать всех своих охранников. Кстати, я думаю, единственный человек, который близко подошёл к изображению Нечаева, каким он был, — это Радзинский, который как драматург очень чётко почувствовал выигрышность этой фигуры. Так что Пётр Верховенский — это, к сожалению, бледная тень реальной революции.
«Знакомы ли вы с книгами Эрика Берна? Что вы думаете о транзактном психоанализе?» — и так далее.
Я недостаточно хорошо знаю, что такое «транзактный психоанализ», но достаточно хорошо читал в своё время книги Берна. Знаете, во многих таких сектах, не сектах, но во многих молодёжных объединениях того времени, где воспитывали начинающих журналистов, начинающих писателей, термин «игра» очень широко использовался. Использовался и в том смысле, в каком у Щедровицкого, в частности у Щедровицкого-младшего. Я вообще к термину «игра» отношусь очень скептически. И к самому понятию игр, включая даже игры ролевые, о которых я только что говорил, — тоже скептически. Мне кажется, что здесь велик шанс заиграться.
Я верю, что литература будущего будет такой, но это вовсе не вызывает у меня восторга. Точно так же и попытка понять всё, весь мир как игру — «игры, в которые играют люди; люди, которые играют в игры» — мне кажется, что это взгляд односторонний, и это взгляд, позволяющий скорее манипулировать, взгляд, позволяющий с некоторым высокомерием относиться к людям. Это ещё один ключ к человеческой психике, а абсолютного ключа нет.
Я знаю, что люди, которые профессионально занимаются всякими игровыми практиками, посмотрят на меня сейчас с тем же крайним высокомерием и скажут, что я ничего ни в чём не понимаю. Грешным делом, вся методология Щедровицкого представляется мне просто умением ставить собеседника на место и создавать у него впечатление, что ты гораздо умнее. Вот и всё. Ничего более сильного и более серьёзного за этим не стоит, но на неофитов действует очень сильно. А в принципе мне это не интересно.
«Вопрос веры парадоксально поставлен в фильме «Чудо» Александра Прошкина. Там священник уходит бродяжничать, как отец Сергий, а с Хрущёва всё, как с гуся вода. В чём, как вы думаете, главная мысль фильма?»
Так она в том и заключается, Андрей (и я много об этом говорил), в парадоксальном воздействии чуда. Я считаю этот фильм («Чудо») самой большой удачей Прошкина как режиссёра (Прошкина-старшего) — при том, что Прошкин режиссёр плодовитый. Вот только что вышли «Райские кущи». Начинал он с абсолютно культового сериала с Татьяной Дорониной — «Ольга Сергеевна». Я помню ребёнком, как взрослые много спорили об этой работе, собравшей потрясающий актёрский букет — в диапазоне от Плятта до Джигарханяна. Это важная картина. И, конечно, знаменитая его экранизация «Искупления» горенштейновского; и очень интересные работы 80-х годов; и, конечно, «Холодное лето пятьдесят третьего…», совершенно грандиозная картина; и «Михайло Ломоносов»; и «Инспектор Гулл», первая его работа. Ну, Прошкин — сильный режиссёр. Мне очень нравился и «Доктор Живаго» — мне кажется, это наиболее адекватное прочтение романа в кино. Но «Чудо» — просто лучшая режиссёрская работа, потому что это, кстати говоря, лучший сценарий Арабова, лучший его роман.
Почему я так думаю? Потому что здесь автор сосредоточился на самой трудной проблеме, — проблеме, которая в моральных координатах вообще разрешения не имеет. Речь идёт о воздействии чуда на душу. Ну, там взята легенда об окаменевшей девушке Зое, эта легенда довольно активно распространялась в 60-е годы. Олег Кашин долго занимался этой проблемой, пытался нащупать, из чего это вышло. Скорее всего, просто у девушки (не помню сейчас где) где-то в Поволжье случился кататонический ступор, и это воспринималось как чудо. Ну, она стала там танцевать с иконой, застыла, окаменела, иглы об неё ломались, а потом она неожиданно пришла в себя.
Вот Арабов взял эту историю и пересказал именно как историю не религиозного какого-то соматического происшествия, не религиозной мании, заболевания, а рассмотрел её, как если бы это действительно было чудо. И там действительно очень страшно снята эта Зоя: вся позеленевшая, затянутая паутиной. Великолепно воспроизведена атмосфера этого города. Прекрасно сыграл журналиста Хабенский, очень интересную роль. Но Арабов ставит вопрос очень прямо. Он говорит о том, что чудо находится вне этических категорий. И действительно чудо — вот проявление Бога. Это необязательно доброе чудо, это необязательно светлое чудо, но это нарушение порядка вещей; и как таковое оно больше способствует морали, смирению, пониманию мира, чем любые нравственные проповеди. Вот эта религиозная природа чуда рассмотрена там замечательно.
Да, я считаю, что чудо не бывает проявлением добра и случается не с теми, кто морален. Оно точнее всего охарактеризовано Пастернаком:
Но чудо есть чудо, и чудо есть Бог.
Когда мы в смятеньи, тогда средь разброда
Оно настигает мгновенно, врасплох.
Совершенно неважно, Христос по делу наказал смоковницу или нет. Смоковница — как мы знаем, растение двуполое, и мужские растения не плодоносят. Смоковница была не виновата.
«…Я алчу и жажду, а ты — пустоцвет,
И встреча с тобой безотрадней гранита.
О, как ты обидна и недаровита!
Останься такой до скончания лет».
По дереву дрожь отрешенья прошла,
Смоковницу испепелило до тла.
Найдись в это время минута свободы
У камней, ветвей, ручьёв и ствола,
(Я неточно цитирую.)
Могли бы вмешаться законы природы.
Но чудо есть чудо, и чудо есть Бог.
Понимаете, чудо — это не проявление справедливости в его человеческом понимании, это не проявление доброты и разума; это проявление того, что мир не ограничивается скудными горизонтами наших понятий. И само наличие в мире божественного и волшебного религиознее, глубже, в каком-то смысле человечнее, чем все наши моральные убогие потуги. Всё-таки наша этика очень релевантна, очень относительна.
«Знакомы ли вы с книгой Мортимера Адлера «Как читать книги: руководство по чтению великих произведений»? — нет, не знаком. — Согласны ли вы с его рекомендациями? — не знаю. — Есть ли у вас такой набор рекомендаций (например, определять структуру произведения, обозначать ключевые слова, вкратце пересказывать главы)?»
Нет у меня такого набора рекомендаций. Кстати говоря, судя по вашему псевдониму, master_mind, вы вообще психолог. Моё отношение к психологии, к книгам по практической психологии, к гештальт-психологии, к всяческого рода пикапу и прочему, по-моему, я достаточно наглядно выразил в книге «Квартал», которая, конечно, является скорее автобиографическим романом, нежели чем-то ещё, или вообще исповедью, но пародией она является тоже, потому что пародия, на мой взгляд, высокая пародия — это оптимальная форма разбирательства с собственными проблемами. Поэтому мне кажется, что вся прикладная психология, в особенности для людей, которые любят усваивать какие-то нехитрые термины и с их помощью опускать окружающих, навешивать на них ярлыки, говорить «а вот это тип Гамлета», «а вот это тип инфантила» и так далее — это всё довольно опасная и, главное, ужасно глупая вещь, она как-то не умнее антропософии. Поэтому я к любым психологическим рекомендациям — а особенно к прикладному психоанализу — отношусь с величайшим скепсисом.
Я знал очень много глупых девушек, которые любили ночные разговоры или «игры в свечку». Вы знаете, что такое «свечка»? Это когда все собираются и начинают отвечать на вопросы друг друга абсолютно откровенно (так считается). Вот эти девочки ходили на беглые курсы гештальта и после этого начинали решать чужие проблемы, гордо называли себя психологами, набирали группы, проводили занятия. Это были люди глупые и высокомерные. Я понимаю, что говорю сейчас о явлении распространённом, но не об определяющем, не генерализирующем. Наверное. Наверное, есть и прекрасные психологи. Наверное, психология необходима. Но, по-моему, психология — это всего лишь такая имитация психиатрии. Вот психиатрия действительно нужна, когда мы имеем дело с патологией. А психология — это, по-моему, не более чем маска для людей (как и для очень многих философия), любящих «побалакать за жизнь». Сама же психология — по-моему, это всего лишь псевдоним.
«Знаете ли вы про литературный кружок под названием «Школа великих книг»?» Не знаю, впервые о нём слышу.
«Что вы думаете о психоаналитической прозе Михаила Зощенко «Возвращённая молодость»?»
Согласен с Чуковским и с Жолковским, кстати, что лучшее, что написал Зощенко, — это короткие рассказы из «Перед восходом солнца», иллюстрирующие его теорию. Но когда-то Чуковский ему неосторожно сказал: «Надо бы эти рассказы вышелушить из книги и напечатать отдельно», — на что Зощенко с невыразимым презрением ответил: «Вышелушить? Как это вышелушить?!» Для него самым главным в книге были его весьма сомнительные теоретические выводы.
Мне же кажется, что здесь имеет место, как это называл Толстой, так называемая «энергия заблуждения». Человек верил в свои весьма относительные и, по-моему, по большей части довольно наивные и плоские представления и проиллюстрировал эту теорию гениальными рассказами. Гениальными! Ну это просто лучшее, что Зощенко написал. Вышелушивать не надо, потому что и по контрасту сильнее воспринимается. Но, конечно, «Возвращённая молодость» и в особенности «Перед восходом солнца» — по-моему, это просто гениально.
«Дмитрий Львович, прочитал высказывание о Маяковском в дневнике знавшего его Аросева: «У Маяковского нахальство было приятно, потому что в нём присутствовал бдительный и опасный ум». Погибший в застенках Аросев верно ли понял игру Маяковского?»
Никакой игры не было. И Бронислав Горб, например, в своей книге «Шут у трона Революции» тоже напрасно приписывает Маяковскому игру. Ещё раз скажу: «игра» — это термин не из жизненной стратегии Маяковского. Маяковский — это «полная гибель всерьёз» (как сказал бы Пастернак). Пастернак тоже, кстати, не играл. «Стратегия» можно сказать, да. То, что у Маяковского был бдительный и опасный ум — это верно. Но то, что его нахальство было приятно — я не убеждён. Его нахальство было приятно как одна из футуристических практик, поскольку футуризм — это и есть умение хамить публике за её деньги, хамить талантливо и изобретательно. К искусству будущего это имеет весьма касательное отношение.
Но бесспорно одно: Маяковский, когда хамил, это был действительно танк, в котором сидел больной и запуганный ребёнок. Это было формой довольно виртуозной самозащиты, самозащиты невротика. Вот невротиком он действительно был. А сказать же, что его нахальство было всегда приятно, что оно нравилось окружающим? Маяковский сам однажды сказал Розенель-Луначарской: «Говорят, что Маяковский хам, но поймите: не всегда приятно хамить». Удовольствия он от этого не получал.
Кстати говоря, грубость его, как замечательно показал Карабчиевский, далеко не всегда была остроумна. У него были очень остроумные ответы, например: «Пытался понять ваши стихи и не смог». — «Пытались, но не можете? Быть вам бездетным!» Это грубо, но это по делу. А в принципе мне не кажется, что нахальство Маяковского было обаятельно. «Бдительный ум» — это хорошо сказано, но ум вообще-то не должен быть бдительным. Главная задача ума — это не бдеть, не отыскивать постоянно вокруг опасности. Главная задача ума — это всё-таки генерировать новое.
«Что вы думаете о книге Орлова «Альтист Данилов»? Ваш «Ученик чародея» показался мне продолжением Орлова. Эти книги для меня на одной волне».
Ну, мне это приятно. Спасибо! Мне приятно быть на «волне Орлова». Тем более что «Остромов» тоже принадлежит к своего рода такому магическому реализму (это моя книжка). Мы с Орловым очень часто встречались, потому что у нас было общее любимое кафе в Москве — московская «Рюмочная». Вот только что я там ужинал, сегодня. По крайней мере, там еда пахнет едой. И там очень приятная публика собиралась, консерваторская (и сейчас собирается), такая интеллигенция московская несколько с дворовым оттенком. Но, конечно, Орлов дорог мне не этим, а дорог он мне своим замечательным магическим реализмом и тем, что он этот реализм применил к созданию «московского мифа». Я думаю, что у нас очень мало общего с Орловым, а общая как раз вера в то, что в жизни присутствует чудо.
Услышимся через три минуты.
РЕКЛАМА
Д. Быков― Продолжаем разговор.
«Посоветуйте пособие для изучения русской истории XX и XIX века, если не жалко».
Знаете, очень трудно мне назвать историка, к которому следовало бы прислушиваться. Если брать авторов зарубежных, то здесь Стивен Коткин — по-моему, лучший писатель и исследователь, который занимался проблемами русского XX века. Я говорю так и отчасти из принстонского патриотизма, но прежде всего потому, что его книга о Магнитке, потрясающая книга о Сталине, два тома (сейчас уже второй на выходе), и выдающиеся исследования распада СССР, несколько книг сразу, «Крушение железного занавеса» в первую очередь, — это для меня образец. И вообще очень много существует книг на Западе — в диапазоне от Монтефиоре до англоязычных и уже у нас переведённых работ нашего исследователя Александра Эткинда, прежде всего «Внутренняя колонизация», — которые внятно исследуют основные события XX века. Кстати говоря, книга Гаррисона Солсбери о блокаде Ленинграда мне представляется в некотором смысле тоже эталонной. Да много, много.
По XIX веку трудно назвать авторов, на которых я бы вам советовал ориентироваться. Но я думаю, что всё-таки лучший способ изучения истории — это изучение документов. По XX веку документов существует страшное количество, по XIX — тоже очень много. Естественно, я всегда рекомендую книгу Вадима Эрлихмана, в которой подробно проводится анализ людских потерь России в XX веке. Мне кажется, что это главный критерий.
«Спасибо за рекомендацию обратиться к статье Блока «Ирония». Хотелось спросить: как вы сами объясняете такую однозначную (а по сути — однобокую) и эмоционально насыщенную отповедь, данную поэтом феномену иронии? Отчего такая «недиалектическая», линейная сосредоточенность исключительно на «киническом» варианте, почти не поставляющая места в российских реалиях начала века сократовской иронии, светлой и созидающей?»
Я могу вам на это ответить. Ну, вы сами говорите ниже, что это «сверхинтуиция гения». Дело в том, что ирония Сократа — это высокая пародия, это ирония Христа. Ведь и Христос, как я уже много раз говорил, занимается высоким пародированием Ветхого Завета. Сократовская ирония возвышает, киническая ирония снижает. Просто вещь можно переместить в более высокий контекст — усилить её; а можно в цинический, грубый — ослабить. Вот Блок говорит прежде всего об иронии именно в киническом смысле, потому что подвергать всё осмеянию — это признак отказа от исторического усилия, это признак слабости.
В своё время, например, Петров в книге «Мой друг Ильф» писал: «У нас не осталось мировоззрения, нам его заменила ирония». Это так. (Тут, кстати, будет дальше вопрос о поколениях, я на него отвечу.) В этом смысле представители одного поколения и одной «южной школы» — скажем, Бабель и Ильф с Петровым — это люди абсолютно разные, потому что у Бабеля была своя правда, а Ильф и Петров действительно пришли к тотальной иронии. Но дело в том, что их ирония — это всё-таки высокая евангельская ирония. И плут 20-х годов — это явление христологическое: Хулио Хуренито, который изначально является версией нового Христа, великий комбинатор; его же версия — Бендер, великий комбинатор, «великий провокатор», как называет его Эренбург. Плут — это человек, который пришёл в разрушенный мир отца (как Беня Крик) и пытается его гуманизировать. Всё это довольно трудно принять, но попробуйте встретить это не в штыки, попробуйте встретить это с доверием — и вы увидите огромное количество христологических черт плута. Это ирония сократовская.
А ирония Серебряного века — это ирония умирающего общества, ирония общества, в котором никто ни во что не верит, ирония болота по большому счёту. Вот почему я 1920-е годы всегда предпочитаю 1910-м. Вот почему я люблю русский, советский плутовской роман. Вот почему, кстати, Бендер был любимым героем, а, скажем, Воланд — это пошлый вариант Бендера. Понимаете, ирония Бендера — светлая, сократовская, а ирония Воланда — это ирония не просто киническая, но и демоническая. Я вообще считаю, что Блок очень проницательно отнёсся к демонизму как к вырождению. Между прочим, это тоже и пушкинское отчасти… (Это у меня наушники грохнулись, но, слава богу, я ими не пользуюсь.) Это пушкинское отношение, потому что Пушкин тоже не любил байронической иронии, не любил насмешки презрительной, гордой. А пушкинская ирония — она именно сократовская.
Второй вопрос от того же автора: «Второй вопрос, если позволите. Рецидив отката Европы к Тёмным векам, провал Цивилизации в волчью яму нацизма и сталинизма был вызван не в последнюю очередь длительной подготовкой умов к самой допустимости такого провала, и не без участия антигуманистического ироничного взгляда на ценности европейского гуманизма».
Видите ли, и так, и не так. Скорее, другое. Вы безусловно правы, что фашизм обладает такой тотальной серьёзностью, но по большому счёту фашизм, триумф фашизма подготовлен именно релятивизмом, именно иронистами. Именно постоянная насмешка над ценностями приводит к тому, что берут верх ценности очень сомнительные.
Нам не надо далеко ходить за примерами — мы живём ведь в России, а Россия услужливо демонстрирует на каждом новом витке одно и то же. 90-е годы с их гражданской войной, выразившейся в братковском взаимном убийстве и мучительстве (по сути, по масштабам это была именно гражданская война), с их тотальной опять-таки иронией, с их триумфом постмодерновых мировоззрений, по сути очень реакционных, с их релятивизмом и так далее — всё это было таким уродливым перерождением 20-х. И как раз релятивизм 90-х привёл к тому, что сегодня слово «либерал» стало ругательством, хотя люди совершенно не понимают его сути.
Это всё привело к торжеству по косности своей, по обскурантизму самых отвратительных сегодняшних российских явлений. Это всё вырастает, как череп из позвоночника, из девяностых годов. Это всё — реакция на тотальный отказ от ценностей. И утверждение таких «пещерных ценностей» — это, к сожалению, следствие долгого забвения простых истин. Была одна совершенно замечательная фраза одного философа, которого мне пришлось выдумать, потому что в реальности такого персонажа не было: «Тот, кто отказывается от соблюдения сложных ритуалов, будет обречён соблюдать простые». Так что торжество сегодняшних российских ценностей (я уверен, не долгих, но очень извращённых, уродливых, но которые имеют место быть), эти ценности — это, конечно, реакция на иронию, а не на её отсутствие.
«В прошлой передаче, отвечая на вопрос о либерализме, вы заметили: «Для меня человек не есть мерило всех вещей». Возможно ли развёрнуто пояснить, что имелось в виду? Озвученная вами позиция — это же не отречение от формулы «гуманизм — фундамент человеческой цивилизации»?»
Почему гуманизм? Фундамент человеческой цивилизации — это гуманность. И путать её с гуманизмом не следует. Гуманизм — то есть мировоззрение, которое ставит человека в центр мира, — имеет довольно серьёзные минусы. Я считаю, что действительно человеческая жизнь — это для самого человека не высшая ценность. Он не может, конечно, терпеть, когда ею распоряжаются другие, но сам он имеет право ею распорядиться. И есть вещи, за которые можно её отдать. Это, по-моему, совершенно очевидно. Гуманизм — это всего лишь мировоззрение. Гуманность — это свойство души, это важнейшее человеческое качество, и от него отрекаться ни в коем случае нельзя.
Помните, была большая полемика вокруг устаревшей уже сейчас статьи такого Антона Серёгина, который говорил о том, что гуманизм в наше время релевантен. Но в этом слышалось, как и у Блока в «Крушении гуманизма», некоторое злорадство по поводу того, что вот кончилось такое доброе время, кончилось либеральное время. Когда Блок пишет о крушении гуманизма, конечно, он немножко радуется, и меня эта радость задевает.
Но если говорить серьёзно, то гуманизм как эпоха, как мировоззрение действительно закончился, потому что человеческая личность, к сожалению, хорошо это или плохо, но она свой век уже проиграла, и мы вступаем в век не личностей, а общностей. Нужны очень большие усилия для того, чтобы в этом веке остаться одиночкой. Я об этом так давно говорю, что, по-моему, уже всем замозолил уши этими разговорами.
И, Лиза, если вы со мной не согласны, это ваше естественное право. Но утверждать, что человеческая жизнь — это самая большая драгоценность, — неверно. Есть вещи хуже смерти. И позор хуже смерти. И несвобода хуже смерти. И вообще право человека бросить свою жизнь в лицо противнику — это драгоценное право, и нельзя его отнимать. Мне кажется, что когда мы ставим жизнь выше всего, мы тем самым отрекаемся от всех великих абстракций. Вы можете мне сказать, что религия всегда приводит к тоталитаризму. Я вам с тем же правом отвечу, что и атеизм приводит к нему же. И вообще к скотству можно прийти самыми разными путями. Просто не нужно думать, что жизнь превыше всего и что человек — это мера всех вещей. Если бы это было так, человек не стремился бы ни к чему. А человек стремится, чувствуя, что в мире есть вещи более серьёзные. Не хотите — не соглашайтесь.
«Нестор Махно в литературе адекватно изображён, по-моему, только у Бабеля в рассказе «Старательная женщина», — да, замечательный рассказ. — Но там короля играет свита: честных махновцев по уговору обслуживает многодетная мать. Прочтём ли мы когда-нибудь правдивый рассказ о легендарном атамане?»
Видите ли, у меня есть сильное подозрение, что лучше всего Махно схвачен, вот именно пойман как тип у Алексея Н. Толстого в «Хождении по мукам». Я знаю, что вы мне можете про Алексея Толстого сказать: и что он раб по духу, и что он не граф, а график, и что он беллетрист. Это всё вполне адекватно. Но он при этом очень яркий изобразитель и замечательный психолог, и в изображении массового безумия нет ему равных. Нестор Махно, как он изображён у него, — может быть, это клевета на анархическую идею, но ведь и в том, что делал Махно, очень много клеветы на анархическую идею. Мне кажется, что Махно, изображённый им, Махно-истерик — отчасти он немного похож на тех персонажей Гуляйполя, которых мы сегодня наблюдаем в самопровозглашённых республиках. Это тот же самый типаж. И в этом типаже, конечно, есть своеобразное достоинство, страшное количество истерики и очень много зверства. Это меня резко отвращает от подобных типажей, хотя есть люди, которым это всё нравится.
«Меня интересует ваш взгляд на человека в философско-антропологическом смысле, — господи помилуй, ну зачем надо вот так пафосно формулировать? — Существует мнение, что человек по природе своей низок и мерзок (не звучит гордо), и единственный способ удерживать его от гадского поведения — это не ставить в гадские обстоятельства. Как по-вашему?»
Наташа, я же говорил: единственный способ воспитания — это чудо. Человек должен испытывать всё-таки некоторое смирение перед миром и понимать, что он тут не главный (или, по крайней мере, не самый главный). Я не думаю, что человек по своей природе низок и мерзок. Я думаю, что человек по своей природе стремится к добру. Но, по-моему, единственный способ его воспитывать — это подвергать его шоку от встречи с непознанным, с непонятным.
Заметьте, что именно этот принцип лежит в основе Теории воспитания у Стругацких, потому что у них всегда воспитание человека (скажем, в круге первом, когда его проходит Андрей Воронин в «Граде обреченном») — это столкновение с непостижимым. Это вот эти обезьяны, которые расселись по городу. Помните, это эти странные кули в Малой Пеше, которые были средством воспитания человека в «Волны гасят ветер». В общем, человек проверяется реакцией на непознанное, так мне кажется. Это лучший способ его воспитывать.
К сожалению, идея, что надо не ставить человек в плохие обстоятельства, и тогда он не будет плохим, — по-моему, эта идея ещё после Руссо очень быстро была отвергнута, потому что не от внешних обстоятельств человек зависит. Человек зависит от работы и её результатов. Человек — существо трудящееся. Человек, уважающий себя, человек достойный, обладающий совестью, — это прежде всего профессионал. У кого нет профессии — у того нет совести (так мне кажется).
«Ваше отношение к государственному празднованию по случаю очередной годовщины Победы 9 мая?»
Я много раз высказывал своё отношение к этому. У меня есть ощущение, что огосударствление этого праздника, попытка оседлать самодеятельные низовые народные акции — это дурной тон. Ну, как говорил Окуджава в таких случаях: «Когда пошли сбитень, блины и всякая вещь, — вот так он формулировал, — я стараюсь от этого праздника уезжать в Калугу». И действительно, он там среди калужских друзей, коллег по раннему своему учительству обычно встречал свой день рождения, приходившийся на 9 мая.
Я тут прочёл статью Игоря Мальцева, которую многие рекомендовали, в том числе с какой-то радости мой когда-то коллега по литературной критике Александр Набоков. Не знаю, шутит ли он. Саша, ты шутишь, что ли? Он рекомендовал статью Игоря Мальцева, обращённую к либералам. В каком-то странном, не мужском, а в каком-то визгливом, истерическом тоне она написана. Простите меня, Игорь, я с вами не знаком, но мне кажется, что вы настоящий мужчина. Как же может мужчина себе такие вещи позволять? Человек, который так много пишет о вине, об экстремальных развлечениях, вдруг в каком-то истерическом тоне — не скажу, что бабьем, но уж точно не мужском — начинает обращаться к либералам, крича: «Вы не знаете этого народа! Из этого народа вышла такая прекрасная тенденция — праздник 9 Мая, «Бессмертный полк». А вы глумитесь, вы издеваетесь!»
Да никто не глумится, никто не издевается. Почему-то вы думаете, что «Бессмертный полк» — это что-то, противоречащее идеям оппозиции? Да оппозиция всю свою программу всегда строила именно на идеях самоуправления, самостоятельной реализации, творчества масс. Зачем эта попытка размахивать праздником Победы для того, чтобы пристукнуть и так уже лишённую в России всяких прав оппозицию? Почему человек, который не согласен с вами в оценке президента Путина и его внешней политики, должен приравниваться к врагу народа? Ну что это такое? Что это за передержка отвратительная? Почему нужно ветеранами, «Бессмертным полком», праздником Победы побивать тех, кто с вами не согласен в оценке совершенно других вещей, и говорить: «А, вы ничего не понимаете! Это шествие — это вам не Болотная с Ксенией Собчак!»? Люди, которые выходили на Болотную (кстати, выходили и на Сахаровский проспект) в не меньшем количестве, чем сейчас, — эти люди не меньше вашего чтут Победу.
Что вы стараетесь приватизировать-то её? Почему вам обязательно кажется, что оппозиция или те, кого вы называете «либералами» (ни черта не разбираясь в том, кто такие либералы), почему вы думаете, что эти люди в чём-то расходятся с вами в оценках «Бессмертного полка»? «Бессмертный полк» — прекрасная инициатива, которую пытаются сделать символом официоза. Но это, конечно, не получится.
Точно так же не нужно использовать праздник Победы для того, чтобы сводить счёты с оппонентами режима. Неужели вы не понимаете, как это подло, как это просто подло? Ну назовите вещи своими именами! Подло размахивать мёртвым, чтобы задеть живого, чтобы «живых задеть кадилом», как это называется у Баратынского. Ну давайте будем моральными людьми. В общем, это не так сложно.
«Тут Максим Шевченко поведал нам в своём блоге, что товарищ Молотов, оказывается, был большим борцом за мир, храбрецом, антифашистом и вообще тем самым, на которых земля русская стояла. Понимаю я, что это его мнение, но можно ли воспринимать после этого человека всерьёз?»
Шевченко можно воспринимать всерьёз, он человек искренний. Ну, вот у него такое мнение. Я Молотова тоже считаю соучастником сталинских преступлений. Но имеет ли право его внук выйти с его портретом? При всех сложностях моего отношения к Никонову и при всём, скажем честно, моём резко негативном отношении к этой фигуре он имеет право маршировать с портретом деда. Почему? Потому что у него другого деда нет. И мне кажется, что если человек вот так любит и защищает своих, то это по-своему трогательно, и я это могу понять.
Знаете, у гениального Леонида Филатова была такая сказка «Ещё раз о Голом короле», которую когда-то Миша Ефремов ставил в «Современнике» к 50-летнему юбилею «Современника». И там, в этой сказке, были очень интересно смещены акценты: там принцесса защищает короля. Он противный, он отвратительный, но она кидается на его защиту. А почему? А потому что он тоже король, потому что он тоже королевской крови, и если чернь начнёт его унижать, то ей, принцессе, тоже не поздоровится. Это был гениальный ход. Я тогда Филатова за это не то чтобы хвалил как критик, я аплодировал ему как зритель. Это тонкая мысль.
Понимаете, я не люблю Молотова и не люблю Никонова, но когда Никонов защищает Молотова — это его право, право родства; он для него не министр, а дед. И если ему дед дороже правды, то я к этому отношусь с пониманием и уважением. А мне Молотов не дед, и я могу о нём говорить и думать то, что хочу.
«В романе Нормана Мейлера «Американская мечта» протагонист достиг максимальной свободы и делает всё, что угодно его больной психике. Неужели автор считает, что свобода творить зло — американская мечта?»
Ну, Норман Мейлер был такой левак. Он вообще к американской мечте относился довольно скептически. И это опять-таки его право.
«Понравился ваш эфир с Лазарчуком, — мне тоже. — Насколько я знаю, у вас и с Веллером хорошие отношения. Было бы интересно послушать ваш совместный эфир про литературу со спорами и ответами на вопросы».
Знаете, Веллер сейчас столько работает, что звать его ещё в ночной эфир мне стрёмно, но я готов. Михаил Иосифович, если ты меня сейчас слышишь, давай как-нибудь сойдёмся в ночном эфире, нам с тобой есть о чём поговорить. Другое дело, братцы (дорогой takeover, который задал этот вопрос), у нас с Веллером нет таких радикальных разногласий, которые есть с Лазарчуком, поэтому вам будет не так интересно. А вот с Серёжей Лукьяненко я бы поговорил с большим удовольствием. Лукьяненко, дорогой, если ты меня слышишь сейчас (ты знаешь, как я тебя люблю), приходи как-нибудь ко мне в эфир — и я с удовольствием с тобой ночью поговорю, и мы потом ещё продолжим. Я думаю, что это и людям будет интересно, и нам с тобой не бесполезно.
Кроме того, братцы, если есть у вас другие кандидатуры, другие предложения по эфирам, я совершенно счастлив буду это сделать. И хотя формат программы этого не предполагает, но думаю, что по такому случаю нам руководство «Эха Москвы» пойдёт навстречу. Я бы и с Муратовым поговорил с удовольствием, нам есть о чём поговорить. И Шендерович был здесь в ночном эфире на Новый год, и тоже нам есть о чём поговорить, невзирая на многие споры. Давайте, я с удовольствием.
«Дождь» и «РБК» получали за свою пропаганду деньги Госдепа США? Их справедливо наказали?»
Подождите, что вы несёте, vadim031? А, это у вас, оказывается, не вопросительный знак (проклятая близорукость!), а это восклицательный: «Дождь» и «РБК» получали за свою пропаганду деньги Госдепа США!» Значит, вы считаете, что Прохоров — это агент Госдепа США, если я правильно понимаю? Вы обязаны об этом заявить — и не анонимно, а под своим именем, и потребовать прокурорской проверки, если вы считаете его деньги деньгами Госдепа США! Если у вас есть аналогичные сведения о «Дожде», тоже заявите об этом немедленно! Я требую, чтобы вы ответили за свои слова! Я требую публичной проверки, чтобы мы все узнали, какие там деньги Госдепа США. Кстати, я работаю на «Дожде» и получаю очень мало. Госдеп США в последнее время обнищал. Но если серьёзно: если вы можете эти факты предъявить, то факты в студию! Если нет, то, я думаю, вы угадаете мою рекомендацию вам.
Из Славянска вопрос про «хипповский литминимум»: Кен Кизи, Ричард Бах, Герман Гессе. Я с удовольствием вам отвечу на этот вопрос.
Понимаете, Кен Кизи мне представляется довольно сильным писателем, но автором всё-таки единственного романа — и это даже не «Пролетая над гнездом кукушки», а «Порою нестерпимо хочется…». Я когда-то под давлением замечательного литературного критика Леры Жаровой прочитал этот роман, продрался сквозь него и считаю, что это выдающееся произведение. Хотя, конечно, и «Полёт над гнездом…» — гениальный роман, да.
Что касается Ричарда Баха. Понимаете, Саша, я при всём желании не могу себя заставить любить «Чайку по имени Джонатан Ливингстон». Мне кажется, что эта вещь какая-то ужасно фальшивая и полная общих фраз. Мне и «Маленький принц» не очень нравится, о котором когда-то Александр Мелихов написал исчерпывающе разоблачительную статью для нашего журнала «Что читать?», доказав, что это высокопарная пошлость (при всём таланте Экзюпери), это самое слабое его произведений, и естественным образом оно стало самым знаменитым.
Герман Гессе тоже мне не представляется особо сильным писателем. Я люблю «Игру в бисер» более или менее, но мне совсем не нравится «[Степной] волк». И мне кажется, что люди, любящие «Волка», — как бы вам сказать, это люди довольно понтистые и такие тоже демоны. Мне кажется, что Гессе немножко неправильно у нас понимался. Люди, которые его любили читать в XX веке, — это люди, которые не очень его понимали, но с его помощью повышали свою самооценку. Но в любом случае, Саша, спасибо вам за этот вопрос и за то, что нас слушают в Славянске.
«Ваше мнение о прозе Руслана Киреева, особенно о его «севастопольском [светопольском] цикле»? Повесть «И тут мы расстанемся с ними» — одна из самых светлых и трогательных книг».
Я очень люблю Руслана Киреева, но не «севастопольский цикл»… то есть «светопольский», простите, не «светопольский цикл», а более поздние вещи — такие, как роман «Победитель», о котором в своё время Лев Аннинский написал замечательную статью, и меня это очень привлекло. Киреев — сильный прозаик. Последние его вещи исторические — про любовь, про муз, про великие любовные истории — мне тоже очень нравятся. Киреев в качестве редактора «Нового мира» много напечатал хорошей прозы. И «светопольский цикл» (ранний) тоже прелестный, потому что русская провинция очень мало знала таких певцов. Можно назвать, пожалуй, Лихоносова, Евгения Лукина, а по большому счёту их и нет. А вообще я к Кирееву действительно отношусь гораздо лучше, чем к Ричарду Баху.
«Можно ли «передать факел» от ваших с Ефремовым «Гражданина поэта» и «Господина хорошего» к моему и моих друзей «Гражданину Гадюкину»?»
Нет, Алекс, невозможно. Пусть ваш «Гражданин Гадюкин» существует сам по себе, а мы никому «факела не передаём». Тем более что никаких прав на «Господина хорошего» я не имею.
Услышимся через три минуты.
НОВОСТИ
Д. Быков― Продолжаем разговор. Вопросы стремительно прибывают.
Тут пишет один, действительно крик души: «Не надо звать никого в эфир!» Хорошо, не буду.
«Какую из книг, вами написанных, вы считаете наиболее удачной?»
Знаете, трудно выбирать среди детей своих. И в разное время мне разные книги кажутся удачными. Но пока, наверное, наиболее принципиальная работа — это «ЖД», а наиболее личная, наиболее нежная — это «Остромов». Кстати, больше всего я люблю «Квартал». Но «Квартал» — это совсем не для всех, а это книга, которая нравится только людям моего типа, очень мне близким, но таких людей мало. В любом случае начинать чтение лучше всего с «Квартала» — по крайней мере, вы будете понимать, с кем вы имеете дело.
«Как нужно поступать с кусачими муравьями — пытаться, как Муми-тролль, уговаривать их уйти с полянки или, как Малышка Мю, просто залить их керосином?»
Good question. Если они нападают на вас и рискуют вас сожрать, то тогда, мне кажется, без керосина не обойтись. А если они кусают друг друга или просто себе шастают по полянке, можно обратиться с увещеваниями, как Муми-тролль. И потом, керосин — необязательно. Есть какие-то более гуманные способы.
«Что вы можете сказать об американской культуре комиксов и связанной с ней верой в Супер-, Бэт— и прочих «мэнов». Понятно, что все эти супергерои заняли нишу персонажей фольклора, однако хотелось бы разобраться в этом поподробнее. Почему это приняло именно такую форму?»
Знаете, не надо слишком серьёзно относиться к массовой культуре, так мне кажется. Я не хочу сказать, что они заняли место персонажей фольклора или персонажей религии, но в общем это обычные сказки, а сказки без супергероя не бывает. Культура комиксов кажется мне замечательным примером поиска третьего языка, некоего синтеза визуальности и нарратива, такой попыткой построить визуальный нарратив.
Я считаю, что самый большой вклад в искусство комикса в XX веке (кстати, что отмечено уже на Lurkmore) — это, конечно, Маяковский с его «Окнами РОСТА». Правда, есть некоторое однообразие персонажей, о чём я и пишу в книге. Есть персонажи с пузом — это поп, помещик, Ллойд Джордж. И есть персонажи со штыком — это рабочий, крестьянин, солдат. Наиболее частый случай действия — это штык в пузо. Как писал Андрей Белый:
В пуп буржуя, — дилимбёй, —
Пулей, а не дулом бей!
Такая замечательная пародия на «Окна РОСТА». Я вообще «Окна РОСТА» довольно низко оцениваю по литературному их качеству (несколько выше — по плакатному), но для Маяковского действительно жанр комикса был тогда самым наглядным. Я считаю, что хорошие комиксы — необязательно это знаменитые мыши, но это вообще жанр классический. Мне представляется, что хороший комикс — это настоящий шедевр артистического трудолюбия. По сути дела, это раскадрированный и снабжённый подписями мультфильм. И я очень высоко ценю некоторые образцы жанра. Правда, вкус у меня в этом смысле своеобразный.
«Я два раза перечитал «Розу Мира», но так и не понял, в чём противоречие Даниила Андреева и Дмитрия Менделеева. Объясните».
Ну какие же тут могут быть противоречия? Это просто люди, существующие в двух разных мирах: Менделеев предлагает строго научную картину мира, а Андреев — сугубо метафорическую. Тут нет противоречий. Это жанр разный просто.
«Предмет вопроса — разница между Римско-католической и Православной церквями, — дорогой bk, я не эксперт. — Персонаж одного из фильмов Ларса фон Триера говорит приблизительно так: «Восточная церковь изображает, как правило, Деву Марию с младенцем Иисусом на руках, реже — распятие Христа; в то время как Западной церкви более присуще изображение умирающего на кресте или уже умершего Христа. Почему? Потому что Западная церковь — это церковь страдания, а Восточная — церковь счастья».
По-моему, такие мысли высказывались, если я ничего не путаю, в «Нимфоманке». Это довольно распространённое заблуждение, и я не берусь сейчас оценивать разницу (тем более в прямом эфире, тем более бегло) в мировосприятии католиков и православных. Тем более, мне кажется (так получилось просто), что в православии теоретическая часть, если угодно, менее разработана. Православное богословие не так изощрённо и не так просто изобильно, как католическое — по разным причинам. Об этом у меня когда-то был большой диалог с Андреем Кураевым.
«Валентин Непомнящий говорит следующее: «Главный праздник православных верующих — Пасха, когда Господь сказал: «Возьми свой крест и иди за мной»; акцент — на страдании. Римско-католическая же церковь главным праздником считает Рождество, то есть радостное событие. Таким образом, Непомнящий, в отличие от фон Триера, считает именно Западную церковь церковью радости и счастья. С кем вы из этих мастеров культуры?»
Во-первых, опять-таки, как нельзя сравнивать Менделеева и Андреева, нельзя сравнивать Непомнящего и Ларса фон Триера. Это два человека, занятых совершенно разными вещами, и поэтому, по-моему, даже некорректно сопоставлять их масштаб. Непомнящий — литературовед; фон Триер — безусловно, это великий режиссёр, создатель миров. И мне кажется, что место фон Триера в мировой режиссуре всё-таки значительнее, чем место Непомнящего в мировом литературоведении (при всём уважении к нему).
Что касается мнения: является ли католическое мировоззрение мировоззрением счастья или страдания? Я не могу спорить с такой субъективной точкой зрения, в частности, что главный праздник — Пасха, и это праздник страдания. Нет, Пасха — это как раз радостный праздник, счастливый, это праздник воскресения, праздник чуда, «не могло — а вот!». Садовник, ангел ходит между могилой и говорит: «Что вы ищете живого среди мёртвых?» Ну о чём здесь говорить? Ангел отвалил камень. Это праздник величайшей радости. Конечно, крёстная мука помнится, и Фома вкладывает персты в раны, но всё-таки Пасха — это не праздник страдания. Даже сама атмосфера Пасхи, пасхальной радости — это атмосфера счастья.
А вот Рождество, наоборот, вполне можно истрактовать как праздник и радостный, и скорбный. Посмотрите, что выражение лица младенца Иисуса на большинстве икон — это выражение скорби, выражение знания, предчувствия и так далее. Так что, если хотите, в христианстве есть всё, и всё можно истолковать по-разному. Я не думаю, что можно сравнить православие и католичество именно по этому критерию: здесь радость, а здесь скорбь. Мне кажется, что скорее в католичестве, может быть, больше аскезы, меньше ощущения праздника, но это не значит, что в нём меньше христианской радости. Мне этот критерий представляется надуманным.
«Посоветуйте неопытному читателю произведения, схожие по силе удара со «Степным волком» Гессе».
Ну что же вы? Вот как-то пошёл этот «Степной волк», просто эпидемия, поветрие! Есть гораздо более сильные произведения в том же XX веке. Если уж читать немецкоязычную литературу, то почитайте «Душевные смуты Тёрлеса» Музиля, почитайте Томаса Манна, почитайте Генриха Манна, да и Клаус Манн неплохой писатель. Да мало ли, господи помилуй? Я думаю, что в XX веке были произведения куда более мощные, нежели «Степной волк». Ну почитайте Ремизова, если вас интересует сила удара, именно сила эмоционального воздействия. Почитайте прозу Блока. Кстати говоря, если вам так сильно нравится «Степной волк», то я думаю, что проза Рида Грачёва произведёт на вас очень сильное впечатление, проза и эссеистика. Думаю, что большой эффект произведёт на вас петербургская андеграундная проза 70–80-х годов.
«Расстрел Пьера у Толстого имеет отношение к судьбе Достоевского?»
Да ни малейшего. Я думаю, что он и «Идиота», собственно говоря, тогда не читал. Он и «Записки из Мёртвого дома» прочёл гораздо позже. Любопытно, что расстрел Пьера и предсмертные мысли Пьера писались примерно одновременно с «Идиотом», с мыслями князя Мышкина Льва Николаевича о смертной казни. Кстати говоря, то, что Мышкин — Лев Николаевич, — я думаю, вот здесь есть какое-то сходство. Синхронность этих обращений к теме смерти и предсмертного расчёта, на что потратить последние минуты — это совпадение неслучайное, это к очень многим дискуссиям 1860-х годов. В принципе же, какое-либо взаимное влияние этих двух гениев отрицать, по-моему, естественно. Они не знали друг друга и старались друг друга не читать. Известно, что Достоевский перед смертью, совсем незадолго до конца открыл так называемые «духовные» сочинения Толстого и, прочитав две страницы из середины, воскликнул: «Опять не то! Всё не то…» Я думаю, они принципиально не могли друг друга понять.
«Насколько высоко вы оцениваете творчество Пантелеймона Романова? После прочтения романа «Русь» можно ли лучше понять то, что происходит в России сегодня?»
Кстати, у меня мать — большая любительница романа «Русь», который я ей подарил когда-то. Но мы оба пришли к выводу, что это такой пра-Сорокин. Роман «Русь» вобрал в себя все штампы русской реалистической литературы. Это очень смешно. И главный герой этого романа — тоже Дима, насколько я помню. И всё, что там происходит, — это такая более или менее вменяемая, более или менее осознанная, но всё-таки тоже пародия на штампы русской классики. Я с наслаждением прочёл все шесть частей этого романа (там седьмая не дописана), но всерьёз к этому относиться, воля ваша, невозможно. Это именно антология клише. Пантелеймон Романов нам дорог другими рассказами — например, «Без черёмухи». Как романист, по-моему, он знатно копирует.
«Всё больше нахожу трагических случайностей в 1989–1991 гг., приведших к распаду СССР. Например, Мамардашвили собирался бороться с Гамсахурдией, но умер в аэропорту, отправляясь в Грузию. Сахаров написал черновой вариант Конституции обновлённого СССР — и через несколько дней умер. Что вы думаете о такого рода случайностях или закономерностях?»
Дорогой radioactive, я не верю в конспирологию по большей части. Я не считаю, что это было убийство, хотя в своё время Сергей Григорян, я помню, доказывал, что были какие-то факты, указывающие на отравление Сахарова. Мне кажется, что и Гамсахурдия, и Сахаров были людьми предыдущей эпохи (и Мамардашвили тоже), и они ощущали себя в этой эпохе чужими. Вот почему и Гамсахурдия был обречён, и Мамардашвили был обречён, как ни странно. Пришли другие люди… и даже не совсем люди, с точки зрения этих предыдущих эпох. Грубо говоря, рельсы упёрлись в глину. А когда человек чувствует себя не на месте в эпохе, он умирает обычно очень быстро. Посмотрите на людей 70-х годов, которые один за другим умирали в начале 80-х: Высоцкий, Даль, Трифонов. Жгли свечу с двух стороны, потому что понимали, что приходит не их время.
«Расскажите о вашем восприятии творчества Алексея Варламова, в частности его романа «Лох»?»
Можно я не буду отвечать на этот вопрос? Я очень люблю Алексея Варламова чисто по-человечески, и мне симпатичны некоторые его книги, но я никогда не мог найти общего языка с его героями. Ну, это не моё. Мне кажется, что это по большей части всё-таки имитация радости, а не радость, имитация добра, а не добро. К его биографическому творчеству я отношусь с гораздо большим уважением.
«Либерализм идёт с Запада? Да! На Западе жирная социалка? Да! Либерализм за социальную защищённость людей? Нет! Вот такие парадоксы каждый день в России вкапываются в мозги простых россиян…» Очень долго. Простите, я не буду это зачитывать.
«Гражданин Быков, — зачем вы так сразу сложно? Можно просто — Дмитрий Львович. — Как Вы знаете, дагестанский борец Саид Османов оскорбил народ Калмыкии, ударив статую Будды. Так же Надежда Толоконникова и Мария Алёхина нагадили в душу всем христианам, когда кривлялись в храме Христа Спасителя». Нет, не нагадили. Нет, не кривлялись. Я с вами не согласен, гражданин kazak2. «Одновременно с этим они ругали Путина. Кроме того, Pussy Riot измывались над останками бедных куриц». Неправда! Никакого отношения Pussy Riot не имеют к останкам бедных куриц. Учите вы матчасть. Это была группа «Война», совершенно другие люди. «Про публичный разврат в общественных местах умолчу. За все эти подвиги страны Запада записали их в правозащитницы, пригласили в тур по Америке. Поэтому, гражданин Быков, скажите…»
Дорогой мой, пока вы не изучите, что собственно происходило в храме Христа Спасителя, что такое панк-молебен в понимании Толоконниковой, и пока вы не изучите юридические аспекты этого дела со всеми этими ссылками на Трулльский собор, мы с вами разговаривать не будем. И, пожалуйста, возьмите полтона ниже. Меньше нецензурщины.
«Обратил внимание, что люди, призывающие «оставаться в стране, потому что тут сейчас интересно» (и вы в том числе), имеют при этом достаточно регулярные и основательные зарубежные ангажементы в виде лекций, концертов либо просто возможность встать и уехать в любой момент. Если конкретно для вас такая возможность исчезнет, вы останетесь в закрытой стране или всё же уедете?»
Во-первых, зарубежные «ангажементы в виде лекций, концертов либо…» и т.д. — это в моём случае сильное преувеличение. Я работал в Принстоне три месяца. У меня случаются лекции и выступления за рубежом, как случаются они у всех российских прозаиков или поэтов, которые действительно приглашаются в разное время поехать туда и почитать. Мне оплачивают в таких случаях дорогу. Никакого ангажемента здесь нет. Я с удовольствием встречаюсь с российскими студентами за рубежом. Я только что встретился в Казахстане с двумя своими принстонскими выпускниками. То есть — да, я встречаюсь с иностранцами, и я иногда перед ними гастролирую. Я не думаю, что здесь есть что-то, принципиально меня отличающее от большинства россиян.
Что вы называете «надёжной возможностью встать и уехать в любой момент»? Такая возможность есть у всех, у кого есть загранпаспорт, и эта возможна гарантирована нам Конституцией. Если в какой-то момент Конституция будет отменена, упразднена и просто Россия окажется за «железным занавесом», я останусь здесь, потому что у меня нет выбора. Для того чтобы уехать, я обречён вывезти с собой очень много людей. Во-первых, у меня большая семья. Во-вторых, у меня очень важная культурная среда — ученики, друзья, все, без кого я не могу обходиться. Мне пришлось бы вывезти человек 300, чтобы комфортно чувствовать себя на Западе. И не факт, что эти люди поехали бы со мной. Если будет существовать прямая угроза моей физической жизни и моей профессиональной деятельности, я буду долго думать о возможности уехать. Но такие вопросы…
Сослагательное наклонение, понимаете, оно же не всегда действует в истории. Более того, как правило, не действует. У меня есть сильное подозрение, что сослагательное наклонение здесь неуместно. Если Конституция будет публично попрана… Она, конечно, уже попиралась несколько раз, но вот здесь это, по-моему, наиболее наглядно. Если она будет публично попрана, мне кажется, что ответная реакция не замедлит себя ждать.
«Обращали ли вы внимание на автора-фантаста Андрея Валерьева? — увы, нет. — Его книги «Фаранг», «Форпост» и «Объект «Родина» я слушал в аудиоформате. Это единственное, что я с удовольствием прослушал о «попаданцах». Вячеслав». Слава, не знаю пока, к сожалению. Со временем я неизбежно это прочту и тогда вам дам ответ.
«Нет ли у вас идеи создать собственный интернет-ресурс, чтобы ваши лекции звучали для отдалённых регионов Интернета?» Преимущество Интернета, дорогой tamerlan, в том, что у него нет отдалённых регионов. Я не хочу создавать ресурс. Существует pryamaya.ru, они всё это делают.
Кстати, тут очень много вопросов о следующих лекциях. 19 мая будет лекция о Луначарском, она будет читана в нашем лекционном зале, по-моему, на Ермолаевском. Ну, уточните на сайте pryamaya.ru. Я считаю, что Луначарский — фигура, несправедливо оболганная и несправедливо забытая. Я считаю, что и Маяк к нему относился, в общем, жестоко и неправильно. Вот об этом буду разговаривать. 23-го сначала будет читать в семь наш выпускник, ученик мой Костя Ярославский лекцию о Ницше. Это блистательный человек! И слушать его всегда — большое наслаждение (особенно если учесть, что ему 21 год). Потом я уже ночную лекцию прочту там про Гофмана. Чем темнее, тем страшнее. Думаю, что это будет весело.
29 мая как раз у матери день рождения. И вот мой скромный ей подарок — это большой вечер, посвящённый Маяковскому, в ЦДЛ. Приходите. Во-первых, там будет в очередной раз презентация книжки «Тринадцатый апостол» (вот этого красного издания, молодогвардейского). Во-вторых, я почитаю из Маяка, потому что я очень люблю из него читать. Будет такой своеобразный «Быков вслух», несколько любимых стихотворений. И главное — там будет возможность прийти и выразить вслух все свои несогласия с книгой. Приходите, подискутируем, поотвечаем на вопросы, устроим такой вечер, посвящённый Владимиру Владимировичу. Я думаю, что он этого вполне заслуживает. Напоминаю, что это 29 мая, Центральный дом литератора. Вот там вы сможете прийти и всё рассказать, что вы думаете и про программу «Один», и про книгу «Тринадцатый апостол», и про меня лично, и про Госдеп. Представителей Госдепа не будет, но я думаю, что им передадут.
«Не является ли сцена бунта против Жихаря за то, что он вернул Смерть в финале «Кого за смертью посылать» Успенского, аллегорией на то разочарование, что постиг народ в 2000-е? Они ведь тоже захотели вернуть жизнь (экономическую, политическую), но при этом обратили её в другую сторону (экономическое неравенство, переложение бремени и т.д.)».
Я думаю, что Мише, Царствие ему небесное, очень бы понравилась ваша точка зрения, она остроумная. Но не думаю, что Успенский имел это в виду. Я думаю, он имел в виду просто, что для большинства людей это очень большая новость, что жизнь и смерть — одно и то же. Вот эту новость он собственно и пытался донести до читателя.
«Что вы имели в виду, говоря: «Когда мы станем вновь без России, без Латвии, единым человечьим общежитием, притянем Китай с одной стороны, Америку с другой — вот тогда да»? Вы имеете в виду создание Мирового правительства? Глобализацию?»
Нет, это я цитирую просто Маяковского: «…чтобы в мире без России, без Латвии, жить единым человечьим общежитием». Я настаиваю на том (с моей точки зрения), что глобализация — это неизбежное будущее всего человечества, а границы — это рудимент, и человечество постепенно будет их делать всё более прозрачными. Это не значит, что столь дорогое многим национальное своеобразие (как вы знаете, я его не фетишизирую, но многим оно дорого) останется таким рудиментом. Нет, оно будет существовать, но просто границы действительно мешают. Прав Евтушенко, дай бог ему здоровья. И я продолжаю настаивать на том, что космополитизм — это светлое будущее всего человечества.
«Как прошла ваша встреча в Алма-Ате?»
Спасибо, прекрасно. Три часа она продолжалась, не отпускали, было интересно. И мы будем продолжать, конечно. Я обязательно туда ещё поеду с лекциями, потому что этот казахстанский «Лекторий.kz» прекрасно всё организовал, спасибо им большое. И мне было ужасно интересно! Вопросы были интересные и довольно жёсткие. Главное — это встреча с той же самой аудиторией. Я много раз говорил, что на меня ходят одни и те же люди, и встречаться с этими людьми мне всегда приятно. Наверное, я какой-то человеческий тип воплощаю с достаточной полнотой. Я не говорю, что тип хороший, но он типичный, он для многих интересный.
«Что вы думаете о роли Казахстана в будущем России?»
Я думаю, что наше общее будущее — гигантское, евразийское, и не в дугинском смысле (Евразия как воплощение всего реакционного), а в смысле евразийском, в таком смысле Ордуся, в смысле Хольма ван Зайчика, Вячеслава Рыбакова. Вот это будущее. Это будущее, просто при котором мы расширим наше пространство, мне кажется, объединив его, потому что любые вертикальные давления слабеют, как знают все лыжники, распределяясь на большее пространство. Когда мы были большей страной, проще было в России быть свободным, как это ни странно. Потому что для меня свобода — это мера сложности прежде всего.
«Заметил, что основная часть авторов исторических романов — обычно ярые государственники, которые «убивают» и заставляют страдать своих персонажей «ради великой цели». Но самый популярный из них — Дюма-отец — явный либерал, у которого на первом месте личная жизнь героев. Не является ли эта позиция Дюма причиной успеха его романов, кроме таланта и трудолюбия?»
Нет. Я много раз писал о том, что, как мне представляется, причина успеха Дюма — это аппетитность добродетелей в его романах. Он умеет сделать добродетель не просто риторически привлекательной, а аппетитной, соблазнительной, вкусной. Герои Дюма остроумно говорят, вкусно обедают, много пьют, с наслаждением дерутся. Это гедонисты. Они не жертвуют собой, как скучная Ла Моль, а наслаждаются жизнью, как Коконнас. У меня вообще к Дюма очень радостное отношение, и не зря я на него похож. И дома он кумир абсолютный, мать всегда считала, что Атос — это идеальный герой (она и сейчас, я думаю, так считает). Поэтому мне кажется, что Дюма именно победил за счёт привлекательности его морали и, конечно, за счёт художественной мощи, изобразительной.
«Правда ли, что в свете новых законов за перепост ваших стихотворных фельетонов можно будет стать невыездным?»
Что вы? Никогда в жизни! Я специально так мучаюсь, так много трачу сил на написание этих стихотворных фельетонов, чтобы к ним было не прикопаться с юридической, государственной, госдумовской точек зрения. Они остаются всегда в рамках действующего законодательства.
«Не пугает ли тень кнута тех, кто пугает этим кнутом ширнармассы?»
Конечно пугает. И именно по количеству репрессивных законов и запретительных мер вы можете судить о том, как запуганы на самом деле все эти люди, как они страшно боятся хоть крошечной народной активности. Когда уже человека за перепост можно упрятать в тюрьму, чего вы ждёте, о чём ещё вам это говорит? Это говорит вам только о том, что степень паники у властей действительно зашкаливает и выходит за грань здравого смысла (как панике и положено). Есть ли у них основания для такого страха? Не знаю, не думаю. Ну, им-то виднее. Наверное, есть.
И вообще мне всё это напоминает Александра III, который напоминал человека, ставящего заклёпки на кипящий котёл. В один прекрасный момент просто может крышку сорвать. А ослабить крышку — это им не приходит в голову. Вообще запрет — всегда признак слабости. Я не пугаю, не призываю, нет в этом никакого экстремизма. Хотя культура доносительства в России немедленно всплыла и достигла довольно высоких показателей, но мне представляется, что всё-таки всем уже всё понятно.
«Не помню, чтобы вы высказывались о творчестве Алексея Иванова. Он разносторонне одарённый писатель. Нравятся его и исторические романы, и бытовые».
Он блистательный писатель. Для меня слово «беллетрист» — совершенно не ругательство. Он — действительно такая реинкарнация Алексея Н. Толстого. Он умеет всё: и историческую прозу, и фантастическую, и бытовую; и пишет обо всём одинаково вкусно, остроумно, изобретательно, концептуально. Он очень умный человек. И я с наслаждением его читаю. У меня есть свои фавориты среди его книг — например, «Земля-Сортировочная» или «Географ глобус пропил». Ну и «Блуда и МУДО» мне очень нравится. И вообще я Алексея Иванова очень люблю, и рад быть его современником и ровесником.
«Выскажите ваше истинное отношение к модному роману Сэлинджера со стильным названием «Над пропастью во ржи», — модным он был в 1955 году. — В чём ценность этих примитивных записок недоразвитого юнца, потенциального кандидата в долбанутые хиппи?
Видите ли, дорогой proshal, вы сами обозначили очень точно жанр этого романа. Мне всегда казалось, что это роман прежде всего сатирический и что Холден Колфилд — очень смешной персонаж, и над его потугами автор со слезами смеётся. Помните сцену, когда он вызывает проститутку, думает о её зелёном платье, думает, как она это платье себе покупала? Это бесконечно грустная и трогательная сцена. Ну, это удивительное сочетание, за которое мы и любим этот роман — сочетание нежности и издевательства, вот амбивалентность в этом смысле. Мне очень нравится, что Холден Колфилд такой жалкий и при этом такой высокомерный. Но когда он смотрит на то, как его сестрёнка Фиби в своём синем пальтишке крутится на карусели, он плачет, и он счастлив! И я всегда реву, когда дочитываю до этих строк, понимаете, потому что он любит эту девочку. И вот эта рыженькая Фиби, которая пишет романы про девочку-сыщика, своими росписями покрывает тетрадку и выдумывает эти безумные сюжеты, вот эта Фиби в своём синеньком пальтишке, она всё-таки окупает своим существованием многие ужасы XX века.
Конечно, Холден Колфилд — послевоенный ребёнок, и это в нём очень живо. Это ответ Сэлинджера на ужасы XX века. Но этот смешной, добрый и сентиментальный роман мне представляется действительно великой книгой. И не надо там искать особые сложности. Я понимаю, что этот мальчик неприятный, этот подросток неприятный. А он и не должен быть приятным. Слушайте, а кто из нас был приятным подростком? Вообще приятных людей на свете я знаю — раз и обчёлся. Мне кажется, очень хорошо сказал в своё время БГ: «Добро почти всегда неприятно». Ну что ж поделать?
«Расскажите о своём отношении к Рембо? Увлекались ли вы им в юношестве? Что думаете о качестве существующих переводов? Имели ли возможность сравнить с оригиналом?» Лучший переводчик — Антокольский, мне кажется.
«Прочёл книгу Арабова «Механика судеб» и остался в глубоком разочаровании. Во-первых, чтобы писать о Наполеоне, нужно прочесть книг как минимум 50. Во-вторых, автор старательно выбирает факты, поддерживающие его довольно наивную теорию, и так же старательно опускает противоречащие ей. У любого, кто сколько-нибудь серьёзно интересовался жизнью Наполеона, книжка вызовет улыбку, мне кажется».
Знаете, я читал довольно много о Наполеоне. Лучшим из того, что читал, считаю книгу Мережковского уже упомянутого (кстати говоря, книгу вполне апологетическую и очень увлекательную). Арабов же писал не для того, чтобы представить вам исследования жизни Наполеона или Пушкина. Арабов писал для того, чтобы вам было интересно, для того, чтобы вы задумались. Угаданная им закономерность, мне кажется, абсолютно точна: пока человек не рефлексирует, у него всё получается; как только он задумывается, его образ как бы раздваивается и почва уходит у него из-под ног. Вы скажете: «А вот он и о Пушкине пишет непрофессионально». Он не пушкинист. Но то, что он написал о Пушкине, во многом верно, интересно и, кстати говоря, совпадает с выводами Ахматовой о смысле «Каменного гостя». И вообще мне кажется, что Арабов именно прежде всего писатель, а не историк. Он концептуализирует. Его концепция биографий, вот эта «Механика судеб» — это работает. А насколько это научно достоверно — это совершенно другой вопрос.
Вообще специалисты в чём-либо — они всегда страшно высокомерные люди. Они говорят: «Вот вы не прочли 50 книг о Наполеоне». Да достаточно того, что вы их прочли. Вы являетесь специалистом в этой области. Я являюсь специалистом по истории ленинградской прозы 70-х годов (у меня по ней диплом) или по жизни и творчеству Окуджаву, но я же не навязываю вам свои экспертные добродетели. И вы мне не навязывайте. «Я думаю, что судить об Окуджаве имеет право тот, кто слышал все 200 его песен и прочёл о нём 300 книг». Нет. Любой имеет право судить о чём угодно, если он не присваивает себе право называться истиной в последней инстанции. Арабов не присваивает.
Спасибо, всего доброго. Услышимся через три минуты.
РЕКЛАМА
Д. Быков― Продолжаем разговор. Напоминаю, что лекция в последней — шестой — части эфира будет о Мережковском. Мы с вами ещё полтора часа вместе.
«По вашей наводке попытался прочитать «Нетерпение» Трифонова и сломался где-то на трети. Это моё нетерпение и всё увлекательное произойдёт потом, или это просто не моё?»
Не ваше. Там всё увлекательно и происходит на уровне языка, на уровне строительства фразы, которая вбирает страшное количество фактов, и потом уже можно думать о концепции. «Нетерпение» — важный роман, философски важный, потому что это подход Трифонова к его любимой теме: он пытается найти оправдание святым Русской революции. В общем, это ответ на «Бесов». Желябов, Кибальчич, Перовская — герои «Нетерпения» — совсем не бесы. Что они были за люди? Вот на этот вопрос отвечает Трифонов. Почему из этого получился коммунизм? И почему коммунизм закончился мещанством? И как соотносятся коммунисты и мещане? И почему коммунисты лучше мещан? Это во многом роман об отце. Его надо читать в том же контексте, что и «Отблеск костра». Это долгий разговор. Но если вам скучно читать Трифонова — ну и не надо, не ваше. Чего продираться? Знаете, что попробуйте прочитать? Попробуйте прочесть Давыдова, у него есть такой роман «Глухая пора листопада». Он про то же самое, но он более увлекательный.
«Что означает принт на вашей футболке, в которой вы были сегодня в «Книжной лавке» на Арбате — «невашневашневаш»? Спасибо за презентацию, хотя мне книги и не досталось».
Таня, книга вам достанется. Вот я вам лично обещаю, что она вам достанется. Хотите — я вам оставлю её просто на вахте «Эха». Раз вы из Химок, вам нетрудно будет приехать. Просто напишите мне на dmibykov@yandex.ru, и мы договоримся, где я вам передам книгу. Напоминаю, кстати, что адрес почты: dmibykov@yandex.ru. А принт на футболке совершенно понятный — «невашневашневаш». Вы вспомните, что изображено на этой футболке — и вам всё станет понятно.
«Скажите пару слов о советском фантасте Александре Полищуке. Его роман «Эффект бешеного солнца» поразил меня необычностью сюжета». Придётся прочитать. Ничего о нём не слышал.
«Читаю ваши послания на злободневные темы, но так и не понял, что такое «Бастрыкин энд Гребенщиков».
Знаете, мы не должны отнимать у людей, пребывающих во власти, право на внезапную человечность. Вот захотелось ему о благотворительности поговорить с Гребенщиковым. Правильно сказал Артемий Троицкий: «Не надо пренебрегать возможностью раскаяния». А БГ — он вообще такой добрый, амбивалентный, загадочный, милосердный. Если человек хочет с ним поговорить, почему он ему должен в этом априори отказывать? Понимаете, людей, которые сейчас находятся во власти, очень часто подстерегают эсхатологические настроения, и поэтому — ввиду этого эсхатологизма — им и хочется иногда вспомнить песню «Моя смерть ездит в чёрной машине с голубым огоньком». Гребенщиков (о чём я буду тоже рассказывать в лекции 20 июня) — он наследник Юрия Кузнецова, как мне кажется; он блистательный певец русской эсхатологии. И то, что у кого-то во власти (у Бастрыкина ли, или у Путина ли, или у Шойгу ли) возникает желание эту эсхатологию послушать в исполнении БГ — почему им надо в этом отказывать? В конце концов, прекрасное действует на всех.
«Доверяю вашему мнению. Помогите разрешить спор, — Борис из Киева. — Спор возник между мной и старшим товарищем: песня Высоцкого о Серёжке Фомине. Каждый из нас уверен в своей правоте. Я думаю, что Фомин оказался героем, и на этом построена песня. А Маркман думает, что он просто обманом вымутил звезду».
Боря, дорогой, прелесть этой песни Высоцкого заключается именно в том, что это вещь раздвоенная, что в ней есть этот хвост. Понимаете, это выбор не «или…, или…», а прелесть сюжета именно в «и».
Но наконец закончилась война —
С плеч сбросили мы словно тонны груза, —
Встречаю я Серёжку Фомина —
А он Герой Советского Союза…
Это говорит не о том, что Серёжка Фомин действительно где-то «промассовал», как это называлось, халявно провёл войну. Нет, это говорит о том, что ваше понимание, наше понимание ограничено, что мы никого не можем судить, потому что мы не всё знаем. И вот это вечное желание увидеть в другом дезертира, предателя или просто халявно выцыганившего звезду — это характерная ошибка. Человек глубже, чем мы можем предположить. Мне очень нравится надпись в музее Прадо: «Бережно относитесь к тому, чего вы не понимаете. Это может оказаться произведением искусства». Вот, по-моему, о чём эта песня. И именно развилка в ней ценна. Помните, как у Пинчона: «Дойдя до развилки, выбирай развилку».
Довольно интересный вопрос: «Ненавижу криминальную хронику, документалистику на тему «банд девяностых» и тому подобный уголовный «телекомпот», однако невольно просмотрел документальный фильм, посвящённый так называемому «казанскому феномену» — молодёжным группировкам Казани. Как это стало возможным в СССР 70-х годов при повальном контроле? Почему это расцвело? Каковы психологические корни?»
Всегда жестокость расцветает в лживых и закрытых обществах, это абсолютно очевидно. 70-е годы (я хорошо их помню) — это было уже время расцвета садизма на разных уровнях, начиная с садистских частушек и кончая страшными мучительствами, которым подвергали детей в школах во время травли. Фильм «Чучело» появился не на пустом месте. Это лишний раз говорит о том, какая гниль процветает в закрытых сообществах.
«Как вы относитесь к «Диалектике Просвещения» Хоркхаймера и Адорно? Является ли эта книга попыткой осмыслить корни фашизма, «отмотав» историю назад? И если да, то докуда?»
Абсолютно вы правы, это именно попытка отмотать назад, но это попытка защитить просвещение от клеветы. Потому что очень многие говорили: «Причина фашизма — в просвещении, в безбожии». Нет. Как раз просвещение — это не причина Французской революции (Французская революция — результат нетерпения), а просвещение в предельном, в мирном своём развитии — это единственный сценарий развития человечества, и поэтому ему «суждено возвращение», как говорил Блок.
«Не помню, высказывались ли вы уже о Данииле Андрееве». Многократно.
«Как вы относитесь к политическим взглядам Захара Прилепина и Лимонова, резкой смене их вектора критики власти на немногочисленную либеральную оппозицию? Слышали ли вы новый альбом «Машины времени»?
Альбом слышал. Действительно вы правы, он отличный. Как я отношусь к взглядам Прилепина и Лимонова? Вам напрасно это кажется резким скачком. Их эволюция абсолютно закономерна. Другое дело, что эта эволюция не закончилась. Мне кажется, что и Прилепин, и Лимонов от лояльности уйдут. Станут ли мне их взгляды нравиться больше? Вряд ли. Потому что если они и критикуют сегодня Путина, то это критика справа, а не слева, условно говоря. Вы знаете, как на известном плакате: «Мы критикуем Путина не потому, что он слишком Путин, а потому, что он недостаточно Путин». Ну, есть такая фраза.
На самом деле в основе этих взглядов (допускаю, что бескорыстных, и почти уверен, что бескорыстных) всегда лежала всё-таки некоторая апология дикости, некоторое недоверие к гуманизму, некоторая апология дворовых ценностей по сравнению с ценностями интеллектуальными, в своё время противопоставление себя некоторому абстрактному интеллектуалу, который «слишком буржуазен», как это формулирует Прилепин в последнее время. Что он вкладывает в понятие «буржуазность», мне понять трудно. Видимо, это знаменитое шпенглеровское противопоставление культуры и цивилизации или, если угодно, культуры и дикости, и это противопоставление в пользу дикости. Я этого в общем не одобряю. Но это не так принципиально, потому что мне кажется, ещё раз говорю, что эта эволюция не завершена. Я не стал бы ни на ком ставить креста. В любом случае живой лучше мёртвого, потому что у живого есть шанс меняться. Вот это мне кажется главным.
Лекция о Чеславе Милоше? К сожалению, я не такой знаток Чеслава Милоша. Хотя, если хотите, в отдалённой перспективе можно.
«Вы говорили о прямых заимствованиях и влияниях Мережковского на Толстого и Булгакова. Сейчас как раз читаю «Воскресших богов», и напрашиваются другие примеры: Умберто Эко с «Баудолино», «Трудно быть богом» (в частности, когда к Леонардо ломится разъярённая толпа, и та же история с гибелью Киры)».
Нет, я абсолютно убеждён, Лёша, что никакого влияния на Стругацких Мережковский не оказал. Так сложилась советская власть, советская жизнь, что они его просто не читали, и негде было взять. Ну, разве что уцелела какая-нибудь «Нива», но в их семье, я думаю, это было совершенно исключено. Во всяком случае мне кажется просто, что описание разъярённой толпы у всех авторов более или менее одинаковое.
О влиянии на Умберто Эко говорить сложнее, потому что в Италии Мережковский был необычайно популярен, а особенно при Муссолини (кстати, и после). Напоминаю о том, что Муссолини дал ему грант на книгу о Данте. И вообще Мережковского много переводили в Европе. Умберто Эко мог его знать. Жаль, что я при нашей единственной более или менее долгой встрече с ним об этом не поговорил.
«Скажите, а что ещё кроме нелюбви к России и русским объединяет Зибельтруда и Шикльгрубера (оба по рождению)? Тот, второй, тоже был творческой личностью, картины писал! И, если не секрет, с портретом кого на транспаранте ходила ваша семья на шествие «Бессмертного полка»? Кто ваш герой? Отсутствие ответа сочту за признание факта неучастия в подвиге советского народа!» — garri1951.
Дорогой garri, аноним вы мой уважаемый! Ну, «уважаемый» — это, конечно, сильно сказано. Во-первых, не вам контролировать моё и моей семьи участие в подвиге советского народа. Я сам не очень знаю, где вы отсиживались во время подвигов советского народа. О своём деде, Иосифе Соломоновиче Лотерштейне, я написал достаточно подробно в «Новой газете». Почитайте, там всё написано. Пока ещё, насколько я понимаю, участие в акциях «Бессмертного полка» не стало обязательным. Ну а за аналогию Зибельтруда и Шикльгрубера вы бы от меня, я думаю, лично получили достаточно подробный ответ (особенно если учесть, что правильно пишется — Зильбертруд). Вы ко всему ещё и безграмотный! Надо всё-таки знать матчасть. Приходите, поговорим.
«Хотела бы задать вопрос на «окололитературную» тему, чтобы немного отвлечься от скорбных литературных дел». Они не скорбные. Что вы? У нас с литературой всё прекрасно. «Как известно, на этой неделе Первый показал экранизацию «Войны и мира» каналом BBC». Не на этой он показал, а гораздо раньше. А, нет… Может быть, и на этой. Просто я раньше смотрел. «На мой обывательский взгляд, при всех исходных данных результат шедевральный, — да, мне тоже нравится, — но не отпускает вопрос (и не только по этой экранизации). Актёры играют прекрасно. Возможно, кто-то из них прыгнул выше головы, — ну, Дано так уж точно. — Ладно, когда автор не акцентирует внимание на внешности, но ведь Толстой ясно говорит: Наташа — брюнетка с чёрными глазами; Элен — античной красоты блондинка; Пьер — огромного роста толстяк и т.д. Можно ли так спокойно этим пренебречь?»
Знаете, в общем даже интересно бывает проследить, когда так или иначе несколько отличается герой от типажа. Когда Василий Пичул, Царствие ему небесное, снимает блистательную картину «Мечты идиота» с толстым Остапом — Сергеем Крыловым, с абсолютно русским Паниковским — Любшиным, и с женщиной в роли вот этого обкомовского представителя, инструктора (или кто она там?), которая осыпала Остапа золотым дождём вначале, — в этом есть определённый вызов. Ну, Зося Синицкая — Алика Смехова — там довольно традиционная. А вот большинство типажей резко отличаются. Например, Корейко (Андрей Смирнов) был для меня поразительной неожиданностью, но он очень хороший. Вот Евстигнеев играл того, который написан у Ильфа и Петрова более или менее подробно, в швейцеровской экранизации «Золотого телёнка». А вот в «Мечтах идиота» играла такая банда людей совершенно не похожих. Хорошо это или плохо? Это был интересный стык.
И мне показалось, что Дано похож на Пьера. И мне показалось, что замечательно похож князь Андрей, хотя он и слишком молод. И похож старый Болконский. Да и вообще эта экранизация сделана с большой любовью. Вот этим она мне больше понравился, чем райтовская экранизация «Анны Карениной».
«Расскажите про детскую литературу. Мне трудно понять, что имеется в виду, когда указывают возраст, на который книжка рассчитана. Муми-тролли — для всех возрастов. «Три поросёнка» — моя настольная книга всегда. А Лев Толстой для детей — ужасен. И так далее. В то же время дети не будут сразу читать большие романы. Что делать?»
Я подчёркивал всегда… В общем, и с Василием Быковым с его «Обелиском», и с Сэлинджером с «Симор: знакомство» я в этом един: детям можно давать серьёзную литературу, взрослую литературу, они всё равно будут её понимать. Помните, Симор читал Бу-Бу Танненбаум совершенно взрослые изложения дзенских коанов, и она помнила это. Мне кажется, что одно другому не мешает. Дети могут читать серьёзные книги. Я знал лично детей (я один из них), которые «Анну Каренину» начали читать в восемь лет, и многое мне было понятно.
«Вы редко говорите об О. Генри. Хотелось бы узнать ваше мнение». Я действительно редко о нём говорю, потому что я не считаю его таким крупным литературным явлением, как Джек Лондон, например. Но, если хотите, можно сделать как-нибудь лекцию.
«Как вам новая экранизация «Войны и мира»?» Вот видите, в отсутствие политических новостей всех больше занимают экранизации. Мне нравится.
«Хотелось бы прочесть что-нибудь столь же необычное, как «Град обреченный», но у современных авторов».
Знаете, попробуйте роман «S» Джей Джей Абрамса. Он по-английски только существует (это американская литература), но он вам понравится. Это одна из моих любимых книг. Там есть второй соавтор [Дуг Дорст], я сейчас его вспомню. Да, Джей Джей Абрамс, «S». Ну, он состоит из двух романов: как бы это роман «Корабль Тесея» и комментарий к нему. Это гениальная книга, по-моему.
«Родственники были на Хованском. Десятки трупов. Сами еле выбрались. Менты свалили. Единственная помощь от них — кричали «бегите!». Что это было?» Я не был в это время на Хованском, и мне трудно судить. Насчёт десятков тоже не знаю. Довольно подробный анализ в «Новой газете» сегодня.
«Подумала, на какого литературного героя похож господин Путин. Пришёл на ум Волшебник из повести Юрия Томина «Шёл по городу волшебник».
Я не думаю. Помните, там же этот Волшебник, который всё время слушает пластинку «Я — великий волшебник!», и там у него спички с надписью «Я». Я не думаю, что культ собственной личности здесь первопричина. Скорее здесь, мне кажется, общее для спецслужб достаточно негативное и неуважительное мнение о народе, уверенность, что народ не способен выжить без патернализма, без опеки (иногда довольно мелочной), что народ не терпит свободы, грубо говоря, что с ними иначе нельзя — вот это, мне кажется, первопричина. И, конечно, неуважение к прошлому, к культуре и так далее.
«Вы раньше интересовались деятельностью тоталитарных сект, — и сейчас интересуюсь. — В связи с этим вопросы. Каково ваше отношение к решению Синода о Льве Толстом?»
Не знаю, с чем связаны эти вопросы, но могу вам с полной уверенностью сказать, что этого решения я не одобряю. Мне кажется, что оно послужило ко злу и для Толстого, и для Православной церкви. Конечно, прав Кураев, который говорит, что это решение всего лишь зафиксировало «отпадение» Толстого от канона. Но от канона отпали многие. Гораздо серьёзнее от канона отпал Победоносцев. Совершенно прав Мережковский (мы об этом сейчас будем говорить), утверждая, что русская официальная церковь — это извращение христианства, это антихристианство, а живая вера осталась в народе. Можно спорить об этом диагнозе Мережковского, и о словах можно спорить, но нельзя спорить об одном: Победоносцев извратил христианство серьёзнее, чем Лев Толстой (или так же серьёзно), однако отлучили Толстого, а не тех священников, например, которые присутствовали при казнях или благословляли власть.
Отвечаю на вопросы из почты.
«Вы не раз говорили, что фашизм — это наслаждение мерзостью, — конечно, говорил. — Индастриал-музыка 70-х годов, которая использовала обработанные звуки, издаваемые человеческим телом при испражнении, — это фашизм или картина-инсталляция с применением телесных жидкостей? Если нет, то что вы имеете в виду под мерзостью, и где её границы?»
Нет, под мерзостью я имею в виду прежде всего насилие над человеческим телом. А что там происходит с испражнениями — это меня меньше волнует.
«Рождество на Западе празднуется в день зимнего солнцестояния, когда ночь начинает уменьшаться, а день увеличивается. Это ещё и рождение Солнца, древний праздник. А Пасха празднуется в первое воскресенье после весеннего полнолуния, после Пасхи уже не бывает заморозков, то есть это тоже древний праздник первых людей. Неужели наш Бог — Солнце?»
Нет. Просто в каждой религии, в её обрядах и ритуалах есть вещи внешние (а на самом деле глубоко внутренние, конечно), которые остаются неизменными с Древнего Египта. Ничего не поделаешь, это такие антропные вещи. Хотя, конечно, христианство само по себе, хотя оно во многом и растёт из язычества, является его отрицанием.
«Как вы относитесь к Стейнбеку? — это Дмитрий Усенок пишет, хороший молодой поэт. — Обратил внимание, что его редко упоминают, когда говорят об американских писателях. Мне показалось, что «О мышах и людях» никак не хуже Хемингуэя».
Конечно, не хуже. У Стейнбека тоже Нобель. Я больше всего люблю, конечно, «The Winter of Our Discontent» («Зима тревоги нашей»). По-моему, из этого выросла вся современная реалистическая проза Америки, в том числе и мегамодернистская (Франзен в частности). Конечно, вы правы. Конечно, «О мышах и людях» — очень страшная вещь. «Заблудившийся автобус» — первоклассная повесть. «[Квартал] Тортилья-Флэт» — очень милая. Мне немножко не нравятся «Гроздья гнева» по причине своей наивной социальности и несколько избыточной мифопоэтичности. Но, конечно, Стейнбек — это очень крупный писатель, что там говорить. Кроме того, он приезжал в СССР и с большим интересом к нам относился.
«Привет от Кати Зильберг! — и вам тоже привет. — На сей раз из Вены. Жаль, вы не обратили внимания на моё высказывание по поводу популярных книг по психологии (типа «Сам себе психолог»), что это равносильно издать книгу под грифом «Сам себе стоматологом, — Катя, блестяще сказано! Спасибо. Я с вами согласен на двести процентов. — Порадовало, что наши мысли совпадают. И вы практически процитировали последнюю фразу из моей дипломной работы по Астрид Линдгрен про опасность заиграться», — увы, Катя, не читал, но солидарен.
«А сейчас меня, наверное, закидают яйцами. Я люблю Макса Фрая. Не знаю почему. Вернее, знаю, но в силу своего косноязычия объясняю с трудом. Во-первых, знание предмета, филологии, современного искусства. Блестящий пример — эссе «Власть литературы». Во-вторых, его/её умение увидеть сказку во всём, способность в эту сказку пригласить. Захотелось об этом написать из-за вашей лекции о символике еды в литературе. Хотя мой муж называет цикл о Ехо «одой КГБ», люблю его перечитывать. Она так вкусно пишет, что хочется готовить, грызть печеньки и вообще жевать. Может быть, он вам нравится? А если не нравится, то почему?»
Не нравится, Катя. Ну, там всё очень произвольно и многословно, и юмор там натужный, как мне кажется. Но если вам нравится, то — ради бога. Я знаю, что основной автор Макса Фрая очень меня не любит. Она даже в Сети как-то написала, что не считает меня за человека. Но я отношусь скептически к Максу Фраю не поэтому, клянусь вам! Я ещё раньше не полюбил Макса Фрая. Мне кажется, что в этом есть какая-то пошлость ужасная. Но, ради бога, если вам нравится — ни о чём плохом о вас это не говорит. К тому же, если книгу «вкусно читать», если под неё хочется жевать, то тут остаётся только сказать: приятного вам аппетита!
«Расскажите о Гребневе. Он интересно пишет о Галиче и Шукшине».
Анатолий Гребнев — автор выдающейся книги «Записки последнего сценариста», действительно прекрасно рассказывает о Шукшине, очень интересно о Галиче и мегаинтересно об Окуджаве, с которым учился в одной школе и которого он называл «заносчивым грузином», «заносчивым принцем». Они даже девушку одну не поделили, чего Окуджава в упор не помнил. Гребнев ещё к тому же отец моего любимого сценариста и режиссёра Александра Миндадзе. Ну, много что он сделал прекрасного для русской литературы. Кстати, у него и дочь прекрасный драматург. Может быть, вы даже знаете, кто она. Хотя не буду вас томить. Это Елена Гремина, тоже превосходный драматург. Но Гребнев мне интереснее всего как сценарист позднереалистических фильмов Райзмана, как сценарист «Времени желаний», «Странной женщины» и вообще как такой поздний социалистический реалист. Он был блистательный человек! «Прохиндиада», кстати. Он очень чётко чувствовал социальные типажи. И не только его мемуарная проза, но и его сценарии — образцы превосходной драматургии, как мне кажется.
«Как вы считаете, почему 60-е годы в XIX и XX веках стали знаковыми?»
Потому что это раз в 100 лет бывает эпоха оттепели. В XVIII веке тоже в это время была оттепель: Новиков, Радищев, «Почта духов» крыловская. Это оттепели, которые закончились в 1773 году понятное дело чьим восстанием. Пугачёвщина погубила все екатерининские просветительские проекты. Почему 60-е годы? Потому что оттепель — это всегда время симфонии общества и государства, очень кратковременной; время, когда под патронатом государства общество достигает наивысших результатов (строительство Одессы, например).
Поговорим ещё через три минуты.
НОВОСТИ
Д. Быков― Продолжаю я отвечать на ваши вопросы, братцы. У нас остаётся ещё полчаса до лекции про Мережковского.
«Прочитал статью Познера, в которой он рассуждает об инициативе начать учить любви к Родине и саркастически спрашивает: нужно ли в этом свете начать учить любви к маме с папой? И действительно, как мне Родину любить, если для меня Родина начинается вовсе не с картинки в букваре, а с обшарпанного подъезда с неработающим лифтом, с бабушек, просящих милостыню, с ментов, выбивающих показания при помощи бутылки от шампанского, членовозок, безнаказанно давящих людей на переходах, с необъятных попов? Сам я нахожу этому только одно объяснение: люди в высоких кабинетах так долго твердили, что они и есть Родина, что в конце концов я в это поверил».
Лёша, как вам ответить? Это тоже Родина. Но вопреки этому Родина наша являет всему миру высочайшие примеры солидарности, доброты, культуры, таланта. Учитесь рассматривать внешний мир как предлог для прыжка, как дно, от которого вы должны оттолкнуться. Кстати говоря, я думаю, что в раю будет обязательно мой подъезд с неработающим лифтом (иногда неработающим, а иногда — работающим). Какой рай они придумают, кроме моего детства? Моё детство было во многих отношениях ужасно, школьное в частности, и я очень не любил свой район за многое, но тем не менее закат над Матвеевским, который виден был мне из моих окон, — это моё самое прочное представление о рае. Это там мне рисовались какие-то райские паруса, флаги, корабли блоковские. У нас такая Родина, другой нет. У нас такая память, другой нет. Видите ли, я оцениваю Родину не в философско-антропологическом ключе, как мне тут предлагали, не в социальном, а в биографическом. А биографически она Родина, и ничего не поделаешь.
Среди стерни и незабудок
не нами выбрана стезя,
и родина — есть предрассудок,
который победить нельзя.
— сказал Окуджава. Это великие слова, на мой взгляд.
«Эксперимент на крысах. Вожак стаи — альфа-крыс — был помещён в идеальные условия, за одним исключением: не было возможности чморить ближнего. Так он потух».
Интересное наблюдение. Действительно, без мучительства вожака не бывает. Вы совершенно правы, такое строительство, при котором людям для самоутверждения всё время необходимо кого-то мучить и кого-то преследовать, — да, действительно в обществе альфа-крыс такое бывает, без этого человек дохнет, когда ему некого унизить. Представьте себе Ивана Грозного, которому некого унижать — так он сам себя загрызёт, конечно. Энергия направляется в таких случаях на себя.
«Справедлив ли термин «мовизм» применительно к поздней прозе Катаева? Расскажите про него».
Хорошо. Кстати, я следующую лекцию охотно сделаю про Катаева. Во-первых, жена сейчас пишет про него книгу, дописывает. Во-вторых, я его вообще люблю, он один из моих любимых авторов. Я потому Ивана Катаева прочёл — думал, что он Валентин, не вгляделся, а потом уже полюбил. Видите ли, «мовизм» — термин самого Катаева, поэтому приходится признать, что он к его прозе применителен. Он прав был, и он имеет право так о себе говорить. Мовизм не означает плохопись. Мовизм означает иронию Катаева над соцреализмом, во-первых; и во-вторых — его отказ от традиционных критериев. Вот и всё. Ну, он самым упёртым мовистом называл Анатолия Гладилина, который «пишет ещё хуже, чем я писал». Но мне кажется, что Гладилин как раз гораздо более традиционный писатель. Катаев скорее учится у Льва Толстого пластики, у Бунина. Вот строфичность его прозы, фрагментарность — я думаю, это скорее отсылки к Розанову, потому что так получается… Ну, не мог же он Розанова тогда назвать напрямую. Но мне кажется, что это восходит к фрагментарной прозе начала века. Является ли это плохизмом? Нет конечно.
«Нередко в последние годы вспоминаю памятник Александра III работы Паоло Трубецкого. Почему власть в России постоянно возвращается к этому символу давящей тупости как к своему идеалу?» Вот об этом мы с вами будем говорить применительно к Мережковскому, потому что именно об этой статуе была полемика между ним и Розановым, и очень принципиальная.
Тут всякие благодарности… Спасибо вам тоже. Всегда очень приятно, когда благодарят.
«Литературная документалистика по поводу позорной оккупации Франции существует? Я до сих пор не понял, что это было».
Очень много её существует, особенно во Франции. Я не могу сказать о документалистике. Наверное, я должен вам порекомендовать фильм Андрея Кончаловского «Рай», который как раз об этом. Это очень страшная картина, психологически парадоксальная, очень верная. Ну, это о судьбе русской графины в эмиграции. Вымышленная история, хотя много фактографических источников у неё. Вот там об оккупации Франции и подробно, и жестоко. Кроме того, почитайте Эльзу Триоле, почитайте Нину Берберову. Достаточно много об этом написано нашими соотечественниками.
«Скажите о свежем кино Хотиненко «Наследники».
Ну как вам сказать, чтобы никого не обидеть? По-моему, это просто композиционно очень рыхло, хотя сама идея рассказать о святом через ток-шоу, посвящённое ему, — это интересная мысль. Это такая география через телехронику. По-моему, там Мария Кондратова сценарист, если я ничего не путаю. Хороший писатель она вообще. Но я не люблю эту картину, и мне она кажется… Если всегда Хотиненко (архитектор сам, художник) отличался поразительной чёткостью композиции, то здесь именно рыхлость этой картины меня останавливает. Мне не понравилось.
«Как вы относитесь к конкурсу «Евровидение»? Следите ли за ним онлайн?»
За результатами только слежу. За самим конкурсом, как вы понимаете, не могу следить, потому что отвечаю на ваши вопросы. Спасибо Саше Плющеву, который написал, что мой эфир — это отличная альтернатива «Евровидению». Плющев, дай вам бог здоровья. Ну, не слежу. Я вообще не понимаю того значения, которое ему придают. Ну, это такой чемпионат по молодёжной песне. Вот победила Джамала. Ну, наверное, хорошо, что она победила, потому что песня у неё актуальная. Наверное, плохи те гадости, которые о ней говорят и пишут наши официальные представители. Наверное, раскрутка нашего исполнителя осуществлялась недостаточно качественно. Но всё это — не повод для серьёзного анализа. Меня гораздо больше интересует литература и всё, связанное с ней.
«Принижение антропософии — это у вас та же киническая ирония».
Нет! Мнение моё об антропософии совпадает с мандельштамовским: мне кажется, что это такая фуфайка для людей невежественных. И вообще антропософия штайнеровская — это непростительная высокопарность. Я допускаю, что Штайнер был человек талантливый, во всяком случае в своих лекциях он сильно воздействовал, но мне кажется, что всё-таки это очень дёшево — и по идеологии, и по оформлению. Это моё мнение.
«Безумно понравилась книга, которую вы упомянули, — «Записки гадкого утёнка». Есть ли нечто похожее и не менее воодушевляющее и успокаивающее?»
Ну, знаете, Григорий Померанц — это автор, которого трудно сравнить с кем-либо. Но если вас интересуют автобиографические сочинения, написанные с должной долей духоподъёмности и смирения, я рекомендую вам роман Андрея Синявского «Спокойной ночи». А из более поздних сочинений… Знаете, я вам рекомендую дневники и проповеди Александра Шмемана. Мне кажется, это очень интересно.
«Что вы вкладываете в понятие «друг»? Или оно может существовать только как идеализированный образ литературного героя?»
Друг? У меня довольно много друзей, это очень качественные люди. Я обычно их не теряю. Редко у меня случается, что я рву с друзьями. Вероятно, потому, что для меня главный критерий — это надёжность, во-первых, и профессионализм, тесно связанный с понятием совести, во-вторых. Я люблю людей, которые в своей профессии многое умеют, и люблю людей надёжных, не предающих.
Вопрос-полемика: «Прочла в вашей книге, что вы пишете в главе о Хлебникове…» Это книга о Маяковском, «Тринадцатый апостол» имеется в виду. Ну, на самом деле просто биография Маяковского для «ЖЗЛ», «Трагедия-буфф в шести частях». «Вы говорите о безумии Хлебникова. Не понятна практика постановки посмертных диагнозов. Как может быть безумным великий поэт? Ведь Дуганов говорил: «Где нет болезни, там есть гениальность. То есть: где есть болезнь, там нет гения».
Это мнение Дуганова мне известно, и я даже его там цитирую, как вы заметили. Я же не ставлю Хлебникову диагноз, а я просто пишу там о том, что обсуждение вопроса о том, здоров или болен был Хлебников, почти всегда приводит к неприличным по накалу критическим баталиям. Мне легче стало в том смысле, что сейчас как бы в драке на помощь прибежал старший — выходит скоро, я надеюсь, в Петербурге книга Лады Пановой о Хлебникове и Хармсе, о двух этих случаях авторского мифотворчества. Статьи Лады Пановой на эту тему многократно печатались и вызывали всегда такой же безумный наброс и такую же дикую полемику. Мне очень интересно было это прочитать.
Правда, Лада Панова разоблачает Хлебникова большей частью не как безумца (тут чего разоблачать?), а как мифотворца, как такого нового Заратустру. Кроме того, она довольно основательно разбирает его исторические, историософские теории, доказывая их абсолютный дилетантизм и клиническую графоманскую сущность (если можно говорить в математике о графоманстве). Очень интересно, как Лада Панова анализирует хлебниковское жизнетворчество именно с точки зрения постоянного мифологизаторства собственной биографии и постоянного раздувания собственной фигуры. Это не так невинно, как кажется, и не так смешно. В общем, по-моему, это достойная книга. Во-первых, мне очень смешно было её читать, потому что она очень весёлая при всём своём академизме. Подождите, когда она выйдет. Но в любом случае пока я отсылаю вас к работам Пановой о Хлебникове, просто отсылаю по-новому, потому что это интересно. Может быть, это несколько снизит ваше представление о Хлебникове как о главном святом русского модернизма.
Говорить о душевном здоровье или о душевной болезни в этом случае странно, но во всяком случае это легитимный уровень разговора, потому что безумие входит определённым образом в стратегию футуристов. И Божидар был, наверное, не совсем нормален. В общем, и Терентьев. Я думаю, что и Маяковский был таким патентованным невротиком. Просто это перестало быть состоянием болезненным, а это стало в некотором смысле нормой для Серебряного века, о чём Луначарский и писал: «То, что казалось клиническим безумием 100 лет назад, сегодня может оказаться самым адекватным выражением эпохи».
«Я не ровняю себя с Богом, но считаю, что моя свобода — это прежде всего право на суицид». Астах, если вам так кажется, я могу только посочувствовать. Потому что мне кажется, что богоравенство и свобода находят многие другие проявления, а не обязательно самоубийство.
«У Кубрика на руках перед съёмкой «Заводного апельсина», — фильм я считаю гениальным, — было американское издание книги, из которого убрали последнюю главу, потому что директор издательства счёл, что она сбивает напряжение». А, вот этого я не знал. То есть вы хотите сказать, что там всё кончалось на самоубийстве Алекса, и поэтому Кубрик им и заканчивает? «Как бы вы отнеслись к издателю, который оплачивает вашу книгу и по своему усмотрению может что-то выкинуть из цельного произведения?»
Я бы отнёсся с негодованием, потому что самое сильное, что есть в «Апельсине», — по-моему, финал. Понимаете, ведь у Бёрджесса не было выбора. Вы знаете, что он писал эту книгу для того, чтобы обеспечить семью. Он считал, что он обречён, что у него рак мозга, и была опухоль какая-то (видимо, не злокачественная). В общем, даже если ему поставили ложный диагноз, он после написания книги спасся, излечился, он как бы свою ужасную болезнь в образе этого Алекса выговорил, выбросил из себя и после этой книги прожил благополучно ещё 50 лет или около того. Он недавно умер, по-моему (Бёрджесс), во всяком случае уже на моей памяти. То есть «Заводной апельсин» — это был его единственный способ, как ему казалось, оставить семье хоть что-то. И ему не приходилось выбирать. Если уж издатель взял, то значит приходилось печатать в таком виде.
«Интересно ваше мнение о книге «Протоколы колдуна Стоменова», посвящённой теме оккультизма».
Я знаю, что эта книга посвящена анализу истории одного маньяка. К сожалению, у меня нет точных сведений об этой книге, я её не читал, читал о ней. Если интересно, разумеется, о ней выскажусь. У меня, в принципе, довольно резкое отношение к оккультизму как к таковому, я его не люблю.
«Авторы мемуаров о Маяковском говорят о его чистоплотности, принимавшей странные формы: он всегда бежал мыть руки после рукопожатия. Как сочетаются воспоминания Лившица о том, как они с Маяковским идут по ночной Москве, видят торговца колбасками, Маяковский запускает руку прямо в бочку и кладёт пару колбасок в рот?»
Объясняется это очень просто: Маяковский времён, когда его знал Лившиц, был постоянно голоден. Вспоминает Бронислава Рунт, свояченица Брюсова, что он приходил в гости и кидал одновременно в рот кусок пирожного, сёмги, колбасы, и всё это в разной последовательности, и всё это всегда непрерывно, «в огромный квадратный рот огромными горстями кидал еду». Маяковский был вечно голоден. Вспомните, он огромного роста, титанического сложения — ему очень много еды надо. И действительно в молодости, когда он питался этой твёрдой, «железной» копчёной колбасой, размечая по длине, сколько сантиметров он может съесть на завтрак и сколько на обед, я думаю, что эта память о голоде его и делала менее брезгливым, когда речь шла о колбасках. Действительно у него была обсессия такая — он очень сильно зависел от чистоты, от чистоплотности. Отчасти это биографически было связано с судьбой отца, который умер от заражения крови, уколовшись иголкой, а отчасти это было связано, конечно… Это довольно известная фобия — фобия любых прикосновений, любых контактов. Отсюда — брезгливость по отношению к рукопожатиям.
«Нельзя ли вам прислать стишок на рецензию?» Всегда пожалуйста: dmibykov@yandex.ru.
«Вы ещё давно говорили о фильме «Тема». Для меня он знаковый. Это был шок. Сцена на кладбище и на горке, где литератор расчехляется, — лучшая роль Ульянова. И такое же впечатление у меня от фильма «Муж и дочь Тамары Александровны».
Понимаете, «Муж и дочь Тамары Александровны» — это действительно блестящий сценарий Кожушаной, но в реализации этого фильма, мне кажется, слишком много всё-таки мрачных следов 90-х годов, много претенциозности, которая делает картину неудобосмотримой.
«В последнее время всё чаще приходит на ум «Горе от ума». Расскажите, пожалуйста, об этой пьесе».
То, что вам приходит на ум, вряд ли совпадёт с моими мнениями. Мне кажется, что «Горе от ума», поскольку Грибоедов — это персонаж достаточно образованный… И, конечно, он был старше своих лет. И, конечно, легенда о вундеркинде не соответствует действительности. Он был незаконный сын. И, конечно, он родился в действительности на пять лет раньше, чем предполагается (как и Шолохов, по-моему). Он был человек очень большого ума и феноменальной образованности, и, конечно, большой личности храбрости и сумасбродства.
Конечно, «Горе от ума» — это версия «Гамлета». Грибоедов был одним из немногих людей, кто пьесу читал и хорошо знал ещё до того, как её Погодин перелагал, ещё до того, как её начали ставить в России и Мочалов блеснул. Уже к моменту написания «Горя от ума», а именно к 1822 году, началу работы над пьесой (по-моему, в 1824-м она окончена), Грибоедов прекрасно понимает главные сюжетные механизмы «Гамлета», и он их травестирует, и это тоже сделано в жанре высокой пародии. Конечно, безумие Чацкого и безумие Гамлета синхронны. Фамусов — это, конечно, Полоний. Есть даже свой Лаэрт (или во всяком случае он там угадывается), такой Молчалин. Есть Скалозуб-Фортинбрас.
Мне кажется, что главная тема — тема комического, точнее осмеянного безумия — это и есть продолжение шекспировской морали о том, что единственным нормальным человеком в этом мире может оказаться безумец, потому что единственный ответ на мир Фамусовых — это безумие.
Безумным вы меня прославили всем хором.
Вы правы: из огня тот выйдет невредим,
Кто с вами день прожить успеет,
Подышит воздухом одним,
И в нём рассудок уцелеет.
Это Гамлет, действительно. Просто Чацкий не умирает, а бежит. Мне кажется очень здравой мысль Грибоедова о том, что единственным ответом на этот мир является не байронизм, а гамлетизм. Байронизм, который высмеял блестяще Пушкин в «Онегине», — это провинциальные потуги молодого сноба выглядеть трагическим, хотя его внутреннее содержание равно нулю. А вот гамлетизм, в отличие от байронизма, — это глубокая христианская насмешка над миром, глубокое христианское неприятие этой мерзости. Поэтому мне кажется, что «Горе от ума» — это первая попытка адаптации Шекспира на русской почве.
И мне кажется, что «Гамлет» там зашифрован во всём, даже вплоть до того, что есть свои Розенкранц и Гильденстерн, во всяком случае в судьбе Платона Зорича там один из них появляется. Друзья Гамлета там тоже присутствуют, и эти друзья страшно изменились, предали его и себя. По-моему, это очень важно. Эти друзья — я думаю, Зорич и (Платон Михайлович здоровьем очень слаб) и Репетилов. Каждый предал по-своему: один стал пошляком, второй стал таким же пошляком, но добропорядочным мужем. Это и есть Розенкранц и Гильденстерн, которые симметрично его обрамляют.
«Перечитал «Кого за смертью посылать» Успенского и не поверил, что его нет». Я тоже не верю, что его нет. А для меня он есть. И это от нас зависит.
«Читали ли вы книгу Ежи Косинского «Раскрашенная птица»? Начиналась она страшно, но понятно, а закончилась же чудовищным трешем».
Агния, я читал у Косинского только одну вещь в переводе Ильи Кормильцева, друга моего, Царствие ему небесное (тоже совершенно не верю, что он мёртв), — это «Садовник», которая называется «Being There» и по которой был снят замечательный фильм «Эффект присутствия». Это хорошая вещь, немножко предрекающая «Форреста Гампа», такая жизнь идиота, который постепенно становится президентом США. Это очень изящная история, весело переведённая и весело написанная. А «Раскрашенную птицу» я не читал. Но если вы настаиваете, я с ней вдумчиво ознакомлюсь.
«Дмитрий Львович, вы больше сноб или интеллектуал?»
Конечно, если вы ставите вопрос так, то на сноба я не тяну. Про сноба я писал: «Сноб — это человек, который всегда видит себя со стороны, поэтому он плохо живёт, но хорошо умирает». Это герой «Самгина», который списан, я думаю, с Ходасевича. Я человек совсем другого плана. Так что, если вы так ставите вопрос — сноб или интеллектуал? — то, конечно, интеллектуал. Это как в знаменитом анекдоте: «Вы девственник или нет?» — «А что такое девственник?» — «Ну, с женщинами спите или нет?» — «Нет, нет! Конечно, девственник, потому что с ними не заснёшь». Это очень справедливо.
«Не знаю, как вы относитесь к творчеству Вадима Панова, в частности к циклу «Анклавы». Не кажется ли вам, что Британия, да и вся Европа — халифат? Предвидение это или бред?»
Знаете, Таня, все эти разговоры о том, что Европа — халифат, что в Париже будет мечеть Парижской Богоматери, как в графоманском сочинении госпожи Чудиновой, — мне кажется, что все эти разговоры проистекают от неверия в Европу и от желания ей зла. Не будет в Лондоне никакого халифата. И не нам с вами осуждать лондонские выборы.
«Знакомы ли вы с творчеством Бахыта Кенжеева? Что можете о нём сказать?»
Да не только с творчеством, а я и лично с ним знаком, и на «ты». Я очень люблю Бахыта Кенжеева. Замечательно о нём сказал Константин Кузьминский, Царствие ему небесное: «Бахыт — это помесь чего-то восточного с чем-то очень восточным». И особенно мне нравятся его стихи под псевдонимом Ремонт Приборов, или Рулон Обоев, или Ремонт Паркетов (у него несколько таких вариантов):
Я работал в милиции. Шурик один,
по фамилии, вроде, Казинцев
на ночные дежурства ко мне приходил —
и притом никогда без гостинцев!
Ну и их обмен одами с Сапровским. Бахыт весёлый — вот что мне нравится. И, конечно, он действительно прекрасный переводчик (в высоком смысле) традиционных восточных мотивов — мотивов пьянства, праздности и бренности — на мелодику русского стиха. Такая степная печаль и степная вольготность есть в его поэзии, иногда многословной, но многословной, как степень. И проза его мне нравится, кстати говоря.
«Дмитрий Львович, как жить, если жить не хочется, если нет понимания со стороны близких? Мне 26 лет. Я чувствую себя, как рыба, выброшенная на песок. То, что мне интересно, никому не нужно и вызывает лишь недоумение и непонимание. Из-за этого и другого постоянные ссоры с близкими. Часто они кажутся мне не близкими, а очень далёкими. Чувствую себя одиноким и лишним».
Женя, дорогой, вы просто адекватно и очень точно отобразили состояние мыслящего человека. «Враги человеку — домашние его», — Христос сказал. А то, что вам интересно, не нужно никому? Так это просто лишний раз доказывает, что вам интересны правильные вещи. Вспомните, у Бунимовича: «…и невозможное — возможно, когда не нужно никому». Женя, вы на абсолютно правильном пути! Пока вам трудно, вам интересно. Это как мне один школьник сказал: «Сделайте мне трудно!» Нет, вы большой молодец. И я горжусь, что у меня такие слушатели.
Ещё один специалист по Наполеону негодует.
«Надеюсь получить ответ на свой вопрос. Пересматривал старый выпуск «Школы злословия», там в гостях был Аксёнов. Была высказана мысль о том, что поколение шестидесятников — последнее литературное поколение, в то время как современные писатели — Пелевин, Сорокин — просто авторы, пишущие поперёк друг другу; более того, по их текстам через 30 лет невозможно будет воспроизвести эпоху. По чьим текстам можно будет сказать что-то о сегодняшнем дне? И по каким основным признакам можно определить, кто — поколение, а кто — просто группа ровесников?»
Дорогой Григорий, видимо, действительно прошло время, когда об эпохе можно судить по текстам писателей. Сегодня можно судить по документам. Это от эпохи XV–XVIII веков осталось сравнительно мало документов, и не осталось фотохроники, и не осталось видео. Сегодня, слава богу, у нас есть возможность достаточно тщательно документировать реальность, и нет больше необходимости судить по творчеству писателей. И писатели могут предаться фантазиям. Кстати говоря, по Пелевину, мне кажется, хорошо можно судить и о духе времени, и о деградации этого духа, и о его взлётах.
Что касается поколений. Я никогда не верил в такую классификацию. Дело в том, что поколение, которое определяется одним событием — так бывает лишь в эпохи великих и бурных событий: поколение XX съезда, поколение 1941 года, поколение 1917 года. Вообще-то поколения формируются совсем другими вещами. И у ровесников (подчёркиваю — ровесников) Ильфа и Петрова, например, и Бабеля гораздо меньше общего, скажем, чем у других представителей «южной школы». Территориальная принадлежность больше значит, чем возрастная. Вот Бабель — он ровесник Ильфа, но можно ли представить более разных людей? У Бабеля твёрдое, строгое мировоззрение, во многом талмудическое, а у Ильфа — чистая ирония, агностицизм и, может быть, стихийное, неосознанное христианство. Набоков и Платонов родились в одном году! Ну что их объединяет? И территориально, и поколенчески они абсолютно разные люди. Мне кажется, что только в условиях крайней несвободы, такой как советская, могло сформироваться такое поколение, как шестидесятники. И давайте людей всё-таки мерить не степенью их близости к реальности, а как раз степенью их свободы в обращении с ней.
«Благодарю вас!» Спасибо, я вас тоже благодарю.
«Интересно ваше мнение о творчестве Андрея Лысикова, в частности о его сборнике стихов и проекте по их чтению». Я очень мало знаю его творчество, к сожалению. Безусловно, я к нему вернусь.
Когда в Австралию? Меня зовут в Австралию выступить. Может быть, в октябре получится, хотя уверенности нет. Ну, я не знаю…
«Увидел в продаже вашу книгу о Маяковском. Захотелось иметь. Сколько можно бесплатно пользоваться чужой интеллектуальной собственностью? — да сколько хотите! — Увлекло. Написано не сухо, изложено просто, с присутствием таких деталей, которые западают. Не хотели бы вы что-то подобное написать о Есенине?»
Во-первых, там большая глава о Есенине. Во-вторых, есть фундаментальная книга Лекманова с соавтором [Свердловым]. Нет большого желания пока, к сожалению. Трудно объяснить почему. Может быть, потому что Есенин не так мне близок, как Маяк. А с Маяком я чувствую действительно колоссальное внутреннее родство. И потом, понимаете, я вообще, наверное, больше какое-то время не буду тратить сил на чужую биографию, а попробую как-то более активно прожить свою. Хотя книга об Ахматовой тем не менее будет, и именно потому, что…
Да, вот мне подсказывают: второй соавтор Джей Джей Абрамса — это Дуг Дорст. Спрашивают: та ли это книга, которая называется «S», которую можно купить на Amazon? Да, насколько я понимаю, это та самая книга, и это всегда приветствуется.
«Почему Лему не понравилась экранизация Тарковского «Солярис»? По его словам, он писал роман о другом. О чём тогда?»
Конечно, он писал роман о другом. Он писал роман о природе контакта, о том, что такое человек человеку. В изложении Лема действительно «Солярис» был богаче и глубже, а у Тарковского он несколько олобовел, приобрёл более христианский смысл. И потом, понимаете, «Солярис» — это интеллектуальный триллер. А «Солярис» Тарковского — при всех отсылках к Стэнли Кубрику, к »[Космической] одиссее» и при всей фантастичности его — это пир изобразительности. Знаете, я всегда, когда у меня голова болит, смотрю «Солярис» — и она проходит. Это от любой мигрени помогает, от депрессии. Пересмотрите «Солярис» в плохом настроении — и вы будете потрясены, какой это волшебный мир! Я считаю, что визуально это самый красивый фильм Тарковского, это поэма. А интеллектуал поэта никогда не поймёт (если только поэт не является интеллектуалом). А Тарковский вообще был человек не очень интеллектуальный. Почитайте его дневники. Кстати, он и антропософией интересовался. Он столько глупостей говорил и думал! Он верил и в оккультизм, и в лечение наложением рук, но при этом был гений.
Лем тоже был гений, но другой. Как справедливо замечал Миша Успенский, которого мы так часто упоминаем в этой программе: «Уоттс — это обкурившийся Лем, а Лем — это обкурившийся Борхес». И действительно это так и есть. Лем — интеллектуал прежде всего. Это такой сухой, несчастный человек — как видно, кстати говоря, в «Расследовании» (моём любимом романе), в «Насморке» (любимом романе Лазарчука). Это интеллектуал, который тяготится собственным интеллектом, сухостью, одиночеством, но который при этом необычайно грустный, трагический и в основе своей, конечно, гуманный человек. «Глас Божий» — какой роман гуманный! Просто стык этого интеллекта и поэтического мировидения Тарковского привёл к появлению блистательной картины.
Услышимся через две минуты.
РЕКЛАМА
Д. Быков― Ну что? Доброй ночи! Шестая часть эфира посвящена будет, как обычно, лекции. Это такое дело неизбежное. Просят Мережковского — говорим о Мережковском.
Мне кажется, что Мережковский может и должен сегодня издаваться практически без единой перемены запятой — и это будет просто абсолютно живая хроника нашего времени. Я думаю, что одна из трёх наиболее принципиальных дискуссий XX века (конечно, прежде всего дискуссий философских) — это спор Мережковского и Розанова в статье Мережковского «Свинья матушка» в ответ на статью Розанова под псевдонимом Варварин; это дискуссия Бердяева и Ильина о книге «О противлении злу силою»; и, конечно, это дискуссия Солженицына и Сахарова 1972 года.
Дмитрий Сергеевич Мережковский, по моим ощущениям, был величайшим представителем русского символизма, очень глубоко и точно понимающим исторический путь и исторические особенности России прежде всего потому, что Мережковскому удалось, как мне представляется, в его исторических трилогиях — и во «Христе и Антихристе», и в «Царстве зверя» — увидеть триады, увидеть диалектику русского исторического пути.
Сразу хочу сказать, что мне активно не нравятся многочисленные упрёки к Мережковскому в абстрактности, в умозрительности его прозы. Я не буду даже цитировать, потому что это не вполне цензурно, как называл её Набоков. Ну, в переводе на русский литературный он называл её «скопческой». Точно так же многие называли её «холодной», хотя, на мой взгляд, эта проза плотская, страстная и очень чувственная, в особенности поздняя. Но при всём при этом, конечно, определённые умозрения в романах Мережковского, в его исторических трилогиях присутствуют, что и даёт мне основания как бы понимать его как своего предтечу.
Да, он пытается в истории проследить логику. И логика эта сформулирована Пастернаком [в «Лейтенанте Шмидте»]:
И вечно делается шаг
от римских цирков к римской церкви.
Он рассматривает историю в рамках гегелевской триады, где всякая идея сначала является как ересь, потом торжествует, а потом сама становится бичом, сама становится тормозом исторического развития.
Вот об этом «Христос и Антихрист». Вся эта трилогия проникнута ожиданием Нового Завета. И рассказывает она о том, как христианство является сначала как гонимое, преследуемое — в «Юлиане Отступнике». Потом зрелый триумф христианства — это «Воскресшие боги. Леонардо да Винчи», Возрождение. И наконец христианство само становится оружием угнетения, когда становится государственным — это «[Антихрист.] Пётр и Алексей», потому что есть народная вера, а есть Пётр, который в результате раскола и своей борьбы с расколом был провозглашён Антихристом при жизни и огосударствил веру. Для Мережковского (при всём его восхищении личностью Петра) Пётр погубил в России религию, потому что огосударствил её. Как только государство и вера сливаются, вера становится антихристовой. Вот это заветная, любимая мысль Мережковского, которая особенно наглядно выражена с поразительной силой в его второй трилогии — в «Царстве зверя».
Мне кажется, что его лучший роман, вообще лучший его роман — это роман о 25 декабря, о декабристах [«14 декабря»]. Кстати говоря, и в романе об Александре I у него совершенно поразительное описание сект, народной веры. Он был уверен, что в сектах эта народная вера живёт. И, конечно, блистательный там портрет Карамзина, написанный, рискну сказать, с ненавистью, с истинной ненавистью, потому что Карамзин ему абсолютно чужой. Он смиряется, он терпит, он государственник, а для Мережковского государственный писатель — это так же отвратительно, как и государственная вера.
Я не беру сейчас его блистательные литературоведческие работы, которые мне представляются очень значимыми. Прежде всего это его книга «Вечные спутники» — блистательное эссе о Пушкине, в котором он указал, по сути дела, на разночинское предательство миссии русской литературы. Потому что, по Пушкину, литература — это аристократизм прежде всего, литература — это предрассудок, это честь, а не совесть; это то, что человеку дано, а не то, что он выбирает. Аристократическая линия, по его мнению… Это, кстати, сродни убеждению Бродского, который говорил, что Ветхий Завет ему кажется благороднее Нового в каком-то смысле, потому что в Новом понятно, в чём ты виноват, а в Ветхом это иррациональная категория. Точно так же и здесь: пушкинская, аристократическая линия — это пушкинская глубокая вера в непобедимость родовых предрассудков. Пушкин не ставит поэзию на службу низкой жизни. По Пушкину, поэт — это всегда аристократ, и не по богатству, не по происхождению, а по полной своей независимости от толпы, от требований толпы. Пушкин и Лермонтов — вот это аристократическая линия. А дальше пошла линия демократическая и разночинская.
Кстати, я думаю, что в этом смысле и аристократизм Окуджавы, аристократизм предрассудка тоже Мережковскому больше бы понравился, например, чем разночинская совесть большинства шестидесятников. В вечной дихотомии чести и совести Мережковский выбирает честь. Это очень достойная и эстетически очень привлекательная позиция.
Конечно, замечательное его эссе о Толстом и Достоевском, огромная книга «Толстой и Достоевский», развёрнутое эссе, где можно много спорить о том, действительно ли Толстой — это «ясновидение плоти», а Достоевский — это «воплощение духа». Это всё тоже достаточно условно и абстрактно, все эти категории. Но анализ композиции, лейтмотивов «Анны Карениной», который там предпринял Мережковский, выдаёт в нём, конечно, большого художника.
Я не говорю сейчас о его поэзии, о «Сакья-Муни»… и не только об этом, у него масса была не только попавших в «Чтец-декламатор», но и вообще замечательных стихов. Он был серьёзный поэт. Но я говорю сейчас преимущественно о его гениальной публицистике, в которой абсолютно точно все вещи названы своими именами. И в этом смысле, конечно, я не могу кое-чего не процитировать.
Во-первых, в его замечательной статье 1907 года о реакции [«Головка виснет»] сказаны очень прозрачные и глубокие слова (и эти же слова повторены в его статье о русской интеллигенции перед судом истории). Обычно реакция для других социумов — это именно реакция, следствие революционных потрясений. У нас же реакция — это плоть и кость наша, это нормальное состояние общества. Разовыми, окказиональными у нас бывают бунты. Когда нас придушивают сильнее обычного, мы начинаем хрипеть. В остальном все наши успехи и наши нормальные состояния связаны именно с заморозками. Это глубокая и страшная мысль.
Наверное, вы помните знаменитый диалог Мережковского с Победоносцевым, когда Победоносцев ему в ответ на просьбу открыть религиозно-философское общество, философские собрания интеллигенции сказал: «Да знаете ли вы, что такое Россия? Россия — это ледяная пустыня, а по ней ходит лихой человек». Не так известен ответ Мережковского на эту знаменитую фразу. Он сказал: «А кто её выморозил, эту пустыню? Кто сделал её такой? Ведь это вы её такой сделали! Ведь это она вам такой нужна». Кстати говоря, Победоносцев разрешил религиозно-философские собрания, которые всё равно через год были запрещены, когда интеллигенция только-только подобралась в 1903 году, только-только подобралась к формулировке хотя бы основных противоречий. Но сам Мережковский формулирует исчерпывающе, блистательно!
Вот посмотрим (я много буду читать здесь вслух, но это надо процитировать):
«Один современный русский писатель сравнивает два памятника — Петра I и Александра III {См. статью Варварина. Я не хочу раскрывать псевдонима, но по когтям льва узнаешь его — один только человек в России пишет таким языком.}.
«К статуе Фальконета, этому величию, этой красоте поскакавшей вперёд России… как идёт придвинуть эту статую, России через двести лет после Петра, растерявшей столько надежд!.. Как всё изящно началось и неуклюже кончилось!..»
«Водружена матушка Русь с царём её. Ну, какой конь Россия, — свинья, а не конь… Не затанцует. Да, такая не затанцует. Матушка Русь решительно не умеет танцевать ни по чьей указке и ни под какую музыку…»
Обратите внимание, как здесь у Розанова просыпается национальная гордость. И почему-то, если уж и танцевать, то всегда по чьей-то указке.
«Тут и Петру Великому «скончание», и памятник Фальконета — только обманувшая надежда и феерия».
«Зад, главное, какой зад у коня! Вы замечали художественный вкус у русских, у самых что ни на есть аристократических русских людей приделывать кучерам чудовищные зады, кладя под кафтан целую подушку? — Должно быть, какая-то историческая тенденция».
Мировой вкус к «заду» — это и есть «родное наше, всероссийское». «Крупом, задом живёт человек, а не головой… Вообще говоря, мы разуму не доверяем»…
«Мы все тут не ангелы. И до чего нам родная, милая вся эта Русь!.. Монумент Трубецкого, единственный в мире, — наш русский монумент. Нам ни другой Руси не надо, ни другой истории».
Самообличение — самооплевание русским людям вообще свойственно. Но до такого никогда не доходил. Тут переступлена какая-то черта, достигнут предел.
Россия — «матушка», и Россия — «свинья». Свинья — матушка. Песнь торжествующей любви — песнь торжествующей свиньи», — комментирует Мережковский.
«Полно, уж не насмешка ли? Да нет, он, в самом деле: «смеюсь каким-то живым смехом «от пупика», — и весь дрожит, так что видишь, кажется, трясущийся кадык Фёдора Павловича Карамазова.
Ах, вы, деточки, поросяточки! Все вы, — деточки одной Свиньи Матушки. Нам другой Руси не надо.
Как мы дошли до этого?»
Поразительные слова! Он действительно очень точно понял суть Карамазовых, карамазовщины, бесовщины, которая бывает и в святости, и в эстетстве, и в уме, и в разврате. Разврат — вот карамазовщина. Достоевский в ужасе от этого отвернулся, а совершенно правильно пишет Мережковский: «Мы дошли до того, что свинью провозгласили матушкой, что рабство провозгласили сутью». Вот это апология «зада».
«Борьба России с Европой, всемирно-исторического «зада» со всемирно-историческим лицом, есть возрождение Византии в её главной религиозной сущности»,— пишет Мережковский.
«Теперь в моде патриотизм, — пишет Никитенко (он разбирает дневник цензора Никитенко), — «отвергающий всё европейское и уверяющий, что Россия проживёт одним православием без науки и искусства… Они точно не знают, какою вонью пропахла Византия, хотя в ней наука и искусство были в совершенном упадке… Видно по всему, что дело Петра Великого имеет и теперь врагов не менее, чем во времена раскольничьих и стрелецких бунтов. Все гады выползли».
Это пишет цензор Никитенко в 1850-е годы! А для нас все эти дискуссии до сих пор актуальны. Ну как не поразиться этому чудовищному возвращению в одни и те же бездны, которые давно уже из бездн превратились в ямы? Зачем это нужно? Вот почему нужно это вечное циклическое повторение? И вот как раз обо всём этом пишет Мережковский в «Свинье матушке»:
«Да сохранит Господь Россию!» — последний вопль из горящего балагана.
И балаган рухнул».
Это пишет Мережковский в 1907 году, задолго до всего!
«Николай I скончался. Длинная и, надо-таки сознаться, безотрадная страница русского царства дописана до конца, — произносит раб над владыкой беспощадный приговор человеческой совести. — Главный недостаток царствования Николая Павловича тот, что всё оно было — ошибка. Теперь только открывается, какие ужасы были для России эти двадцать девять лет. Администрация в хаосе; нравственное чувство подавлено; умственное развитие остановлено; злоупотребление и воровство выросли до чудовищных размеров. Всё это — плоды презрения к истине и слепой варварской веры в одну материальную силу. Восставая целые двадцать девять лет против мысли, он не погасил её… и заплатил своей жизнью, когда последствия открылись ему во всём своём ужасе».
Это цитирует Мережковский всё того же Никитенко, возражая всё тому же Розанову. В общем, это не просто страшный манифест повторения, а это страшное свидетельство того, что ни одна национальная болезнь не вылечена. И преклонение перед материальной силой — это ещё самое невинное на самом деле.
Ну, тут ещё, конечно, наглядно пишет Мережковский о славянофильстве, это тоже очень полезная вещь:
«Да, «нам хотелось бы нового в частностях, с тем, чтобы всё главное осталось по-старому».
Неужели мы не видим, что именно главное? Неужели думаем, что губит Россию только бюрократия — цвет и плод, а не корень дерева.
Кажется, начинают видеть.
И вот последний вопль отчаяния: «Наш народ чёрт знает что такое! Всё ложь в любезном моем отечестве».
Было царство страха, стало царство лжи.
Ложь — рабья свобода и рабья любовь к отечеству: у рабов нет отечества.
Как утопающий за соломинку, хватаемся теперь за ту самую революцию, которой так боялись, за тех самых нигилистов, которых ненавидели.
Всепоглощающий нигилизм, с которым Никитенко в других боролся, — теперь с ужасом видит он в себе самом. Всю жизнь утверждал середину, и вот в самом сердце всего — ничего.
Проклятие жизни, проклятие себе, проклятие Богу.
Злейшее зло — само терпение.
Рабы, влачащие оковы,
Высоких песен не поют.
Песнь его — только песнь умирающего раба, сражённого гладиатора. Если бы он знал, что суждено ей заглушиться песнью торжествующей свиньи!
«Всякий народ имеет своего дьявола», — говорит Лютер. Никитенко увидел лицо русского дьявола — «космический зад».
Да здравствует Свинья Матушка!
Он от этого умер, а мы этим живём».
В этом поразительном, страшном сравнении вопля Никитенко, русского государственного чиновника, с апологией работы Розанова действительно видится приговор и той эпохе, и нашей эпохе. Потому что то, что было всё насилие, а стало всё ложь, то, что песнь торжествующей свиньи раздаётся всё громче, — это, к сожалению, обычная особенность русской реакции на любые общественные подъёмы. Был подъём — а теперь вот смеёмся «от пупика». И главное — постоянное желание ответить Европе. Почему мы всё время должны отвечать Европе? Почему мы не можем просто жить? Нет, мы должны европейскому лицу противопоставить «космический зад».
Напоминаю, это я всё цитирую Мережковского, которого бы по нашим временам следовало бы, конечно, упрекнуть в экстремизме и разжигании, да поздно — он умер.
Естественно, тут возникает вопрос: как я отношусь к тому, что Мережковский в конце концов благословил фашизм? Ну, много уже на почту этого пришло. Мережковский не благословил фашизм. Мережковский сказал, что в походе Гитлера против Сталина он уповает на силу Гитлера. Это была страшная ошибка. Эту ошибку повторяли многие в России. Многие в России искренне верили, что Гитлер несёт освобождение (судя по количеству сдававшихся в плен). Очень быстро многие поняли, что это чудовищное заблуждение. И действительно Россия положила конец гитлеризму — и тем избавила человечество от чумы гораздо более страшной, чем любые русские болезни и чем любой советской строй. Вот на этом я стою и это всегда буду отстаивать. Но одна последняя ошибка Мережковского, в которой он к декабрю 1941 года, к моменту своей смерти, жестоко раскаялся, не должна зачёркивать его прозрений 1910–1920-х годов.
Я также думаю, что книга Мережковского «Иисус Неизвестный» — это одно из лучших апологетических, из лучших христианских произведений мировой литературы. Зачем нужно читать эту книгу? Не потому, что в ней содержится здравое, по-моему (хотя какая тут может быть здравость?), точнее сказать, очень внятное толкование Евангелия. Это неважно, толкование Евангелия у каждого своё. Мне кажется, важно то, что эта книга, как и «Исповедь» Блаженного Августина (они, я думаю, по своему значению сопоставимы), вводит читателя в то состояние, в котором он более склонен к вере, в котором он более способен поверить.
Ещё раз повторю: ведь вера — это не мораль, не убеждения, не взгляды; вера — это состояние. Как говорит Искандер, это музыкальный слух: он либо есть, либо нет. Как вы знаете, и зайца можно научить барабанить, и медведь ездит на велосипеде. Я думаю, что и упёртого, закоренелого, упорного атеиста можно подвести к состоянию веру, к огненному состоянию веры, к пламенному, к живому. Для этого можно почитать Блаженного Августина, который не аргументами убеждает, а интонациями. Для этого же можно почитать и Мережковского, который, во-первых, размягчает душу и, как правильно говорил Лазарчук, делает её более гибкой и пластичной на внешнем плане. Как война размягчает общество, делает его меняющимся, вот так и Мережковский делает душу более восприимчивой к Христу.
И, конечно, его изложение Евангелия, его акцентирование на каких-то главных местах — понимаете, о чём оно нам говорит? Ведь Евангелие почти не интерпретировалось как литературный текст, оно сакрально. А Мережковский со своими гениальным нюхом литературного критика и прекрасными аналитическими способностями именно показывает, как это сделано литературно. Прав Кабаков: если бы евангелисты не были гениальными писателями, Евангелие не приобрело бы в мире такого влияния, такой славы и не стало бы таким источником именно литературных реминисценций. Поэтому, с моей точки зрения, чтение Мережковского необычайно душеполезно.
Тут, кстати, меня просят прокомментировать мнение Степуна о нём: «Сам он как мыслитель был довольно ничтожен, но он был мужем яркой женщины, которая вдобавок была гораздо умнее его». Позвольте мне в ответ процитировать Куприна: «Царица Савская была мудра, но это была мелочная мудрость женщины». В общем я не женофоб, и я считаю, что многие женщины обладают мудростью гораздо более глубокой и органической, чем мужская, но применительно к царице Савской (и особенно к Зинаиде Николаевне Гиппиус) Куприн, конечно, прав. Мудрость Зинаиды Николаевны, её талант — это хлёсткость, что немного другое. Я считаю, что и писала она гораздо слабее. Лучшее, что она написала, — это её дневники. Мне представляется, что её желчность, её наблюдательность и публицистическая хлёсткость там на месте. Её критика под псевдонимом Антона Крайнего, её даже книга о Мережковском (недописанная) — всё это, по-моему, мелковато. Я уж не говорю о таких её романах, как «Иван Царевич», «Чёртова кукла». Это всё — ужасная достоевщина, ропшинщина и савинковщина. Стихи у неё были неплохие.
А вот Мережковский — это гораздо более глубокое и в каком-то смысле трогательное явление. Конечно, в нём было (ещё раз повторю) слишком много умозрений. И Блок прав, когда о нём говорит: «Его все уважают, но никто не любит». Но у нас вообще не очень любят людей, которые говорят в лицо неприятную правду. Мережковский о России, об антихристианской официальной (тогдашней — подчёркиваю) церкви, о духовных начальниках, о самодержавии сказал очень много прозорливого, здравого и верного. И наше самоупоение — тогдашнее или нынешнее — оно не вечно. Мережковский очень правильно чувствовал дух России. А дух этот — это, конечно, стремление к новому завету с Богом. Первый такой завет был закон, данный в Ветхом Завете. Второй — это милосердие, данное в Новом Завете. Третьим заветом, отчизной которого могла стать Россия, по Мережковскому, должна быть культура, потому что культура и есть основа новой религии. Можно с этим соглашаться, а можно не соглашаться, но мне кажется, что как идея это необычайно плодотворно.
Я уже не говорю о том, что романы Мережковского хорошо написаны, интересно читаются и будят мысль. Вот почему мне кажется, что с Нобелевской премией, присуждённой Бунину, они немножко поспешили. Было два кандидата от русских изгнанников: Бунин и Мережковский. Бунин, конечно, больше заслуживал как литератор, но Мережковский, я думаю, заслуживает, по крайней мере, нашего к нему возвращения, своего посмертного торжества, потому что мало было в России людей, которые бы так любили Россию.
А мы с вами услышимся, как всегда, через неделю. Пока!
*****************************************************
20 мая 2016
-echo/
Д. Быков― Добрый вечер, дорогие друзья! Точнее — доброй ночи, дорогие полуночники!
Сразу хочу сказать, что сегодня мы будем говорить по бесчисленным и, как всегда, необъяснимым заявкам о Валентине Катаеве. Связано это, наверное, отчасти и с тем, что «Дождь» уже анонсировал лекцию о нём на 1936 год в проекте «100 книг — 100 лет», у нас будет «Белеет парус одинокий». Не буду сейчас подробно распинаться на темы своего сложного к Катаеву отношения, потому что, я думаю, у нас ещё будет неоднократно предлог об этом высказаться — и в связи с книгой Сергея Шаргунова о Катаеве, которая выйдет в ближайшее время в «ЖЗЛ», и в связи с книгой жены моей Ирины Лукьяновой о том же Катаеве, которая выйдет, я думаю, год спустя, потому что там очень всё несхоже и по-разному фундаментально. Катаев вообще сейчас неожиданно стал такой ключевой фигурой в разговоре о литературе, потому что он умудрялся быть несоветским и при этом абсолютно лояльным. Видимо, сейчас востребованы подобного рода стратегии компромиссные. О том, как это осуществляется и чем чревато, мы поговорим в последней четверти эфира.
А пока я начинаю отвечать на вопросы, которые, должен сказать, становятся всё более интересными.
Я просто не буду принципиально, ребята, отвечать на вопросы, где меня просят прокомментировать те или иные публикации обо мне. Понимаете, в чём принципиальная разница? Почему-то люди условно почвенной ориентации очень хотят, чтобы мы, не почвенники, их признали. А мне совершенно не надо, чтобы они признавали меня. Мне достаточно признания нескольких близких мне людей и моей самооценки. То ли в этом виновата моя жалкая старость, то ли какие-то другие принципы, но мне совершенно не нужно, чтобы меня признавали чужие. И что обо мне пишут и говорят чужие или оказавшиеся чужими, — мне это, честно говоря, совершенно по барабану, потому что я вижу в этом только новые и новые подтверждения их неадекватности. Я не вижу здесь возможности для диалога.
Почему-то им очень хочется почти в каждом тексте высказаться обо мне. Почему-то им это очень нужно. Наверное, их что-то беспокоит. Меня это не беспокоит, пусть высказываются. У меня есть свои, которые со мной не согласны, их довольно много, с ними я готов вступать в диалог. Но мнение чужих меня не занимает. И я не злорадствую, видя, как они роют над собой курган. Я не огорчаюсь, потому что много званных, но мало избранных. Я не хочу вообще реагировать на чужих. И правильно мне кто-то здесь пишет: «Давайте не будем отнимать у программы время посторонними разговорами».
Привет участникам группы во «ВКонтакте»! Спасибо.
«Знакомы ли вы с «Песнями Гипериона» Симмонса?»
Я не смог это читать. Простите меня, Лёша, вот честно. Я и «Террор» не дочитал. Мне кажется, Симмонс — всё-таки очень многословный автор и какой-то бесструктурный. Я знаю, что «Песни Гипериона» — это культовый текст, но той динамики, которая заставляет припасть к тексту и не отлипать, я там не почувствовал. Простите, мне очень жаль.
«Что можно сказать о романе Сальвадора Дали «Сокрытые лица»?»
Я не читал этого романа. Но то, что я читал в «Дневнике одного гения», убедило меня, что гений не всегда гениален во всём. Вернее, это талант талантлив во всём, а гений хорошо делает что-то одно. Сальвадор Дали очень хорошо рисовал. Писал он, на мой взгляд, эпатажно, скучно. Ну, это я говорю о «Дневнике одного гения».
Вот это хороший вопрос: «Посоветуйте что-нибудь интересное и лёгкое, чтобы это нормально воспринималось после написания дипломной работы».
Видите ли, братцы, всегда после большой работы (а мне это тоже знакомо, потому что свалишь, бывало, толстую книгу — и надо долгое время как-то приходить в себя) наступает что-то вроде такой последовой депрессии. Это естественное дело. И в таких случаях, даже после дипломной работы, нужно к подходу литературы подходить очень грамотно, с большим вкусом.
Если интересное и лёгкое, то я мог бы, наверное, порекомендовать… Если вы не читали Мопассана, то почитайте. Я не скажу, что это легко (это довольно мрачное чтение), но мопассановские новеллы, по крайней мере, читаются безотрывно. «Смок и Малыш» Джека Лондона, если вы ещё его не читали. «Смок Белью» — вообще мне кажется, что это очень удачная вещь. Пожалуй, Джозефа Конрада. Это тоже довольно мрачная литература, но вот «Шторм» — это одна из любимых моих повестей. Наверное, имеет смысл… Вообще морские приключения хорошо бывает почитать — Мелвилла раннего, «Тайпи». Может быть, вообще кого-то… Да, и пожалуй, я рекомендовал бы, знаете… Я не могу сказать, что это лёгкое чтение, но это интересное чтение. Я бы рекомендовал вообще хороших американцев позапрошлого века — Готорна, например. Меня почему-то всегда очень успокаивало его чтение. И, конечно, если у вас сёстры Бронте не читаны, то займитесь ими. Вот для последипломного состояния это идеально.
Если же говорить о современной прозе, то трудно мне перечислить тексты, которые в последнее время читались бы безотрывно. Ну, Хьортсберга я рекомендую всегда в таких случаях, любой роман Хьортсберга: «Nevermore», который я только что прочёл и который мне жутко понравился, хотя это роман уже пятнадцатилетней давности, или «Mañana». Ну, всё, что найдёте.
Вот это очень интересный вопрос: «Хотелось бы услышать от вас сравнительную оценку народовольцев в «Истоках» у Алданова и в «Нетерпении» Трифонова. Кто из авторов ближе к пониманию предпосылок трагедии 1 марта?»
Лекцию о народовольцах я не возьмусь читать, дорогой vitwest. Мне больше нравится Трифонов, больше нравится и стилистически, и философски. И не потому, что он мне (простите за выражение) идейно ближе, а потому, что всё-таки алдановский взгляд на историю, изложенный в «Ульмской ночи», взгляд на историю, как на хаос случайностей, мне не близок. И потом, трифоновский роман — он же не прочитан по большому счёту, он нуждается в переосмыслении.
Конечно, нетерпение не было главной проблемой людей 1 марта и вообще людей 80-х годов. Но вот вещь, которая для меня несомненна. Конечно, они были страшно самонадеянны во многих отношениях, и узки, и ограниченны, и в них была революционная бесовщина. Но была в них и святость — та святость, которую, наверное, Достоевский не видел. Луначарский считает, что он её видел и вот так её преломил. Мне кажется, что люди 1 марта были больше похожи на то, какими они изображены у Трифонова.
Не будем забывать, в каком контексте Трифонов писал «Нетерпение». Ведь это классическая книга 70-х годов — душных, переломных 70-х годов, которые опять поманили надеждами и опять разбились. Это книга 1973 года, каким-то чудом вышедшая в серии «Пламенные революционеры», где все диссиденты — от Окуджавы до Гладилина, от Войновича до Аксёнова — отметились романами. Они в этой серии не просто приспосабливались к действительности, конечно нет. Это не была конъюнктура. Это была попытка разобраться с собственными шестидесятническими иллюзиями. И «Евангелие от Робеспьера» Гладилина, и замечательный роман Житинского о Людвике Варынском (сейчас не припомню его название). Там много было удивительных текстов. Это всё были попытки разобраться с собственным отношением к революции. Разобраться до конца не получилось, потому что диалектика русского и советского, например, в мировоззрении Трифонова очень сложна (и в мировоззрении Окуджавы, кстати говоря, тоже).
И мне кажется, что «Нетерпение» — роман более сочувственный. Мы понимаем, в каких обстоятельствах Алданов писал «Истоки». Алданов был одной из жертв Русской революции, а Аксёнов, Окуджава были детьми этой революции, поэтому их отношение , естественно, разнится. Но мне ближе — и стилистически, ещё раз говорю, и философски — позиция Трифонова просто потому, что это лучше написано. Кроме того, ведь Трифонов не спешит расставлять оценки, Трифонов пытается понять генезис, Трифонов пытается понять, что надо сделать, чтобы это всё не повторялось. Ведь террор (по Трифонову) предстаёт следствием опять незаконченных, недодуманных вещей, недореформированной страны, незаконченных поползновений, пресечённых в зародыше. Вот здесь, мне кажется, речь идёт не только о нетерпении революционеров, а о нетерпении реакционеров, желающих задушить любое начало. В любом случае самый точный анализ 70-х годов дан, мне кажется, у Толстого в «Анне Карениной», но трифоновская позиция к ней близка.
«Верите ли вы, что не прогреми в тот день дважды на Екатерининском канале, если бы Победоносцев не отказался передать письмо Толстого Александру III, — ну, это известное такое письмо, где Толстой пытался отговорить Александра от казни первомартовцев, — и если бы Александр III проникся вдруг высоким смыслом этого письма, верите ли вы, что любое из этих «если» могло бы увести Россию с того поворота, с той исторической развилки, откуда путь был только в катастрофу 1917-го?»
Видите ли, развилки к тому моменту, я думаю (во всяком случае развилки, ведущие к катастрофе 1917-го), в большинстве уже были пройдены. Если бы не было взрыва 1881 года, я боюсь, всё, что начал делать Александр III, обречён был бы осуществлять Александр II. Историческая пьеса, историческая драма России такова, что от исполнителя роли здесь чаще всего ничего не зависит. Возможно, тогда, может быть (в случае Александра II), он бы осуществлял этот поворот несколько менее радикально, несколько менее грубо, чем делала это партия Константиновского дворца. Может быть, Александр II не говорил бы, что «Европа может подождать, пока русский царь удит рыбу».
Но, с другой стороны, видите ли, Александр III — он же был неплохой человек-то, если посмотреть, не кровожадный. Другое дело — очень ограниченный. Но что-то есть обаятельное в этом гиганте, великане, который так страшно «подмораживал» Россию, сам того не желая. И в Дагмаре, жене его, есть некое очарование. Ну, прелестный человек на самом деле, хотя и, конечно, объективно именно он — главный виновник событий 1917 года. Ну, ничего не поделаешь, ничего не поделаешь… Я не думаю, что исторические развилки в российской истории возможны.
«Вам близко творчество Георгия Данелия? Что в его трагедиях так привлекает зрителей?»
Могу сказать. То, что это, собственно говоря, не трагикомедии (это такое определение слишком поверхностное). Это сказки, такие печальные сказки в духе Володина, но, по-моему, лучше, чем у Володина. А особенно я люблю «Кин-дза-дза!» и «Слёзы капали». Но люблю и грузинский цикл, очень люблю и «Тридцать три». По-моему, Данелия — и замечательный сатирик.
Понимаете, что мне близко в нём? Я с Данелией много раз разговаривал, и всякий раз… Конечно, лучше, чем он, не сформулировать. Он тоже человек скрытный. Он, когда начал делать мультипликацию, сказал: «Самое удивительное, что она делается слоями, раскладывается послойно. Я понял, что и жизнь делается слоями. И вот моё кино — это тот слой, которого не видно, но без которого всё не имеет смысла. Вот так бы я сформулировал». Данелия — действительно, это какие-то невидимые, но необходимые основы жизни: какой-то здравый смысл, милосердие, в последний момент приходящее раскаяние. В общем, он живописует те вещи, без которых мир бы погиб. А это очень хрупкие вещи, но они всегда в последний момент срабатывают. Ну, какой-то кислород жизни, которого не так много в воздухе, но без которого ничего не может быть.
Кстати, я как-то Токареву спросил… (Привет вам большой, Виктория Самойловна! Я очень вас люблю.) Я говорю: «Я не могу своему сыну объяснить, про что фильм «Мимино». И действительно не могу, потому что очень много там всего, а как-то сформулировать — трудно. Она сказала: «Это про то, что надо жить там, где ты нужен, а не там, где тебе нравится». И я подумал, что это правильно, наверное.
«Прочитал жестокий рассказ Шукшина «Крепкий мужик». Там бригадир со злобой рушит старинную церковь и становится изгоем в селе, его все возненавидели. Получается, Шукшин показал, что христианских чувств больше нет в людских душах?»
Да нет, Шукшин показал совершенно другое. Знаете, Андрей, я рискну сказать, что там христианские чувства ни при чём. Это не про христианские чувства рассказ, а это рассказ про пиррову победу. В русском народе (вообще в народе любом, но в русском особенно) живёт такое очень острое чувство: у победы какой-то странный вкус, как в старом анекдоте. Это история о том (этот шукшинский рассказ), как человек нажал и сломал, как он одержал победу, но его после этого перестали любить, перестали уважать, как он настоял на своём, как он раздавил… Эту церковь, крепость настоящую, очень трудно же было разваливать. Она всё выдерживала, всё выносила. Она казалась такой хрупкой, древней, слабой. А он взял и начал её разваливать — и в конце концов своего добился. Но когда ты настоял на своём и начинаешь дотаптывать оппонента — этого русский народ не одобряет. Русский народ одобряет победу духовную. А так все наши главные эпосы — это же эпосы о поражениях, о духовных победах: «Слово о полку Игореве», «Бородино» у Толстого. Наложена рука сильнейшего духом противника. Вот надо побеждать не тем, что ты кого-то дотоптал и доломал, а тем, что ты оказался лучше. Вот это очень важно.
Тут хороший вопрос: «Приходится нам верить на слово, что у вас прекрасные ученики. А как бы можно ознакомиться с их творчеством?»
Да ради бога. Скажем, 23 мая приходите на Ермолаевский, 25 послушать лекцию Кости Ярославского — «Ницше, но в меру». У нас разный с ним взгляд на Ницше, но мне интересно то, что он будет говорить. А 16 или 17 июня (мы будем уточнять) Настя Яценко — моя ученица уже из другого места, с журфака — будет читать лекцию о Дэвиде Линче, на мой взгляд, тоже достаточно ошеломляющую, насколько я пока знаком. Думаю, что осенью, думаю, что, может быть, в сентябре Лиза Верещагина ещё одну лекцию будет читать, на этот раз не о Флоренском, но о человеке не менее интересном — о Бруни, о том самом Льве Бруни, который известен резкой сменой профессий, вер и взглядов. Это интересно. Мне вообще интересно этих молодых слушать. И поскольку лекторий «Прямая речь. Второе поколение» успешно функционирует, давайте придём 23 мая и лично с ними подискутируем. Скоро ещё с практики кто-то вернётся. И летом тоже будут выступать. Я совершенно не прячу этих учеников. Больше того, я охотно предоставляю всему своему поколению возможность закомплексовать, слушая их.
«Один из явно выраженных трендов путинского правления — явная и сильная обида на Европу и на весь мир в целом — мол, «мы вас от фашизма спасли, а вы НАТО расширяете». Неужели Путин и его «политбюро» всерьёз считают, что вся Европа до Британских островов включительно за события семидесятилетней давности должна носить нас на руках?» — ну, я смягчаю.
Лёша, да, всерьёз уверены. Понимаете, тут же очень быстро исчезает граница между манипуляцией и личной верой. Я как учитель очень хорошо знаю: то, в чём ты убеждаешь остальных, поразительно быстро становится твоим собственным кредо. Кстати говоря, очень многие в России абсолютно убеждены, что мир должен нас любить просто за то, что мы — это мы. Таких людей много. Ну а кто сказал, что все должны быть правдивыми, свободными, достойными? Это совершенно необязательно.
«Хочу понять, почему вы не любите Онегина. Пусть с любовью, но, по-вашему, он вообще пустышка. В прошлой беседе вы сказали, что «байронизм, который высмеял Пушкин в «Онегине», — это провинциальные потуги молодого сноба выглядеть трагическим». Но ведь Пушкин с ним дружил».
Нет, не дружил, конечно. Пушкин говорит об этом. Это одна из бесчисленных пушкинских мифологем в романе.
«Мне нравились его черты,
Мечтам невольная преданность,
Неподражательная странность
И резкий, охлажденный ум».
А вы вспоминайте такие выражения, типа:
Что очень мило поступил
С печальной Таней мой [наш] приятель;
Вы тоже этому поверите на слово, что ли? У Пушкина, как вы понимаете, в первой и второй главах очень много насмешки, очень много иронии. Потом роман приобретает трагический тон, но поначалу это сплошная обманка, сплошная пародия («Уж не пародия ли он?»).
«Прообразы Онегина — Александр Раевский и отчасти Чаадаев — тоже дураками не были».
Ну, насчёт того, что Чаадаев прообраз Онегина — тут говорить не о чём, потому что, конечно, Чаадаев никак не пустышка, никак не денди. Денди он был какое-то время, но Чаадаев — всё-таки автор «Философических писем». А Онегин, как мы помним:
Стал [хотел] писать — но труд упорный
Ему был тошен; ничего
Не вышло из пера его.
Это далеко не Чаадаев. Более того, Пушкин, я думаю, резко отрицательно отнёсся бы к попыткам сделать из Чаадаева прототипа литературного героя. Он писал: «Слышал я, что Грибоедов написал комедию на Чаадаева. При теперешних обстоятельствах это очень благородно с его стороны». Это тоже, в общем, достаточно жёсткий намёк. Чаадаев, находившийся уже тогда в глухой опале (задолго до «Философических писем»), конечно, не был бы у него прототипом героя, тем более героя малосимпатичного.
Александр Раевский? Ну, про Александра Раевского всё сказано в стихотворении «Коварность». Наташа, что мы будем с вами делать вид, что мы любим Александра Раевского? За что особенно любить Александра Раевского, которому Пушкин обязан одним из тяжелейших душевных кризисов в своей жизни? Да, он обладал острым умом, но острый ум вообще никого не извиняет, извините.
«Сравнивая Онегина с Печориным, вы вообще написали: «Куда Онегину до Печорина с его воинской храбростью и великой душой!» Если абстрагироваться от XIX века и дуэльного кодекса, то оба — убийцы. А насчёт «ногтя не стоит», — цитируется моя фраза, — весьма спорное утверждение.
Кто жил и мыслил, тот не может
В душе не презирать людей;
«Мыслил» — это об Онегине, а не о Ленском».
Господи, это же одна из пушкинских совершенно конкретных пародий на мировоззрение сноба. Вспомните:
Мы все глядим в Наполеоны;
Двуногих тварей миллионы
Для нас орудие одно;
Это всё — презрение, насмешка.
Кстати, мне вчера в Тбилиси передали очень интересное письмо. Я вам отвечаю сейчас на эту записку. Там вопрос: «Если бы Онегин был таким ничтожеством…» И вообще что-то все стали защищать Онегина с безумной силой! «Если бы Онегин был таким ничтожеством, его бы не могла полюбить чистая Татьяна».
Да ну? Да что вы говорите! Как это не бывает такого, чтобы чистая девушка полюбила ничтожество? Да в том-то и дело, что это бывает сплошь и рядом! Вот Пушкин сам говорит: «Какая драматическая несправедливость, какая сюжетная неувязка, что Чацкий любит Софью и не видит её измены, её предательства». Да прекрасно он всё видит! В том-то и дело, что в «Горе от ума» есть гениальная грибоедовская догадка: человек истинно умный — он добр, он всё-таки человечен, и он не хочет верить в худшее. Конечно, бывает, что и Чацкий любит Софью, и Татьяна любит Онегина, потому что существо доброе не видит недостатков, так сказать, своего предмета обожания, а оно верит искренне, что там есть ум.
И начинает понемногу
Моя Татьяна понимать…
Так это она в седьмой главе начала понимать, уже когда он Ленского убил.
Слов модных полный лексикон?..
Уж не пародия ли он?
И Онегин получает своё совершенно заслуженно, потому что она прекрасно понимает, что он такое. И, в конце концов, по дьяконовской реконструкции, она должна поехать вслед за мужем-декабристом. Отсюда и декабристская тема входит в роман. Не Онегин же идёт на Сенатскую площадь, помилуйте.
Поэтому этот разговор, что «хорошая девушка не может полюбить ничтожество»… Да вся мировая литература рассказывает нам о том, что хорошие девушки любят ничтожеств, и наоборот. В этом-то и заключается главное горя от ума: ум не презирает, ум глубок, ум добр, он гуманен по своей природе. И когда Чацкий видит то, что происходит на его глазах, он говорит:
С такими чувствами, с такой душою
Любим!.. Обманщица смеялась надо мною!
Он не верит в чужую подлость. И он до последнего не верит, что Софья распустила про него этот слух мерзкий («Так этим вымыслом я вам ещё обязан?»). Точно так же и Гамлет не верит в то, что Офелия в сговоре с Полонием и фактически шпионит за ним. Кстати, очень трагически переживает и её безумие. Это один из возможных прототипов этического безумия Софьи, которая совершает абсолютно безумный этический поступок, этически невменяемый.
«Мне лично нравятся они оба, но Онегина вы принижаете, а Печорина возвышаете. Почему?»
Потому что Печорин написал дневник Печорина, а Онегин — дневник Онегина. Сравните эти два текста. Дневник Онегина выпущен из текста, но достаточно показателен:
— Боитесь вы Графини -овой? —
Сказала им Элиза К.
— Да, — отвечал NN суровый, —
Боимся мы Графини -овой,
Как вы боитесь паука.
Это вам, пожалуйста, журнал Онегина. Сравните это с журналом Печорина.
«Я желала бы спросить у Дмитрия Львовича: обязательно ли, если тебе нравится стихотворение, понять его смысл? Надо ли узнавать, когда оно написано, кому посвящено, или достаточно просто радоваться?»
Это ещё в своё время когда-то очень точно об «Улиссе» писали его переводчики: «Можно просто наслаждаться романом, совершенно не зная подтекстов». И стихотворением можно наслаждаться, но просто, если вы хотите, чтобы ваше наслаждение было полнее, зачем лишать себя более полного знания?
«Будет ли напечатана «Тифлисская баллада»?»
Да, я надеюсь. Я совершенно этого не скрываю. «Тифлисская баллада» вчера сочинена, вчера же и прочитана на творческом вечере в Тифлисе. Большое спасибо всем, кто был. Народу было как-то сказочно много, и принимал он как-то сказочно хорошо. Во всяком случае значительно больше той сотни, которая упомянута в одном репортаже. Это я говорю не из тщеславия, а скорее чтобы почтить тбилисскую публику, которой большое спасибо. Нет, «Тифлисская баллада» будет напечатана, я думаю, совершенно спокойно в ближайшем номере «Новой газеты». Хотя это, в общем, лирическое стихотворение, но мне кажется, что оно своевременное. И я уже давно, если честно, не делаю разницы между стихами лирическими и, условно говоря, злободневными, потому что для меня это тоже сфера лирики. Так что — да, всё будет.
«Как вы относитесь к способности автора сделать неожиданную развязку? Что это — западня для читателя, хитрый ход, который опровергает даже нудный роман, или доказательство того, что автор умнее всех?»
И рекомендуется мне фильм «Помнить». Да, совершенно с вами согласен. Поговорим об этом через три минуты.
РЕКЛАМА
Д. Быков― Привет! «Один», Дмитрий Быков с вами. Очень приятно вас всех слышать. Море увлекательных вопросов.
Вопрос был про то, считаю ли я мастерством эффектную развязку, и вообще нужен ли (как Слепакова это называла) «расклон под занавес».
Я считаю, что это тот жанр, в котором всё-таки развивается жизнь. Мне Шекли когда-то сказал, что жизнь развивается жанре антиутопии. Это забавный взгляд. Сейчас уже не припомню, в каком из трёх интервью, которые я у него брал. В общем, мне эта мысль нравится. Мне кажется, что вообще эффектная развязка, неожиданная развязка — это очень нужное умение, это важное искусство для писателя, потому что она лишний раз подчёркивает превосходство автора в тексте (это важно) и наивность читательских догадок. Это позволяет нам надеяться, что и в жизни нам не всё понятно. Вот почему эта догадка нужна, по-моему.
Вопрос о расчеловечивании в «Спасении рядового Райана»: «Неизбежно ли расчеловечивание на войне?»
Я склоняюсь к мысли, что — да. Я не думаю, что война способна кому-то придать гуманности. Иное дело, что человечеству в целом она напоминает о базовых вещах, о которых оно, может быть, забывает, напоминает о базовых принципах морали. Но это напоминание столь жестокое, что оценить его могут уже последующие поколения. Вот почему ветераны предпочитают не рассказывать о войне.
«Поиск справедливости для Западного мира — основа культурно-политического пространства. Как нам относиться к тому, что Франко благодаря поддержке США и Британии избежал суда, хотя до 1943 года испанцы были союзниками Германии и имели отдельную дивизию в составе немецкой армии? И вообще правление Франко можно считать нонсенсом политического выживания? Как это изменило испанскую культуру, литературу и кинематограф?»
Очень большой вопрос. Не настолько я знаю испанскую литературу и не настолько я знаю историю франкизма, а в особенности в 50–60-е годы. Франко действительно как-то сумел избежать и пережить. Но это отчасти связано с тем, что в контексте Испании само представление о фашизме сдвинуто. И это, конечно, не фашизм ни в итальянском, ни в немецком смысле. К тому же в Испании вообще было чрезвычайно жёсткое противостояние, как вы знаете, двух равно… ну, не равно, конечно, но во многих отношениях равно антигуманных и опасных начал. Вот об этом «По ком звонит колокол» — о том, что фашисты, конечно, ужасны, но и те, кто противостоял им в Испании, отличались очень незначительно, скажем, в отличие от противостояния Гитлера и Сталина, где разница колоссальная… Ну, скажем так: от противостояния коммунизма и фашизма. В Испании это всё, как замечательно показано в эссе Оруэлла «Памяти Каталонии», имело очень сложную специфику. Это разговор не на одну программу, я не рискну сейчас его затевать. Просто скажу вам: да, конечно, исторической справедливости в этом нет, но и подходить к режиму Франко с такими же критериями, как к другим фашистским режимам, на мой взгляд, не вполне верно.
«Блок заслужил такой конец?»
А какой конец? Что такого ужасного в конце Блока? Блок умер истинно поэтической смертью, когда его убило (как он сам говорил о Пушкине) «отсутствие воздуха». Это гибель, которая не всем даётся, гибель настоящего святого, который жизнью и смертью подтвердил свои слова, проиллюстрировал собственное кредо. Это удаётся не всем. Маяковскому удалось, Блоку удалось. Очень мало кто умеет своей жизнью и смертью соответствовать тому, что пишет.
С Веллером пока не договорились, но будем договариваться.
«Как вы оцениваете сборники Веллера «Легенды Арбата», которые в 90-е годы были глотком свежего воздуха?»
Да, были, конечно, и отчасти потому, что Веллер — ведь очень серьёзный писатель. А когда он рассказывает байки (на мой взгляд, в отличие от Довлатова, это важно), он всё-таки прослаивает их довольно большим количеством, во-первых, очень патетических великолепных кусков. Вот эпилог «Легенд Невского проспекта» поражал меня своим совершенно колокольным звучанием, таким похоронным; это часы, которые отбивали нам всем великую смену эпох. И потом, всё-таки Веллер всё время решает одну и ту же философскую задачу — он пытается даже в самых развлекательных текстах ответить на вопрос: почему люди, зная, что добро и что зло, всё равно поступают неправильно? И он на этот вопрос, по-моему, отвечает исчерпывающе: потому что человек стремится не к добру и не к злу, а к диапазону ощущений. Вот этот диапазон, масштаб ощущений его проза, по-моему, очень хорошо передаёт.
«В романе Алданова «Истоки», — что-то много вопросов про Алданова с разных сторон, — запомнилась сцена, где Александр II читает «Дым» Тургенева. Узнал ли император сюжет из своей личной жизни? Намекал ли Тургенев на тайны царя? Насколько сложна духовная проблематика «Дыма»?»
Духовная проблематика «Дыма» исключительно сложна! Я думаю, что это лучший роман Тургенева. И недаром Наталья Рязанцева, мой любимый сценарист, участвовала в его экранизации, писала его сценарий. Это действительно роман о том, что всё — дым, если нет каких-то базовых жизненных принципов. Дым — это всё, о чём говорит Потугин (классический пример, когда заветные авторские мысли отданы не главному и, пожалуй, даже не симпатичному персонажу). Всё — дым. Потому что настоящий выбор — это выбор Литвинова между Ириной и Татьяной, вот в чём всё дело. А остальное всё — действительно дым, дым и дым. Всё непрочно, всё зыбко, всё стоит на ложном, глубоко фальшивом фундаменте. Нет, «Дым» — очень серьёзный роман, очень глубокий. Я его перечитываю раз в полгода где-то.
«Несколько слов о Бруно Шульце — одном из самых необычных и несправедливо прерванных авторов XX века».
Слушайте, несправедливо прерваны все авторы, случайно застреленные. Хотя Игорь Клех писал, что, возможно, Шульц искал смерти в гетто в Дрогобыче. Кстати, эссе Клеха о Шульце мне представляется просто эталонным. Что касается Бруно Шульца самого — понимаете, это очень хорошая литература, в особенности «Коричные лавки», но это не та литература, которая мне близка. Это тот несколько орнаментальный стиль Асара Эппеля, которого я очень ценю как переводчика и который сам сформировался как прозаик под шульцовским влиянием, но для меня слишком колористо, слишком густо и недостаточно динамично. Хотя Бруно Шульц — конечно, и прекрасный писатель, и необычайно трогательный человек.
«Что вы думаете об отношении социума к усыновлению? Почему все так настроены на кровное родство и отговаривают желающих усыновить. Говорят «не твоя кровь», «вырастут неблагодарные дети». А я чаще встречала неблагодарные отношения между кровными родственниками».
Слушайте, дорогая sinnichka, наверное, я не лучший отвечатель на этот вопрос, потому что со своей гиперответственностью в некоторых вещах я панически боюсь давать такие советы. Вы можете усыновить ребёнка, только если вы твёрдо убеждены в том, что вы не навредите ему, так мне кажется. Очень многие люди усыновляют детей по тем же причинам, по которым иногда неудачники идут в школу: им кажется, что среди учеников-то, среди чистых, неиспорченных детей они найдут правильную аудиторию; взрослые циничны, растлены и их не понимают, а вот дети-то их поймут. И они либо создают маленькую секту, либо бывают изгоняемы. Это серьёзная ошибка.
И мне кажется, что нельзя ни отговаривать усыновить, ни уговаривать усыновить. Усыновление — это для очень духовно зрелого человека. К своему ребёнку многие относятся хорошо просто по обязанности, по зову крови. А здесь, понимаете, ведь это страшно — сначала усыновить, а потом отказаться. А такие случаи были. Вот это, по-моему, катастрофа гораздо худшая, чем просто не усыновить, а поманить и отказаться.
Знаете, одну из самых страшных книг о катастрофе усыновления написали Нина Горланова и Вячеслав Букур, у них была такая книга, она называлась, по-моему, «Роман воспитания» (я не уверен точно, надо посмотреть). Вот там тоже семья интеллигентов решила усыновить девочку, а девочка несла в себе уже такие гены и такие привычки, что она чуть было их всех там не уничтожила. То есть надо осознавать, что вы можете иногда ничего не исправить всей добротой своей.
И я продолжаю настаивать на том, что хотя домашнее усыновление — это, конечно, прекрасное решение, но оно не универсальное. Иногда справиться с проблемой запущенного ребёнка может только педагог или только коллектив, хотя это ужасно говорить и это ужасно звучит. Понимаете, взять ребёнка в семью — это же не домашнее животное взять (хотя и домашнее животное не всегда удаётся как-то приладить к своему быту), а это взять на себя ответственность за действительно чужого человека, в котором вы не будете узнавать свои черты. И то, к каким катастрофическим последствиям это приводит — об этом надо говорить вслух. А уж после этого, безусловно, агитировать за усыновление, за то, чтобы не было сирот и не было детских домов.
«Я иногда вспоминаю вопрос доктора Борменталя: «Филипп Филиппович, а если бы мозг Спинозы?» Преображенский отвечает: «Ведь родила же в Холмогорах мадам Ломоносова. А теперь кто перед вами? Клим Чугункин!» Я не понимаю логики, профессор как будто бы сам себе противоречит. В чём же разочаровался Филипп Филиппович: в попытке превратить собаку в человека или в попытке сделать Шарикова «приемлемым членом социального общества»?»
Я вам отвечу. «Собачье сердце» лежит примерно в той же плоскости, что и «Мастер и Маргарита». У Булгакова проблемы вообще-то с гуманизмом. Вернее, он не осознавал это как проблему, а это такое мировоззрение. Булгаков — убеждённый монархист. Он не верит в человека. Он считает, что человеку необходима достаточно жёсткая власть. И он не верит в то, что каждого можно сделать человеком свободным и равным. И для него, конечно, собачье сердце сильнее любого интеллекта.
Видите, в чём опять же проблема. Профессор преображенский сумел сделать из Шарикова человекообразное, но сделать из него человека он не сумел. Преображение это не состоялось, что очень важно. Собачье сердце оказалось сильнее и воспитания, и человеческого мозга. Рабство, инстинкт рабства оказался сильнее. Вот то, что в Шарике было прелестно — преданность человеку, некоторая робость, ну рабство вообще, — оно в человеке оказалось неизлечимо, оказалось губительно.
Булгаков не верит в социальную хирургию. Вот у Пастернака сказано о революции: «Какая великолепная хирургия!» Булгаков, может быть, как врач больше в этом понимает, и он не верит в социальную хирургию, в перемешивание социальных слоёв. Он уверен, что рождённый ползать летать не может. Согласен ли я с этим? Нет конечно. И пафос «Собачьего сердца» мне абсолютно не нравится. Но вещь хорошо написана, ничего не поделаешь.
Кстати, интересный ответ на булгаковскую концепцию — в очень демократической, глубоко демократической повести того же Житинского «Внук доктора Борменталя». Почитайте её. Там история о том, как, наоборот, собака оказалась и добрее, и лучше, и чище человека, и Шарикова пришлось обратно особачивать именно потому, что он слишком хорош для этого мира. Но эта вещь была написана уже в 1987 году, поэтому мало кем замечена. Почитайте, это хорошее и резкое произведение.
«Мне очень дорог роман Юрия Давыдова «Бестселлер», — мне тоже. — Его герой, Владимир Бурцев, — Дон Кихот ХХ века. Такие персонажи в истории России ещё возможны?»
Конечно, возможны. Вы не идеализируйте особенно Бурцева. Он, кстати, и у Толстого есть в «Эмигрантах», Алданов его несколько раз описывал. Бурцев — это просто очень крепкий профессионал. Многие как раз спрашивают, каким образом увязан профессионализм и совесть. Да таким образом и увязаны, что профессионализм — это ответственность перед другими, ответственность за свою работу, за своё дело. Если бы Бурцев не был гениальным профессионалом от журналистики, от расследований, он бы не раскрыл Азефа и не раскрыл бы «Протоколы сионских мудрецов» — два его главных расследования. Бурцев вполне возможен в наше время. Просто человек благороден, когда у него есть ответственность за свою работу и за свои взгляды.
«Ответьте как на духу, кто вы: гражданин, поэт, писатель, журналист, правозащитник?» А почему вам надо обязательно какой-то один ярлык на меня навесить? Я — литератор. И мне этого совершенно достаточно.
«Хочу связать свою жизнь с литературой, поступаю в этом году. Куда лучше подавать документы?» На истфак, я думаю. Писателю важно знать историю.
«Свободны ли люди творчества в сегодняшней путинской России?» Смотря от чего. От многих соблазнов, безусловно, свободны.
«Героиня рассказа Чехова «Душечка» живёт любовью, и сама — воплощение любви. Но автор, раскрыв суть женщины, тихо смеётся. Прав ли он?»
Да вот в том-то и дело, что героиня рассказа «Душечка» — она совершенно не воплощение любви, а она воплощение других вещей, которые часто принимают за любовь. Ой, господи, как же это сформулировать?.. Придётся, наверное, грубые и жестокие вещи говорить. Дело в том, что Чехов вообще не питает особенных иллюзий насчёт человеческой природы, и он подвергает сомнению многие понятия, пытается их переформулировать. Вот он говорит о вере: «Все говорят «верю», «не верю», а между тем, между «да» и «нет» в вопросе о бытии Бога, в вопросе в вере в Бога лежит огромное поле, которое иногда за всю жизнь не удаётся пересечь». Вот так же и любовь.
У Чехова есть рассказ о любви, где подвергаются сомнению разные прежние представления о любви; есть рассказ «Красавицы», где любовь определена, по-моему, точнее всего — как тягостное, но приятное чувство, что все мы потеряли что-то главное. Вот это любовь, да. А то, что в «Душечке» — это не любовь; это собственно, принадлежность, растворение в другом. Она всё время же говорит «мы с Феденькой», «мы с Ванечкой». Она и с теми, и с этими, но она не личность, к сожалению, а она растворяется в другом человеке. И я не думаю, что это стоит как-то сравнивать с любовью. Это совсем другое ощущение и совсем другое чувство, вот так мне кажется.
И это толстовский взгляд на вещи, что душечка — это правильная женщина. Чехов писал иронический рассказ и совершенно иначе о душечке думал. Кстати говоря, дочь Толстого, Татьяна, в Чехова немного влюблённая, поняла этот рассказ совсем иначе — именно по-чеховски. Она говорила: «Я просто поумнела, читая вашу «Душечку». А Толстой, наоборот, говорил: «Вот истинно прелестный образ женской души!» А Чехов ничего подобного… И всякий раз, когда ему начинал Толстой хвалить этот рассказ (помните, как Горький вспоминает), он смущался и говорил: «Да там опечатки».
«Меняются ли ваши взгляды на жизнь в свете насаждения правящим режимом политики страха? Меняются ли ваши планы в связи с этим обстоятельством?»
Мои планы? Нет у меня никаких особенных планов. Как любит повторять Веллер (хотя это и старая пословица): «Хочешь рассмешить Бога — расскажи ему о своих планах». Планов нет. Меняются ли взгляды? Да, всё больше сил, конечно, тратится на адаптивность. Но, с другой стороны (я это повторял не раз), если бы я уехал, эти же силы тратились бы на адаптацию. Так что в борьбе со страхом есть разные правила. Иногда бояться просто надоедает.
«Есть ли у вас свой девиз?» Нонна Слепакова, уже мною упомянутая, как-то его сформулировала: «Я знаю, как надо, но я так не хочу».
«Что вы думаете о 32-летнем цикле Белковского?» У каждого представления свои о циклах, но… Как бы это сказать? То, что циклична, что не линейна история, соглашаются все. Периодизация у всех своя. Мне кажется, что моя правильнее, но мне приятно, что Белковский в целом не расходится с моими взглядами.
«В одной из передач вы говорили, что Бендера должны были ограбить в финале «Золотого телёнка» по логике сюжета».
Нет, я говорил другое. Я говорил, что просто такой сюжет логичнее, чем придуманный ими сначала брак. Вы же знаете, что написана (и, кстати, опубликована) другая глава, которая заканчивается фразой: «Перед ним стояла жена». Когда Остап женился на Зосе Синицкой, Козлевич их привёз в загс, и всё получилось. Логичнее тот сюжет, который для Бендера они написали потом. Вот великая художественная правда, вот её зов. Все, конечно, хотят… Тут правильно написано, что это всё из-за публикации романа в СССР. Нет, это ни при чём. Тут есть именно логика.
«Или надеяться, что Бендер уедет, так же наивно, как надеяться, что в Гефсиманском саду всех отрицательных персонажей поразят гром и молнии? Уж простите за такое сравнение».
А что же прощать? Правильное сравнение. Я говорил о том, что плут — это христологическая фигура (при всей парадоксальности такого взгляда). В каком-то смысле Бендер уехал, потому что следующей реинкарнацией Бендера был Штирлиц, конечно. Это объясняет то, что большинство анекдотов о Штирлице выдержано в стилистике Ильфа и Петрова. Но, конечно, реальный отъезд Бендера был бы невозможен. Бендер может уехать только в качестве шпиона, то есть — мегаплута, переродившегося плута.
«Ваше мнение о книге Эфраима Севелы «Моня Цацкес — знаменосец»?» Я вообще немного Севелу знал, с ним говорил, люблю его книги, но мне они представляются всё равно гораздо более слабыми, чем, скажем, сочинения Войновича.
«Познакомился с альтернативной версией, согласно которой автором всех пьес Шекспира был граф Оксфорд. Аргументы звучат убедительно. Какова ваша точка зрения?»
Знаете, если уж и допускать, что это не Шекспир, то для меня, конечно, Рэтленд убедительнее всех трактовок. И Луначарский в своё время, кстати (почему я цитирую Луначарского — потому что лекция была о нём), писал, что в наше время верить в стратфордианскую версию могут только самые наивные люди, потому что наконец доказано, что у Рэтленда были однокурсники Розенкранц и Гильденстерн. Кроме того, очень много уточнений в Гамлете появилось именно после того, как Рэтленд съездил в Данию. Мне нравится, конечно, версия, которую у нас горячее всего защищал Илья Гилилов в книге «Загадка о великом Фениксе». И сама судьба меланхолического Рэтленда меня восхищает. Но тоже в этой версии много натяжек.
Я предпочитаю думать… Мне не важно, кто Шекспир. Мне очевидно по текстам пьес (вероятно, по всем, может быть, кроме «Тита Андроника», который наконец сейчас, кстати, исключён из канона — всё-таки там многовато зверств), мне совершенно очевидно, что все лучшие вещи Шекспира, главные вещи Шекспира написаны одним пером. И эволюция этого человека для меня совершенно очевидна: от мрачных комедий, вроде «Троила и Крессиды», которую я считаю, наверное, лучшей пьесой Шекспира наряду с «Гамлетом», до мрачных трагедий, до совершенно чёрного отчаяния «Тимона Афинского» и до такого странного, не совсем ещё нами, я думаю, понятного просветления в «Буре» или в «Зимней сказке». Эволюция этого человека сама по себе — блистательная шекспировская драма. А звали его Рэтленд, Оксфорд или Шакспер — для меня совершенно непринципиально.
Лекция о Дэвиде Фостере Уоллесе? Понимаете, не настолько знаю его всё-таки. Вот про «Бледного короля», последний роман, я мог бы лекцию прочесть, я всё-таки его прочёл. «Infinite Jest» я читал не целиком, жду всё-таки или русского перевода, или готов в нём поучаствовать, если надо. Но, знаете, 120 страниц такого плотного текста — это тяжело. Просто времени нет.
«Вы сказали, что евангелисты были талантливыми писателями, — не я сказал, а Александр Кабаков, но я с этим солидарен. — Может быть, как раз наоборот, Евангелие — это ярчайший пример массовой культуры со всеми превалирующими негативными оттенками».
Дорогой davinchihand, а почему вы думаете, что массовая культура и великая культура исключают друг друга? Очень многое великое стало массовым. Больше того, Евангелие — действительно пример универсальной литературы. Такое может создать только гений. Я вообще никогда не понимал этой абсолютно снобской точки зрения, согласно которой только элитарное имеет право называться высоким искусством. Очень часто (и почти всегда) рано или поздно бестселлером или лонгселлером становится великое.
«Роберт Шекли подметил любопытную вещь: «Все ждали Бога, но никто не думал, что с ним станет только хуже». Вопрос простой: почему Шекли не прав?» А я не знаю, прав ли Шекли. Здесь очень относительное понятие — «хуже». Стало труднее, безусловно, потому что добавились многие неизвестные. Жить в плоском мире гораздо приятнее.
«Повесть Владимова «Верный Руслан» до сих пор словно кровоточит. Система избавляется от «верных», а те всё равно служат. Неужели Русланы до сих пор охраняют нас?»
Система избавляется от «верных» — это очевидно. Но кровоточит эта повесть по другой причине. Кровоточит она прежде всего потому, что Владимов вскрыл очень точно природу рабства и природу наслаждения рабством. Наверное, Руслану очень нравится то, что с ним происходит. Хотя для него это и трагическая ситуация (помните, когда там собаки кинулись перекусывать эти шланги), но тем не менее для верного Руслана нет другой возможности — может быть, потому что Руслан выдрессирован как сторожевая собака, а не как борзая, скажем. Может быть, у Руслана нет другой профессии, и в этом его главная проблема.
Через три минуты вернёмся.
НОВОСТИ
Д. Быков― Продолжаем разговор. Я ещё на некоторые форумные вопросы отвечу, а дальше перехожу, как обычно, к вопросам в письмах.
«Позвольте вас поздравить с днём рождения вашей мамы».
Спасибо вам также. Вы вместе его будем отмечать 29 мая, совсем уже скоро, вместе с ней, когда у нас 29-го будет презентация… Ну, не презентация. Какая там презентация? Уже «Маяковский» вышел и, больше того, распродан. Будем просто делать вечер Маяковского. Мы с матерью вместе, два учителя, с разных точек зрения поотвечаем на вопросы о Маяковском, которые позадают наши ученики. Соответственно, я почитаю какие-то стихи Маяковского, и почитают их мои друзья-артисты. 29 мая, Центральный дом литераторов — приходите. Угощений не гарантирую, к сожалению, но угостим хорошими текстами.
«Интересно услышать ваше мнение о статье Дроновой «История как текст («Христос и Антихрист» Мережковского и «Мастер и Маргарита» Булгакова)».
Естественно, я читал эту статью, потому что мне вообще представляется эта тема — влияние Мережковского — очень важной. Она совершенно не исследована. Мало того, что Алексей Н. Толстой из него тырит хорошими кусками, но, конечно, Дронова совершенно права, что очень многие эпизоды «Леонардо да Винчи» (в особенности шабаш) повлияли на Булгакова. И я абсолютно уверен, что Булгаков читал те самые переложения книг, в которых выходили ранние романы Мережковского. Мне представляется, что эта статья — одна из лучших о булгаковских заимствованиях и его влияниях.
«Как вы полагаете, если бы Михаил Булгаков не умер в 1940 году, не постигла бы его участь Даниила Андреева?»
Думаю — нет, не постигла бы. Я думаю, что наоборот. Мне кажется, что Булгаков эволюционировал в сторону всё больше приятия режима. Другое дело, что режим с вернейшими тоже не церемонился. Но дело в том, что Булгаков сам вышел из замкнутого круга, он расторг некий договор с тёмными силами, и тёмные силы его убили. Вот в этом я абсолютно убеждён — в том, что этот договор был расторгнут как-то. В процессе ли работы над «Батумом» он что-то понял, после ли, но он погиб, как мне кажется, именно потому, что вышел из-под опеки этих сил. Кто хочет — понимайте социально, кто хочет — мистически.
«Ваше мнение о творчестве Валентина Пикуля?»
Валентин Пикуль был действительно очень одарённый писатель. «Нечистая сила», которую вы упоминаете, — его лучшее произведение, хотя мне очень нравится и «Слово и дело». Убеждения Пикуля, его взгляды меня интересуют в последнюю очередь. Конечно, пошлости много в его романах, но много и запоминающихся великолепных эпизодов, много чудесных разговорных, живых реплик и много живого чувства русской истории (в «Фаворите», а в «Слове и деле» особенно). Тогда Владимир Новиков писал: «У нас самая читающая Пикуля и Семёнова страна». Так оказалось, ребята, что это не самое плохое. Оказалось, что это, может быть, лучшее, потому что и Пикуль, и Семёнов — это не совсем массовая литература. В общем, у него есть очень хорошие вещи.
«В «Улитке на склоне» есть сцена, в которой Перец останавливается на складе техники и случайно слышит беседу каких-то странных существ: Винни-Пух, Кукла Жанна, Танк, Астролог. О чём они говорят? Объясните смысл». Перечитаю — объясняю. Помню, что меня эта сцена тоже напрягла когда-то. У меня была своя версия. В следующий раз поговорю обязательно.
«Как часто вы совершаете поездки в разные города и страны? Почему не делитесь впечатлениями о них? Какие вам нравятся города? Где приятнее всего находиться как туристу или гостю? Где бы вы хотели пожить, кроме Москвы или Питера?»
Не знаю. Мне очень нравится Тбилиси, мне нравится Куско в Перу, мне нравится Нью-Йорк, мне ужасно нравится в Штатах и вообще Чапел-Хилл, университет в Чапел-Хилл, и Принстон мне нравится. Многое мне нравится. Раньше моей любимой точкой на свете был Крым. Вот почему я с такой тоской воспринимаю происходящее сегодня. Я одного друга встретил недавно, он говорит: «А я всё равно поеду в Крым на бардовский фестиваль, потому что это не наш Крым, а мой Крым». Хорошая отмазка такая. Даже это не отмазка, а он, наверное, искренне говорит. И я бы мог тоже сказать, но я не могу. Понимаете, вот не могу переступить через это! Слишком всё во мне протестует против того, чтобы сейчас туда поехать, потому что это тот Крым, где мой портрет висел среди врагов народа на Симферопольском вокзале — на моём Симферопольском родном вокзале, куда я приезжал каждый год с шести лет! Поэтому не могу я сейчас туда поехать. Есть чувство осквернения какими-то очень страшными силами очень дорогих для меня мест. И я не могу определить, откуда они взялись, эти силы. Я не думаю, что это нынешняя Россия. Это что-то подземное поднялось, что-то почти адское. А так, конечно, более любимого города, чем Гурзуф, более любимого места, чем «Артек», чем Ялта, у меня на свете нет.
«В анонсе вы всё рассказываете о «Жигулях». А сейчас у вас какой автомобиль в эксплуатации?»
Вы не поверите — те же самые «Жигули». Не далее как сегодня поменял колесо, которое мне какая-то тварь пропорола (вероятно, из любви к искусству). То есть пропорото сбоку. Ясно, что это не я пропорол. Но по сравнению с ситуацией романа «Оправдание», когда я при этом ещё и дверь поцарапал, меняя колесо, сегодня я лучше справился.
«Как вы относитесь к творчеству Акутагавы?» Восторженно отношусь. К чему там относиться-то? Только восторг.
«Шнуров — это Высоцкий современности? — нет конечно. — А если не Высоцкий, то кто он?» — спрашивают.
Слушайте, неужели у вас есть только две возможности — Высоцкий и не Высоцкий? Я вообще считаю, что Шнуров — это явление сильно раздутое, преувеличенное, явление очень фальшивое. Я без особого пиетета отношусь к тому, что он пишет — и не потому, что здесь вступает какая-то профессиональная ревность (мы, слава богу, работаем в абсолютно разных жанрах). Просто, понимаете, пародируя, высмеивая какие-то черты, он не поднимается над ними, он, в сущности, остаётся в том же пространстве, которое высмеивает. И он, на мой взгляд, очень конформный человек.
«Энтузиазм людей, населяющих Россию в первой половине 90-х, был последним для страны?» Нет конечно.
Тут ещё вопрос: «Каким вы видите будущее России через 20–30 лет?» Через 20–30 лет я вижу Россию примерно в том же статусе, в каком она дивила мир в 60–80-е годы XIX века. Я вижу её, наоборот, совершающий гигантский рывок — отсроченный, конечно, замедленный, но совершенно неизбежный.
Просят лекцию о Набокове. В следующий раз давайте.
«Ваше отношение к прозе Александра Гениса?» Много раз высказывал его.
«Вы как-то тепло отзывались о фильме «Брат» Балабанова, но ведь он просто нашпигован откровенно шовинистическими пассажами. Не могли бы вы объяснить, что вас привлекает в этом фильме, и попутно — в чём главная идея?»
Идея, что появился новый герой — олицетворение пустотности. И правильно почувствовала «Комсомольская правда», что «Данила — наш брат. Путин — наш президент». Кстати говоря, статья Жолковского, на которую я ссылался, называлась не «Пустотность», а «Телега на «славистику». Что касается «Брата» как фильма, то привлекает он меня как раз абсолютно точным социальным чутьём в определении этого героя и таким же точным чутьём в описании среды, которая оказывается перед ним совершенно беззащитной. Ну и стилистика этого фильма мне нравится, киноязык, метафоры: пустой трамвай, пустой Петербург, песня «Мы лежим на склоне холма, но у холма нет вершины». Ну, о чём тут говорить?
«О чём книга Ницше «Так говорил Заратустра»?»
Братцы, правда, вот приходите 23 мая на Ермолаевский, 25 — и вам Ярославский, бывший мой студент, а ныне уже вполне самостоятельный мыслитель, всё расскажет. Если хотите, я там же расскажу, потому что у меня потом всё равно там будет ночная лекция про Гофмана после этого. Если хотите, я вам там всё про Ницше расскажу. К сожалению, это не из тех вопросов, на которые можно ответить за десять минут.
Вот оперативные отзывы пошли: «Вы говорите, что в «крымнаше» проявилась даже не Россия, а нечто адское. Хотите ли вы победить, пусть не лично, а как часть людей, вида?»
Не победить. «Митьки никого не хотят победить». Я хочу это адское загнать туда, где ему место, вот и всё, загнать этих демонов в подсознание. Потому что очень многие люди, которые ими одержимы… Как в известном фильме «Изгоняющий дьявола», из них кричит душа, она кричит: «Спасите меня!» Но эти демоны их сейчас одержают.
«Как вы для себя объясняете антисемитизм Льва Гумилёва?»
Ну, это антисемитизм скорее такой теоретический. Мне Губерман как-то это объяснил: идея химеры, когда малый народ проникает в большой народ и навязывает ему свои ценности. Это метафора химеры из Гумилёва. И образ малого народа — в нём угадываются евреи. Я думаю, что антисемитизм Льва Гумилёва (опять-таки говорю ещё раз — весьма условный) объясняется другим. Для Гумилёва вообще понятие культуры враждебно и понятие интеллигентности враждебно. Он всё время повторял: «Я не интеллигент, у меня профессия есть». Хотя, на мой взгляд, как раз интеллигент — это тот, у кого есть профессия. Его нелюбовь к интеллигенции, несколько шпенглеровское недоверие к цивилизации, к культурности вообще, апология дикости, которая была ему присуща, некоторой пещерности — вот это, по-моему, и предопределило его отношение и к еврейству, и, если угодно, к современности вообще. Он видит в современности некоторое предательство великих идеалов пассионарного прошлого. В этом он абсолютно смыкается с Дугиным и, в общем, с большинством мистиков, с Геноном в частности.
«Как я понял, вы любите Бергмана. Не могли бы вы рассказать про «Фанни и Александра»?» Я не настолько помню картину, чтобы о ней говорить. Если хотите — пересмотрю.
«Сознайтесь, который из Павлов Первых вам убедительнее — эйдельмановский, пелевинский, хотиненковский? И что вы думаете о нереализованной дружбе Павла с Наполеоном против Англии? Был ли у Европы шанс другого развития?»
То, что с Наполеоном можно было «задружиться», наверное, очевидно. Говорят, он даже просился в русскую армию, точно не знаю. Но это вопрос для конспирологов (особенно применительно к Англии) и для любителей альтернативной истории. Что касается того, который из Павлов для меня убедительнее, то тот, который в пьесе Мережковского.
«Не включаете ли вы в список рекомендованных подросткам повесть Давида Гроссмана «С кем бы побегать»?» Впервые слышу об этой повести. Теперь придётся включить.
Вопрос, на который не могу ответить в силу недостаточно знания истории IT.
«Как вы относитесь к статье Галины Мурсалиевой в «Новой газете» о подростковых самоубийствах? Чем объясняется столь резкая реакция на неё?»
Наверное, надо высказаться как-то об этой статье. Во-первых, статья Мурсалиевой, как мне кажется, хорошая («хорошая» — это ещё мягко сказано), очень профессиональная, крепкая статья. Многие противопоставляют ей расследование «Ленты», но расследование «Ленты», мне кажется, мелочнее несколько, там не подмечено главное. Боюсь, что и Мурсалиева не сделала одного очень важного вывода, который сейчас придётся сделать нам.
Я очень хорошо помню, что в 2008 году, насколько мне помнится, аналогичная история была в Британии, в Бристоле. Я писал тогда про это, меня даже газета откомандировала: эпидемия подростковых самоубийств. Но я в Бристоль не попал, потому что город закрыли на это время просто, чтобы журналисты не копошились и любопытствующие не ехали. Две недели происходило это громкое расследование, потому что там было, по-моему, порядка 40 подростковых самоубийств за полгода, тоже создавали странички с почестями безвременно ушедшим. Началась совершенная эпидемия вот этих садомазохистских сайтов, которые все рассказывали о том, как ужасно жить и как прекрасно забвение.
В чём тут штука? Я далеко не убеждён, что в России действительно готовился некий масштабный план «выпиливания», как они это называли, некоторая масштабная суицидальная акция. Не знаю я, было ли это так. Я просто допускаю, что за всем этим действительно стоит масштабная секта и что подростки очень легко покупаются на идею самоубийства. Вы знаете, что фильм «Девственницы-самоубийцы» и аналогичный роман (просто фильм Софии Копполы более известен) касается этой же проблемы.
И кто в избытке ощущений,
Когда кипит и стынет кровь,
Не ведал ваших искушений —
Самоубийство и Любовь!
[Тютчев]
Действительно для подростка, для формирования подростковой сексуальности каким-то образом мысль о смерти чрезвычайно важна. Это то, о чём Гандлевский писал: «Молодость ходит со смертью в обнимку». То есть тенденция к подростковым суицидам из-за одиночества, из-за сексуальной non-identity, из-за сексуальной неудовлетворённости… Кстати, в одном из ранних рассказов Катаева замечательно описано такое самоубийство от восторга, от избытка жизни. Там герой спасается, но соблазн очень силён.
Любой, кто как-то жил и мыслил, он у себя подобные настроения в тинейджерском возрасте помнит. Подростки в этом возрасте — очень лёгкий объект манипуляции. Но стоит ли за этим конкретная организация — мне трудно пока сказать. Я допускаю, что на пустом месте в отсутствие профессии, идеалов, будущего соблазнить подростков этими ложно-красивыми разговорами — о тщетности всего, о том, что никто никого не понимает, о том, что киты всплывают на свободу, и так далее — можно, потому что, когда нет высоких целей, высоких смыслов, их место занимает пошлость. Я не думаю, что речь здесь идёт о масштабном заговоре. Хотя секты, которые провоцировали самоубийства, были всегда. Была в России ещё в позапрошлом веке секта Кондратия Малёванного (на Западной Украине она была), которая тоже призывала к суициду, и многие пожертвовали все свои деньги Малёванному, а сами кончали с собой или уходили из дома. Этим воспользоваться можно.
Что сделать, чтобы этого не было? Дать подростку другую мотивацию. Я знаю (вот это уж точно я знаю), что процент самоубийств всегда возрастает в той среде, где меньше профессионализма, меньше увлечений и меньше интеллектуальный коэффициент. Я знаю, что в среде подростков-вундеркиндов, подростков-интеллектуалов, олимпиадников, медалистов процент самоубийств значительно ниже, потому что они понимают ценность жизни и ценность каких-то вещей. Единственный способ избежать этого соблазна — это развивать подростка интеллектуально и интегрировать его социально, вот и всё.
Конечно, можно позакрывать все сайты «ВКонтакте», и можно вообще блокировать Интернет под тем предлогом, что он готовит детей к самоубийству. Статья «Новой газеты», как вы понимаете, не призывает к запретительным мерам. Тут нужно сделать другое. Не надо пугать всё время устроителей этих сообществ, что их координаты переданы в соответствующие органы. Не надо всё время пугать тем, что соответствующие структуры возьмутся за блокирование. Когда у нас соответствующие структуры берутся за блокирование, они душат то, до чего могут дотянуться, а не то, что реально виновато.
Поэтому такой шанс, конечно, есть, что всё позакрывают. Но единственный способ сделать, чтобы у подростка этот соблазн не возникал — это лишить его слишком большого количества свободного времени, которое он тратит на сидение во «ВКонтакте», вообще на пребывание в соцсетях. Подростка нужно мотивировать на честолюбие, на тщеславие, на деятельность, которая будет приносить ему пользу, деньги, славу и так далее.
«При разговоре о нежелании ехать в Крым (чувство осквернённости) вы сами ёмко сформулировали про Донецк. Мой родной, любимый, боготворимый город изнасиловали, не в последнюю очередь по его собственной инициативе. Только, в отличие от вас, я живу здесь, и живу с этим ужасным чувством изнасилования», — пишет мне пользователь под ником design. Я вас понимаю. Если можно так сказать, я ваши чувства разделяю. Мне очень, очень страшно от того, о чём вы говорите.
«В пресловутом «ЖД» вы хорошо высмеяли инициации. Всё-таки что вы думаете про саму идею инициации? Дополнительные её варианты: служба в армии, кандидатская, рождение ребёнка, убийство, уверование, как бы оно ни называлось, наркотики, постройка дома, выращивание дерева».
Саша, я вообще к самой идее, к самому термину «инициация» (кстати, особенно часто встречающемуся у Мирчи Элиаде) отношусь с очень большой долей скепсиса. Понимаете, есть в этом что-то от эзотерики, причём эзотерики не высшего разбора. На инициациях во многом строится сюжет и «Мцыри», и «Маугли». Это одни и те же посвящения, одни и те же этапы: игра с огнём, битва с хищником, встреча с женщиной — вот такие. Но мне сам термин «инициация» не нравится, потому что он предполагает посвящение в какое-то таинство, а к обрядам и таинствам я отношусь без восторга. Это всё — эзотерика.
Такой девичий-девичий вопрос и девичий-девичий портретик. Привет вам, Кристина! «Вы высоко оцениваете личность Пьера Безухова. Я не сомневаюсь в вашей правоте. Однако, когда я думаю о Пьере, всегда вспоминаю эпизод с Платоном Каратаевым. Я не понимаю, почему Пьер стал избегать Платона, когда он заболел и стал слабеть, и почему так странно отреагировал на убийство Каратаева. Где же его эмпатия?»
Кристина, тут тоже можно говорить об инициации Пьера, но скажем иначе: эволюция Пьера идёт в сторону избавления от всего личного, от личной телесности, от личных границ. Помните: «Не пустил меня солдат! Меня! Меня — мою бессмертную душу!» — потрясающий этот монолог на краю лагеря военнопленных уже перед самым освобождением. Границы стираются. Капли стирают свои границы во сне Пьера (помните: «Сопрягать, надо сопрягать»), чтобы полнее отражать Бога, чтобы слиться и стать больше. Избавление от личности — смысл истории (по Толстому), смысл жизни. И я могу с этим согласиться. Замечательно сказал когда-то Битов: «Я — это всего лишь мозоль от трения моей души о внешний мир». Поэтому — избавиться от этой мозоли, от этого трения. Это гениальная мысль на самом деле. Просто Пьеру становится безразлично, что случилось с Платоном Каратаевым, потому что он знает, что душа Платона Каратаева пребывает и так в бессмертии. Это довольно жестокая мысль, но вера же всегда довольно жестока. И вообще всякое прозрение жестоко.
Многие просят гостей. Другие требуют, чтобы гостей не было. Ну, придумаем.
«Читаю «Колымские рассказы» Шаламова. В чём вы видите разницу между ним, человеком, который сидел до войны, в сравнении с Солженицыным, который сел в 1945-м?»
Разница, конечно, была, потому что у людей, которые прошли войну, был выше навык сопротивления. И если вы посмотрите истории колымских восстаний, воркутинских восстаний, Кенгирского восстания, вы увидите, что в основном восставали те (восставали более или менее успешно, но явно уже потеряв всякую надежду), у кого был военный опыт сопротивления. Вот почему ключевой персонаж для Солженицына, я думаю, — всё-таки или сектант Алёшка или кавторанг в «Одном дне Ивана Денисовича», а никак не сам Иван Денисович. Просто Солженицын верит в способность людей сопротивляться, и ему эта способность чрезвычайно дорога. А насколько верит в эту способность Шаламов — не знаю. Я очень мало знаю у Шаламова героев, у которых живо человеческое достоинство, кроме самого Криста, под именем которого он выводит себя.
«Поделитесь впечатлениями от поездки и выступлений в Тбилиси». Как всегда, тбилисская публика очень любит стихи. Спасибо ей большое.
Читаем следующие вопросы…
«Если суицид — это поражение, то почему? Ведь если понимать жизнь как концлагерь, то суицид — это побег».
Нет. Если понимать жизнь как концлагерь, то суицид — это побег. А если понимать жизнь как долг, то суицид — это дезертирство. И вообще, согласитесь, это как-то унизительно. Я понимаю человека, у которого не осталось шансов, человека, который тяжелоболен, человека, который не может больше выдерживать жизнь. Я могу это понять, и я никогда никого в таких ситуациях не осуждаю. И кем надо быть, чтобы осудить самоубийцу? Это какой предел лицемерия. Но всё-таки мне кажется, что это как-то унизительно — кончать с собой (во всяком случае, если есть ещё шансы бороться).
Вот очень хороший вопрос, тоже из Донецка, про Герасимова (имеется в виду режиссёр Сергей Герасимов): «Гребнев про него говорил, с чьих-то слов, «красносотенец». Просматриваю великую кинопублицистику: «Любить человека», «Журналист», «У озера». Потрясающие сцены в начале «У озера»: «Что вас жалеть, если вы можете так поступать?» И «Журналист», сцена в общежитии. Можно лекцию по прекрасному и ненавистному Герасимову?»
Знаете, это мог бы читать Марголит, наверное, или Шмыров — настоящие киноведы. Я могу только сказать, что я ваших восторгов по поводу герасимовской кинопублицистики не разделяю. Мне кажется, что шестидесятнические фильмы Герасимова (ну, я не могу их смотреть!), они фальшивы насквозь просто, они ужасны. «У озера» — фальшь страшная, и герои фальшивые. А «Журналист» — вообще какое-то издевательство над самой идеей социального кино. Затянуты они страшно. В общем, фальшь в каждом слове.
«Читаю трилогию «Христос и Антихрист», размышляю. Не является ли XX век современным нам периодом начала Тёмных веков — века, когда проект Человек уже похоронен, а новая мировая идея ещё не пришла в мир».
Да пришла она, в том-то и дело. Это идея сетей, ризомы. Об этом Делёз и Гваттари написали ещё в середине 70-х. Поразительное прозрение, конечно. Другой вопрос: нравится ли мне идея ризомы? Нет, не нравится, конечно. Кому же она понравится? Но, видимо, это единственное, что сейчас можно как-то противопоставить проекту Человек.
«Пытался задать вопрос на форуме, но его блокируют, потому что в нём фигурирует кокаин. Так вот, я недавно прочёл «Роман с кокаином» Агеева (Леви) и был впечатлён. Сходные ощущения у меня были от перечитанного «Ловца во ржи» Сэлинджера. Не является ли Вадим Масленников, по крайней мере в первой части романа, нашей циничной версией Колфилда?»
Нет, не является. Вы мне Колфилда не трожьте! Спасибо, что вы задали этот вопрос. Вы, Илья, чувствуется, человек продвинутый. Но Колфилд же не циник, понимаете, и это принципиальное в нём, это определяющее. Колфилд, конечно, самовлюблённый тип, но он и сентиментальный, и трогательный. И он бы над собственной матерью никогда не стал так измываться, как измывается Масленников. И можете ли вы себе представить Колфилда, который заражает невинную девочку триппером? Ну что за стыд вообще?
«Много вопросов оставляет фигура автора. Факты доказывают, что это был Марк Леви», — а что там доказывать? Известно, прослежено, Червинская всё рассказала. — Много стилистических совпадений с Набоковым»
Послушайте, я вам этих стилистических совпадений наберу в любом тексте 30-х годов. Я говорю, доказать можно всё что угодно. Я вполне легко могу доказать, что за Марка Алданова писал Алексей Толстой в свободное от работы время.
«Как вы относитесь к мнению о том, что «Кокаин в романе» — это метафора революций?»
Не революций! «Кокаин в романе» — это метафора бессмысленного и страшного обострения ощущений, максимилизации ощущений при отсутствии сдерживающих центров: ума, чести, совести и так далее. Роман не случайно начинается фразой «Буркевиц отказал». Это вообще книга об отказе, о том, что тормоза отказали, что отказал человек в целом. Вот в этом-то и проблема, что сила ощущений оказалась более убедительна, более притягательна, чем сила разума, чем сила совести. Это именно о торжестве «ощущалки», как это называется в переводе «О дивный новый мир»; мир «ощущалок», где важнее всего острота, а смысл совершенно не важен.
«Какие биографические труды вы бы рекомендовали для изучения Мандельштама, Цветаевой? Биографическим и автобиографическим трудам каких авторов можно доверять при изучении XIX века и середины XX?»
Лучшее, что написано о Серебряном веке и о Блоке, как мне кажется, — это книга Аврил Пайман, американской исследовательницы, «Ангел и камень». Конечно, читать все, если вам попадутся, статьи Николая Богомолова, который, как мне кажется, знает о Серебряном веке больше, чем обитавшие тогда люди (что, впрочем, естественно — ему доступно большее количество источников). Эталонной я считаю книгой Богомолова и Малмстада о Михаиле Кузмине. Конечно, о Мандельштаме надо читать всё, что писала Лидия Гинзбург.
Что касается биографических работ, то их ведь очень много сейчас есть за последнее время — в диапазоне от Лекманова, от его работ о Мандельштаме и Есенине, до Берберовой, которая замечательно писала обо всём этом как мемуарист. Много на самом деле. И я бы из того, что написано о Серебряном веке, наиболее настоятельно, пожалуй, рекомендовал бы «Егора Абозова» Алексея Н. Толстого (неоконченный роман, но чрезвычайно точный), дневники Волошина, изданные в «Аграфе», замечательные и объёмные, и дневники Аделаиды Герцык, да и вообще сестёр Герцык. По-моему, это очень хороший источник.
О Шнурове опять много вопросов. Лекции не будет о Шнурове. Не тот масштаб.
«Иногда в эфире вы, отвечая на вопросы, говорите «не читал, но прочитаю» или «не слышал, но придётся». Имеет ли смысл и дальше ждать, когда вы прочитаете?» Имеет, конечно. У меня, знаете, не так много времени, но я буду читать, безусловно.
«Что вы думаете о Резуне-Суворове?»
Лично я его не буду оценивать, но одно могу сказать совершенно точно: многое в его версии в «Ледоколе» кажется мне убедительным. И то, что Сталин собирался первым начать войну с Гитлером — я в этом ничего оскорбительного не вижу. Мне кажется, что это было бы правильно.
Вернёмся через три минуты.
РЕКЛАМА
Д. Быков― Ещё пара-тройка вопросов из писем — и Катаев.
«В своей лекции «Аксёнов и Трифонов: две «Победы» вы говорили, что Набоков искренне считал, что тему шахмат продолжил Аксёнов в рассказе «Победа». Нет, этого я не говорил. Я говорил, что как раз Аксёнов бессознательно продолжает эту тему, потому что к тому моменту он «Защиты Лужина» не читал.
«В вашем романе «Орфография» игра в шахматы между охранниками коммуны — тоже случайно или это продолжение аксёновской темы?» Это скорее аллюзия к Красному зданию из «Града обреченного». Но если что там и есть от аксёновской игры, то это: «Если он меня так, то я его так» (помните, думает Г.О.). А здесь: «А мы вас так, а вы нас так». Наверное, какая-то аллюзия здесь присутствует, хотя совершенно и неосознанная.
«Задаю вам вопросы, но не всегда получаю ответы. Неужели вы отвечаете только на те вопросы, которые придуманы под интересующие вас темы?» Спасибо вам, Лена, на всех добрых словах. Я отвечаю только на те вопросы, на которые могу ответить, которые мне кажутся лежащими в моей компетенции.
«Депортация народов ужасна, это бесспорно, — спрашивает Валентин. — Когда речь идёт о сталинской расправе с чеченцами, обычно ссылаются на донесения, полученные Берией от чекистов на местах, а они свидетельствуют о частом дезертирстве чеченцев. В таком случае понятны были бы чувства народов СССР относительно депортации. На «Эхе» я услышал, что рапорты врали, информаторы боялись попасть на фронт. Возникают вопросы. Как, собственно говоря, возможно этот тезис обосновать?»
Ну, огромное письмо. Валя, я вам могу ответить одно. Мне представляется, что в ответ даже на дезертирство и даже на сотрудничество отдельных представителей народа с немцами депортация — это акт, который подрубает любое совместное будущее народов. Депортация — это не тот метод. Потому что Сталину пришлось бы, как замечательно показал Солонин, тогда и депортировать огромную часть собственного населения, которое сотрудничало с оккупантами напрямую, а некоторая часть сдавалась в плен, потому что верила, что Сталин хуже Гитлера. Это было чудовищным заблуждением, страшным, но не будем забывать, что последние предвоенные годы были годами панического ужаса и нравственной катастрофы.
«Поскольку речь зашла о безнадёжности бытия, — неправда, не зашла, Катя, не надо, — хочется задать вопрос об этой безнадёжности и ощущении нарастающей энтропии, например, в творчестве вашего друга Лазарчука. У меня создалось впечатление, что у него не просто «весь мир болит», он не просто ненавидит всё, что душит в человеке бессмертную душу, но и не видит выхода — разве что персональное бессмертие».
Почему? Лазарчук видит выход очень отчётливо как раз в преодолении человеком себя, в формировании новой личности поверх прежней. У него как раз в этом будущее и лежит.
«Мне кажется, что если бы Шаламов не попал в лагерь, он сажал бы сам».
Вадим, это очень справедливая догадка. Ну, не то чтобы он сажал бы сам, но он был непримиримым. Шаламов был непримиримый человек. Вы правы, упоминая, что он был близок к троцкистам. Но он был слишком культурен, чтобы сажать. Другое дело, что его моральный ригоризм привёл бы его либо к полному одиночеству, либо к тому, что он порвал бы со всеми. Да, такое имеет место быть. То есть Шаламов, прямо скажем, не самый приятный человек.
Несколько стихов прислано, все просят подробные комментарии. Просят лекцию о Янке Дягилевой, лекцию про «1984». Про Дягилеву, наверное, можно, я попробую со временем.
«Что вы думаете о Рерихах? О них много писалось, а затем всё неспешно ушло в песок. Что вы думаете об Агни-йоге? Секта ли это?»
Всё, что написано у Кураева о секте Рерихов, я разделяю — с той только разницей, что многое в писаниях самого Рериха интересно и талантливо. Что касается Агни-йоги, то это, по-моему, страшная графомания, хотя графомания хорошего человека. Просто секта Рерихов мне кажется дикой пошлостью.
Теперь я поговорю о Катаеве.
Что касается Катаева. Мне интереснее говорить о поздних его сочинениях, потому что ранние — вплоть до автобиографической тетралогии — вполне укладываются в каноны социалистического реализма. Катаев — единственный советский полноправный и полноценный ученик Бунина. И главная тема Катаева — это время, то, что оно делает с человеком, то, как оно проходит. Это я говорю не потому, что его главный производственный роман назывался «Время, вперёд!». Как раз Маяковский подарил ему эту строчку из своего «Марша времени» из «Бани» и сказал: «Напишете роман о пятилетке — дарю!» Маяковский любил вот так стимулировать коллег.
Что касается самой идеи того, что время делает с человеком. Катаев наследник Бунина в том, что для него главная проблема — это преодоление старости и смерти, и преодоление средствами литературы. «О, как жаждет моя душа появления этого феномена!» — пишет он о стиле Набокова, цитируя из него. Он хочет с помощью стиля, с помощью средств литературы действительно реально удержать мгновение. Отсюда — постоянные упрёки, вечно настигающие Катаева, в вещизме: в слишком большом внимании к воде «Фиалка» в «Белеет парус…», к разноцветной купюре в «Кубике», к костюму, к галстуку, к пейзажу даже, потому что у Катаева страшный аппетит к вещам.
Но не нужно думать, что это аппетит волчий, хищный, который часто в нём тоже подмечают. Вот Бунин говорил, что у него «волчьи уши». И Вера Николаевна Бунина вспоминала его «хищный голос», которым он говорил: «Я никогда не буду голодать! У меня обязательно будет всё! Я всё что угодно буду делать, пойду в услужение кому угодно, но не буду больше нищенствовать и голодать, и у меня будет нормальная жизнь!» Катаев мог в юности в порядке эпатажа говорить такое Бунину. И вообще то, что запоминают о нас наши учителя… Они всегда нас правильно характеризуют, потому что учитель может быть раздражён, у учителя, может быть, нет настроения. В общем, снисходительные оценки в адрес Катаева, которые раздавались из уст Бунина и его жены, не вполне справедливы. Они всё-таки знали его, во-первых, полущенком, хотя и с опытом Германской войны. А во-вторых, молодой Катаев был человек циничный, он мог и ради цинизма сказать: «Да, у меня будет всё! Да, я никогда не буду голодать! Да, я пойду в услужение кому угодно!»
На самом деле жадность Катаева к вещам иной природы: это жажда всё удержать от смерти, всё описать, чтобы оно не перешло в ничто. Вот эта жажда, этот «ужас поглощения в ничто», как Бунин сам говорил о смерти своего брата, ужас, который его всю жизнь преследовал, — он и Катаеву очень присущ. Помните, например, в «Траве забвения» замечательное сочетание. Он там пишет и постоянно же вставляет какие-то фрагменты из дня текущего. И вот этот замечательный стык: «На «Маяке» лёгкая музыка. Неужели всему конец?..» Вот это ощущение, что всему конец — кончилась молодость, кончилась жизнь, кончился смысл, — это пронизывает все катаевские тексты. И это было очень видно уже в пластических шедеврах, в его ранних описаниях и, конечно, в «Белеет парус…», но по-настоящему это стало проявляться в его поздней фрагментарной прозе.
Так называемый мовизм, Катаевым открытый, плохизм… Говорить о мовизме, о том, что это написано плохо, конечно, можно только с очень серьёзной долей иронии. Написано это первоклассно. Он этим термином «мовизм» заслоняется от критиков, которые его будут упрекать за отход от соцреализма. Но поздний Катаев, конечно, складывается из многих влияний — я думаю, не в последнюю очередь из розановского. Потому что розановская фрагментарность, строфичность, разбивка текста на крошечные реплики — это вообще мода начала XX века. Так писала неосознанно, ещё не зная Розанова, Ася Цветаева. Так построена проза Андрея Белого. Кстати говоря, я думаю, что Белый повлиял на Катаева гораздо больше, чем Розанов, потому что интонации 2-й «Симфонии» (драматической) просто ощущаются в каждом тексте позднего Катаева. Такая как бы повисающая в пустоте фраза, фрагменты, обозначающие паузы, задыхание, отчаяние, эти синкопы, перебои ритма и фразы, которые есть у него, — это, конечно, пришло из «симфонической» прозы Белого.
То, что Катаев пишет стихи в строчку, тоже придаёт им очарование. Он сам это объяснял тем, что для него стихи имеют протяжённость во времени и пространстве, они как бы часть пейзажа. Ну, это красивое объяснение, но оно ничего не объясняет на самом деле. Просто, когда стихи пишутся в строчку и становятся как бы частью обиходной речи, их поэтичность только подчёркивается.
И, кстати говоря, великое спасибо Катаеву за то, что через него мы узнали Нарбута, Кесельмана, Казина — совершенно забытых поэтов, а тем не менее первоклассных. А особенно Кесельман, конечно, которого без него просто бы никто не вспомнил; который выведен под именем Эскеса и который был автором гениального стихотворения:
Прибой утих. Молите Бога,
Чтоб был обилен наш улов.
Трудна [страшна] и пениста дорога
По мутной зелени валов.
Катаев сумел сохранить бурную, умирающую предреволюционную и пореволюционную Одессу, полную молодых гениев, вот это ощущение обречённости. Надо сказать, это написано гораздо гуще, чем у Паустовского в его рассказах об этой Одессе, где тоже фигурирует молодой Багрицкий, кстати. Ну, такие рассказы, как «Дочечка Броня», скажем, или повесть «Романтики», — это очень здорово, но у Катаева это крепче как-то, солёнее. И он больше любит этих людей, потому что, может быть, он сам один из них, почти ребёнком, гимназистом (что гимназистам запрещалось) начавший выступать на публичных концертах клуба «Зелёная лампа». Из книжки жены я как раз эту всю историю хорошо знаю. Да и мы вместе с ней ездили в Одессу этот материал собирать.
Одесса у Катаева — это действительно, наверное, самый обаятельный (даже более обаятельный, чем у Бабеля) образ творческого города, не бандитского, не молдаванского, не биндюжнического, а города, где молодёжь пьяна поэзией, живёт поэзией, где смерть ходит близко. И вот Рюрик Пчёлкин или Саша Пчёлкин, как называет себя иногда Катаев в молодости, — это бесконечно обаятельные герои. Помните, когда его чудом не расстреляли и он убегает за рядами кукурузы, по-кинговски говоря, в голове его всплывают стихи Николая Бурлюка, вот эти:
С лёгким вздохом смутным [тихим] шагом
Через сумрак смутных дней
По полям [равнинам] и по оврагам
Бедной [древней] родины моей.
Это удивительной силы текст. И на фоне этих великих стихов проза Катаева не проигрывает, потому что это ощущение любви, смерти, молодости, пограничности, предельности времени передано там с поразительной остротой.
Кстати, я считаю, что «Трава забвения» — это лучшее, что Катаев написал. И в том числе история девушки из совпартшколы, история Клавдии Зарембы, которую Жолковский в одной из последних статей подробно разбирает, доказывая её глубокую фальшивость, — невзирая на всю эту фальшивость, эта история на меня сильно действовала тоже. И хотя она только перепевает «Сорок первого» Лавренёва, но написана она лучше. Девушка, которая предаёт возлюбленного и потом всю жизнь по нему страдает, а ему удаётся бежать, и он о ней вообще не помнит. Это довольно ловко, довольно сильно написано. И, кстати говоря, замечательный образ самой этой Клавдии Зарембы, которая была революционной красавицей, а умирает жалкой старухой. И эта смерть — расплата за предательство любви, как бы мы ни относились к ней. Там Ингулов у Катаева восклицает: «Вот пример самопожертвования! Вот героическая жертва!» Да не жертва это, а предательство, преступление, мерзость — предать любимого ради идеи. Поэтому она и умирает этой одинокой старухой. Впрочем, он тоже умирает одиноким стариком в Париже.
По Катаеву, конечно, нельзя судить о том, как это было на самом деле, потому что в комментарии Лекманова и Котовой к «Алмазному [моему] венцу» подробно рассказаны его фантастические преувеличения. Но не стал бы я, тем не менее, и относиться к «Алмазному венцу» с этим общим снобистским тогдашним презрением. Я очень хорошо помню, как мать мне вручила 6-й номер «Нового мира» (мы его выписывали), 1978 год, с «Алмазным венцом». Мы его читали с упоением — и не только потому, что королевич (Есенин), или колченогий (Нарбут), или Командор (Маяковский) были невероятно обаятельными персонажами, а ещё и потому, что чувствовалось право Катаева так о них говорить, его большая любовь к ним, огромная любовь. Конечно, там было и некоторое панибратство. Но я совершенно не разделяю отношения Давида Самойлова, когда он пишет Лидии Чуковской: «При всей роскоши его стиля всё равно чувствуется, что где-то у него в душе мышь сдохла». Я так о Катаеве не думаю.
Для меня бесспорно, что в жизни Катаева было несколько предательств, когда он, в сущности, предал Зощенко, а потом на коленях у него просил прощения, когда он с Олешей не очень хорошо себя вёл. Но и Олеша не очень хорошо себя вёл в некоторых ситуациях 30-х годов, когда он спрашивал: «Как же мне относиться после постановления о музыке Шостаковича, если она мне нравится, а партия не нравится?» Подумаете, какой действительно судьбоносный, роковой вопрос!
Но как бы себя эти люди ни вели, во-первых, неизвестно, как мы бы себя вели в таких обстоятельствах. А во-вторых, Катаев нам дорог всё-таки прежде всего тем, что он в этих страшных временах сохранил верность духу своей юности. И если в этой юности был дух революции, то Катаев верен и ему. Хотя он пишет правильно: «Мы воспринимали революцию просто как Великую французскую, как её продолжение» («зелёная ветка Демулена»).
Кстати говоря, не будем забывать и о том, что Катаев был в числе очень немногих людей, которые помогали Мандельштаму. Надежда Яковлевна Мандельштам никогда не скрывала того, что она раздавлена этим временем, и никогда не приписывала себе моральной победы над ним. Она демонстративно пристрастна в своих мемуарах, и она постоянно называет Катаева «страшным циником». Но этот страшный циник никогда не отказывал ей в помощи, а другие, которые, может быть, казались ей романтиками, просто мимо проходили. Катаев любил Мандельштама и многое для него делал.
Я уже не говорю о том, что в самом тексте поздних сочинений, начиная со «Святого колодца», удивительная, пронзительная тоска — и даже не по молодости, а по осмысленной жизни. Катаев из всех писателей 20-х годов — единственный, кто сумел не иссякнуть. Понимаете, большинство эпосов 20-х годов, даже начиная с «Тихого Дона», безнадёжно увязали в колеях — не было возможности, не хватало инерции, чтобы их продолжать. Катаев сумел не предать свою молодость; он сумел написать прекрасную модернистскую прозу.
С матерью, пожалуй, я солидарен в том, что, наверное, лучшее в смысле изобразительной силы, самое пронзительное из его поздних сочинений — это «Разбитая жизнь, или Волшебный рог Оберона». До сих пор я помню великолепно многие потрясающие фрагменты оттуда. Кстати, из этой-то прозы мы и узнаём, как на самом деле обстояли дела, описанные в таком романтическом духе в «Белеет парус…». Гораздо крепче и острее пахнет от этих страниц, чем от достаточно всё-таки дистиллированных приключений Пети и Гаврика, потому что та Одесса, то очарование предвоенной Европы (а Одесса — это европейский, западный город, открытый миру, город, куда приходят корабли), очарование этой предгибельной Европой передано там великолепно; это вся полнота расцвета перед гибелью.
«Волшебный рог Оберона» — это история подростка, который зоркими, запоминающими, распахнутыми глазами смотрит в мир, а мир этот застыл на грани, и это мир конца личности, в нём скоро не останется места ничему. И смерть матери становится предвестием этой гибели. Там, кстати, очень точно сказано. Он спрашивает отца, который рыдает постоянно: «А что, если как-то, может быть, с помощью тока, как лягушку оживляли в гимназии, попытаться оживить мать с помощью гальванического толчка?» И отец говорит: «Нет, это безнадёжно, это будет всё равно жизнь после смерти», — то есть это не воскресит. И мысль эта у Катаева прочитывается особенно остро: после смерти этого мира ему давали только гальванические толчки; он не жил, он дёргался. И, конечно, как бы ни относился Катаев на словах к советской власти, по нему совершенно ясно, что советская власть — это гальванический толчок, который дал мёртвому миру иллюзию жизни, но не насытил его ни кислородом, ни свежей кровью, ни новыми мыслями — ничем. Вот это отношение ко всему будущему, как к гальваническому толчку, ему очень присуще.
Конечно, очень интересно подошёл Катаев к феномену обывателя и сверхчеловека в повести «Кубик» — там, где появляется этот новый герой Европы, маленький Наполеончик, который всё хочет подчинить себе, обыватель Наполеончик. Но об этой вещи я бы подробно говорить не стал, потому что «Кубик» многие считают неудачей. Всё-таки его напечатал Твардовский, но отнёсся к нему резко отрицательно. Да и Трифонов тоже, который об этом вспоминает в «Записках соседа». Всем казалось, что эта вещь манерная. Она, может быть, действительно несколько избыточна, но я хочу сказать, что катаевская сложность тогда бунтовала против всеобщей простоты.
И его проза, в которой многие видели и фальшь, и личные выпады, и попытку примазаться к бессмертным, — эта проза всё-таки была приветом из бессмертного времени, из великого времени. Не говоря уже о том, что тоску и боль старости, тоску и боль уходящего времени он передал с совершенно бунинской силой. И в этом для нас есть утешение, потому что словом всё может быть преодолено. И, конечно, особо надо отметить «Кладбище в Скулянах», замечательную автобиографическую вещь, и поразительную повесть «Уже написан Вертер», в которой впервые была сказана правда о троцкизме.
А мы с вами услышимся, как всегда, через неделю.
*****************************************************
27 мая 2016
-echo/
Д. Быков― Добрый вечер, дорогие друзья. Если я правильно понимаю, то меня наконец слышно. В студии Дмитрий Быков, который один на этот раз в Петербурге. Я попробую сейчас… Ну, проблема в том, что я, видите ли, одновременно слышу свой голос из Москвы и Петербурга, поэтому возникает такое странное эхо. Ну, ничего не поделаешь. Это, видимо, такой общий крест всех эховских ведущих, которые работают в Питере. Здесь у нас была такая скромная творческая встреча с клубом любителей «Эха Москвы» и клубом любителей журнала «Дилетант», как всегда, в отеле «Гельвеция». Обсуждали мы закономерности циклической российской истории. Но после этого я, по обыкновению, в течение ближайших двух часов буду с вами. И начинаю, как всегда, с вопросов, пришедших на форум.
Что касается темы лекции, то почему-то эти волны читательского интереса остаются непредсказуемыми. Все проголосовали дружно, с одной стороны, за временный отход от литературы и обращение к кинематографу — соответственно, за Андрея Тарковского подано огромное количество голосов. И конкурирует с ним Владимир Набоков. Я не очень готов сейчас говорить о Тарковском, мне следовало бы пересмотреть и «Жертвоприношение», и, наверное, «Рублёва». Остальное я помню очень хорошо. Да хотя и эти фильмы, в общем, помню, но это всё-таки нуждается в некоторой концептуальной ревизии. А вот что касается Набокова, то об этом, пожалуй, я поговорю, потому что я действительно тоже сам много о нём думаю в последнее время. А вот почему Набоков нам так сейчас важен — это вполне достойная тема для разговора.
Начинаю отвечать на множество вопросов, пришедших на форум. Среди них довольно много (и на почту в том числе) вопросов о Надежде Савченко. Понимаете, мне очень многое говорит о стране то, как там встречают национальных героев. Мне показалось, что всё-таки наших освобождённых встречали не как героев. И это, в общем, может быть, связано ещё и с тем ощущением, что инаугурация у нас происходила тоже не как государственный праздник. Я очень хорошо помню этот квазитриумфальный проезд по абсолютно пустой Москве. Это была прекрасная метафора. Мне кажется, что и Анна Чапман так и не стала национальной героиней, хотя из неё ещё делали национальную героиню и пытались как-то её воспринять как новый символ нации. В общем, мы в этом смысле отстаём. Может быть, потому, что у нас нет такого иногда истерического, а иногда очень дельного (на Украине это по-разному) сознания собственной правоты. Помните, ещё Мандельштам говорил: «Поэзия — это сознание собственной правоты». Политика в этом смысле с поэзией имеет ряд сходств. И мне кажется, что то, как там встречали Савченко, — это явление довольно триумфальное.
С другой стороны, я не могу не приветствовать того, что Владимир Путин здесь пошёл навстречу общим требованиям всяким (разумеется, не только российским) и её помиловал. Некоторые люди, для которых у меня, к сожалению, добрых слов и даже цензурных слов нет, продолжают называть Савченко «убийцей», хотя никаких доказательств этого суд так в результате и не привёл. Более того, очень многие опровержения этого обвинения и очень многие доказательства того, что Савченко никак не могла быть убийцей журналистов, просто отвергались с порога. Поэтому называть её «убийцей» — на мой взгляд, это даже не некорректно (тут какое-то гораздо более грубое слово должно стоять). Не очень мне понравились злорадные интонации некоторых СМИ, которые педалировали её слова о том, что она собирается выпить два литра водки. И все продолжают тиражировать эти слова. Мне кажется, что это тоже довольно гнусненько как-то.
Но, с другой стороны, мне кажется, очень гнусно сейчас постоянно ругать российское руководство. Всё-таки без участия российского руководства этот обмен бы не состоялся. Конечно, не состоялось бы и пленение Савченко, которое, на мой взгляд, создало сильную головную боль российской пропаганде на долгое время. Но надо, по-моему, приветствовать всякий шаг гуманизации. Как вот Дмитрий Песков уже высказался насчёт гуманности Порошенко. Странное такое высказывание, довольно двусмысленное. Но то, что помилован был Ходорковский, например, конечно, не отрицает того факта, что он был посажен, и посажен, видимо, не вполне справедливо (это я мягко стараюсь выражаться), но, по крайней мере, это не должно нас всё время… Видите, вот мучительно искать корректные формулировки. Это не должно нас так уж отвращать от очередного доброго шага российской власти. Ну почему не сказать «спасибо» за то, что хотя и с опозданием, но ошибка была исправлена? То, что Надежда Савченко оказалась в Киеве — это свидетельствует о том, что общественное мнение имеет какой-то вес. В любом случае это движение в плюс, а не в минус.
Я только боюсь другого: как бы за гуманистический шаг относительно Надежды Савченко не пришлось расплачиваться российским политзаключённым, за которых мало кто просит. Например, Сергею Удальцову было в очередной раз отказано в досрочном освобождении. Хотя для меня лично Удальцов — при всех его заблуждениях и моих с ним несогласиях — он в любом случае не террорист. И мне кажется, что и его участь тоже могла бы быть смягчена. Понимаете, очень печально, когда за одних просит всё мировое сообщество и их участь смягчается, а на других это сказывается в сторону ужесточения. Это довольно грустная ситуация. И мне кажется, что вообще гуманизация российского правосудия была бы очень благим делом. Но мы, может быть, когда-нибудь этого дождёмся.
Вопрос о Валерии Приёмыхове: «Что вам ближе — его сценарии или роли?»
Я вообще Валерия Приёмыхова очень любил и продолжаю любить как такое цельное замечательное явление. Конечно, его роль в «Пацанах», и совсем непохожая, совсем другая роль в культовом фильме «Мама, не горюй», и вообще его участие в поздних работах Динары Асановой и в качестве сценариста, и в качестве артиста — это очень интересный такой знак 80–90-х. Тем не менее, лучшим из того, что он сделал — и как актёр, и вообще как человек искусства, — мне представляется всё-таки его роль в фильме Прошкина «Холодное лето пятьдесят третьего…». Там и он, и Папанов — оба безвременно ушедшие, почти одновременно — они действительно воплотили два очень важных типажа, очень важных образа. У нас обычно в российском кино (я замечал это много раз) образ сильного добра почему-то часто выходит недостоверным, неубедительным. А вот Приёмыхов умудрился там сыграть действительно сильное и убедительное добро. Это тот человек, которому можно верить. И добро такое, может быть, даже с несколько волчьим оскалом, который у него был. Но Приёмыхову веришь.
И вообще «Холодное лето пятьдесят третьего…» — это фильм о том, как человек перестаёт терпеть. Главный герой этого фильма, конечно, интеллигент, но после отсидки он превратился в такого одинокого волка, немножко в духе Домбровского (Домбровский тоже был, пожалуй, такой одинокий волк). Кое-чему его там научили очень хорошо. И я думаю, что Приёмыхов именно воплощает тот тип, который Солженицыну мечтался, того человека, о котором Солженицын говорил: «Было бы побольше таких — другая была бы история России». И вообще «Холодное лето пятьдесят третьего…» не вредно пересматривать.
«Любите ли вы американский сериал «Симпсоны»? По-моему, его можно любить только за то, что в наших реалиях его соавторы отделались бы «двушечкой».
Я вообще не очень обычно прислушиваюсь к этому критерию. «Двушечка» — критерий не эстетический. «Симпсонов» я никогда не смотрел. Некоторые серии, которые я видел, были забавные. Но я «Южный парк» люблю гораздо больше.
«Произведения Куприна часто экранизируют, но такая драгоценная вещица, как «Суламифь», остаётся невостребованной. Как вы думаете, почему? А из «Синей звезды» получился бы великолепный мультфильм».
Видите ли, Куприна экранизировали часто, но я не помню удачных экранизаций — вот в чём ужас. Был сериал неплохой, в принципе, но по большому счёту Куприн не экранизируем. Я пытаюсь понять почему. Кино ведь… Тут тоже довольно забавный критерий. Есть вещи, которые принципиально экранизировать невозможно, потому что там типажи обрисованы с очень большой долей условности, они погружены в такой сгущённый воздух, что ли, в такое особое поле авторского видения. И герои Куприна на экран переносятся с трудом. Можно любить Абрама Роома, можно не любить, но это крупный режиссёр. Самый провальный его фильм, на мой взгляд, — это «Гранатовый браслет», потому что это и слащаво, и сентиментально. Нет, я это помню, конечно. Он снял ещё и «Суд чести», который, пожалуй, нельзя назвать провальным, потому что это блистательный образец подлого кино. Но Роом не виноват, время было такое. Во всяком случае, я склонен оправдывать художника. А вот «Гранатовый браслет» — это чистый вкусовой провал.
И я даже больше скажу. Вообще в прозе Куприна вкусовых провалов очень много, и именно это не позволяет ему занять положение, приличествующее ему. Например, я ставлю его гораздо выше Бунина, а у Бунина лучше дело обстоит со вкусом, поэтому Бунин больше нравится, у Бунина Нобелевская премия, Бунина больше переводят. А ведь Куприн никак не меньший инноватор. Но просто у Куприна есть такой налёт беллетризма, иногда налёт слащавости, иногда — авантюрности. И это мешает экранизировать его вещи. Его герои довольно условные. В купринской прозе — с её ослепительным солнцем, с её праздничным стилем, с её преувеличением всего — там они смотрятся органично. А вынь их из этого воздуха… Ну, это как камень морской достать со дна — и он перестаёт играть всеми красками.
Единственная более или менее удачная попытка — по-моему, это месхиевский «Гамбринус», насколько помню, по сценарию Тодоровского — человека, всё-таки в высшей степени наделённого чутьём и тактом художественным. А так вообще очень трудно. Куприн — это такой, понимаете… Ну, как экранизируешь «Солнечный свет»? Он, когда переносишь его на камеру, всё равно блекнет, поэтому его надо читать. Я рискну сказать, что, вообще говоря, прозу — темпераментную, яркую, изобразительно яркую — практически невозможно экранизировать. Поэтому, кстати говоря, нет удачных экранизаций Набокова. Я и «Лолиту» кубриковскую считаю бледной тенью романа, потому что набоковская атмосфера на экран не передаётся, не передаётся ирония.
Тут, кстати, просят поговорить о Куприне. Давайте через раз. В следующий раз поговорим о Тарковском. Почему бы нам не поговорить о Куприне, в конце концов? Потому что это один из самых, на мой взгляд, душеполезных авторов, он заряжает волей к жизни.
«Искусство как элемент духовной культуры улучшает ли природу человека? Пусть медленно, по крупицам. Хотя бы за минувшие 2 тысячи лет, со времён Веспасиана, вся совокупность «культурного фонда», сделала ли она human being [человеческое существо] хоть чуточку добрее? Или эти два вектора — культура и нравственность — идут параллельным курсом?»
Дорогой vitwest, ответ на ваш вопрос мог бы составить не одну диссертацию и сюжет отдельного цикла программ. Видите ли, тут дело в том, что не совсем о нравственности нужно здесь говорить. Бродский вообще считал, что занятие культурой — это самое нравственное занятие, потому что это попытка гармонизировать мир. А мир вообще надо гармонизировать, расставлять как-то по размерам, по рангам, как-то его зарифмовывать — ну, делать его чуть более симпатичным. У меня был, надо сказать, такой стишок довольно давно:
В начале ноября, в подземном переходе,
При отвратительной погоде,
Старуха на аккордеоне
Играет «Полонез Огинского» [«Брызги шампанского»] и поёт,
[Подземный пешеход ей неохотно подаёт]
И я не знаю, лучше или хуже
От этой музыки среди добра [рванья] и стужи
Становится подземный переход.
В грязи, в отчаянье, в позоре [в разоре, холоде, позоре]
К чему возвышенные зовы?
Цветы, растущие на зоне,
Не служат украшеньем зоны.
Ах, может, когда б не музыка,
Не Ариосто, не Басё —
Господь давно б набрался мужества
И уничтожил это всё.
Искусство не сводится к скучным [скудным] схимам,
Не каменеет [костенеет] под властью схем
И делает мир чуть более выносимым,
А если вдуматься [вглядеться], невыносимым совсем.
Вот у меня такой подход к этому. То есть для меня как раз искусство обнажает по контрасту всю бесчеловечность мира — и этим, наверное, всё-таки заставляет немножко одуматься, несколько улучшает его. Но не ждите от искусства нравственных уроков, вот в чём дело. Искусство должно потрясать. А это потрясение само по себе — оно улучшает нравственный климат. Потому что:
А душа, уж это точно, ежели обожжена,
Справедливей, милосерднее и праведней она.
[Окуджава]
Искусство должно обжигать душу, а учить морали оно не может.
«Творчество Игоря Ефимова широко охватывает несколько исторических эпох. Читая его книги, лучше понимаешь римлянина, средневекового русича, американца времён Войны за независимость. Споры героев о христианстве и рабстве звучат современно. Как вы оцениваете прозу Ефимова?»
Я как раз передаю большой привет Игорю Ефимову, и не просто от себя лично, а ото Льва Мочалова, который вёл когда-то ЛИТО, где Ефимов дебютировал. Я сегодня был в гостях у Мочалова и, празднуя с ним его 88-летие, увидел ефимовскую повесть (кажется, «Аспирантку»), ему надписанную. Так что, Игорь, учитель ваш вас помнит. И мы добрым словом и чашкой крепкого кофе вас там тоже вспомнили.
Я люблю прозу Ефимова, но, поразительное дело, я больше люблю его теоретические работы: книгу про Кеннеди и особенно «Метафизику неравенства», которая для 70-х годов, может быть, и не открывала каких-то принципиально новых философских горизонтов, но она поднимала важный вопрос. Мне кажется, она более адекватно, чем Айн Рэнд, вступает в дискуссию о равенстве и неравенстве. Потому что в Айн Рэнд (тоже в петербургском авторе — Алисе Розенбаум) меня несколько отвращает её высокомерие, такое немножко женское: «Ты мужик — так ты и зарабатывай». А вот Ефимов в своих теоретических и философских работах, обосновывающих неравенство, мне кажется и парадоксальным, и весёлым, и, как ни странно, довольно гуманным. И вообще сама авторская ефимовская личность очень обаятельна. И я думаю, что он, по преимуществу, эссеист, а не художник, хотя у него есть и замечательные художественные сочинения. Просто мне кажется, что он парадоксальнее и острее там, где он говорит напрямую. Мемуары его двухтомные я очень люблю, они занятные. И, конечно, переписку с Довлатовым.
«Привет от группы во «ВКонтакте»! — привет группе во «ВКонтакте»! Спасибо, ребята. — Есть ли что-то общее между вашей «Орфографией» и «Доктором Живаго»?»
Ну, как не быть? Конечно, есть. Я имел в виду опыт Пастернака, когда этот роман писал. И я, как раз тому же Мочалову его надписывая, отметил, что ему преподносится некоторый гибрид «Доктора Живаго», «В тупике» и большинства русских революционных романов. Ну, откуда мне знать было ту реальность, как не из русской прозы? Хотя любой человек, проживший 90-е годы, примерно знает, как оно было в Петрограде 1918 года. С «Доктором Живаго» её роднит проблематика, конечно, и опыт истории русского христианства. Никто этого не понял, к сожалению. Но тот мальчик, который там появляется, если вы помните роман, — это такой образ русского христианства, с которым вот это случилось. Это довольно страшная история.
Кстати, я помню, как неожиданно через год после выхода «Орфографии» я таким туманным утром, довольно готическим, выгуливал собаку около дома, и ко мне подошёл молодой человек неожиданно, как бы соткавшись из этого тумана, и спросил: «А что означает мальчик в «Орфографии»?» Я так был потрясён, что живой читатель возник в этот момент! И я попробовал ему популярно объяснить, что я там имею в виду под мальчиком. Он кивнул с очень понимающим видом — и, не попрощавшись, исчез. Если сейчас он меня слушает, передаю ему большой привет! Вот такого читателя я люблю — внезапно появляющегося и задающего дельные вопросы.
«Пришла в голову мысль, что Иван из рассказа Богомолова и Пьер Семёнов из «Малыша» Стругацких — чуть ли не один и тот же человек. Один изуродован войной, другой — чужой планетой. Оба — найдёныши. Они думают и запоминают одинаково — с помощью подручных средств. С тех пор они и визуализируются у меня одним образом. Что вы думаете об этом?»
Блистательный вопрос! Понимаете, тогда Николай Бурляев, играющий дикого мальчика, не просто так стал самым востребованным актёром своего поколения. Он сыграл его и в «Мама вышла замуж», и в «Иване». Между прочим, вот этот маленький мастер, который льёт колокола в «Рублёве», которому отец так и не передал секрета, — он из той же породы.
Я могу вам сказать примерно, как я себе представляю (хотя это тема отдельной хорошей лекции — тема детства в 60-е годы), откуда возникает вдруг эта проблема. Понимаете, тогда очень многие с опаской относились к детям, к детям нового поколения. И относились не только ренегаты и консерваторы, вроде Николая Грибачёва, который говорил: «Хватит вам, мальчики!» — называл их «мальчиками». И тогда Окуджава на концерте в «Лужниках» сказал: «Я перестал быть мальчиком в сорок первом году под Моздоком». Это хороший был ответ. Действительно, это высокомерие отцов по отношению к детям — это дурной тон.
Но надо сказать, что мальчики, появившиеся тогда, — это были действительно мальчики довольно жестокие. Вот один из образцов такого же мальчика, визуально очень похожего и на Малыша, и на героя «Иванова детства», — это мальчик из фильма «Долгие проводы». Тоже не очень понятно, как его жалкой, неумелой и странной матери, которую гениально сыграла питерская актриса Зинаида Шарко, собственно к нему относиться? Помните, он там говорит «обшество»: «А что я должен обшеству? А почему я должен для этого обшества что-то делать?» Кстати говоря, и в «Чистом небе» появляется такой же герой.
Понимаете, с табаковским мальчиком, с розовским мальчиком ещё более или менее понятно, что делать. Они — такие наследники комиссаров. А вот что делать с детьми, которые заинтересовались мокрецами и пошли к мокрецам, как в «Гадких лебедях»? Они — те дети, которые расспрашивают Банева во время встречи. Известно же, что прототипом этой встречи стал визит Стругацких в ФМШ, в физмат-школу в Новосибирске. И они не знали, как с этими детьми быть. Иронии и жалости у них не находили, шестидесятнические добродетели на них не действовали. Да, действительно откуда-то появились эти новые дети. И Тарковский первым попал в эту точку, в этот нерв. И только благодаря этому, я думаю, фильм так и был принят в Венеции, потому что это была мировая, универсальная проблема. Появились эти новые злые дети.
Ведь дело даже не в том, что Иван изуродован войной. Иван вообще изуродован бесчеловечностью XX века. Есть одна очень интересная работа, в Израиле написанная, о том, что и Холден Колфилд, и Лолита — эти два главных подростка 50-х годов — это дети войны, дети порванной преемственности. Кстати говоря, в 50-е годы проблема назрела, Холден Колфилд стал таким ребёнком. А в известном смысле некоторым ужасом и, пожалуй, даже отчаянием при виде нового поколения продиктован и рассказ Сэлинджера «Тедди». Мы не знаем, что с ними делать. Они гибнут у нас на глазах (там Тедди и гибнет, собственно, предсказав свою гибель), а мы не знаем, что с
ними делать и как их спасти. Мы стоим над пропастью во ржи, пытаемся спасти этих детей, а они бегут в свою пропасть.
Кстати говоря, это та же проблема, которая на новом уровне затронута в столь нашумевшей публикации «Новой газеты», в очерке Мурсалиевой. Мы стоим над пропастью, а они пробегают у нас между пальцами. И Малыш, и Иван — это, безусловно, не просто дети войны. Я рискнул бы сказать, что это результат эволюционного скачка какого-то. И этот эволюционный скачок шестидесятники почувствовали первыми, потому что шестидесятники сами по отношению к отцам были, конечно, и беспощадны, и всё-таки по большей части снисходительны; они относились с пониманием и даже где-то с преклонением. А вот следующие дети — следующее поколение — представлялись им дикими. Это семидесятники, которых они не поняли. У шестидесятников была своя драма, потому что их отвергли собственные потомки. Это достаточно тяжёлая история.
«Насколько ваши литературоведческие оценки для вас — искусство возможного? То есть, вынося оценку, насколько вы стремитесь «сказать, как перед смертью»?»
Я понимаю вопрос. Я довольно снисходителен в этой области. Я не ищу совершенства. Как сказал Сальвадор Дали: «Не бойтесь совершенства. Вам его не достичь». И я не требую совершенства от художественного текста, чтобы это действительно было, как перед смертью. Я требую от него искренности. Ну, «искренность» — пошлое слово. Во всяком случае, я требую от него максимального соответствия автора своим возможностям. Я про большинство своих текстов не могу сказать, хороши они или плохи. Я могу сказать, что я сделал то, что мог. В этом смысле я честен. Всё, что мог, я сделал. Я выложился по полной. Лучше я не мог.
«Мне понравился фильм «Мой младший брат» по повести Аксёнова, но мне кажется, что там необязательна смерть старшего брата, которого сыграл Ефремов. Ведь герой Збруева уже был близок к перелому сознания, а смерть брата ничего не добавляла».
Слушайте, это тоже характерная черта искусства 60-х годов, когда надо было обязательно убить героя, чтобы доказать его верность идеалам. Не надо было совершенно убивать героя в «Девяти днях одного года» у Ромма, например. А что изменилось бы, если бы он выжил? Мы даже не знаем, умирает он или нет, но и последняя записка «Мы успеем сбежать в «Арагви», всё как бы говорит о смерти, о смерти жизнерадостного, доброго человека, который так весело жил и не хочет омрачать своим уходом ничьего настроения. Равным образом (они все физики же) погибает герой фильма и, кстати, романа Аксёнова. Почему там погибает старший брат? А потому что без этой гибели мы не можем признать, что он верен наследию отцов. Об этом было стихотворение Евтушенко, помните, где «нигилистом» называли молодого человека, а потом он погиб, насколько я помню, на стройке:
Его дневник прочёл я.
Он светел был и чист.
Не знаю я: при чём тут
прозванье «нигилист».
Для того чтобы оправдать этих «нигилистов», надо было показать, что они, как и отцы, погибают. И вообще почему-то, пока герой не погиб, он не может считаться до конца положительным, он как бы не обрёл совершенства. Как писал Хвостенко: «Мёртвая старуха совершеннее живой». Конечно, это гнусная черта советского положительного героя, что его обязательно надо убивать. Сейчас, слава богу, в наше время уже это не так.
Вернёмся через три минуты.
РЕКЛАМА
Д. Быков― Продолжаем разговор. Дмитрий Быков в студии, «Один» (правда, в ленинградской, петербургской). Меня не видно. Наверное, многие этому радуются, но интересуются, как я выгляжу. Неплохо выгляжу. Правда, у нас тут был довольно проливной дождь, поэтому я не до конца ещё просох, но это придаёт мне некоторой элегантной курчавости.
«Повесть Толстого «Крейцерова соната» кажется мне странной, тупиковой. Позднышев высказывает мысли автора о семейной жизни или нет? Куда собственно Толстой зовёт людей?»
Андрей, не надо думать, что писатель вообще кого-то куда-то всегда зовёт (и даже такой назидательный, как Толстой). Толстой переживает тяжёлую личную драму — его жена влюбилась в Танеева, и влюбилась, судя по её дневнику, по-настоящему. Ему 60 лет, а она — ещё цветущая женщина (у них 19 лет разницы). Танеев, который там описан с большой долей отвращения, с широким тазом, со всеми делами, — действительно он не очень как-то катит на роль героя-любовника. Толстой безумно страдает от ревности. Он сохранил в старости все черты горячей юности. Он сходил с ума при виде кухарки, которую страшно вожделел. Помните эту запись в дневнике: «Посмотрел на босые ноги — вспомнил Аксинью», — имеется в виду сюжет, который потом отражён в «Дьяволе». Естественно, что эти борения плоти в старости не стали ничуть мягче. Вот он переживает драму, у него семейная трагедия: жена полюбила другого. Хотя она и утверждает, что это не любовь, а только музыку она любит, но всем всё понятно. И вот он представляет, как бы он её убил, как бы он с ним поступил. А потом постепенно на этом же фоне у него возникают ужасные мысли о том, что мы вообще используем женщину как самку, что надо, как животные, делать это раз в год или в месяц, что вообще семейная жизнь — это всегда насилие, что секс — это всегда немного убийство.
Ну, у него же в жизни не всегда так было. Были и изумительно гармоничные периоды. Но — да, бывают такие тяжёлые периоды. Помню, как мне Таня Москвина, посмотрев «Груз 200», сказала: «Да, из нашего Лёши высунулось вот такое копыто». Иногда бывает. Ничего страшного. То есть «Крейцерова соната», конечно, не зовёт к отказу от секса и к прекращению размножения. Это описание того, что я назвал бы «синдромом Позднышева»: отвращение к миру, отвращение к людям, тяжёлое раскаяние в совершённом убийстве. Ну, очень трудно ждать от Позднышева, чтобы он куда-то человечество вёл. Он — просто человек в тяжёлой депрессии, вот и всё. Это сильно написано. Это выражение тех чувств, которые у Толстого вызывала «Крейцерова соната» Бетховена.
Кстати говоря, я думаю, что удачной экранизации тоже не было — при всей талантливости «Сонаты» Швейцера, не получилось. Эту вещь надо очень мрачно делать. Вот спектакль во МХТ был настоящий. И всегда вспоминайте слова Чехова: «До моей поездки на Сахалин «Крейцерова соната» представлялась мне большим событием, а теперь я не понимаю, как мог месяц думать об этой ерунде». Действительно, есть вещи более серьёзные, в том числе у того же Толстого. Он благополучно этот кризис преодолел. Я вообще считаю, что самый главный шедевр позднего Толстого — это «Отец Сергий». И очень приятно, что я с этой своей точкой зрения так совпадаю с любимым моим автором — Денисом Драгунским.
«Уайльду приписывается афоризм: «Обижаться — удел горничных». Как вы относитесь к этому афоризму и вообще к обидчивости?»
Не помню у Уайльда такого афоризма (всё помнить не будешь, конечно), но правильная мысль, просто очень трудно исполнимая. Вопрос в том, чтобы переживать не обиду, а драму. На обиженных воду возят. «Обида» — мне кажется, это слово с достаточно негативной и, я бы сказал, даже унизительной модальностью. Я предпочитаю всё-таки вместо «обида» говорить «травма», «трагедия», «месть» — всё, что хотите. А «обиженный» — в русском языке это очень неприятное определение.
«Герои «Дуэли» Чехова словно искрятся во время своего противостояния. Дуэль придаёт жизни и Лаевскому, и фон Корену, даёт им остроту и яркость. Кто из них прав — Чехову не важно. Правды никто не знает, но драчка разнообразит жизнь. Так ли это?»
Нет конечно. Дело в том, что «Дуэль» — очень сложный текст со сложным генезисом. Он травестирует, пародирует основные мотивы русской литературы. Надо сказать, что дуэль травестируется уже в «Отцах и детях», где дуэль Павла Петровича с Базаровым носит явно пародийный характер. «Дуэль» — итоговый текст для литературы XIX века. Он сразу итожит две темы — и тему сверхчеловека (фон Корена), и тему лишнего человека (Лаевского). Оба представлены в унизительном виде, конфликт их отвратителен, отвратительны и они оба. И положительный (простите за школьническую терминологию), любимый автором герой там один — это дьякон. Это и ответ. Этот добрый, смешной, неловкий, молодой, очкастый дьякон, который проваливается в болото по дороге, который разговаривает с зайцами, который вдруг выбегает и сам заячьим голосом кричит «Он убьёт его!» и срывает дуэль, — это самый трогательный чеховский персонаж, конечно, самый любимый, это такой его протагонист главный. А и Лаевскому, и фон Корену дуэль далеко не придаёт величия, а наоборот — она делает их обоих довольно пошлыми типами.
«Не кажется ли вам, что у художественных стилей Балабанова и Павленского много общего? Оба бьют в самое больное, раскалывают общество на два лагеря». И просят лекцию о Тарковском.
Влад, хороший вопрос. Я просто думаю, что общее здесь глубже. И Балабанов, и Павленский в своих эпатажных картинах и акциях решают глубоко внутренние проблемы. Они не социальные борцы. Они борются с личной несвободой, с личными комплексами, с личными драмами. Кстати говоря, я считаю Павленского человеком искусства, безусловно. И отвага его меня впечатляет. Конечно, не только она выражалась в том, что он прибивал мошонку к Красной площади (хотя это тоже символ интересный). Но когда он оплетал себя колючей проволокой или зашивал себе рот — это искусство, причём искусство кровавое, жертвенное, тяжёлое. И я считаю, что Павленский — всё-таки из людей, концептуально работающих в искусстве современном, самое выдающееся явление. И, конечно, акция с поджогом дверей выявила очень многое в российском обществе. Кстати говоря, когда произошла акция Pussy Riot, она мне казалась и преждевременной, и чрезмерной, и во многих отношениях избыточной. Но когда я увидел реакцию на неё, я понял, что они тоже ударили в больное, что они выявили очень важные аспекты русской жизни. Естественно, я никого не призываю повторять эти акции.
Господи, какая это мерзость вообще! — всё время делать эти оговорки, всё время ориентироваться на какого-то слушателя, который сидит сейчас с блокнотом в руке и помечает: «А, здесь — экстремизм! А, здесь — призывы! А, здесь — территориальная целостность нарушена!» Вот сидят же такие, простите, гады, которые просто любят осложнять остальным жизнь. Недавно Ирина Яровая всех призвала к доносительству (косвенно призвала, конечно). Но как ужасно всё время думать, что сидят доносчики и получают от этого наслаждение. Это тоже такая мастурбация своего рода, такой онанизм интеллектуальный, потому что никакой радости они не могут извлечь из обычной жизни — вот они и извлекают её из мерзости, воображают себе всякую мерзость и извлекают из неё пользу. Я уверен, что эти люди бескорыстны. Они просто ради мерзости это делают. И количество людей, которые хотят за счёт мерзости подняться, испытать восторг, — таких людей не очень много, но они очень сильно пахнут. Вот как-то надо научиться от них абстрагироваться.
«Вы говорили, что в Интернете общаются не души, а самолюбия. А как насчёт автомобилистов? Чем же общаются они?»
Я не знаю, какой орган отвечает за доминирование, но, конечно, на российских дорогах очень много жажды доминировать. Пропустить считается стыдным, считается целесообразным нахамить женщине — у многих, это не всеобщая черта. Но, конечно, какая-то «доминилка», если бы она была, «женилка», как это называлось у Шолохова… Вот «доминилка» какая-то — да, она мешает.
«Уверен, что вы читали роман Дино Буццати «Татарская пустыня», — как же, все читали, — и смотрели фильм режиссёра Валерио Дзурлини, — есть такое дело. — Герои книги и фильма живут в предощущении скорого и неминуемого конца, даже желая приблизить скорбный исход, устав от навязчивого ожидания чего-то неизвестного. Согласитесь, что-то похожее наблюдаем и мы сегодня».
Знаете, какая история? Конечно, роман Буццати был отчасти преддверием замечательного, на мой взгляд, и лучшего романа Кутзее «В ожидании варваров», который, в свою очередь, построен на тех же символах: граница, варвары, пустыня. Это всё — такая символика, которая и в стихотворении Кавафиса уже задана. Видите ли, тут дело в том, что эти люди ждут не просто нашествия, а они ждут нашествия именно варварского. Они ждут, что из пустыни, из дикого пространства придёт что-то чуждое, и в этом откроется какой-то смысл. Но это, на мой взгляд, было заблуждением, потому что из варварства, из прошлого ничего нового прийти не может, уже это историей приговорено. Поэтому мне кажется, что никакие пассионарии в пустыне нас не ждут. То, что эта пустыня красная — это, кстати, весьма символично. Но из красной пустыни ничего нового нам не явится. Кстати, фильм пронизан действительно не просто этим ожиданием, но и как бы чувством глубокого разочарования. И ценен он, конечно, не своими диагнозами, в том числе социальными, а главным образом — великолепно переданной атмосферой такой исчерпанности, конечно.
«Полюбил творчество Джозефа Конрада, — и правильно сделали. — Расскажите про неоромантизм. Не кажется ли вам, что романтизм вновь придёт в литературу?»
Слушайте, он и не уходил, по большому счёту. И Конрад не уходил. И неслучайно «Сердце тьмы» послужило основой «Apocalypse Now» Копполы. Конрад остаётся востребованным автором точно так же, как и большинство неоромантиков. Что, Джек Лондон куда-то делся, что ли? Нет конечно. Я бы даже не сказал, что… Просто неоромантизм — это такой постколониализм, если угодно, потому что в литературе 20–30-х годов XX века очень востребованной оказалась тема бытия колоний. Лучше всех об этом писал Моэм, конечно. Здесь действительно было обаянием и дикостью некоторой. И самое главное, что это такое новое открытие мира.
Знаете, в чём симметрия? Вот была эпоха Великих географических открытий. А это — то, что вы называете «неоромантизмом» (и многие, кстати, называют) — это эпоха Великих географических закрытий, когда колонии перестают быть колониями и начинают самостоятельную жизнь, и мы как бы заново открываем их дикость. Это то, про что Киплинг написал в «Бремени белых», и я пытался написать в одноимённом стихотворении. Мы понимаем вдруг, что наше, условно говоря, европейское влияние на мир ничего не изменило; что эти люди живут по-прежнему своей жизнью; что Индия при англичанах осталась кастовой и без англичан будет кастовой; что далёкие острова и далёкие, неописуемые, эти таинственные пространства, в которые так стремился Гоген (и, соответственно, герой «Луны и гроша», Гогену не тождественный), — это по-прежнему загадка; что рационализм, Запад этого не постиг, что Восток остался тайной. И Грин, кстати говоря, из этой же плеяды. Лавкрафт из этой же плеяды. Мир оказался по-прежнему полон тайны. Это то, что главный неоромантик Гумилёв выразил очень точно:
Но в мире есть иные области,
Луной мучительной томимы.
Для высшей силы, высшей доблести
Они вовек [навек] недостижимы.
Это — иллюстрация к какому-нибудь лавкрафтовскому пейзажу. То есть вдруг оказалось, что в мире по-прежнему есть место тайне, но эта тайна уже не географическая, это не поиск какого-нибудь пролива между океанами, не поиск Америки. Тайной оказался человек, тайной оказался туземец. Вот Грин, Конрад — они очень в этом смысле близки. И Лавкрафт — третий с ними. Они и внешне были все очень похожи.
Кстати, к вопросу о неоромантизме. Я думаю, что сейчас этот конкистадорский дух может вернуться. Ну, сейчас уже арабский мир оказался в центре этого дела. Думаю, что Африка просыпается, и какой-то интерес к Африке будет вспыхивать сейчас заново. То есть вопрос: какой человек в ближайшее время будет тайной? Ясно, что это будет человек Востока.
«Стихотворение Анненского «Петербург» мрачно и пессимистично. Поэт говорит страшные вещи о граде Петра и о самом царе. Неужели он прав, и от созданного Петром остаётся «сознанье проклятой ошибки» и «отрава бесплодных хотений»?
Ну, почему так? Анненский — вообще поэт довольно мрачный. Вспомните «То было на Валлен-Коски» или «Старых чухонок [эстонок]». Он, вообще-то, утешения не предлагает. Как сам он это называл, это «песни бессонной совести», страдания. Поэтому и эти его «трилистники» знаменитые. Но «Петербург» — не такое уж и мрачное произведение.
Жёлтый пар петербургской зимы,
Жёлтый пар, окаймляющий [снег, облипающий] плиты…
Я не знаю [мы не знаем], где вы и где мы,
Только знаю [знаем], что крепко мы слиты.
Кто эти «вы» и «мы»? Это ощущение исторической преемственности. Это же обращено к людям XIX века. Да, конечно, русская государственность — это прежде всего «пустыни немых площадей, где казнили людей до рассвета». Но есть в этом и другое. Есть в этом, конечно, и упоение стройностью, державностью, пушкинской гармонией Петербурга. Он только одно очень точно предсказал. И действительно я согласен с Кушнером (да и с Ахматовой), что из Анненского и выросла вся лирика XX века, включая даже Маяковского, даже Хлебникова. Он действительно предсказал главное:
Царь змеи раздавить не сумел,
И кольчатая [прижатая] стала наш идол.
Что имеется в виду? Какую змею он не сумел раздавить? Вот это вопрос гораздо более серьёзный. Потому что, как мне кажется, главное искушение, которое касается уже не русской государственности (как раз Пётр борется с этим), главное искушение России — это самоненависть, взаимная ненависть. И эта ненависть, символизируемая змеёй, и стала нашим главным соблазном, нашим идолом. Пётр, повернув Россию к Западу, европеизировав её, всё-таки не сумел этой змеи раздавить, этого русского ада он не победил. Вот Брюсову казалось, например, что Пётр победил:
Сменяясь, вставали [шумели] вокруг поколенья,
Вставали дома, как посевы твои…
Твой конь попирал с беспощадностью звенья
Бессильно под ним изогнутой змеи.
А вот Анненскому кажется, что он не попрал эту змею, что эта змея Петру не покорилась. И, строго говоря, вся история России — это история нашего нового Георгия, история Петра, который пытается победить змею. И эта змея — это не измена, а это та изначальная какая-то сущность злобы, предательства, которая живёт просто в морали, которая и делает эту русскую мораль такой амбивалентной. Если бы Петру удалось эту змею изначальной какой-то злобой побороть, рациональным умом, то, может быть, всё получилось бы. Но я, кстати говоря, думаю, что в конце концов Пётр оказывается всё более прав, а змея доживает всё-таки последний век. Мне кажется, что уже хватит.
«Как вам речь Савченко? Когда в словах нет злобы, становится видно величие. У такого политика есть потенциал».
Приятно, что вам нравятся другие люди, это всегда хорошо. Но я не вижу пока величия. Я вижу много соблазнов. Она, безусловно, человек очень мужественный. И, безусловно, здесь есть очень большая победа. Но такими словами, как «величие», я бы пока всё-таки не бросался. Хотя ещё раз говорю: я очень рад, что она на свободе.
«Герои романа Иванова (географ, например) часто говорят вымышленными поговорками. Сделано ли это только ради обаяния героя, или это что-то вроде его «заговора от бед»?»
Нет, это стилизация. И вообще очень многие термины в ивановских исторических романах — они, мне кажется, выдуманные и нарочито стилизованные. Я его как-то спросил: «Почему так много технической терминологии при описании изготовления, допустим, плота или барки?» Он сказал: «Ведь когда ты читаешь Жюль Верна, тебе же нравятся все эти бом-брамсели, хотя ты понятия не имеешь, где они». Это такое создание романтического колорита, если угодно, такая неоромантика. А романтика всегда очень тесно связана с фольклором.
«Как вы относитесь к творчеству Леси Украинки? «Одно слово» меня потрясло».
Очень приятно, что потрясло. Я надеюсь, что вы его прочли по моему совету. А если не по моему — тем более. Я говорил много раз, что я считаю Лесю Украинку гениальным поэтом и очень сильным драматургом, кстати говоря. «Каменный хозяин» — замечательная пьеса. Но прежде всего — поэтом. Многие её стихи я наизусть знаю, «Про великана» в частности, переводил её много раз. Даже пытался переводить «Одно слово», а потом понял — зачем? Всё равно же всё понятно, а только портить?
«Салтыков-Щедрин у нас стал чрезвычайно актуальным в очередной раз. Как вы считаете, можно ли надеяться, что в обозримом будущем настанет момент, что мы будем ценить этого автора исключительно за литературные достоинства его прозы, без этой печальной злободневности? И думается, Михаил Евграфович не обрадовался бы сегодняшней популярности».
Надя, как вам сказать? Он вообще обрадовался бы, что его помнят. Он-то себе не отводил места в первом ряду русской литературы. Хотя это безусловно гений, безусловно писатель первого ряда. Я много писал о том, как Маркес воспользовался опытом «Истории одного города», чтобы написать «Сто лет одиночества». Там даже пожары текстуально совпадают. И вообще очень похож приём сам по себе: через город, как через кольцо пропускают платок, пропустить всю историю страны. Это очень важное метафорическое произведение. Надо было быть Писаревым, чтобы ничего в нём не понять и написать «Цветы невинного юмора».
Если говорить откровенно, то мы и сейчас уже в Салтыкове-Щедрине гораздо больше актуальности ценим психологизм и, конечно, силу слова. Знаете, когда я в десятом классе… У меня сейчас очень умный десятый класс в »[Золотом] сечении». Когда я там читал «Торжествующую свинью, или Разговор свиньи с правдою», то там не просто хохот, там стон стоял в классе! И действительно есть от чего стоять. Помните:
[Свинья.] Правда ли, что есть на свете какая-то правда, которая околоточно-уголовной не в пример превосходнее?
[Правда.] Правда, свинья.
[Свинья.] Правда ли, что есть солнце? Живучи в хлеву, никаких я солнцев не видывала.
[Правда.] Это оттого, что природа, создавая тебя, приговаривала: не видать тебе, свинья, солнца красного!
[Свинья.] Ишь! А в чём же корень зла?
Правда (задумчиво). «Корень зла? Корень зла… (Внезапно.) В тебе, свинья!
Публика. Ишь, распостылая, ещё разговаривать вздумала! Ай да свинья! Вот так затейница!
[Свинья.] Ну-ка, свинья, погложи-ка правду!
Я думаю, это гениальная формула. Я думаю, к некоторым периодам русской истории просто можно поставить эпиграфом эти слова: «Ну-ка, свинья, погложи-ка правду!» И то, что Щедрин с таким бесстрашием и мощью это изобразил — это делает честь не только его сердцу и не только его разуму, но прежде всего его творческой способности. Поди ты уложи так в одну метафору столько всего.
«Была ли лекция о Драгунском? Если нет, то голосую за неё».
Знаете, в наше время уже надо уточнять, о каком Драгунском, потому что Денис стал писателем не меньше отца. Хотя мне и Виктор Драгунский представляется одним из величайших детских писателей XX века. Такие рассказы, как «Рабочие дробят камень» или «На Садовой большое движение», или даже какие-нибудь дурацкие безделушки, вроде »[Ровно] 25 кило», — это шедевры, и шедевры настоящие.
«Мне нравится его рассказ, — а, понятно, что речь идёт о Викторе, — «Друг», в котором мальчик вместо груши собирается колотить игрушку медведя, а потом плачет. Есть ли в этом подтекст взросления?»
Знаете, Виктор Юзефович Драгунский был человек скромный, считал себя юмористом. И, несмотря на свою прекрасную повесть «Он упал на траву», например, или «Сегодня и ежедневно», он прозаиком по большому счёту себя так и не ощутил. Он думал, что он эстрадник, что он весельчак. Он, конечно, знал себе цену, но относился к себе с огромной иронией. В «Дневнике» Нагибина он очень хорошо описан: добрый, рассеянный, несколько беспутный, очаровательный человек. Это ведь ему принадлежит, насколько я помню, эта замечательная шутка: «Ваша воинская специальность?» — «Движущаяся мишень». По-моему, он весь был такой.
Но «Друг детства» (так называется этот рассказ), конечно, лишён символического подтекста, и там нет драмы взросления. Но там есть абсолютная пронзительность, некоторая надрывность этой тоски — и даже не от расставания с детством. Понимаете, мы все готовы поколотить иногда наше детство, чтобы ощутить себя взрослее, а оно смотрит на нас своими пуговичными глазами. Ох, как это… Ну, страшная вещь, конечно. Это рассказ, над которым рыдало не одно поколение. Помните, какая там у него была милая мордочка, у этого Мишки, как он её мазал манной кашей, как он его кормил. Это о том, что нет неодушевлённых предметов. Вот так бы я сказал.
«Как вы относитесь к высказыванию Мишеля Фуко: «Если ХХ век был веком Ницше, то XXI век будет веком Делёза»?»
Ну, братцы, я вообще очень скептически отношусь к фигуре Фуко, к сожалению. Я признаю, что это крупный мыслитель, но довольно много ерунды, по-моему, нагорожено вокруг его имени, и нагорожено им самим. Грех сказать, мне очень нравится стихотворение Льва Лосева про Фуко («История же не остановилась // и новые загадки задаёт»). Мне очень нравится, конечно, вся та часть его теории, которая посвящена насилию, тюремному опыту, социопатии. Нет, Фуко, конечно, большой молодец. Но очень многое там мне представляется спекуляцией, как и в большей части французской философии.
И я должен вам сказать, что не был XX век веком Ницше. Ну, не был! И веком Шестова он не был. И веком Бердяева, и веком Ильина он не был. XX век был веком Витгенштейна, мне кажется, — веком человека, который понял наконец-то, что слова значат не то, что мы думаем. А то, что будет веком Делёза? Ну, наверное, в том смысле, в каком Делёз и Гваттари предугадали ризому.
Поговорим подробнее через три минуты.
РЕКЛАМА
Д. Быков― Так, если я правильно понимаю, мы должны продолжать. Спасибо ещё раз. В студии «Один», Дмитрий Быков — слава богу, не один, а в Петербурге, в любимом городе, в любимое время. И пусть вам будет так же хорошо, как мне здесь этой белой ночью после хорошего общения со многими хорошими людьми. Общения, увы, безалкогольного, но я в последнее время от алкоголя воздерживаюсь совсем. Но вы себе не представляете, как иногда приятно просто попить кофе в прекрасном городе с хорошими литературными людьми.
Так вот, что касается Делёза. Идея Делёза и Гваттари насчёт ризомы, грибницы, сети была высказана с очень большим временным запасом, с огромным опережением. Я думаю, они не совсем то имели в виду, что осуществилось, но вектор угадали. Я не думаю, что XXI век будет веком Делёза опять же или веком Бодрийяра. Я вообще боюсь, что XXI век не будет веком философии, а он будет в этом смысле непредсказуем. Но если уж и будет, то он будет скорее веком Джона Уиндема (имею в виду роман «Кукушки Мидвича»). Кто как понял — тот так и понял.
«Что вы думаете по поводу слов Мариенгофа о «святом шпионстве» за детьми («Отцы и матери, умоляю вас: читайте дневники ваших детей…») во имя предотвращения их самоубийства? Эту цитату приводят авторы расследования из «Новой».
И вообще, потрясло как-то всех это расследование из «Новой», хотя детская мания самоубийства — это проблема, ещё Достоевским описанная. Достоевский — вообще большой летописец патологии душевной, и в неё глубоко проникал. Эротическая связь самоубийства и такой формирующейся подростковой избыточной сексуальности ещё Тютчевым отмечена, мы говорили об этом. Но люди, видимо, стали забывать о таких физиологически опасных вещах. Кстати говоря, самоубийство Кирилла, которого крестил когда-то Есенин, сына Мариенгофа, было вызвано, я думаю, как раз не какими-то суицидальными увлечениями, опасными и не философскими какими-то закидонами, а просто тем, что от него забеременела девочка, насколько я помню. То есть бывают иногда и совершенно прагматические причины, ну, простые, страшные. Просто человек не знает, как справиться с первыми препятствиями, первыми вызовами бытия.
Но одно я могу сказать насчёт «читайте дневники детей». Ну, наверное, надо, да. Или, во всяком случае, разговаривайте с ними откровенно. Насколько этот шпионаж, как здесь сказано, «святой шпионаж», насколько он простителен? Наверное, простителен, потому что, помните, ещё ведь Честертон говорил: «Отними мы у себя право приказывать детям, мы лишили бы их детства». Жестокие слова, конечно, но тоже верные.
«В книге «Опасные связи» де Лакло предостерегает людей: любовь не прощает предательства. Почему этот роман в письмах не отпускает читателя? Ведь главные герои безбожно играют чувствами».
Ну, он потому, собственно, и не отпускает, что там впервые, пожалуй, показана опасность донжуанского типа, который в XVIII веке, в отличие от какого-нибудь XVII века, всё-таки романтизируется, приобретает черты некоторого благородства. И, как правильно показала Ахматова, только Пушкин начинает в «Каменном госте» этот тип заново развенчивать. Этот Вальмон — это как раз попытка развенчать донжуанство. Между прочим, была и обратная попытка, потому что в своём замечательном драматическом упражнении на темы де Лакло — «Опасный, опасный, очень опасный» — Леонид Филатов делал его бессмертным и вообще, так сказать, очень… ну, не то чтобы обелял, а он говорил, что он воспринимает его как свою лучшую несыгранную роль, а Нину Шацкую — как потенциальную партнёршу: «Вот я писал пьесу для нас двоих, если бы мы ещё тогда не оставили сцену». И я, надо сказать, в его авторском чтении это слышал. О, какой это был де Вальмон! Можно, наверное, этого типа тоже как-то оправдать, хотя в романе он совершенно омерзителен.
«Какой пример экфрасиса вам больше всего по душе?» — спрашивает Серж.
Как вы помните, экфрасис — это описание одного предмета искусства средствами другого рода искусства. Чаще всего это, скажем, описанная в литературе живопись. Мне кажется, что наибольших успехов в этом достиг всё-таки Моэм в «Луне и гроше», когда доктор рассматривает фреску (вот эту последнюю) и восклицает: «Бог мой, он был гений!» Ну да, в этом есть что-то такое. И мне кажется, что фреска… не фреска, а последняя картина Гогена «Откуда мы пришли? Кто мы? Куда мы идём?», вот эта загадочная, описана там адекватнее всего. Хотя то, что описывает Моэм, масштабнее и прекраснее. Там этот рай после грехопадения, полный порочности, страсти, восхищения, страданий — это описание поразительной мощи. Вообще последние шесть страниц «Луны и гроша» — это абсолютно симфоническая проза. Я могу просто проследить там приёмы музыкальные. Там средствами не столько литературы, сколько музыки воспроизведена эта последняя работа Стрикленда. Конечно, это гениально! Я обожаю и последние главы.
И, конечно, у Гэддиса в «Recognitions» (в «Узнаваниях»), поскольку там герой занимается подделкой великих произведений искусства, работа живописца и шедевры живописи описаны с поразительной силой. Я считаю Гэддиса очень сильным писателем в это время. Скажем, «J R» — это роман, который я уже при всём его величии всё-таки оценить не могу. По-моему, Пулитцеровскую премию он получил или ещё какую-то. Ну, это я думаю, в компенсацию за то, что «Recognitions» прошёл почти незамеченным. А вот «Recognitions» — это тот роман, который ещё мне кажется вполне гармоничным и вполне понятным, не слишком переусложнённым.
«В повести Быкова «Сотников» сильный партизан Рыбак угодил в нехитрую ловушку: предать ради жизни, а там посмотрим. Но пути назад нет. Рыбак и ему подобные способны это понять?»
Конечно, способны. Там Рыбак же пытался покончить с собой. Другое дело, что у него это не получилось. Понять-то они способны. Они казнить себя не способны.
«Кто, по-вашему, стоит за сайтами «китов»? Я имею в виду расследование Мурсалиевой о подростковых суицидах. Можно понять хакеров, занимающихся «фишингами», взломом, махинациями. Но целенаправленная, изощрённая пропаганда самоубийства в молодёжной среде — дело рук отъявленных сволочей, отлично разбирающихся в подростковой психологии. Кто они? Фашисты? Мизантропы? И как с этим бороться? Как я понял, большинство из нормальных, благополучных семей. Я вспомнил «Хищные вещи века», — Борис.
Боря, в каком смысле это совпадает с «Хищными вещами»? В том смысле, в котором Пётр Мещеринов… В «Новой» появится в ближайшее время интервью, которое мы с Настей Егоровой у него взяли. Это один из крупнейших православных богословов и мыслителей современности. Пётр Мещеринов говорит: «Человек начинает болезненно интересоваться метафизическим, когда ему не хватает физического». Это верно. Когда нет жизни, когда нет этого самого избытка ощущений, хочется «остренького». «Хищные вещи века»? Ведь тоже там эти люди «дрожкой» интересовались не потому, что они хотели покончить с собой, а просто потому… Они погибали от психического истощения, потому что им всё время хотелось «остренького». Вот эта жажда «остренького», которая возникает в праздном обществе, — да, это точно описанный Стругацкими феномен, когда нет жизни, не к чему стремиться, не за что бороться, нечего делать. Конечно, тогда возникает. Этих подростков надо просто чем-то занять — и тогда, может быть, мания суицида у них превратится во что-то более креативное.
Вспомните, какой эпидемией самоубийств — и главным образом молодёжных, иногда почти детских — была охвачена Россия в эпоху так называемой «столыпинской реакции». Я не знаю, насколько правомерно называть её столыпинской, но это была реакция, начиная с 1907 года. Самым модным дело стало самоубийство. А что ещё с собой можно делать? Любовь попробовали, это приедается. Теперь решили попробовать смерть. Хочется чего-то пряненького, остренького. Конечно, это от недостатка жизни.
Лекцию о Войновиче попробуем. Кстати, Войнович здесь сейчас на книжном салоне в Петербурге.
«Я в восторге от Чарльза Буковски, нахожу его смелым. Это то, чего недостаёт многим писателям. Пару слов, если не побрезгуете».
Я очень люблю некоторые его сочинения, но как писателя, честно сказать, я ставлю его не намного выше Довлатова или Керуака (хотя это и разные, на мой взгляд, люди). Буковски несколько однообразен, но он приятен такой своей беспощадностью к себе.
«Лем в одном из новелл «Звёздных дневников Ийона Тихого» рассказал жуткую историю отца Орибазия. Там добрые инопланетяне воплотили его проповеди: предали его страшным пыткам. Души свои погубили, чтобы он стал святым. Что Лем имел в виду?
Он имел в виду довольно распространённый и, в общем, довольно фальшивый парадокс. Помните, у Леонида Андреева в «Иуде Искариоте» Иуда считает, что он предал Христа, следуя его заветам, а если бы не предал, не было бы и святости. Очень многие действуют в рамках этой программы и этот парадокс используют для самооправдания. Понимаете, какая тут штука? Есть люди (Лем, в общем, принадлежал к их числу), которые, будучи сугубыми атеистами, любили такие парадоксальные загадки и без особой веры, «с холодным носом» их разбирали.
Я со своей стороны рискну сказать, может быть, крамольную вещь. Видите ли, когда Господь предавал Сына Своего на муки… У меня про это как раз есть стихотворение недавнее, которое называется «Апокриф», в «Новой газете». Вся природа прятала Христа, а воробей его выдал. Вопрос: Ведь воробей, наверное, осуществлял божественный замысел — за что же его? Мне кажется, божественный замысел был в том, чтобы подвергнуть человечество испытанию, а не подвергнуть Христа гибели. Всё могло повернуться иначе. Человечество могло не предать Сына Божьего на распятие. Поэтому-то Бог и не любит человечество, по большому счёту, он не может ему этого простить. А человечество не улучшилось с тех пор. Когда появляется Христос, они его потом обожествляют, а сначала они всё-таки его распинают. Поэтому Бог к человечеству относится, мне кажется, без особой любви и даже, я бы сказал, с некоторой понятной мстительностью.
Ведь Сын Божий был предан не на смерть. Сын Божий был послан для того, чтобы заключить новый завет с человечеством. Смерть Христа, как мне кажется, не была императивна, не была обязательна, но человечество поступило вот так. И сам Христос, между прочим, молился о том, чтобы эта чаша была отведена. Моление о чаше в Гефсиманском саду совершенно понятное: это могло быть иначе. Но даже во время его молитвы ученики не смогли бодрствовать. И не надо думать, пожалуйста, что Иуда был обречён предать. Это был свободный выбор Иуды. Ему так нравилось.
«Почему вы так оптимистично верите в возрождение России и вашу молодёжь? — не «вашу», а всё-таки, наверное, «нашу». — За 30 лет было сделано всё, чтобы отбросить Россию в пропасть. Мы потеряли учёных. И самое главное — мы потеряли страну, которая складывалась последние 400 лет. Когда Британия потеряла свои территории, она скукожилась. То же самое было и с другими империями. Почему вы оптимистичны? Сверхдержавы больше не будет. И Великой России тоже».
Во-первых, сверхдержава и Великая Россия — это не синонимы. Была ли Россия сверхдержавой в 60-е годы XIX века? По одним параметрам — да, по другим — нет. Но её любили прежде всего за духовную силу: за чудо её искусства, науки, за невероятный прорыв, который она осуществила. Во всяком случае, в 30-е годы XIX века, когда она громче всех шумела о своём величии, она сверхдержавой уж точно не была. Сверхдержавой Россия была в такие периоды, как при Екатерине II, например, или как при всё том же Хрущёве, когда она в космос полетела или когда она Одессу построила, как было при Екатерине. То есть эпохи оттепели всегда для России приводят к величайшим прорывам, а вовсе не эпохи реакции. Поэтому я верю в то, что у России впереди эпоха великих реформ и духовных прорывов.
«Что вы думаете о книге Рассадина и Сарнова «В стране литературных героев»?» С величайшим уважением к ней отношусь.
«Лекция о Юрии Тынянове и о людях с «прыгающей походкой».
Ну, имеется в виду пролог в «Смерти Вазир-Мухтара». Знаете, дорогой vengrpesht, вы абсолютно точно попали в нерв, потому что я перечитывал позавчера «Смерть Вазир-Мухтара», потому что подбирал там сынку драматический отрывок для чтения. Но не только поэтому. Что-то потянуло меня перечитать эту книгу. Я подумал, что она не прочитана до сих пор абсолютно. Глубина её невероятна! Там много можно чего извлечь. Конечно, это автоэпитафия. По большому счёту, это последний масштабный тыняновский текст, хотя были потом и «Малолетний Витушишников», и, главное, «Восковая персона». Роман о Пушкине, мне кажется, уже носит следы роковой болезни. Царствие ему небесное. Тынянов — это такой ангел русской литературы, человек изумительной порядочности, мученик. И я «Смерть Вазир-Мухтара» считаю одним из лучших романов первой половины XX века в России. Пожалуй, стоило бы лекцию прочесть на эту тему. Давайте попробуем, может быть, через раз.
«Как вы объясните тот феномен, что Янка за трёхлетний период своего активного творчества смогла так зажечь, что искры сыплются по полной? Может быть, она что-то интуитивно понимала? И, учитывая грустный юбилей её ухода, может быть, сделаете лекцию?»
Знаете, я не так хорошо знаю Янку [Дягилеву]. И самое главное — я не так её люблю. Хотя «По трамвайным рельсам» — конечно, одна из величайших песен, когда-либо в России написанных. Да и «Нюркина песня» — довольно сильная вещь. И, конечно, «Дом горит — козёл не видит». Нет, она — замечательный автор.
Просто, знаете, если уж и делать лекцию, то обо всём этом направлении, обо всём этом неофольклоре, прежде всего — о Башлачёве. И обратите внимание, что при огромном сходстве биографий, поэтик и топосов, в общем-то… Потому что это провинциальная русская культура — Екатеринбург (Свердловск) Янки или Череповец Башлачёва. Вот она и Башлачёв — по-настоящему две близкие поэтики. И оба раза примерно в одинаковом возрасте — такая катастрофическая судьба. Как связана такая быстрая исчерпанность и такая катастрофическая личная участь, и творческий кризис, следствием которого, конечно, был этот или суицид, или несчастный случай (ведь в последний год ни Башлачёв, ни Янка ничего не писали) — это повод задуматься, конечно, повод задуматься о некоторых странных свойствах фольклора и русской души в целом, которые в этом фольклоре выражаются. И главное, это повод задуматься о 80-х годах и о начале 90-х, прежде всего — о второй половине 80-х. Я воспринимал это время как очень мрачное. Есть здесь о чём говорить.
«Поделитесь впечатлением от прозы Александра Гольдштейна. Какой масштаб его личности? Были ли вы знакомы? В особенности интересует отклик о книге «Спокойные поля». Есть ли аналог подобного письмоизложения?»
Я очень не люблю прозу Александра Гольдштейна. Мне очень симпатична его личность. Наверное, он был прекрасный человек. А проза его — это такой странный синтез Набокова и Саши Соколова. Сашу Соколова я не люблю, в общем, а Набокова люблю очень. Мне кажется, что эта проза какая-то безвоздушная, мысль в ней теряется. Другое дело, что блистательное эссе Гольдштейна, например, о Маяковском (я его обширно в книжке цитирую) — это меня, конечно, восхищает. А вот его собственно проза создаёт ощущение какой-то вязкости, безвоздушности и, страшно сказать, такой несколько провинциальной претенциозности — при том, что она страшно зависима от прозы Соколова. А вот когда там мысль пульсирует, когда там есть такая парадоксальная острота, несколько напоминающая прозу, скажем, Самуила Лурье (по-моему, гораздо более удачную), то тогда это интересно читать.
«Знаете ли вы компьютерную игру…» Нет, не знаю компьютерную игру. Но то, что вы написали о «Talos Principle», придётся почитать.
«В прошлой передаче вы назвали людей, идущих работать с детьми, неудачниками, которые формируют свои секты. Мне 23 года, закончил педагогическое образование и хочу работать в этой сфере. Как бы не повториться?»
Ну, очень просто. Как не стать вождём секты, грубо говоря? — задан ваш вопрос. Очень просто. Старайтесь, чтобы дети вас любили не за то, что вы духовный вождь, и не за то, что вы их поработали, не за то, что вы навязали им свою точку зрения. Старайтесь больше у них спрашивать. Я вообще могу дать один универсальный педагогический совет. Как вести урок? Задавайте классу вопросы — и радуйтесь точным ответам. Пытайтесь их к этому приучить. Я однажды… У меня был очень трудный класс. Я пришёл и спросил: «Как по-вашему, почему в прозе Достоевского так много крови и грязи?» Один мальчик с задней парты, так гыгыкая, говорит: «Да прикольно ему было! Прикалывался он!» Блистательный ответ! Абсолютно точно — ему было прикольно. И дальше объяснил, почему ему это было прикольно. Вот пытайтесь так. А дальше начинается разговор.
«Назовите 10–20 авторов, кроме известных, с наивысшей плотностью качественного, выше пояса юмора?» Борис Виан, Марсель Паньоль, Валерий Попов… Ну, 10–20 — где же я вам назову? Я очень люблю Марка Твена, всегда закатываюсь, его читая. Кстати говоря, у Дениса Драгунского с юмором всё хорошо.
«Почему с возрастом начинаешь больше любить Чехова?» Да потому, что Чехов — сложное явление, до него дорасти надо. Он сложно писал.
«Какая часть россиян захотела бы жить под властью нынешнего Киева, а какая часть украинцев захотела бы жить под властью нынешней Москвы?» Думаю, одинаковая. И думаю, небольшая. И вопрос не в отношении к Москве или Киеву, а вопрос в готовности россиян и украинцев жить под чужой властью. Оба наших народа этого не переносят совершенно.
Набоков? Будет вам сейчас Набоков.
«Как вы считаете, во сколько лет можно дать внучке прочитать «Суламифь» Куприна?»
Слушайте, да хоть в 12 лет. Я считаю, никакой драмы здесь нет, потому что «Суламифь» — это даже не эротика, а это такая орнаментальная проза. Я не считаю, кстати, «Суламифь» особо сильным произведением, но это милая вещь, именно милая. Не забывайте, что самой Суламифи было 14 лет, она была «смуглой девочкой из виноградника». Мне очень нравится наблюдение Горького, что Соломон у него сильно смахивает на ломового извозчика. Но дело в том, что у самого Горького ломовые извозчики чаще всего смахивали на Соломона, и ещё непонятно, что лучше.
«Не считаете ли вы Салтыкова-Щедрина реинкарнацией Фонвизина?» Фонвизин мало успел сделать. Если уж его и считать чьей-то инкарнацией, то, наверное, Новикова всё-таки скорее.
«С вашей подачи посмотрел «Нимфоманку» и ничего не понял. О чём этот фильм? И зачем там столько натурализма?»
Ну, знаете ли, я не берусь говорить о причинах этого анатомизма. Думаю, что это вообще достаточно такой брезгливый и циничный подход фон Триера к сексу, как к чему-то механическому, поэтому он и фрикции описывает, как числа. Там есть близкая мне мысль, отчасти отражённая в «Квартале», что можно попытаться заменить этику числами и числовыми правилами (у него это заменено числами Фибоначчи), потому что это, по крайней мере, позволяет быть последовательным. Этика относительна, релевантна, мы всегда можем себя уговорить, заставить и так далее, а числа — вещь… Можно ли построить этику на основах математических закономерностей? Это интересная математическая проблема. Помнится, я с директором Челябинского математического лицея, с Поповым, дай бог ему здоровья, часа три эту проблему обсуждал, и это было очень увлекательно. Ну, можно ли формализовать этику, превратив её в математику? Вот про это, по-моему, «Нимфоманка».
«Прочёл любимый вами «Дым» Тургенева. Действительно потрясающее произведение. Однако концовка непонятная. Почему девочка, которую взял себе Потугин, умерла? Почему писатель заканчивает словами о её смерти свой роман?» Да потому и заканчивает, что идеи Потугина при всех их соблазнительности бесплодны, и будущее не за ним. Здесь он угадал. Действительно это страшное, оголтелое, полное ненависти западничество Потугина бесплодно.
«Что вы можете сказать о Дарье Верясовой?» Ничего о ней не знаю.
«Возможна ли трансформация культурной матрицы России, обусловленной раз и навсегда застывшей моделью власти?» Не просто возможна, а неизбежна.
«Случайно увидел вашу фразу годовой давности, о том, что «Башлачёв — это поэзия без идей», и понял, что вы идиот», — это говорит Алекс Якубсон.
Алекс, на обиженных воду возят. Я не стану на вас обижаться. Просто вы не бросайтесь словами, потому что вы написали ерунду. Во-первых, вы меня неточно процитировали. Я написал, что «это поэзия без мировоззрения», а это совсем другое. От поэзии никто не требует идей. А вот причина трагедии Башлачёва отчасти была именно в том, что мировоззрения там нет, а истерики очень много. Вы читайте меня внимательно! Потому что общение с умными людьми (а я, в общем, человек далеко не последний в этом плане, простите меня за саморекламу) может вас духовно обогатить, открыть вам глаза, может быть, отговорить вас от каких-то страшных экспериментов над своей личностью.
«Доживём до понедельника» Ростоцкого — «Школа» Гай Германики. Деградация ли это? От светлых глаз на уроке Ильи Семёновича — до современных реалий».
Нет конечно, дорогой tamerlan. Наоборот, хочу вам сказать, что, если здесь и есть некоторый такой провал в истории советской педагогики, то это, конечно, «Чучело», потому что там показано абсолютное бессилие педагогов в мире тотальной лжи и всеобщей двойной морали. Это абсолютно точно. Но здесь надо иметь в виду, что ведь и «Доживём до понедельника», и «Школа» («Чучело» про другое) — это именно фильмы о кризисе учителя. Как замечательно сформулировал Игорь Старыгин, Царствие ему небесное: «Это фильм об историке, которому надоело преподавать эту историю». «Доживём до понедельника» — это дожили, понимаете, они дожили до понедельника, до трудного, похмельного, трезвого дня. Это фильм 1968 года, фильм о крахе иллюзий, фильм, в котором Костя Батищев более прав, чем Генка Шестопал, ну, более успешен, чем Генка Шестопал. Счастье — это когда тебя понимают. Но никто же не понимает никого. Это фильм о страшной разобщённости. Не надо видеть в «Доживём до понедельника» катарсис. Это просто Ростоцкий был добрый человек, а Полонский написал довольно мрачный сценарий, который я рекомендую вам перечитывать почаще.
И начинаю я немножко отвечать на то, что есть в письмах. В письмах очень много интересного. Простите, что не хватает никогда времени на это.
«Как вы относитесь к фильму «Борис Годунов» Мирзоева?» Я считаю, что это лучшая экранизация «Бориса Годунова». И не потому, что это актуально, а потому, что это весело.
«В лекции о Гофмане вы сравнили эпизод из «Повелителя блох» с эпизодом ранения Николая в романе «Война и мир», — не Николая, а Петра, и не ранения, а предсмертного бдения. — Не похоже ли это на мысль Лёвина из финала романа?»
Нет, не похоже! Понимаете, Лёвин ищет правды, а музыка и правда — разные вещи. Может быть, потому это и трагедия Лёвина, что он музыки-то не слышит! Он слышит её перед свадьбой с Кити. Помните, когда весь мир так добр к нему, когда эти обсыпные калачи, когда голуби, разговор со священником? Это же роман весь о том, что правда непостижима, что её можно почувствовать, а не понять. Но действительно толстовское фуговое построение — да, конечно.
«Что с выпуском студенческого журнала «Послезавтра»?» Я пока не вижу возможностей делать его на бумаге. Будем делать сайт.
«Многие выпускники выбирают себе экзамены по точным наукам, а литературу выбирает 4 процента выпускников. Неужели физика проще литературы?» Не проще, критерии просто есть. А в литературе поди докажи, что ты правильно пишешь.
«На днях прочитал интересную статью о Маяковском и Татьяне Яковлевой о том, что он, будучи ею отвергнутым, весь свой гонорар перевёл на счёт цветочного магазина, который в течение многих лет доставлял цветы с фразой «от Маяковского». Интересно, правда это или выдуманная история?»
Я не думаю, что несколько лет. Но то, что после его отъезда ей в течение полугода доставляли от него цветы — да, это так и было. И насчёт того, что она его отвергла — по-моему, неправда. Из её писем явствует совсем другая история, из писем к матери в частности.
«Вы действительно верите в возрождение России?! — да, Юра, действительно верю. — Или вы просто пытаетесь уговорить Его (в смысле — Бога) возродить эту территорию заблуждений?»
Да это не территория заблуждений! Вот в чём всё дело. Это вообще довольно сложная территория, интересная, и в ближайшие пять лет она очень себя покажет. Что мы, собственно, хороним-то её? Будет очень интересно.
«Что вы думаете о выражении «лучше сделать и жалеть, чем не сделать и жалеть»? Правда это?»
Нет, Лиза. Я считаю, что иногда лучше жалеть и не сделать. У меня были стихи о том, что всегда выбирай «сделать», но это не так. То есть это не универсальный совет, а это мой совет самому себе. Вам я этого посоветовать не могу. Иногда лучше не сделать. Помните, что всё-таки… Знаете, азарт делания ошибочен. Я знаю сейчас нескольких молодых людей, которые уверены, что они могут спасти мир и у них есть к тому данные — и они лезут в чужую судьбу, спасают интенсивно, и это очень трогательно. А не всегда это получается. Знаете, как в фильме Тарковского «Ностальгия» всё время повторяется этот замечательный анекдот: «Не тащи меня из болота! Я здесь живу!»
«Стоит ли идти на выпускной, если не складываются отношения с одноклассниками? У меня как раз конец одиннадцатого класса».
Нет, не стоит. А чего вам идти праздновать? Я вообще не люблю никаких тусовок. И это причина, по которой я в последнее время не езжу на книжные выставки, не хожу на книжные салоны, не посещаю литературных обедов и так далее. Мне проще как-то с тесным кругом любимых мною людей. Одноклассники — это же довольно случайные люди. Что вы там забыли?
«Можно ли сказать, — спрашивает хороший молодой поэт Максим Глазун, — что группа «Агата Кристи» — продолжатель линии Вертинского и Северянина?» На фонетическом уровне, на музыкальном — безусловно. На поэтическом — конечно нет. На поэтическом они возрождают скорее традиции футуристов и, может быть, обэриутов.
Тут добрые слова…
«Для начала изучения английского вы советовали детям Киплинга и Уайльда. Это для детей или для взрослых тоже?» Слушайте, ну естественно. И Шоу ещё тоже.
Вот трудно открывается письмо… «Насколько пророческим является роман Брэдбери «451º по Фаренгейту»?» Отчасти пророческим.
«Кто, с вашей точки зрения, написал Ветхий Завет?» Люди, вдохновлённые Богом.
Поговорим через три минуты.
РЕКЛАМА
Д. Быков― Привет! Опять «Один», Быков в студии. Надо бы нам переходить к лекции о Набокове, но не могу не ответить ещё на несколько писем.
«С детства являюсь вашим читателем. Книгу дала мама. Тогда не понравилась. Сейчас же с удовольствием сам рекомендую ваши работы. «Квартал» — моя любимая, — спасибо, моя тоже. — Через неделю меня забирают в армию. Не хочу жуть как, до дрожи! Не могли бы вы порекомендовать что-нибудь почитать, что поможет справиться с предстоящими испытаниями или хотя бы настроить на нужное расположение духа? Иван, 23».
Ваня, дорогой мой! Я как раз тоже в Петербурге, в вашем городе. Я бы мог дать вам несколько рекомендаций. Конечно, если очень не хочется в армию, лучше бы, по возможности, мне кажется, как-то этого избежать или выбрать хотя бы альтернативную службу. Ну, сейчас это год. Год — это коротко. Я вам могу сказать одно. Ваня, если вам будет трудно, пишите мне сразу на тот же адрес — и я попробую разобраться. В любом случае, если вы столкнётесь с какими-то неуставными явлениями, мы попробуем что-то сделать. Это первое. И не потому, что вам нравится «Квартал», а потому, что я в вашем письме чувствую родную душу.
Второе. Перед тем как уходить в армию (а мне тоже туда очень не хотелось), я поехал в гости на дачу к Новелле Матвеевой и Ивану Киуру, её мужу, на Сходню. Они вообще очень умели всегда (и Новелла Николаевна умеет до сих пор) понять чужое состояние, эмпатия была развита до очень большой степени, и до сих пор так. И вот она мне сказала: «Дима, я вам могу…» Ну, считайте, что я передаю вам мантру. «Если вам нужно будет ввести себя в нужный градус бешенства (что, в общем-то, для человека вашего склада иногда трудно), повторяйте про себя: «Вот тебе, гадина! Вот тебе, гадюка! Вот тебе за Гайдна! Вот тебе за Глюка!» Считайте, что я вам передал эту мантру. Поверьте мне, Ваня, это работает.
Из «почитать? Понимаете, я не знаю книг, которые могли бы ввести в это нужное состояние и которые могли бы подготовить к армии. Ваня, в таких ситуациях надо просто помнить, что если вам вот это выпало, во-первых, постарайтесь смотреть на окружающее глазами инопланетянина, которого забросили на этот «обитаемый остров». Пользуйтесь «транзитом» так называемым, пользуйтесь этим для сбора информации. Как сказал Адабашьян Михалкову, когда того призывали в армию: «Не стоит пытаться прожить это время с закрытыми глазами. Наоборот, постарайтесь увидеть как можно больше». Это первое.
А второе, что тоже мне кажется важно, — в таких ситуациях надо помнить: «То, что меня не убивает, делает меня сильнее». Это Ницше сказал, и это правильно. И наконец можно вспомнить: «Трудись, салага, будь прилежен, но знай, что дембель неизбежен», — но этой пошлости я уж вам говорить не буду. В общем, Ваня, правда серьёзно вам говорю: если вы почувствуете проблемы (а вы честно мне написали, и я это ценю), просто обращайтесь — что-нибудь придумаем всегда. Я не думаю, что вам там уж так будет плохо. Вы же хороший, а хорошим людям там нормально.
«Ваше мнение об империалистической политике имперской России?» Тема для отдельного эфира. Пожалуй, посвятим — об имперской.
«Как вы себе представляете люденов-технарей?» И вообще тема люденов мучительно всех волнует. Видимо, в нерв мы попали.
«Ваши слова о молодых интеллектуалах, — ох, как мне об этом часто пишут! — относятся лишь к небольшой прослойке современной молодёжи. Я завидую тому, что вы себе находите таких подопечных. Сам я каждый день общаюсь с подростками. Большинству дай бог хотя бы школьную программу по литературе освоить, уж какой там Ницше! Как вам удаётся заинтересовать молодых?»
Во-первых, я имею дело с теми, кто уже заинтересован. А во-вторых, знаете, мир — наше зеркало: что мы о нём думаем, то нам и прилетает. Попытайтесь в ваших школьниках увидеть или разбудить живой интерес к чему-либо — и вы увидите, что им интересно.
«Каждый день почти физически чувствую, как пустота замещает, подменяет собой кислород. В отношениях, в быту, в проявлении человечности — всюду вижу дикость, вымученность, безразличие, сведение жизни к выживанию, к доживанию, к стремлению на каждом шагу урвать хоть что-то, хоть как-то за счёт кого-то. Очень часто не понимаю, зачем я здесь, потому что так не умею. Не могу встроиться в жизнь, в которой на всё чёрное всегда говорят «белое». Не знаю, как выстроить свою жизнь на принципах, ведь эти принципы негласно объявлены рудиментом…» Ну, долгое письмо, хорошее и очень интересное.
Братцы, на ваш вопрос напрашивается один совершенно очевидный ответ (и вот об этом мы сейчас будем как раз говорить применительно к Набокову): пытайтесь этот мир, который вы видите, всё-таки творчески преобразить. Вы совершенно правы, когда вы описываете мир, каков он есть. Вы совершенно правильно говорите. Но дело в том, что все эпохи были таковы.
Простите, что я не могу сейчас вам подробно ответить, милый Никита Трофимович. Очень хорошие письма пришли из Белоруссии от человека, который героически борется с болезнью, при этом женат счастливо, и его жена ему помогает. Никита, я прочёл ваши письма. Я вам отвечу лично. Очень хорошие письма! И всё у вас будет в порядке. И всё, о чём вы пишете — об избытке темперамента, о невозможности встроиться, — это всё нормально.
Я хочу ответить Жене из предыдущего письма. Тот мир, который описан у вас, очень похож на мир русской эмиграции в 30-е годы — только сейчас не мы уехали, а как бы страна из-под нас уехала. Но преображение здесь может быть одно: из этой ситуации экзистенциальной пустоты можно сделать праздник искусства, праздник творчества. И Набоков нас учит, как это делать.
Я писал применительно к Набокову о том, что каждая нация порождает свой тип: британский полковник, немецкий философ или немецкий военный, французский любовник. Вот есть русский эмигрант. Это самый распространённый психотип, потому что у нас каждую очередную пертурбацию в истории страны сопровождает новая волна эмиграции. Ну, это нормально.
И вот русский эмигрант. Есть два его варианта. Есть человек, который рыдает в «боржч» в соответствующем заведении, или становится обиженным на весь свет таксистом, или пьёт много и ненавидит принимающую сторону. А есть тип Рахманинова, Алданова, Набокова, Зворыкина, Сикорского, который умудрился там состояться, который изобрёл телевидение, вертолёт, Третий фортепианный концерт — что-то такое сделал, что мир им покорился.
Вот Набоков — это «принц в изгнании». Понимаете, если вы чувствуете себя в мире изгоем (это очень важная поправка), никто вам не мешает чувствовать себя принцем. Чувствуйте себя принцем в изгнании, а не нищим, не нахлебником, не изгнанником. Чувствуйте себя победителем, чья победа просто отложена во времени, и вы должны её доказать. Чувствуйте себя завоевателем на чужой территории. Это очень мотивирует.
Набоков — это действительно феноменальные «правила поведения в аду». Конечно, можно целую книгу написать (и есть тому примеры) о том, что Набоков — писатель глубоко религиозный. И, конечно, одна из главных интенций его творчества — это непрерывно доказывать, что в мире потусторонность присутствует постоянно; что действительно стоит нам умереть, как мы окажемся как будто вне стен надоевшего дома, нам откроются глаза, мы увидим мир со всех сторон, а не как раньше, как мы видели его сквозь две смотровые щёлки. Это есть в Набокове. Но в Набокове плюс ко всему есть ещё и постоянное присутствие божественной веры в человеческое достоинство. И вот это человеческое достоинство надо всегда соблюдать.
Я хотел бы поговорить не обо всех его текстах, а о двух — «Ultima Thule» и «Лолите».
«Ultima Thule» — рассказ, который должен был стать первой главой неоконченного, но представлявшегося ему главным в жизни романа «Solus Rex». Иногда я думаю, что и немцы-то вошли во Францию только для того, чтобы помешать ему закончить эту книгу, потому что он бы мог там приоткрыть что-то такое сверхъестественное. Я когда-то, читая этот рассказ во время наряда на КПП ночью в армии, испытал такой шок, что, когда пришёл проверяющий, он мне потом сказал: «Вот таких глаз я никогда ни у одного человека не видел!» А они действительно прямо выскакивали из орбит. «Ultima Thule» — это очень страшный рассказ. И там есть действительно тайна, потому что Фальтер несколько раз упоминает разные детали отношений Синеусова с женой, которую он знать не мог.
Мне кажется (кстати, Александр Долинин поддержал эту мою гипотезу), что этот рассказ, продолжая тему более раннего рассказа Набокова «Ужас», восходит к идее, к истории «арзамасского ужаса» Толстого. Это второй текст в русской литературе, посвящённый этому когнитивному диссонансу — абсолютной уверенности в том, что жизнь не кончается здесь, что смерть не существует. Но нам внушена мысль о смерти. И, как сказано у того же Набокова в эпиграфе к «Приглашению на казнь», который он приписал Пьеру Делаланду, вымышленному французскому философу: «Как безумец мнит себя царём, так и мы полагаем себя смертными».
Мысль о смерти с сознанием не совместима, в него не вместима. Здесь оксюморон: если есть сознание, то нет смерти. И с наибольшей силой это зафиксировано, конечно, в рассказе «Ultima Thule». Вот этому мучительному когнитивному диссонансу, который отравляет жизнь, приводит к массе ложных выводов, посылов, — собственно этому всё и посвящено. Мир мыслимый, наш мир, наш внутренний мир не может с нашей жизнью прекратиться — он бесконечен, он абсолютен. И в этом, конечно, набоковская огромная правда. Надо обладать колоссальной силой рефлексии, колоссальной глубиной рефлексии, чтобы в себе за своим Я разглядеть бессмертное Я. И вот этому посвящён рассказ «Ultima Thule». И та тайна, которая открылась Фальтеру, любому вдумчивому читателю совершенно очевидна. Это и есть та тайна, что ничто не может кончиться. Но прийти к этому выводу можно только путём очень глубокого личного опыта.
Обратите внимание, что преображение Фальтера происходит в гостинице, ночью — ровно в тех обстоятельствах, в которых Толстому открылся «арзамасский ужас». Вот этот фрагмент из «Записок сумасшедшего» Льва Толстого надо перечесть — и тогда вам «Ultima Thule» станет гораздо понятнее. Это как бы продолжение. И совершенно прав Долинин, указывая на то, что ключевое слово здесь «ужас». И в рассказе «Ужас», где мир предстаёт абсолютно лишённым логики, неуправляемым, где подчёркнута несовместимость нашего Я и внешнего мира, тоже слово «ужас» возникает. Это ужас метафизический, ужас когнитивный. Конечно, это стоит помнить.
Теперь — что касается «Лолиты». Хотя я больше всего у Набокова люблю другой роман, а именно — «Бледный огонь». Люблю его за гениальное построение: он весь построен как комментарии к поэме и отражает набоковские многолетние занятия комментированием «Онегина». Но самое главное, что там есть, — это глубочайшая авторская нежность к мечтательным неудачникам. Вот есть несчастный Боткин — преподаватель литературы, с дурным запахом изо рта, одинокий, со странными навязчивыми идеями. А он представляет себя принцем в изгнании — Кинботом. И он представляет себя главным героем поэмы Джона Шейда, хотя Джон Шейд пишет поэму автобиографическую. Собственно, глубочайшим сочувствием и насмешкой над этим человеком роман переполнен, но эта насмешка нежная и, в общем, глубоко сострадательная. Боткин — это такой Пнин, вариант Пнина, но только более экзальтированный, конечно, более экзотический. А особенно прекрасно в Боткине то, что он сумел построить вокруг России, вокруг своего эмигрантского опыта причудливую страну Земблу, сумел творчески преобразить своё отчаяние. Я уже не говорю о том, что и сама фигура Шейда необычайно трогательна. И драма непонимания в этом набоковском романе отражена, пожалуй, наиболее адекватно. И, конечно, там подчёркнуто, что мир всегда алогичен, потому что логична там версия безумца, а жизнь, к сожалению, никогда в схемы не укладывается.
Из всех переводов «Бледного огня» прозаическая часть, на мой взгляд, лучше всего переведена Барабтарло и Верой Набоковой, а поэтическая часть известна нам в гениальном переводе Александра Шарымова. Прозаический перевод я не принимаю. Мне кажется, что Шарымов сделал чудо — нашёл адекватный язык для набоковского романа.
Теперь — что касается «Лолиты». Я много раз об этом рассказывал, но обратите внимание на то, что первый человек, соположивший «Тихий Дон» и «Доктора Живаго», — это Набоков, который в послесловии к «Лолите» назвал «тихими донцами на картонных подставках» шолоховских героев, а доктора Живаго — «лирическим доктором с лубочно-мистическими позывами и чаровницей из Чарской».
Но дело в том, что все три романа написаны на один сюжет. Обратите внимание, что и Аксинья была растлена в шестнадцатилетнем возрасте. И то же самое произошло с Ларой. И то же самое произошло с Лолитой, когда ей было тринадцать. Роман о родственном растлении, об инцесте и о рождении мёртвого ребёнка. Правда, Танька Безочередёва не гибнет в «Докторе Живаго», но чуть не гибнет. А гибнет дочь Григория и Аксиньи. И Лолита рождает мёртвого ребёнка и умирает. Это как бы сюжетно никак не мотивировано, но это совпадение не случайное. Это вообще такая мегафабула русского романа XX века. И «Лолита» в этом смысле не исключение.
Обратите внимание вот на какую вещь. Во всех текстах Набокова, где присутствует соблазн педофилии, любви к ребёнку, эротической страсти к нему, начиная со стихотворения «Лилит» и заканчивая «Лолитой» (отчасти, может быть, и незавершённым «Оригиналом Лауры»), присутствует везде не просто тема порока, а тема тюрьмы. Набоков совершенно откровенно признавался, что первый трепет замысла «Лолиты» пробежал по его спине, когда он рассматривал (вымышленный, конечно, так и не найденный набоковедами) журнал, где рассказывалась история об обезьяне. От неё добились разнообразными улещеваниями, чтобы она что-то нарисовала. И всё, что она смогла нарисовать — это решётку своей клетки.
Так вот, «Лолита» — это роман о том, что избавление от соблазна путём принятия этого соблазна, путём поддавания ему неизбежно ведёт к ухудшению ситуации, неизбежно ведёт к тюрьме. У Набокова поразительно наглядный в этом смысле эпизод из «Приглашения на казнь»: помните, когда Эммочка уводит Цинцинната из тюрьмы, только чтобы привести в «сердце» этой тюрьмы — в дом начальника этой тюрьмы, дочерью которого она является. Точно так же попыткой избавиться от отчаяния, скажем, в случае Круга в «Bend Sinister» [«Под знаком незаконнорождённых»] является секс с этой приставленной к нему девочкой — насколько я помню, Марианной [Мариэттой], которая гибнет потом. В то самое время, как он собирается её посадить к себе на бёдра, ломятся к нему представители ГБ (так называемых «гимназических бригад»), и она ему говорит: «Ты успеешь это со мной сделать, пока они будут ломать дверь!» А она оказывается одной из них.
То есть всякий раз человек поддаётся соблазну, только чтобы оказаться после него в гораздо более худшем положении… («в гораздо более худшем»? «в более лучшем»?) в гораздо худшем положении, чтобы оказаться в тюрьме, как Гумберт. И все попытки того же Александра Долинина очень убедительные и основательные. И доказать, что Гумберт на самом деле в тюрьме своего воображения, в тюрьме своей похоти, что это метафорическая тюрьма, — может быть, это и так. Но важно, что для Набокова тема тюрьмы и тема педофилии связаны.
И роман «Лолита» на ту же фабулу — колоссально влиятельную, колоссально значимую в XX веке, — что и «Хождение по мукам», что и «Тихий Дон», что и «Доктор Живаго». А основа этой фабулы заложена в романе Толстого «Воскресение», который начинается с инцеста, потому что Катюша родственница Нехлюдову. Потом происходит рождение ребёнка, который вскоре умирает. А в финале героиня оказывается в тюрьме и после этого достаётся другому.
В общем, здесь предсказана судьба России в XX веке: сначала она уступает насилию отца (это как бы метафора насилия со стороны власти), потом бежит с любовником (это метафора революции), а потом рождает нежизнеспособное общество, рождает мёртвого ребёнка. Этот мёртвый ребёнок в «Лолите» — почему, откуда он появляется? Почему Лолита вместо того, чтобы родить в браке со Скиллером здорового какого-то ребёнка, почему она гибнет, почему она рождает мёртвого? Потому что это история соблазна. И этот соблазн в XX веке закончился очень трагично. Ведь побег героини, скажем, с Юрой Живаго, или с Григорием Мелеховым, или с Рощиным в «Хождении по мукам» (там, кстати, вы помните, фигурирует мёртвый ребёнок Даши и Телегина) — это всё метафора давно желанного, давно соблазняющего революционного пути, но пути радикального переустройства всей жизни. Но эти двое так заняты друг другом, что им не до детей — и ребёнок гибнет. И общество, которое появляется, оно нежизнеспособно. И отсюда продолжением этого… Я не знаю, это история без продолжения. Вот для Лолиты нет развития, нет перспективы.
Конечно, «Лолиту» можно толковать по-разному. И Набоков всегда потешался над этими трактовками. Я думаю, что и моя не окончательная. Просто история «Лолиты» — это история порока, который человек пытается преодолеть, воплотив, завершив гештальт. А оказывается, что это приводит к полному краху. Потому что, если бы Гумберт по-прежнему страдал, это можно понять — его страдания, его фрустрацию. Но если бы он не дал воли своей роковой любви, то очень может быть, что он нашёл бы какое-то утешение. Ну, как совершенно замечательно сформулировал Михаил Эдельштейн: «Лолита» — это роман о том, чтобы вместо того, чтобы растлевать девочку, надо написать роман о девочке». Очень глубокая и славная мысль. В принципе, «Лолита» — наверное, роман ещё и о том, что чем делать революцию, лучше написать роман о революции. Но как-то не все это могут.
Меня вообще поражает эта наглядная линия, этот метасюжет русского романа XX века, в котором есть все устойчивые мотивы. Кстати, один из них ещё — это почти всегда гибель мужа, от которого сбегает героиня. Это есть и в «Хождении…», это есть и в «Докторе Живаго» особенно наглядно. Это есть и в истории Степана Астахова в «Тихом Доне» (ну, он там воскресает просто потому, что он автору понадобился, но всё равно он уже не тот). Этот метасюжет говорит о том, что великая литература делается бессознательно: автор не хочет, а всё равно у него выходит хроника жизни Родины.
Услышимся через неделю. Спасибо. Пока!
*****************************************************
03 июня 2016
-echo/
Д. Быков― Добрый вечер, дорогие друзья-полуночники. Дмитрий Быков, «Один» в студии, и штук триста вопросов. Дай бог мне ответить на десятую их часть.
Сразу говорю, что лекция по почему-то неожиданным и совершенно бесчисленным просьбам будет об Андрее Тарковском. Я, в принципе, это обещал, и почему-то это встретило невероятный энтузиазм. Я даже вам могу сказать почему. Как сказал однажды Доренко: «Я резко увеличиваю количество любви в обществе — одни любят меня, а другие любят меня ненавидеть». Точно так же и любой разговор о культовой фигуре тоже резко увеличивает количество любви и энтузиазма в обществе: одни страстно стремятся согласиться, другие — не согласиться. Тарковский — как фигура, безусловно, культовая — принадлежит к числу людей, вызывающих острые споры. И, видимо, как-то излишне дружелюбную атмосферу нашей программы людям хочется освежить таким грозовым некоторым разрядом, заведомо неполиткорректным или, по крайней мере, заведомо спорным мнением.
Я очень люблю Тарковского. Тарковский вообще один из самых, на мой взгляд, душеполезных (простите за грубое слово) или духоподъёмных, как сейчас говорят, но в любом случае один из тех режиссёров, которые сулят наслаждение. Вот это очень редкая вещь. Почему я люблю Набокова? Потому что, открывая книгу Набокова, вы уверены, что вас ожидает эстетическое удовольствие. И вообще удовольствие — не последняя вещь во всём: и в сексе, и в политике (а в России так особенно, sinful pleasure), и, конечно, в кино. Поэтому я с наслаждением поговорю о Тарковском, хотя многие мои мнения наверняка окажутся не очень привычными.
Начинаю отвечать на форумные вопросы.
Очень много вопросов и в письмах, и на форумах: как я отношусь к телевыступлению (ну, это не телевыступление, а это ARU.TV, это такой сетевой ролик) Леонида Радзиховского об оппозиции? Я вообще не очень хочу комментировать то, что говорит Леонид Радзиховский. Во-первых, потому что я с этим человеком хорошо знаком ещё по «Пресс-клубу». У меня долго было к нему доброе отношение, а сейчас оно резко поменялось, но мне не хотелось бы о нём говорить плохо.
Вместе с тем я не могу не отметить вот какую вещь. Всегда, когда ругают в последнее время российскую оппозицию, нужно понимать, что при всей заслуженности этих руганий вы тем самым активно играете на руку действующей власти. Хотите ли вы играть ей на руку, стоят ли ваше независимое мнение и ваша независимость того, чтобы совпасть с властью в самых дурных её интенциях? Это каждый решает для себя. Один скажет: «Нет, моё независимое мнение можно придержать в таком случае при себе, чтобы не добавлять тем, кому и так постоянно прилетает». Другой скажет: «Нет, моё независимое мнение превыше всякой конъюнктуры, и я считаю, что наша оппозиция — дрянна и ничтожна».
Кстати говоря, Александр Глебович Невзоров — человек, к которому я отношусь с глубоким уважением, — недавно тоже не преминул сказать, что все эти прелестные люди никуда не ведут и ничего не могут. В выступлении Радзиховского меня смутило пожелание к оппозиции заняться не системной деятельностью, а именно вплотную работать с массами, подзуживая их, видимо, к каким-то выступлениям. Так я это интерпретировал. Таких призывов у Радзиховского нет, он говорит гипотетически.
Мне кажется, что задача оппозиции двоякая. С одной стороны, она должна сегодня, как мидия в море, служить таким своеобразным санитаром среды — привлекать к себе наибольшее количество оскорблений, грязи, выпадов, просто чтобы демонстрировать на своём примере, до чего общество дошло, до какого ужаса. Это не провокация. Просто сейчас достаточно голову поднять, чтобы в тебя что-то полетело. Достаточно любого осмысленного высказывания, чтобы люди, не решающиеся на осмысленное высказывание, просто за свою трусость возненавидели тебя. Это совершенно естественная вещь. Это одна функция — демонстрировать, как некий термометр, до чего дошло общество.
И вторая функция, на мой взгляд совершенно очевидная, — это всё-таки создавать в обществе некоторое дискуссионное поле. Потому что пока эта дискуссия идёт, у нас есть пусть хотя бы иллюзия, но всё-таки политической жизни. А переходить сегодня к методам несистемным, то есть призывать массы к выступлениям, — мне это кажется совершенно провальной тактикой, потому что это сделать невозможно.
Ну, представьте себе, как это будет сегодня выглядеть. Человек приезжает на завод, один из немногих оставшихся и при этом ещё функционирующих (сравнительно немногих, если сравнивать положение с советской и даже с досоветской властью), и начинает рассказывать о том, как эти люди должны немедленно выйти на улицы, защищая свои права. Если они не выходят защищать свои права, то это зерно упадёт на гранит. Значит, единственное, что может делать сегодня оппозиция — это пытаться играть в легальном поле, потому что иначе она немедленно даст повод упразднить последние остатки существующей в России политики. Давать повод к этому, на мой взгляд, неблагоразумно.
Мне нравится деятельность Навального, который продолжает разоблачать власть. Мне нравится деятельно Рыжкова, который в легальном политическом поле пытается играть. Мне нравится деятельность Явлинского, который ставит безжалостные экономические диагнозы. И не нужно совершенно требовать от оппозиции, чтобы она была творчески инициативна и морально безгрешна. Не нужно говорить, что она должна найти новую национальную идею. Эта национальная идея найдена: соблюдайте свою Конституцию. И найдена она в 1972 году. Ничего нового вы здесь не придумаете.
А особенно мне нравятся вот эти все морально-этические претензии к оппозиции — разговоры о том, что она морально нечистоплотна, погрязла в интрижках, не может ни о чём договориться. Это демонстрирует одну очень интересную черту российского менталитета (может быть, и вообще человеческого, но в России просто все общечеловеческие черты явлены в какой-то изумительной полноте): здесь моральные законы довлеют только тому и обязательны для исполнения только тем, кто вообще признаёт их действие; если же у человека в принципе нет совести, он может творить всё что угодно, и более того, это служит даже к его доблести и геройству, потому что он, значит, имеет право.
Никто не будет упрекать менеджера крупной сырьевой компании за связи с несовершеннолетней моделью, потому что это естественно, это нормально. Но будут упрекать… Я не называю никаких имён, я вообще говорю о гипотетической ситуации, вот она просто пришла мне в голову. Возможно же такое? Возможно. А если оппозиционер кинет окурок мимо урны — всё, это трагедия. Потому что этот человек призывает всех жить по совести, а где же твоя совесть? Вот эта двойная мораль совершенно поразительна.
И для человека вообще, наверное, органична двойная мораль — не зря у него два полушария, две почки, два глаза («один смотрит в Арзамас, другой — на Кавказ»). Ну и соответствующая мораль. Вот представитель власти имеет право на всё, потому что он — власть. И все остальные, у которых нет таких прав, должны спокойно и смиренно проигрывать. «Умейте проигрывать. А как же? Вам связали руки, заклеили рот, сели на вас сверху. Умейте достойно проигрывать». Соответственно, представителю оппозиции нельзя ничего, потому что он призывает жить по совести. И ему в результате не то что грант взять, даже отечественной компании на развитие науки, а ему просто невозможно плюнуть, ещё раз говорю, мимо урны. «Ну, ты же совестливый, ты призываешь нас жить по совести». Сегодня в России, по-видимому, к сожалению, так получилось, такова моральная деградация общества. Сегодня в России может иметь успех только тот, кто ведёт себя максимально бессовестным образом, потому что бессовестность представляется многим феноменом силы и синонимом силы, как это ни ужасно.
Следовательно, должна ли оппозиция поддерживать такой стандарт? Нет, я думаю, не должна. Она должна продолжать существовать по совести. Иногда бывают такие времена (и здесь я совершенно солидарен с одним из моих любимых авторов — Денисом Драгунским), когда надо наблюдать, и это единственное, что остаётся. Когда на вопрос лечащего врача «Что делать?», профессор отвечает: «Делать слайды». Вот здесь действительно нужно дать бессовестности спокойно достигнуть своего логического предела. К счастью, в России имеется всегда очень хорошо развитый инстинкт самосохранения, и в шаге от пропасти она обычно останавливается. А если не остановится, значит — «Ты этого хотел, Жорж Данден!». Что ж поделать? Мы, как могли, останавливали.
«Как вы полагаете, на сегодня устоявшийся стереотип о существовании двух разных культурных матриц у Москвы и Питера полностью себя исчерпал, или существует некоторая разница?»
Разница огромная. Москва — это действительно, с моей точки зрения, столица азиатской Руси, а Петербург — столица европейской России. И сама циклическая история России повторяет концентрические круги Москвы — в то время как Питер принципиально разомкнут, и это мне в нём очень нравится. Конечно, Петербург — это город значительно более удалённый от власти (власть вся уехала в Москву ещё в 1918 году). И даже нынешняя ситуация, когда вся российская элита родом из Петербурга, ничего не изменила.
Кроме того, Петербург — это город традиционно авангардный. Условно говоря, московская и питерская культуры различаются, как премия «Большая книга» и Премия Андрея Белого. Я не большой фанат обеих премий и вообще литературных премий как критерия литературного успеха. Единственным критерием успеха является лонгселлерство — продолжает ли книга читаться, переиздаваться и влиять на умы. Но с моей стороны было бы неблагодарно отрицать роль литературных премий в росте популярности текста. И я, в общем, поэтому всегда премиям благодарен.
Но мне очень нравится премиальная стратегия Питера, который старается поощрять авангард. Именно в Питере возможен был неожиданным образом возникший (хотя, конечно, и с поощрением ЦК ВЛКСМ) «Рок-клуб». И сколько бы ни говорили о том, что он действовал под приглядом комсомольцев, он в какой-то момент вышел из-под их контроля. И, как часто бывает с партийными инициативами, он перерос эту инициативу, он оказался настолько в жилу городу, что сделался его символом. «Сайгон» — это сугубо питерское явление. И хиппи — это питерское явление в значительной степени.
И вообще Питер — это город сквотов, город коммуналок, город неформальной странной жизни, которая в восьмидесятые — начале девяностых дала здесь замечательные всходы, настоящие протуберанцы, вспышки такие. Недавно, когда хоронили Целикина, Царствие ему небесное, все вспоминали, что он был одной из звёзд этой субкультуры. Замечательную статью, по-моему, Губин написал о том, что тогда над Питером действительно пролилась какая-то божественная благодать. Многим это не нравилось. И мне многое в том Питере не нравилось. Потому что правильно сказал Валерий Попов: «Это всё-таки реанимация, а не ренессанс». Но всё-таки, знаете ли, реанимация — это лучше, чем добивание ногами. Поэтому Питер для меня до сих пор остаётся столицей альтернативной культуры. И в октябре я надеюсь попреподавать именно там.
Спрашивают меня, кстати, очень много о коротком списке «Большой книги».
Я и не претендовал туда попасть, поскольку два раза — это уже много, а три раза… А у меня уже два раза была эта премия: было первое место и было третье. И три раза — это была бы уже, по-моему, просто наглость. Мне нравится сам конкурентный процесс в литературе, он всегда оживляет её. Но я попасть в эту воронку, как некая бомба, ещё раз не рассчитываю. Хотя мне приятно и пребывание в long-листе тоже.
Что касается короткого списка. Мне не совсем понятно, почему туда не попал Сергей Кузнецов, и я здесь солидарен с Кучерской. У меня свои претензии к его чрезвычайно масштабному и, по-моему, всё-таки слишком большому роману «Калейдоскоп: расходные материалы». Просто «Большая книга» показала, на мой взгляд, свою неготовность к восприятию новых повествовательных стратегий. Мне кажется, что во многом Кузнецов, наследуя, конечно, лучшим традициям большого американского романа девяностых и нулевых, построил такую новую сетевую, как в фильме «Магнолия», ризомную композицию романа, в которой есть и провисающие места. И вообще мне кажется, что этот роман не очень хорошо написан, в нём слишком много клише, интонации его узнаваемы, и интонации эти, к сожалению, довольно фальшивые местами, такой фальшивый самоподзавод в них чувствуется. Но нельзя отрицать того, что это виртуозно построенная, замечательно придуманная и, главное, с актуальными смыслами история, интересная попытка осмыслить последние 100 лет мировой истории. В этом смысле роману Кузнецова там самое место. Но ещё раз говорю: с авангардом пока ещё у «Большой книги» серьёзные и, в общем, неразрешимые проблемы. Из тех книг, которые названы, я буду болеть за «Ненастье» Иванова, которое представляется мне книгой весьма интересной, и за «Автохтонов» Галиной.
Ещё у меня интересуются, что я думаю о коротком списке «Нацбеста», где тоже я дважды бывал. То есть бывал я в нём многажды, а побеждал я дважды. И, кроме того, интересуются, что я думаю в частности о книге Михаила Однобибла «Очередь».
О книге Михаила Однобибла «Очередь», номинированной Львом Данилкиным (таинственный этот автор, все гадают, кто за ним скрывается), ничего особенно хорошего я не думаю. Она удручающе вторична. Она похожа и на роман Оксаны Бутузовой «Дом», который мне представляется сильным и недооценённым, и на всю прозу Владимира Сорокина сразу, а особенно на «Метель», и на некоторые сочинения Пелевина, и на некоторые тексты эпигонов. То есть, в общем, я ничего принципиально нового в этой книге не обнаружил, кроме ещё одной попытки как-то описать русский неуют.
Болел бы я здесь тоже, наверное, за «Зимнюю дорогу» Юзефовича (которому я, кстати, желаю победы в обеих номинациях) и за «Автохтонов» Галиной, потому что я вообще всегда стараюсь болеть за своего брата-фантаста, а Галина — и очень хороший фантаст, умеющий писать увлекательно, а это редкость по нынешним временам. «Автохтоны» — не самая интересная её книга, но она атмосферная и, в общем, достаточно точная. И мне чрезвычайно нравятся её стихи. Поэтому Марии Галиной я передаю любовь и привет.
«Хотелось бы узнать личное мнение Дмитрия о том, что его текст, опубликованный в газете «Известия» на 220-летие Грибоедова, предложили сегодня школьникам страны для анализа на ЕГЭ по русскому языку».
Когда-то я Новелле Матвеевой рассказал о том, что нам её стихотворение «Рембрандт» предложено для синтаксического разбора, и она с искренним смущением сказала: «Клянусь, я не желала так усложнить вашу жизнь!» И действительно это очень точно.
…Пылится палитра. Паук на рембрандтовской раме
В кругу паутины распластан.
На кладбище нищих. В старинном седом Амстердаме
Лежит император контрастов.
Я помню, как мы делали разбор этих гениальных стихов, написанных восемнадцатилетней девушкой на «Чкаловской».
Я вообще положительно отношусь к тому, что на ЕГЭ появился мой текст, но мне горько, что этот текст нарезанный, что он идёт не подряд. А вообще — спасибо, конечно. Я просто надеюсь (и к этому идёт), что ЕГЭ, во всяком случае по гуманитарным предметам, в ближайшее время будет либо видоизменяться, либо упраздняться.
«Как бы на это задание написал ответ сам автор?» Нашёлся бы, выкрутился бы. У меня есть советская школа, и я достаточно адаптивное в этом смысле существо.
«В одном из своих выступлений вы говорили, что перевели роман Джесси Болла «Silence Once Begun».
Нет, не перевёл. Я собирался это делать, но пока не перевёл. Мы с женой собирались его переводить на пару (всё-таки Лукьянова — профессиональный переводчик). Я думаю, что мы это сделаем рано или поздно.
«Перевели ли вы «Дом листьев»?»
Из «Дома листьев» я перевёл примерно четверть, может быть треть. И эта книга появится уже совсем скоро. Просто уже я и предисловие переписал, потому что за это время многое изменилось, и «скоро сказка сказывается, но не скоро книга делается». Но уже она подписана в печать, уже она в самое ближайшее время будет в продаже, и вы сможете оценить качество этого шедевра.
«Что вы думаете о фильме «Конец тура»? И не могли бы вы подробнее рассказать о Дэвиде Фостере Уоллесе?»
Понимаете, я могу более или менее подробно говорить о «Pale King» — о последнем романе, незаконченном. Ну, он законченный на треть, как считается, и то это достаточно массивная книга. Я не могу о Дэвиде Фостере Уоллесе говорить достаточно подробно, потому что я целиком не читал «Infinite Jest». Я читал первый роман — «Broom of the System» («Чистка системы» или «Метла системы», как хотите). Я читал некоторые эссе — про бесконечность, «История бесконечности». Я читал подробно его биографию, потому что она меня чрезвычайно занимала. Мне очень интересно, как человек такого действительно гигантского ума и таланта может впасть в депрессию, доведшую его до самоубийства. Кстати говоря, спасибо Сергею Кузнецову — я ведь когда-то об Уоллесе услышал именно от него.
Я, может быть, сделаю лекцию про «Pale King», и именно потому, что «Pale King» («Бледный король») — это роман с очень нестандартными повествовательными опять же стратегиями, когда, как считал сам Уоллес, каждая глава должна лететь в читателя с неожиданной стороны. Я памяти Уоллеса посвятил книжку про Маяковского, которая построена, в общем, более или менее по этому же принципу. И вообще там много говорится о самоубийстве как о финальном творческом акте. Поэтому, наверное… Самоубийство Уоллеса — ведь это отчасти и приговор эпохе (точно так же, как и молчание Сэлинджера).
Фильм «Конец тура», в котором есть живой Уоллес и слышна его речь, чрезвычайно труден для восприятия, потому что он несколько образ Уоллеса для меня затемняет. Это такой Уоллес, адаптированный для окружающих. Он говорит там очень быстро, с большим количеством характерных для него жаргонизмов, и говорит о каких-то вещах, по-моему, третьестепенных. То есть литературного чуда я там не почувствовал. Я посмотрел, конечно. Там минут сорок, это такая документальная картина, где разговор с ним. Посмотреть на него живьём очень приятно, но думаю, что настоящее понимание его — это, конечно, сборник его эссе и сборник воспоминаний о нём, который сейчас вышел.
«Познал ли Фальтер истину, как об этом говорил его зять? Или это ещё один способ сравнительно честного отъёма денег?»
Конечно, Фальтер познал истину, иначе не о чём было бы писать роман [«Ultima Thule»], во-первых (а это задумывалось именно как роман). А во-вторых, Фальтер несколько раз упоминает некоторые детали из разговоров Синеусова с женой, которые не могли быть ему известны. Там несколько раз такой намёк проскользнул.
«Пара слов о писателе Вацлаве Михальском. Не всё у него читала, но то, что прочла, мне понравилось».
Вацлав Михальский больше известен, конечно, как редактор издательства и как создатель журнала «Согласие», но он и превосходный прозаик. Некоторые его сочинения (во всяком случае те, что мне известны) в девяностые годы вполне могли претендовать на серьёзное общественное внимание. Я, может быть, пожалуй, и сделал бы о нём подробную лекцию, потому что, понимаете, есть некоторое количество писателей (сейчас, простите, я только отвечу на SMS сложную), есть некоторое количество авторов девяностых годов, которые совершенно прошли незамеченными. Ну, не то чтобы незамеченными, а недостаточно воспринятыми, недостаточно понятыми. Это такие вещи, как роман Анатолия Королёва «Эрон», который, по-моему, кроме меня или Елены Иваницкой, толком никто не прочёл (ну, ещё Андрей Немзер, наверное). Это некоторые тексты Курчаткина. Это, безусловно, большая часть текстов Ильи Митрофанова, рано ушедшего.
Соответственно, Михальский — это один из авторов, которые не были по-настоящему замечены ни в восьмидесятые, ни в девяностые. Сейчас, правда вышло у него собрание сочинений, но тоже я думаю, что о Михальском надо говорить достаточно подробно. Канович ещё входит в число этих авторов — автор «Свечей на ветру», совершенно незамеченный, но любимый профессионалами. Борис Крячко, который умер в самом начале девяностых, по-моему, и был первоклассным писателем. Вот об этих незаметных авторах, создавших великолепные тексты, стоит поговорить. Кстати, мне очень нравится, что «Крепость» Алешковского вошла в короткий список «Большой книги», потому что Пётр Алешковский — он тоже из людей, которые (скажем, «Жизнеописанием Хорька» или «Рыбой») заставили о себе довольно громко говорить в девяностые, а потом что-то случилось. Мне приятно, что он в строю.
«Прошу прощения, что опять прошу залезть в головы кремлёвских идеологов. Они правда не понимают, что либо Сталин, либо Николай II?»
Нет, конечно, они не понимают этого, потому что для них совершенно несомненно одно (вот это такая печальная русская закономерность сейчас) — это попытка подменить вектор масштабом. Для России вообще она не идеологически странная, для неё всегда был важен не вектор, а масштаб. У нас была великая история, и совершенно неважно, в каком аспекте она была великой: великие ли это были зверства, великие ли провалы, ошибки, великие ли подвиги. Всё, что было великим, мы подгребаем к себе, потому что это обладает нашими чертами — бескомпромиссностью, масштабом. А бескомпромиссное ли это самопожертвование или бескомпромиссное уничтожение врагов народа — неважно. Важно, что это по-нашему, по-русски — вот широко так!
Поэтому для них и Сталин, и Гагарин, и Хрущёв, и Маленков (ну, Маленков в меньшей степени, он всё-таки в чём-то сомневался), и Ленин, и Пётр, и Никон, и Тихон — для них всё это в одном строю. Это всё — наша история. А для нашей истории характерна безоглядность и отсутствие сожаления по поводу людского ресурса. И это равно касается и Сталина, и Жукова, хотя эти фигуры друг другу противостояли. Вот это такой апофеоз всего самого дурного, что было в русской истории. И всё самое прекрасное стараются к этому же примазать. Да, для них это действительно одно. Это финальная стадия идеологической деградации. И смею вас уверить, что после этого неизбежно начнётся возрождение.
«Скажите пару слов о «Книге Мёртвых» Лимонова, а то думаю — читать или нет».
Нет, Лимонова надо читать обязательно, что бы он ни писал. Тут говорят, что его книги написаны он безденежья. Неважно. Как раз иногда от безденежья пишешь более искренне. Мне Александр Александров как-то сказал: «То, что сделано по заказу, точнее отражает вашу суть, потому что там вы проговариваетесь против воли, а эти проговорки и есть самые точные». Я, наверное, советовал бы читать всё, что пишет Лимонов.
Другое дело, что я совершенно не готов Лимонова сейчас оценивать, анализировать и читать о нём лекции, потому что Лимонов ничего, кроме гадостей, обо мне уже не скажет. А зачем же мне платить ему другой монетой? Он ожидает от меня, видимо, злости какой-то, а мне хотелось бы обмануть его ожидания. Я хочу о нём говорить только хорошее, а он, к сожалению, не всегда даёт к этому поводы — и возникает некий когнитивный диссонанс. Поэтому, простите, Эдуард Вениаминович, мои разговоры о вас закончены навсегда! Что не отменяет моего глубочайшего уважения и искреннейшего интереса. Просто я не хочу вам доставлять огорчения добрыми словами. Добро вас огорчит.
«Не могли бы поделиться мнением о современном Голливуде? Деградация ли это? Почему всё более востребованными становятся безвкусные одноразовые поделки по комиксам? Какие из последних фильмов вам понравились?»
Я традиционно люблю триллеры. Ожидаю нескольких важных триллеров в конце года. Последний фильм, который мне очень понравился, — это «Регрессия», работа Аменаба́ра… ну, Амена́бара, как правильно. Я вообще считаю Аменабара великим режиссёром. Я считаю, что эта картина про наведённую галлюцинацию, про ложные подозрения, она очень точно и подробно раскрывает приёмы травли. Понимаете, это же одновременно вышло с историей про берлинскую девочку. И там тоже была история про девочку, которую растлил отец, и про то, как весь город немедленно в этой истории понятно чью взял сторону, а потом всё это оказалось чудовищной клеветой. Это история о том, как манипулировать массовым сознанием, история о самых болезненных точках этого массового сознания, история о подлости в общем. И, конечно, Аменабар это сделал очень круто. Это прекрасна картина! И играют там все очень хорошо. Она страшная в меру, но главное — она страшна не этим. Она страшна… Знаете, вообще всё, что делал Аменабар, начиная с фильма «Луна» (короткометражки), мне представлялось высшим образцом современной кинопоэзии: и «Агора», и «Море внутри», но прежде всего, конечно, «Другие», которых мы с матерью пересматривали бесконечное количество раз и всегда со слезами. Для меня Аменабар — это поэт. И то, что этот поэт снял такую жёсткую картину, — для меня это лучший диагноз. Посмотрите её все.
А мы вернёмся через три минуты.
РЕКЛАМА
Д. Быков― «Один», Дмитрий Быков в студии продолжает отвечать на ваши весьма интересные вопросы.
«По вашей наводке прочитал «Жука в Муравейнике» и получил удовольствие. Спасибо! — спасибо и вам. — Как по-вашему, правильно ли сделали авторы, оставив концовку повести открытой и не расставив точки над i? Судя по интервью Бориса Стругацкого, они определённо считали что Абалкин — не программа странников. БНС даже знал конкретный вариант о том, как Абалкин получил телефон от Тристана, — ну, это известная история. — Большинство же читателей, наверное, воспринимает факт, что Абалкин потянулся к детонаторам, как доказательство правоты Сикорски. И вообще в чём смысл детонаторов?»
В моём последнем письме к Борису Натановичу я транслировал вопрос одного из своих школьников: «Если никаких Странников не было, то откуда детонатор?» Это было за неделю до смерти Стругацкого. Он ответил: «Любознательному школьнику привет! Насчёт детонаторов — дело тёмное». Стругацкие тоже не всё знали. Я не знаю, что там было с детонаторами. Это как раз придаёт повести особую прелесть.
Что я вам могу сказать про открытость и закрытость финала «Жука в муравейнике»? Мы будем сегодня говорить довольно много об эстетике семидесятых, а особенно в кино. Тогда в большой моде был открытый финал, который, конечно, отражает известную трусость авторов перед реальностью. Но советская эзопова речь — отсутствие внятных формулировок — имела и плюсы несомненные. Как Миндадзе сказал: «Вот тебе пятачок — на нём и реализуйся», — можно сказать от сих до сих, а остальное остаётся недоговоренным.
Стругацкие, я думаю, принципиально оставили недоговорённой концовку «Жука». И дело не в том, что Абалкин кроманьонец, а дело в том, что Абалкин — это человек, наделённый гениальностью, исключительным талантом общения с представителями других цивилизаций, прежде всего с голованами. Такой человек не может быть удобным и приятным. И вот вопрос ставится совершенно просто: к чему человечеству более готово — к столкновению с вызовом или к убийству такого непонятного человека? Потому что убить Абалкина — это же не только решение Странника. Это вообще инстинкт человечества, инстинкт муравьёв при столкновении с жуком. Это заложено на уровне инстинкта.
И сколько бы Борис Натанович ни повторял, что это всё тайная полиция, но тайная полиция — КОМКОН-2 — тоже заложена в структуре этих людей. И неслучайно, кстати, у Германа в «Трудно быть богом» на Земле победил именно КОМКОН, поэтому возвращаться на Землю Румате нет никакого смысла. Люди, оставшиеся на планете, люди, оставшиеся в Арканаре, в безвыходной ситуации, потому что на Земле ещё хуже или во всяком случае не лучше. Поэтому я не думаю, что «Жука» надо было заканчивать чем-то понятным. «Жук» поставил человечеству диагноз, и этот диагноз пока ничем не опровергнут. А сколько-нибудь определённый вывод — был ли Абалкин Странником или не был — он бы испортил всё впечатление, потому что дело не в этом.
«Минимальный разбор Мишеля Уэльбека, а особенно «Возможность острова» и «Покорность».
Хорошо, о «Покорности» я поговорю. Мне не очень понравился этот роман. Я вообще считаю Уэльбека прежде всего поэтом, а особенно в гениальных переводах Кормильцева. Немножко почитывал я его и в оригинале, стихи его. Он прекрасный поэт, причём в лучших традициях французской метафизической лирики (во Франции тоже такая традиция есть). Он такой прямой наследник Малларме, рискнул бы я сказать. Он интересный мыслитель и поэт настоящий.
Что касается лекции про «Прокляты и убиты». Не знаю, что я могу про эту вещь сказать. Там нет того «второго дна», о котором стоило бы говорить. Это действительно очень страшная правда о войне, очень страшная концепция войны — близкая тому, что написал Никулин (сотрудник Эрмитажа) в своих военных записках, близкая тому, что Слуцкий написал, кстати. Наверное, мне следовало бы эту вещь перечитать. Но, видите ли, судить о ней может фронтовик. А говорить о каких-то художественных её особенностях мне представляется кощунственным, потому что слишком важна правда, там сказанная.
«Спасибо за вашу оценку «Смерти Вазир-Мухтара», — и вам спасибо. — У Набокова репутация первоклассного стилиста, а вы пишете, что в лучших текстах Набокова стиля не видно, и он слишком иронизирует и слишком умён, просто чтобы быть стилистом. Можете ли вы назвать хорошего писателя, который был бы стилистом и только, у которого больше ничего нет»?
Ну, трудно сказать. Первым приходит в голову Генри Джеймс, но опять-таки боюсь, что Новелла Матвеева вознегодует, потому что именно она когда-то меня познакомила с его текстами как с образцом гуманной и тонкой прозы. И потом, Генри Джеймс написал как-никак выдающуюся повесть «Поворот винта». Хотя я вполне разделяю чувство Джека Лондона, который, взяв со стола «Крылья голубки» или «Портрет», не помню (кажется, «Крылья голубки»), прочитал первые десять страниц и крикнул: «Да объяснит ли мне кто-нибудь, чёрт побери, что здесь написано?!» Я могу это понять. Это плетение словес такое ажурное. Чисто стилистический феномен — я думаю, Саша Соколов. Поэтому я уже не могу читать «Между собакой и волком» и совсем не понимаю, как можно читать «Палисандрию».
«Если я правильно поняла, ваша трактовка Лолиты состоит в следующем: человек, преодолевающий соблазн (ведущий к пороку) посредством воплощения гештальта, приходит к краху, — да, приходит. — А что вы думаете, как преодолеть соблазн, если нет литературных способностей, чтобы описать его?»
Наташа, воздерживаться! Соблазны нам даны для того, чтобы их преодолевать, а не для того, чтобы им поддаваться. Уайльд сказал: «Лучший способ преодолеть соблазн — это поддаться ему». А Набоков показал, что будет, если поддаться.
«Как вы относитесь к нынешней перестройке Москвы?»
С ужасом! Вот мне сейчас негде было припарковать машину, потому что все парковки вдоль Арбата разрыты. Я поставил её дальше, близ Гоголевского бульвара. И я умоляю тех, кто там стоит или ходит мимо, не эвакуировать зелёные «Жигули» (ну, тёмно-зелёные, цвета «мурена»), потому что я сейчас пойду и поеду домой на них. Ребята, ну, «Жигули»! Кем надо быть, чтобы эвакуировать «Жигули»? Ну, я не знаю, это всё равно что тянуть за нос нищего, по русской поговорке, прости господи.
«Ваше отношение к Эдуарду Старкову и группе «Химера»?» Простите, ради бога, от вас впервые слышу о нём. Теперь придётся заняться.
«Как вы относитесь к творчеству Жвалевского и Пастернака?» С интересом. Я подростковую прозу вообще люблю.
«Тема смерти в творчестве Марины Цветаевой из-за времени декаданса или из-за её мироощущения?»
Не из-за того и не из-за другого. Понимаете, Цветаева вообще изначально априори — очень здоровый и жизнерадостный человек, дисциплинированный труженик, самоотверженный художник, действительно ради точного слова, а иногда ради «точного слога», как она писала Иваску, готовый три часа потратить над тетрадью с чёрным кофе и папиросой вечной. Я очень люблю Цветаеву именно как человека, и как прозаика больше, чем как поэта. Хотя лучшим её поэтическим периодом считаю примерно с 1918 по 1925 годы — условно говоря, с «Метели» до «Крысолова». Но всё равно я очень люблю Цветаеву в целом.
И тема смерти у неё… Это, знаете, как у Бунина в коротком рассказе про часовню: тёмный подвал, из которого веет смертью, среди солнечного яркого дня. Цветаева сама настолько яркая и здоровая личность, что мысль о смерти ей нужна постоянно, чтобы подчеркнуть собственную витальность, чтобы подчеркнуть, до какой степени она не приемлет смерти:
Я так не хотела в землю
С любимой моей земли.
У неё нет эстетского любования смертью. У неё есть горячее её неприятие. Для неё смерть — это ещё один повод всех любить:
— Послушайте! — Ещё меня любите
За то, что я умру.
Вот за эту противоестественность, за этот подвиг, за эту жертву. Поэтому для меня тема смерти у Цветаевой — это естественное продолжение и естественное противопоставление её колоссальной витальной мощи, её неубиваемому румянцу. Понимаете, этот румянец, иногда несколько лихорадочный, есть даже на стихотворениях тридцатых годов. Мне нравится в Цветаевой её жизнеутверждающая витальная сила, которой, скажем, у Бродского я не вижу. Потому что у него, несмотря на всю энергию его стихов, я не вижу этого цветаевского румянца, а вижу наоборот — прекрасную бледность.
«После прочтения нескольких популярных книг по общей теме «Как достичь успеха в жизни?» обнаружил одну закономерность: практически везде советуют отказаться от общения со всеми, кто попадает под пошленькое понятие «неудачник», а окружить себя людьми, «умеющими жить». Это напоминает программирование роботов. Как вы относитесь к подобным советам?»
С омерзением. На мой взгляд, наоборот, единственное, что может сделать человек, — это увидеть другого, условно говоря, неудачника и попытаться спасти его, попытаться исправить его карму. Вот у Лужина в «Преступлении и наказании» была такая «теория целого кафтана»: если вы будете латать чужой кафтан, то будет два дырявых кафтана — ваш и чужой. Человеческая практика, человеческие законы принципиально другие: кто отдал, у того удваивается. Вы не можете сохранить и приумножить своё, если будете над этим дрожать, как мышь над крупой. Надо всё время делиться, всё время раздавать. И я, кстати, знаю по себе (и всем я это рекомендую), что чем больше вы тратите, тем больше вы зарабатываете. Это закон такой: жадность приводит к убыче денег (я не знаю, как можно слово «убыча» перевести на человеческий язык), к убытку приводит жадность. Если вы, как герой чеховской «Скрипки Ротшильда», везде видите убытки и трясётесь над каждой копейкой, ничего не получится. Поэтому, как сказала замечательно та же Цветаева: «Увидев человека в неловком положении, прыгайте к нему туда — и неловкость поделится на двоих».
Я знаю несколько примеров, когда люди, сами находясь в полном прогаре, в трагическом одиночестве, в нищете, практически отдав последнее другому, приобретали вдвое. Это такой закон, и он в Библии собственно есть. Но он не вполне материален, и он материально необъясним. Почему я и думаю, что материальными законами не вся наша жизнь регулируется. Но если вы поможете человеку в катастрофическом положении, вы поправите и своё. «Спасая чужую жизнь, спасёшь и свою!» — как называется один из самых жестоких и, я бы сказал, противных рассказов Фланнери О’Коннор.
Тут, кстати, очень просят лекцию про Фланнери О’Коннор. Ребята, я боюсь! Я про неё уже писал один раз в «Дилетанте». Я боюсь, потому что кто я такой, чтобы с ней полемизировать? Ну, она великий писатель, писатель библейской мощи абсолютно. Я могу попробовать рассказать, как я понимаю «Хорошего человека найти нелегко», но это если у нас получится всё-таки вытащить сюда Веллера (мы с ним на будущей неделе ведём об этом переговоры). Поскольку это его любимый рассказ, может быть, мы сможем его обсудить. Я, кстати, от Веллера когда-то узнал про этот рассказ. Он сказал: «Обязательно надо прочесть». Я прочёл и… Прямо сказать, я не был ему за это особо благодарен.
Тут, кстати, спрашивают: «Не могли бы вы посоветовать что-нибудь похожее на «Звягина»?» — имеется в виду веллеровский роман «Приключения майора Звягина».
Столь же мотивирующее трудно мне назвать. Это именно очень мотивирующая книга. Можно попробовать, наверное, повесть Валерия Попова «Иногда промелькнёт» — тоже здорово мотивирующий текст. Очень исповедальный, очень резкий, очень местами страшный, как и весь поздний Попов, но почитать стоит.
«Что вы думаете о Шервуде Андерсоне?»
Шервуд Андерсон — гениальный писатель. Из того, что он написал, я больше всего люблю «Триумф яйца». Хотя, конечно, этот сборник рассказов про Огайо — прелестный совершенно. Больше всего мы с Веллером при личном знакомстве были поражены тем, что у нас один и тот же любимый рассказ из «Уайнсбург, Огайо» — «Paper Pills» («Бумажные шарики»). Это очень хороший рассказ! Ребята, просто почитайте. Три страницы прекрасного, я бы сказал, нежнейшего текста! Я очень его люблю.
А из всего, что сделал Шервуд Андерсон, мне больше всего нравится, когда он в 40 лет однажды пришёл в свою контору, посидел за столом, плюнул, надел пальто, три дня где-то скитался, вернулся и никогда больше не возвращался к юридической практике, а занимался исключительно писательством. Вот за это я его люблю. Это надо иногда сделать. Потому что, знаете, иной раз придёшь в контору… У меня несколько раз было такое чувство, когда я бросал заведомо отвратительное дело. Отвратительное не с эстетической точки зрения, а дико скучное, даже если оно было прибыльным. И вот уйти, где-то бродить три дня. Вот это я люблю! Вот это художественный жест! Это прекрасно.
«Не могли бы дать филологический анализ стихотворения Егора Летова «Евангелие»?»
Вы знаете, мне даже в отрыве от музыки очень трудно эту песню воспринимать. Это песня из альбома «Сто лет одиночества» и, пожалуй, единственная песня Летова, которую я по-настоящему люблю. Я не буду давать её анализ, потому что, во-первых, я недостаточно понимаю это стихотворение и не хочу слишком понимать. Мне просто кажется здесь очень верной строчка: «Задуши послушными руками своего непослушного Христа». Мне кажется, именно это и происходит в российской культуре и в российском менталитете очень давно — как один из изводов христианства, который сам Мережковский, например, называл просто «антихристовой церковью». Попытка задушить Христа, попытка построить антихристианскую церковь, церковь без Христа — это попытка построить церковь государственную. И это делалось неоднократно. И против этого государства-bestia я, конечно, возражаю всей душой. Думаю, что Летов имел в виду именно эту проблему, которая и у Достоевского в «Великом Инквизиторе» поставлена в полный рост.
Хотя можно понимать эти стихи, как и все летовские тексты, абсолютно противоположным образом. Как сказал Костя Ярославский, когда я что-то ему возражал после его лекции о Ницше: «Проблема, Львович, в том, что можно было бы прочесть лекцию, в которой все тезисы были бы ровно противоположные, и это было бы так же убедительно. Ницше — такая фигура». И я наконец понял, за что я Ницше не люблю и за что я люблю Ярославского. Понимаете, когда о чём-либо можно сказать взаимоисключающие вещи, то меня это не восхищает. Философия — строгая наука.
«Что вы думаете о не гаррипоттеровской части творчества Роулинг — о «Случайной вакансии» и о Корморане Страйке?»
Честно вам скажу, что серию про Корморана Страйка я на втором романе выдохся читать, но мне нравится, что она рискует. А «Случайная вакансия» — хороший роман, немножко похожий на Сьюзен Хилл. И вообще в Англии есть такая традиция — писать мрачны романы о детях, когда дети предстают вовсе не цветами жизни, а довольно страшным сообществом, страшненьким. Роман Сьюзен Хилл «Я — в замке король» в своё время меня просто перевернул.
«Вопрос о вторичности «Двенадцати стульев» Ильфа и Петрова по отношению к циклу О. Генри «Благородный жулик».
Да это не вторичность, это принадлежность к традиции. А традиция эта, начиная с «Ласарильо с Тормеса», заключается в создании плутовского романа. А плутовской роман — это всегда травестированное христианство. И в этом смысле первым плутовским романом, отчасти написанным в жанре высокой пародии, были отдельные эпизоды Евангелия, потому что там уже содержится мысль о том, что человек, приходящий в мир отца, может смягчить нравы только чудесами. Я не буду вдаваться в эту мысль, потому что она может кому-то показаться слишком неортодоксальной, но она на самом деле глубоко ортодоксальна, глубоко православна. Потому что традиции иронии, традиции чуда — они, к сожалению, были наиболее полно представлены именно в плутовском романе, в романе пародийном. Не будем забывать, что и «Дон Кихот» — это тоже высокая пародия, и вместе с тем это одно из самых христианских произведений мировой литературы. Конечно, и «Короли и капуста» в этом смысле, и куда более одарённая книга Ильфа и Петрова — это именно попытка вернуть в мир христианскую мораль. И поэтому двадцатые годы оказались серией книг о похождении плута. Достаточно рассмотреть, скажем, христианскую тему в «Тарасе Бульбе» в отношениях отца и сына и проследить, как она спроецирована у Бабеля (у этой странной инкарнации Гоголя), у бабелевском «Закате», Мендель Крик и его сыновья. Сыновья приходят в мир и смягчают мир, потому что мир отца жестоковыйный, непрощающий, нежизнеспособный.
«Массированная кампания по закрытию торрент-трекеров не укладывается в матрицу отношений «власть — толпа», выраженную в формуле «хлеба и зрелищ!», ведь люто преследуются ресурсы, позволяющие смотреть фильмы…» — ну, грубо говоря, убиваются зрелища.
Понимаете, они об этом и не думают. И они не думают о замене хлеба зрелищами. Это система, которая находится в аутоиммунной катастрофе — она ест себя, убивает себя. И ей совершенно неважно, у неё нет прагматического расчёта, ей неважно, из каких соображений она действует. Ей важно запрещать. Вот Мизулина хочет запретить бэби-боксы, хотя это обречёт очень многих детей на катастрофу. Ужас, да? А тем не менее — ещё и это запретить. Я лишний раз ссылаюсь на фразу Игоря Чубайса: «Госдуме давно пора уже запретить всё — и тем осуществить своё предназначение». Правда, вопрос — что они будут делать дальше? Вероятно, запрещать себя.
«Стала появляться информация о том, как защититься от прослушивания и слежки (пароли, кодовые слова). Должны ли мы это делать?»
Ну, от прослушки, то есть от того, чтобы вашу прослушку смогли воспроизвести по телевизору, если вы оппозиционер, защититься очень просто (я об этом писал уже в «Новой газете»): вы должны говорить такие вещи, которые нельзя воспроизвести по радио и по телевидению. Это не значит говорить обязательно матом. Высказывайте мнение о некоторых лицах, высказывайте какие-то вещи, которые нельзя потом поставить в эфир — и тогда вашу прослушку в эфир не поставят.
Другой вариант — не разговаривайте по телефону ни о чём, что для вас действительно важно. Я тут, кстати, недавно как раз заметил, что я свёл свои контакты с людьми к минимуму. И мне это, в общем, и не очень-то нужно. У меня есть пять-шесть-семь близких друзей, ну, может быть, пятнадцать менее близких, но всё равно очень мне симпатичных, и я с ними общаюсь довольно тесно не по телефону. А по телефону я разговариваю: «Приходите завтра туда-то и туда-то» (на объект «Дети-два», как у Семёнова). И вообще меньше разговаривайте. Вот Дмитрий Горчев (премию которого я сейчас буду рад анонсировать), замечательный прозаик, Царствие ему небесное, Дима Горчев, друг мой большой, он в одном рассказе написал: «Прошло уже время трындеть. Хватит трындеть. Нельзя больше этим заниматься, этим трындежом беспрерывным». И я с этим совершенно согласен. Ну, чего разговаривать-то? Думать пора.
Кстати, я анонсирую, что в Петербурге ещё одна авангардная литературная премия — Премия имени Дмитрия Горчева. Присылайте свои сочинения в издательство «Геликон Плюс», где Горчев проработал долгое время художником. Там две номинации: одна — это проза, а вторая — не публицистика, а эссеистика. И вы можете, соответственно, эту премию выиграть осенью. Она финансово небольшая, но очень престижная, потому что Горчев — всё-таки самый популярный прозаик Рунета, самый цитируемый, самый сильный. И его отсутствие, по-моему, очень гибельно сказывается.
Спрашивают меня, кого из современных российских поэтов я бы назвал.
Сейчас выходит книга у хорошего поэта Дины Бурачевской, которую я очень люблю. И люблю не потому, что у нас совпадают инициалы — Д.Б. и Д.Б. (она мне так и пишет обычно: «Д.Б. от Д.Б.»). Вот эту Д.Б. я очень люблю. Дина Бурачевская, чья книга стихов называется «Дура»… Важно уметь назвать книгу. Мне кажется, что это очень удачная книга с удачным названием.
Кроме того, сейчас, видимо, в течение двух месяцев (тоже в Петербурге) выйдет книга стихов Айгель Гайсиной. Это поэтесса, на которую я обратил внимание грешным делом ещё десять лет тому назад… Нет, не десять, вру. Это сколько же ей было? Года ей было двадцать три… Шесть лет тому назад, когда мы приезжали в Казань на «Аксёновские чтения». И там был устроен такой парад местных поэтов, и несколько авторов внимание моё привлекли. Айгель Гайсина в их числе, потому что она бард. Им как-то легче в этом смысле с просодией, и музыка помогает находить разнообразные какие-то штуки. Вот Гайсина прочла несколько стихов, выдержанных в очень своеобразном размере. Я, кстати, один её стишок даже, пожалуй, сегодня прочту, как раз когда я начну отвечать на вопросы. Ну, мне нравится очень, как она пишет. И вот я рад, что её книга выйдет. Называться она, скорее всего, будет «Суд», потому что в силу разных обстоятельств она сейчас довольно много времени проводит в тюремных очередях. Не буду рассказывать эту историю. Прочтёте, может быть, в «Собеседнике», не знаю… В общем, история интересная, правда. Просто она поэт хороший. И мне нравится её книжку рекламировать, потому что… Ну и стихи вам понравятся.
«Вы полный гороскопный тёзка Михаила Николозовича Саакашвили. Чувствуете ли вы этого человека (если он вам вообще интересен)?»
Мы обсуждали с ним этот феномен. Ну, как «полный гороскопный»? У нас примерно 5 часов разница, он родился на 5 часов позже меня: я поздним вечером 20 декабря, где-то в 10 часов вечера или даже позже, а он — утром 21-го. Он не полный мой гороскопный двойник. Но мы оба Стрельцы, мы декабрьские, мы склонны, как и Сталин, родившийся примерно в это же время, к решительным действиям.
Но мне повезло в том смысле, что около меня есть несколько очень добрых людей, которые проливают вовремя лёд на эту «раскалённую плиту», когда я бываю в бешенстве, или умеют меня как-то сдержать. Мне однажды любимая сказала, вдруг очень серьёзно сказала: «Пожалуйста, никогда не бей меня по животу и по лицу». Этого было совершенно достаточно, чтобы я с тех пор начал как-то себя контролировать. Хотя я и не собирался — клянусь вам! — никого бить, но это был важный экзистенциальный опыт. Вот если бы Михаилу Николозовичу кто-нибудь что-нибудь подобное сказал, я думаю, его жизнь была бы исполнена блаженств.
А мы вернёмся через три минуты.
НОВОСТИ
Д. Быков― Продолжаем разговор. Я прочту всё-таки это стихотворение Гайсиной. Тут, кстати, прислали мне вопрос: «А почему бы не издать её диск?» Ребята, я дисков не издаю. Я могу помочь с изданием книги, и то издаю её не я. А с диском — если кто может, то ради бога, вперёд! А пока вот такие стишки:
Десять лет я держала звено копирайтера в пищевой цепочке,
А ему, наверное, пришлось сидеть на единственном свободном стуле поэтки.
Я не знаю этого несчастного, но посвящаю ему каждую строчку
Той чуши, что понаписала за бабки, и той, что не понаписала из-за дедки,
Или страха перед теми, кто хвалит, и теми, кто ждёт чего-то,
Из-за тех, кто говорил: «Надо заниматься тем, что действительно получается»,
Из-за родственников, которым практически невозможно объяснить, кто ты,
Из-за ужаса, который включается всегда, когда экстаз выключается.
Я решилась признать вину четвёртого сентября — это памятная дата.
Не спрашивайте, что случилось в этот день, — ничего хорошего, уверяю.
В этот день судьба мне будто бы сказала: «Не хочешь по-хорошему — на тогда!» —
И я, харкая кровью, все равно: «Траст» — агентство, которому доверяю!»
А она: «Ну ты дура! Вот не зря все мужики говорят тебе «дура»:
Надевает перчатки, раскладывает издевательства (а могла ведь просто испытания),
Тебя ждали всего лишь бедность, зависимость от обстоятельств, современная русская культура!»
И я, уже просто чтобы сохранить лицо: «Нестле» — это эталон детского питания».
Конечно, она победила, она могла бы просто стереть меня в порошок,
И плевать бы на это! Тело человека — последнее, что мне в жизни надо.
Но под мышкой сопит такой ласковый и такой беспомощный малышок,
Вдруг он тоже перепутает шкафчики, если не проводить его до детсада?
Почему я люблю эти стихи? Конечно, тут есть нечто эгоистическое такое, потому что это немножко похоже на моё старое стихотворение «Жил не свою, а теперь кукую». Но это сходство не формальное, а это сходство вопросов, которые человек себе задаёт: вот он живёт не свою жизнь, а кто живёт его жизнь? И меня здесь подкупает прелестная интонация. И, кроме того, это сделано в таком огден-нэшевском духе — знаете, с этой длинной прозаической строкой, которая взрывается рифмой под конец. Кстати, у Ирки Лукьяновой был в своё время такой цикл стихов «Наш Нэш», который меня тоже очень подкупил. Мне кажется, это ещё не разработанная традиция в русской поэзии. В любом случае мне это нравится больше, чем дольник. И нравится мне всегда самоирония.
Тут спрашивают: «Вы упомянули объект «Дети-два». А не знаете ли вы реальной подоплёки событий и как там задерживали Марту Петерсен?» Я, к сожалению, дорогой слушатель, об этой истории знаю очень мало. Но то, что вы тоже помните «ТАСС уполномочен заявить…», мне приятно.
«Люблю текст Кортасара «Непрерывность парков», который похож на гравюру Эшера. Возможно ли в большом тексте использовать приём метаморфозности, перетекания и превращения одного в другое?»
Это как раз и есть то, что называется «экфрасис» — то есть приём, типичный для живописи, перемещённый в литературу. Работает ли это в большом тексте? Не знаю. Мне кажется вообще, что все большие тексты Кортасара довольно слабы по сравнению с его рассказами. Уж такой рассказ, как «Киндберг» — по-моему, абсолютная вершина (или «Слюни дьявола»). И на фоне этого остроумно придуманные, но очень бледно написанные «Модель для сборки» или «Игра в классики», по-моему, просто довольно занудные.
Тут хороший вопрос о том, что на самом деле Толстой писал «Крейцерову сонату» (ну, это меня поправляют по прошлому эфиру) до того, как Софья Андреевна влюбилась в Танеева.
Да нет! Софья Андреевна была знакома с Танеевым и держала музыкальный салон ещё задолго до того, как умер Ванечка, до 1895 года, задолго до того, как Танеев стал жить в Ясной Поляне. И ревность Толстого к музыкантам отражена ещё в таком замечательном мемуаре Сабанеева «Лев Толстой и музыкальная культура», где описано, как ещё в 1893 году Толстой с ненавистью, по крайней мере с неприязнью, смотрит на толстый живот Танеева, который играет Бетховена. И видно, что Бетховен до него совершенно не доходит, а доходит этот толстый живот.
Толстой начал ревновать жену к музыкантам и к музыке, мне кажется, значительно раньше. В 1890-м написана «Крейцерова соната», и он предчувствовал конфликт, который из-за этого разовьётся. А то, что настоящее влюбление Софьи Андреевны в Танеева произошло в 1895–1896 годах, я думаю, действительно его нагнало в коллизию. Но он эту коллизию предугадывал с совершенно полным правом, потому что уже в 1890-м, когда была написана «Крейцерова соната», Танеев был с Толстыми знаком и был вхож в дом в Хамовниках, где зимы Толстой тогда проводил.
Другое дело, что он сначала ситуацию придумал, а потом она стала на глазах сбываться. Но поводы к ней, поводы к такому восприятию у него, естественно, были. Музыкальный салон Софьи Андреевны он не любил и вообще считал музыку развратом. Помните же, Чехов писал о «Крейцеровой сонате»: «Из описания Толстым проблемы сифилиса или проблемы женского оргазма видно, — ну, там не «оргазм», а там иначе это названо, о женской сексуальности вообще сказано, — что он не прочитал и двух-трёх книг на эту тему, а берётся обо всём этом судить», — о женской сексуальности.
Видимо, Толстой действительно и к музыке, не очень в ней разбираясь и умея играть на хорошем любительском уровне, относился как разврату. И не зря он сказал однажды после исполнения «Лунной сонаты»: «Я достаточно испорченный человек, если эти пустяки всё ещё на меня действуют». Он считал, что музыка ничего не сообщает, не заставляет мыслить, а воздействует только на чувственную сферу. Поэтому совершенно очевидно, что он ревновал жену к музыкантам, с которыми она с конца 1880-х годов дружила и устраивала салон в Хамовниках. И вообще на разных половинах дома в Ясной Поляне, как все вспоминают, господствовало абсолютно разное отношение к музыке. Это очень принципиально.
«Вы говорите о молодости русской светской литературы (всего три века), но есть ещё семь веков древнерусской литературы. Могли бы вы поделиться вашим мнением о ней?»
Я не специалист в этом вопросе. Для меня вообще русская проза начинается с жизнеописания протопопа Аввакума, с его «Жития». И мне кажется, что всё, что было до этого, — это другие жанры, о которых я не могу судить. Русская география, то есть русские жития, русские поэмы, эпосы, как «Задонщина» или «Слово о полку…», — это особый прозо-поэтический мир, особый жанр со своей символикой, со своими очень глубокими, кстати говоря, языческими корнями, которые в «Слове о полку…» совершенно очевидны. И я не Зализняк, чтобы об этом судить с достаточной мерой уверенности. Я считаю, что светская литература начинается у нас с XVII века, а по-настоящему — с XVIII. Поэтому действительно русская литература молода. Всё, что было до этого — литература совершенно других жанров.
«Мэрилин Монро исполнилось бы 90. Мне кажется, она прожила так мало из-за «есенинской болезни» и не была приспособлена к реальной жизни. Вы согласны?»
Лучшее, что написано о Мэрилин Монро, как мне кажется, — это очерк Трумена Капо́те (или Капоте́, как мне почему-то приятнее его называть). Вот там — вся мера их общей неприспособленности к жизни, такой дружбы двух одиноких фриков, которым, в общем, не о чем говорить, потому что все их контакты с внешним миром затруднены, и это описано. Мне кажется, что в случае Мэрилин Монро ей банально не хватало интеллекта, чтобы справиться с вызовами собственной биографии. Для того чтобы быть красавицей, к тому же красавицей востребованной, для того чтобы быть сексуальным идолом (как она сама писала — «немного вещью»), нужен такой интеллект, как у Шэрон Стоун, а у неё он, по-моему, зашкаливает. У неё показатель IQ такой, который не всякому университетскому профессору снился в самом счастливом сне. Нужно быть очень умным человеком, как Трумен Капоте, чтобы быть человеком светским. И то Капоте продержался всего 60 лет — с массой кризисов, запоев и наркотической зависимостью. Для того чтобы быть в центре внимания, нужно обладать или колоссальной самоиронией, или сосредоточенностью на какой-то сверхличной цели. А Мэрилин Монро была, по-моему, недостаточно умна, чтобы выдерживать роль идола. И получилось, как в известном стихотворении у Вознесенского:
Я баба слабая. Я разве слажу?
Уж лучше — сразу!
Правда, насчёт самоубийства там до сих пор ничего не понятно.
«Понравился ли вам последний фильм режиссёра Прошкина «Охрана»?» «Охрану» не видел. Видел «Райские кущи».
«Что выдумаете о романе Дэна Симмонса «Друд, или Человек в чёрном»?»
Великолепный роман! Настолько удачный, что есть огромный соблазн поверить (а я и поверил на какой-то момент) в эту историю про Друда — таинственного человека, который ходит среди жертв крушения. А может, это и было, кто его знает. Вообще я Симмонса люблю. То есть как люблю? Я считаю, что его романы многословны, избыточны, затянуты, но он замечательно умеет описывать страшное. Ну, «Гиперион» мне совсем не нравится, а вот «Террор» очень нравится.
«Вы говорили об описании этики языком математики. Воплощением чего является этикосфера Лема в «Осмотре на месте»? — А почему только Лема? А булевские теоремы, булевская логика? Я не первый и не я последний. — По сути, это и приведёт общество в Человейник, — я не уверен. — Отношение самого Лема к этой концепции неоднозначное. А каково ваше?»
Понимаете, этикосфера — это не совсем то. Я говорю не о том, что мораль можно отрегулировать математикой, не о том, что можно промодулировать, как это сделано в «Солярисе», человеческой энцефалограммой и волнами Соляриса и облучить её этой энцефалограммой. Я говорю не о рационализации этики, грубо говоря. Я говорю о том (о чём, кстати, говорит и Пелевин в «Числах»), что в условиях такой зыбкой этики, какова русская, в условиях, когда так легко себя уговорить, и есть такой большой опыт конформизма, как в России, — в этих условиях заменой морали может выступать последовательность.
И там ведь у Пелевина, если вы помните, главный герой «Чисел» потому всегда побеждал, что он верил в тройку и четвёрку, а другие пользовались какими-то коммерческими расчётами, и их расчёты никогда не оправдывались, а вера в тройку и четвёрку иногда приводила к верным результатам. Ну, это примерно, как в классической загадке у Кэрролла, где часы, которые показывают верное время дважды в сутки. Эти часы стоят по определению, но всё-таки дважды в сутки они верное время показывает. Точно так же, если вы доверяете числам, а не этике, по крайней мере, дважды в жизни вы можете совершить моральный поступок. Последовательность сильнее нравственности. И для меня последовательный злодей привлекательнее, чем колеблющийся добряк, потому что он сегодня добрый, а завтра злой, и я ему не верю. Знаете, это как… Ну, ладно, не буду я рассказывать этот анекдот.
Но в любом случае это история о том, как упёртость (даже упёртость суеверная, религиозная, иногда игроманская) оказывается вернее этики. Вот в чём всё дело. То есть, если попытаться свести все свои выборы к числовым последовательностям — например, 15-го числа каждого месяца в 15 часов 15 минут делать доброе дело, — это будет точнее, чем если делать доброе дело каждый раз по велению сердца. Этикосфера — это несколько иное, к сожалению.
«Что вы думаете о повести Леонида Филатова «Свобода или смерть»?»
Не повесть, а сценарий. Это пророческое во многих отношениях произведение о том, как диссидент, бежав из Советского Союза, за рубежом погибает на левацких коммунистических баррикадах. Филатов не успел снять картину и считал это судьбой, потому что в повести, на его взгляд, была этически неверная посылка. А мне кажется, что она верная этически. Понимаете, просто в девяностые годы любой человек, который начинал жалеть о левацких идеалах, воспринимался как защитник ГУЛАГа. Это совершенно не так. Мне Филатов когда-то сказал: «Художник должен быть левым, потому что сердце слева». Да, надо сочувствовать угнетённым, ничего не поделаешь.
«Мне нравится роман Цвейга «Нетерпение сердца». А вам?»
А я к Цвейгу отношусь примерно, как к Малеру: мне он кажется несколько избыточным, несколько сентиментальным. Хотя Малер… Ну, кто я такой, чтобы судить о Малере? Я недавно с Журбиным (он вообще специалист по Малеру) имел довольно долгий разговор. И мы пришли к странному выводу, что нам близок Малер поздний, а особенно Малер незаконченной Десятой симфонии (в реконструкции Баршая), в первой части которой есть тема смерти — этот знаменитый малеровский аккорд, и потом такая страшная во второй части… Знаете, там картина Чистилища, немножко такого иррационального, такой полёт души над конвейером, знаете, что-то такое напоминающее, может быть, Седьмую Шостаковича. Мне очень нравится Малер поздний. А Малер ранний мне кажется избыточным, сентиментальным — в общем, «слишком много нот», как кто-то сказал по-другому поводу.
Я сразу вам хочу сказать, что я совершенно не профессионал и вообще не знаю, что такое тональность. Мне когда-то очень хороший один музыковед (не буду его называть, чтобы не компрометировать знакомством со мной) сказал: «Баха 20 процентов в звуке, а 80 процентов — в записи. Надо смотреть записи, надо понимать символику нот, христианскую символику, зашифрованную у него». Я сужу по 20 процентам.
«У Солженицына в романе «В круге первом» Нержин предлагает взамен сталинской диктатуры общество технической интеллигенции, считая его самым прогрессивным. Стругацкие пользовались этой схемой при создании «Обитаемого острова». Ведёт ли это к прогрессу или к новой правильной диктатуре?»
Вадим, я не верю в технократическую диктатуру. Иное дело, я верю в то, что технократы обладают важной чертой — бескорыстием, любопытством, жаждой познания. Вот в таких людей я верю. Для них, по формулировке тех же Стругацких, «работать важнее, чем жить». Вот в этих людей я верю. Но в технократию, лишённую этического начала (если угодно, в ту же числовую последовательность), я не верю. Это мне интересно как гипотеза. Но я не верю в человека, который пытается рационально управлять обществом. Обществом управлять не надо. Понимаете, как тут штука? Я сейчас попытаюсь сформулировать очень трудную вещь. Об этом много вопросов: каким мне видится идеальное управление?
Политика всегда более или менее, кроме абсолютных диктатур, одинакова. Для людей ценны не результаты, и даже не благосостояния, и даже не гарантии; для людей ценны состояния. Цель человека (и здесь невозможно с Веллером не согласиться, да и с другими сторонниками этой теории, а их довольно много) — это эмоциональный диапазон. Даже Кучма, который был вообще противником Майдана теоретическим, мне в интервью сказал: «Я прекрасно понимаю, что на Майдане, — имелся в виду ещё первый Майдан 2004 года, — нация испытала колоссальный прилив вдохновения».
Так вот, я за то, чтобы нация испытывала чувства добрые. Эти чувства добрые не всегда возникают на площадях. И даже больше того — они редко возникают на площадях, только в минуты «бархатных» революций, в минуты, когда обошлось без большого насилия. Но вот те моменты общенационального вдохновения, которые мы испытывали в августе 1991 года, были для нации живым кислородом, живой водой, и этого хватило, чтобы терпеть очень многие проблемы девяностых годов. Ощущение, что от тебя что-то зависит, чувство прощения, чувство доброты, когда нескольких мерзавцев, как предлагал тогда Карякин, «назвать и помиловать», — вот это ведёт к общественному катарсису.
Я вообще верю, что главная задача власти — это заставлять нацию испытывать чувства добрые (не экстатические, а добрые); не поощрять тяги к доносительству, тяги к запретительству, а поощрять это чувство: «у нас лишних нет, мы все свои», «мы самые добрые и мы никому не завидуем» — вот такие вещи. В российской истории были такие минуты. И я верю в возможность этого коллективного вдохновения. Я, кстати, абсолютно уверен, что нас с Украиной ждёт не вечная вражда, как думают многие, а момент какого-то слёзного общего покаяния и объединения. Это не скоро произойдёт, но это произойдёт обязательно. Я даже думаю, что в Крыму это произойдёт.
Меня, кстати, спрашивают, не собираюсь ли я в Крым. Меня приглашают и в «Артек» с лекциями (спасибо Алексею Каспржаку, к которому я отношусь с глубоким уважением и с пожеланиями удачи), многие друзья мои приглашают меня в Крым. Я очень этого хочу, но я пока не могу это сделать. И, наверное, я в ближайшее время не смогу этого сделать. Но если бы вы знали, как я скучаю и по этим людям, и по этим местам! Просто так получилось, что у нас сейчас отнята эта возможность. Я и по очень многим людям в Киеве скучаю. Ну, вот так нас развело ужасно.
Это и называется — поощрять в людях злые чувства, дурные. Это очень легко сделать. Можно любящих супругов превратить в таких врагов, что они не смогут друг о друге вспоминать без содрогания. Это легко сделать. Человека легко сделать гадиной. К сожалению, человек очень легко превращается в скотину. Это для того, чтобы он лучше стал, нужно осмысленное усилие. В этом смысле новый фильм «Рай» Андрея Кончаловского, который как рассказывает о трудности этого осмысленного усилия, — это великая картина. Многие меня упрекают за избыток хвалебных эпитетов, но посмотрите этот фильм. Этот фильм вас здорово встряхнёт (как минимум).
Требуются сосредоточенные усилия для добра. Но цель каждого правительства — подбрасывать народу моменты радости, вроде такие, которые были при обрушении Берлинской стены. Плевать на последствия! Не важно, какие экономические последствия были — Восточная Германия оказалась поглощена Западной и возникло неравенство, беженцы, все дела. Не это важно. Важно — был в вашей жизни момент, когда вам жить хотелось, или нет; был момент национального вдохновения или нет. Только это остаётся от жизни. А иначе вы в 50 лет, как наше поколение, будете себя спрашивать: «А что мы видели? А ради чего мы жили?» Неужели вы будете вспоминать экстаз по случаю преодолений и покорений? Нет, вы будете вспоминать три дня в августе, когда вам казалось, что люди — братья; когда вам казалось, что наконец-то после многолетней лжи люди стали равны себе. Добрые чувства остаются в памяти. А иначе вы и будете думать, на что ушли последние десять лет.
Про «Людей Севера»: «Спасибо за стихи!» Спасибо и вам за такую оценку.
«Пересматриваю фильм «Братья Ч». Рай Чехова. Лучший день земной жизни». Да, хвалят эту картину. Согласен, и хорошая картина, и важное понимание Чехова.
«Мне 18 лет. Буквально вчера я встретился со своей бывшей школьной учительницей, с которой не виделся со дня окончания школы. Мне казалось, что она человек прогрессивный, умный, глубоко думающий о проблемах России, но я был поражён. Она говорила мне, что Путин — величайший политический деятель, что Россию хотят разрушить враги извне, что оппозиция во главе с Навальным куплена службами ФБР и даже масонов. Также она утверждала, что русский народ — это народ самый духовный, и его должны обслуживать нации полного духовного распада — Франция и Германия. Когда я попытался ей объяснить, что во всех тяжёлых проблемах страны виновны мы сами, она не соглашалась, отмахиваясь. Тогда я рассказал ей про абсолютно идиотский судебный процесс, где людей, публикующих в соцсетях неправильные посты, наказывают уничтожением компьютера, она говорила, что всё это фальсификации и вымыслы врагов России. Что мне теперь делать? Ведь не общаться с ней я не могу».
Общаться вы, конечно, продолжайте, как и я продолжаю общаться с несколькими моими престарелыми друзьями и учителями, которые придерживаются вот таких позиций. Вам это просто должно лишний раз напоминать о двух вещах. Первое — то, как уязвим человек перед тотальной пропагандой. А второе, знаете, о чём? Ведь это учителя. Учителя в России — люди очень уязвлённые, потому что работа их каторжная, а плюсы этой работы им почти не доступны. И, находятся в рабстве у системы, они организуют сомнительные выборы, они обязаны поставлять учащихся на сомнительные демонстрации. Такое бывает, об этом писали и рассказывали. Поймите, что её мысли по этому поводу — это мысли глубоко уязвлённого человека. Понимаете, Вадим, какая история? Задумайтесь о том, что передовой, лучший отряд русских людей — учителя, врачи, военные — они так часто и так страшно уязвлены, что готовы говорить: «Да, мы самые духовные, и нас должны обслуживать представители, — («обслуживать» — какова формула!), — растленных наций». Подумайте о том, чтобы в будущем ничего подобного не было.
Пишут слишком личное, просят вопрос не озвучивать. Женя, я вам отвечу всё равно. Спрашивает Женя. Она живёт с нелюбимым человеком. Нелюбимый человек говорит, что он покончит с собой, если она уйдёт. И таких вопросов несколько. Таких три вопроса, и в двух из них предполагаемая жертва ссылается на слова Экзюпери: «Мы в ответе за тех, кого приручили».
Во-первых, это не слова Экзюпери, а это слова Лиса (всё-таки надо держать дистанцию). Во-вторых, было блистательное эссе Александра Мелихова — хорошего питерского писателя и большого друга моего — о том, как многие превратно используют эту довольно сомнительную истину насчёт того, что мы в ответе за тех, кого приручили. Абсолютно нечем здесь гордиться, и ничего здесь нет хорошего. Я считаю, что это слова спекулятивные и довольно пошлые. И мы совершенно не в ответе за тех, кого приручили. «Всех приручали, но зачем ты оказался самым приручённым, скотина?!» — перефразируя Шварца. Я за самостоятельность. Я всё-таки за независимость.
И, кстати, вот что мне представляется очень важным. Женя, в вашей ситуации ответа быть не может. Вы говорите: «Может, этот человек мой крест?» Совет можно дать один (очень циничный, но он вполне реален): постарайтесь сделать своё сожительство с этим человеком столь невыносимым для него, чтобы он обрадовался вашему уходу. Это сделать можно, это реально. Станьте невыносимой — и без вас обойдутся. Станьте невыносимой — и вас не вынесут. Вот это нормально. Тут вы, правда, не пишете, есть ли у вас уже кто-то другой или нет.
Я, кстати, с ужасом вдруг подумал: не моя ли дочь Женя меня об этом спрашивает? Думаю, что нет. Просто я помню, что у меня была ситуация: по плохому телефону она позвонила, и я не узнал её. Она говорит: «Быков, прочитала я твой роман «Оправдание». Это очень хорошо». Я говорю: «А кто это?» — «Да это Женя». И я настолько не совместил образ дочери с тем, что человек прочитал мой роман, что в первый момент я подумал: «Наверное, какая-то неизвестная поклонница звонит. Как интересно». И пока она мне не сказала, какая это собственно Женя, я так и думал. Ну, понимаете, представить себе, что меня читают мои дети — вот я совершенно не могу это вообразить! Я знаю, что они читают, но до сих пор это для меня какой-то невероятный подарок судьбы. Поэтому остаётся надеяться, что эта Женя не моя, тем более что у неё как раз с молодым человеком довольно прочные отношения. И Женя бы не стала такой вопрос задавать, потому что она психолог по образованию и хорошо знает, как себя в таких ситуациях вести. Если вы хотите, чтобы вас возненавидели, то это можно сделать на раз-два-три. Вот любви добиться очень трудно. А сделать, чтобы от вас избавились, — да ради бога! Я сам до сих пор не понимаю, как меня терпят практически все.
«Вопрос о народной поэзии. Как вы относитесь к жанру поэтического творчества — пирожкам, порошкам? Можно ли сказать, что они пришли на смену частушкам?»
Конечно. Есть люди, которые серьёзно занимаются их собирательством. Кстати говоря, даже такие серьёзные филологи, как Александр Жолковский, считают пирожки и порошки в высшей степени заслуживающими внимания, и я знаю их довольно занятные выкладки на эту тему. Я считаю, что вообще фольклор переместился в Интернет. Это тот же вариант, что и лимерики, например.
«Почему бы не сделать сравнительные жизнеописания в «Одине»? Хотелось бы, например — Дудинцев и Кочетов».
А как их сделаешь, по какому параметру — Дудинцев и Кочетов? Честный писатель и нечестный писатель? Так ведь Кочетов — честный писатель, вот в чём ужас. Он поэтому и застрелился. Говорят, что он застрелился из-за рака. Я думаю, что он застрелился, потому что Советский Союз пришёл в неразрешимые противоречия с его теоретическими мнениями. Ну, Суслов бы тоже застрелился, если бы он был честный. Кочетов застрелился, потому что он был советский человек, автор прославленного романа «Чего же ты хочешь?». И, естественно, для него невыносимо было видеть, во что превращается страна. В том-то и ужас, понимаете, что и Дудинцев — честный писатель, и Кочетов — честный писатель. Просто Кочетов — писатель абсолютно бездарный, достаточно прочесть «Журбины». Я мог бы воспроизвести несколько эпизодов из этого произведения дикого. Ну, почитайте. Фильм «Большая семья» — это ещё более или менее, а вот сам роман, оригинал… Я помню, мы с матерью вслух читали — и мы хохотали! Мне был лет двенадцать. Мы зачитывали оттуда целые страницы. Но он действительно не пытается казаться лучше, чем он есть. Так что, если уж и делать сравнительные жизнеописания, то — например, допустим, Липкин и Твардовский. Вот это интересно.
Ещё тоже очень хороший вопрос, оттуда же: «Нельзя ли сделать лекцию про Каравайчука?» Знаете, очень многие профессиональные композиторы считают Каравайчука шарлатаном. Я его считаю гением. Но делать лекцию про Каравайчука должен всё-таки профессионал.
Услышимся через три минуты.
РЕКЛАМА
Д. Быков― Привет ещё раз! Четвёртая четверть эфира. Будет лекция об Андрее Тарковском, но я сначала поотвечаю ещё немножко.
Евгений Шмуклер почему-то очень обижается, почему я не отвечаю уже седьмой раз на его вопросы. Руки не доходили, вопросы неинтересные. Я не вижу, Женя, там ничего, на что мне стоило бы особо отвечать. Но раз вы так настаиваете, я вам отвечу.
Я не читал книгу Симода «Четвёртое сокровище». Мне не нравится роман Митчелла «Облачный атлас», он мне представляется скучным (а фильм представляется ещё более скучным). Артуро Перес-Реверте? «Учитель фехтования», «Клуб Дюма» и другие его сочинения представляются тоже проигрывающими его искромётной публицистике, которая у нас выходила в одном томе (я помню, Володька Воронов, мой друг, историк, подарил мне её), там были собраны журнальные колонки этого автора. Вот это мне ужасно понравилось, это здорово, боевито. А исторические его сочинения меня совершенно не тронули.
«Вы неоднократно отзывались о подрастающем молодом поколении…»
Да. И почему-то меня очень смущает, что многие люди с какой-то радостной злобой кидаются это опровергать. Они говорят: «Нет, они дураки, они ничего не понимают! Вы их идеализируете!» И они с такой же радостной злобой кидаются меня уверять, что Бога нет. Ну, вам нравится жить в мире, где нет чуда, где нет Бога, где все вокруг дураки? Живите в этом мире, пожалуйста! Но не обижайтесь на тех, кому и легче, и лучше, и радостнее.
«Вы говорили, что общались с молодыми людьми не только в лучших московских школах, но и много где. Вопрос. Не кажется ли вам, что на встречи с вами в любом городе России собирается не репрезентативный срез молодёжи, а вполне определённая её часть (все имеющиеся очкарики-ботаны), в то время как нормальные пацаны о вашем приезде даже не узнают?»
А почему вы считает, что лицо поколения определяют «нормальные пацаны»? Никогда не надо думать, что поколенческий срез формирует большинство. Как сказал Святополк-Мирский (а присвоил Маленков): «Типично не то, что широко распространено, а то, что выражает эпоху». Вот и давайте исходить из того, что сегодня всё-таки принципиально новое явление — это большое количество умных (сравнительно большое). А «нормальные пацаны» были и будут всегда. Ещё раз говорю, если вам хочется жить в мире, где нет Бога, где стремлениями человека управляют исключительно похоть и тщеславие, где всё познаваемо и, самое главное, где подавляющее большинство инертно, — ну, может быть, это льстит вам, может быть, вам приятно думать, что вы принадлежите к уникальному меньшинству. Мне приятнее думать, что вокруг меня всё-таки есть люди приличные. И их много, и их становится всё больше. Это же вопрос нашего позиционирования, нашего позиционирования себя в мире. Мне нравится вот так, а вам нравится иначе. Я бы не стал восемь раз присылать вопросы, потому что мне бы показалось, что, наверное, есть вещи более интересные.
«Санкционированная Катаевым встреча Мандельштама с Фадеевым осенью тридцать седьмого. О чём такие разные люди могли разговаривать?»
Не санкционированная. Ну как Катаев мог санкционировать встречу руководителя писательского союза с абсолютным изгоем Мандельштамом? Я не думаю даже, что Катаев эту встречу устраивал. Кроме того, всё-таки тогда главным по всем оргвопросам Союза писателей был Ставский, с которым Мандельштам и пытался встретиться, с которым Мандельштам увиделся и которому Мандельштам писал беспрерывные письма и присылал свои тексты. Это и оказалось роковым — не то, что Мандельштам виделся с Фадеевым, а то, что Мандельштам прислал свои стихи Ставскому, и Павленко написал на них отрицательную рецензию. И Ставский написал на Мандельштама донос, сказав: «Мандельштам общается с писателями, в частности с Катаевым, говорит о своей несчастной участи, требует устройства творческого вечера для себя. Скажите, что мне с ним делать?» Это была прямая просьба его арестовать, которую и исполнили. А то, что Ставский погиб на фронте, совершенно не снимает с него этой подлой вины.
Вот хороший вопрос: «Вероятно, что проблематика фильмов Тарковского устарела или воспринимается таковой нынешней аудиторией. Круг проблем, затрагиваемых им, действительно ограничен наивным — по вашему выражению — богоискательством советского интеллигента. Однако всё это не сказывается на кино, а оно, что ни говори, незабываемое. Может быть, кино, как и поэзия, тоже должно быть глуповатым? Возможен ли в наше время подлинный поэтический кинематограф?»
С этого вопроса я бы и хотел начать. Кино Тарковского — это как раз явление семидесятническое, хотя лучшую свою картину, по мнению многих (а по моему мнению, у него практически все они на одном уровне, кроме «Иванова детства»), одну из лучших своих картин — «Андрей Рублёв» («Страсти по Андрею») — он снял всё-таки в 1964 году. Тем не менее, он называл себя «рыбой глубоководной». И я считаю, что Тарковский — это прежде всего мастер семидесятнического кино. Сейчас объясню почему.
Дело в том, что русское искусство семидесятых годов (которое до сих пор толком не проанализировано, не описано, которое гораздо сложнее и глубже, чем мы привыкли думать) в силу разных причин получилось крайне многословным и зашифрованным. Одна из таких причин, самая очевидная — борьба с цензурой. Вторая, которую Аксёнов назвал «Ожогом», — это самогипноз, страх прикоснуться к некоторым наиболее болезненным эпизодам собственного детства. Кино и литература семидесятых годов пылись разобраться с самыми чёрными, с самыми тёмными проблемами русского подсознания: тут и роман Трифонова «Нетерпение», и «Ожог» Аксёнова, и экзистенциальные драмы Ильи Авербаха, и, конечно, кинематограф Тарковского.
Я не назвал бы его в чистом смысле поэтическим, потому что словосочетание «поэтический кинематограф» всегда почему-то наводит на мысль об абстракциях, длиннотах, пошлых штампах и так далее. Кино Тарковского (скажем иначе, вот здесь употребим скомпрометированный многократно термин) полифонично, оно создаётся чередованием мотивов. Это не прямое высказывание на какие-то сущностные темы. Этим Тарковский отличается, скажем, от Сергея Аполлинариевича Герасимова, который снимал откровенно публицистическое кино. Этим же он отличается, кстати говоря, и от Михаила Ромма, который делал то же самое, но на качественно более высоком уровне.
Тарковский — во многом ученик Чехова. Потому что у Чехова, например, фабула таких рассказов, как «Архиерей» или «Невеста» (да всех поздних вещей), создаётся не полемическим высказыванием, не движением сюжета, а чередование нескольких связанных мотивов, нескольких лейтмотивов и образов. В «Архиерее» это слепая старуха с гитарой, это колокольный звон, это чашка, с которой девочка играет. Это общее, суммарное ощущение жизни, которое заключается в том, что жить очень страшно, очень непонятно и очень хорошо — вот это сложное ощущение.
Тарковский не даёт рецептов, ответов, он не теоретичен вообще. Везде, где он начинает теоретизировать, лучше бы он молчал, потому что когда его герои начинают рассуждать, они, как правило, повторяют, действительно интеллигентские банальности. И сам Тарковский увлекался самыми разными глупостями — от антропософии до теософии и от Блаватской до Штайнера. Он был человек глубоко религиозный, я думаю, но не очень понимал, что такое религиозность, во всяком случае не рефлексировал эту тему. Его «Мартиролог» — вот этот сборник, дневник, мартиролог замыслов — оставляет очень сложные впечатления: величайшего угнетённого самолюбия, мании преследования, колоссальных глупостей. Тарковский в этом всём не гений. Он вообще не теоретик.
Он гений изображения и гений создания новых небывалых состояний. Он действительно ввергает зрителя в совершенно особенные состояния, и эти состояния для него наиболее ценны. Для него вообще мысль — это дело двадцать пятое. Он — как и учитель его Достоевский, отчасти как и учитель его Толстой, в наибольшей степени, — считает, что от мыслей всё зло, мыслями мы уговариваем себя; надо не мыслить, а чувствовать. И вот эти ощущения Тарковский вызывает гениально, вызывает мастерски. А особенно, конечно, в «Андрее Рублёве», который, наверное, и самый теоретичный, и самый интеллектуальный из его фильмов — во многом благодаря, конечно, очень сильному сценарию, первую скрипку в котором играл Андрей Кончаловский. Но сам Кончаловский сейчас считает, что можно было бы ещё рациональнее этот сценарий организовать, сделав главной новеллу про колокол, а остальное дав флешбэками.
Но я считаю, что как раз главное в «Андрее Рублёве» происходит не тогда, когда мы наблюдаем за противостоянием художника и эпохи. Там же в каждом кадре пытка, в каждом кадре там мучают человеческое тело, но сущность не в этом. А главное в картине происходит, когда начинают постепенно становиться цветными угли костра. Главное в этой трёхчасовой фреске, в этой саге происходит в последние десять минут, когда вступает гениальная музыка Артемьева, и на этом фоне мы рассматриваем детали рублёвских икон, потому что в этот момент мы понимаем, чем искуплена жизнь, чем искуплен её ужас, из чего состоит её вещество. Тарковский — мастер живописания вот этого вещества.
Я замечал много раз, что у меня проходит голова, проходят любые физические недомогания, когда я смотрю «Солярис». Просто гармония этой картины — гармония её красок, её цветов, её воздух, упоительная её атмосфера человечности — она настолько сильна и настолько целебна, что там совершенно не важны мысли, не важны рассуждения об отце, об ответственности землян, о морали — это всё совершенно не важно. Важна атмосфера невероятной грусти и человечности, которая там есть.
Например, она есть в потрясающем эпизоде в библиотеке. Мне Наталья Бондарчук рассказывала, с какими слезами они все смотрели, когда разбирали декорацию библиотеки, потому что они все её обожали. Помните эту сцену, когда в библиотеке наступает невесомость и идёт знаменитая фа-минорная прелюдия — естественно, в адаптации Артемьева с такими вкраплениями электронной музыки, как будто звёзды мелькнули в тучах, такими упоительными совершенно. И когда они взлетают из этих кресел, вот там начинается! Тарковский — если угодно, поэт невесомости, потому что в его фильмах вообще самые ценные состояния — это состояния, которые наступают сверх разума и помимо разума, такие экстатические.
А отдельно мне бы хотелось, конечно, поговорить про «Зеркало», потому что очень много наворочено вокруг этого фильма неправильных интерпретаций, а между тем, чем он и дорог. Я считаю, что художник велик в той степени, в какой он искренне разбирается с собственными проблемами — не с абстракциями, не с чужими вызовами, не с заданиями эпохи, очень часто умозрительными, а с собственной драмой. У Тарковского была собственная семейная драма — нарастающее отчуждение в отношениях с матерью и чувство утраты отца (при том, что духовная близость с отцом была всегда, но отец не жил с семьёй). И вот он пытается разобраться с тем, каким образом драма его родителей отражается в его собственной жизни. Именно «отражение» здесь ключевое слово, потому что зеркало — это мы. Мы — зеркало родителей. Мы отражаем и продолжаем их жизнь.
Вот была такая трактовка (на мой взгляд, совершенно идиотская, прости господи, хотя я сам одно время разделял эту точку зрения), что название — это метафора разбитого зеркала памяти. Ну, в том смысле, в каком когда-то говорил об этом Катаев («Разбитая жизнь, или Волшебный рог Оберона»), — вот это зеркало того, что мы помним. Нет, смысл гораздо проще. Мы — зеркало родителей. Мы — продолжение жизни. Мы носим в себе наследие их драм. И попытка докопаться до истоков собственной биографической драмы — в какой степени она предопределена советской историей, в какой она зависит от трагических отношений родителей, в какой от войны — это и есть гениальная эта картина Тарковского, в которой тоже действительно главное — это не воспоминания, а состояния, сны.
Ларс фон Триер совершенно правильно говорит, что один из самых магических эпизодов мирового кино — это первый диалог Тереховой и Солоницына (то, с чего открывается картина). Женщина сидит на околице и ждёт мужа. Муж, скорее всего, не придёт, потому что он у другой. А вот идёт мимо этот доктор со своим чемоданчиком. И потом они падают с этого забора, и ветер гуляет по траве. Вот здесь — всё чудо жизни, вся тоска её, неразрешимость, загадочность. А умение увидеть загадку — это вообще очень Тарковскому присуще. Потому что эти волшебные пейзажи, этот страшный сон о том, как падает кувшин, или о том, как таинственная рука открывает дверь, или о том, как… Понимаете, вот эта детская атмосфера детского сна послеобеденного, дневного, когда тебя заставляют спать, а ты спать не хочешь и сквозь этот сон воспринимаешь реальность искажённо. Это ощущение и умиротворения, и покоя, и вместе с тем — подспудного ужаса, который во всём этом есть. Помните, когда они смотрят на пожар, как там амбар горит? Вот это ощущение мира как такого прекрасного и страшного сна — это и есть лейтмотив всего, что делает Тарковский. Вот в этом есть ощущение чуда жизни.
Я не стал бы подробно разбирать его последнюю картину «Жертвоприношение», хотя в ней мне видится новый поворот к новому Тарковскому. Я согласен с Андреем Шемякиным, что это не итоговый фильм, а это фильм начала, и именно потому, что это фильм с довольно жёсткой фабульной конструкцией, чего, вообще-то, Тарковский избегал; он считал, что фабула в кино лишняя. «Сюжет вредит стиху, как Бродский возвестил», — помните слепаковскую строчку? Мне кажется, что действительно сюжет вредит.
Но у него в «Жертвоприношении» — не без влияния, конечно, Аркадия Натановича Стругацкого, с которым он дружил сильно в последние годы, — появляется довольно жёсткая фабула. Именно Стругацкий написал сценарий «Ведьмы», то есть той части, которая там связана, как вы помните, со второй половиной картины — с поездкой к женщине. А вообще же как раз в «Жертвоприношении» есть попытка снять фильм с довольно жёстким ощущением морального выбора: человек чувствует, что в мир пришла катастрофа, и спасти мир он может только одним — чем-то пожертвовав; и он поджигает свой дом. Это блестящая мысль. И эта фабула, конечно, немножко в духе Стругацких. Она такая довольно умозрительная, но она очень точно совпадает с тем ощущением, о котором Стругацкие написали «Беспокойство» (помните, такой первый вариант «Улитки на склоне»): чувство, что в мир пришла катастрофа, и надо отдать в малом, пока она не забрала в большом, надо что-то отдать, пока она не забрала всё.
С этим ощущением жили тогда очень многие. И надо вам сказать, что в последнее время этот же сюжет несколько раз в нескольких картинах преломился (а особенно, конечно, в «Меланхолии» фон Триера): вот это ощущение, что на мир летит катастрофа и надо срочно от чего-то отказаться в собственной жизни, чтобы она не затронула мира в целом. Кстати, есть хороший американский фильм «Shelter» на ту же тему. Конечно, есть ощущение безумия в этом, ощущение некоторого гротеска, но в каком-то смысле это ощущение верное. Кстати говоря, фильм Кончаловского «Рай» рассказывает о том же самом: когда произошла катастрофа, единственное, что можно сделать, — это сделать сознательные усилия в направлении добра, принести жертву, потому что без этой жертвы мир погибнет. Вот это есть и в фильме «Жертвоприношение».
Бегло я хотел бы коснуться «Сталкера», потому что «Сталкер» на меня, когда вышел в 1982 году, произвёл впечатление колоссальное. Я не отдавал себе отчёта в причинах этого впечатления. Просто это было уж очень не похоже на всё остальное. Это был первый фильм Тарковского, который я увидел. Потом уже нам на журфаке в крошечной тамошней телестудии контрабандой (Тарковский уже уехал) показали «Зеркало». И хотя я знал этот фильм почти наизусть в пересказе матери, покадрово, когда я его увидел, всё равно визуальность его меня абсолютно заворожила. Мать три раза на него ходила, когда его показывали в «Витязе», когда он только что вышел, отстаивала многочасовую очередь и смотрела снова. Запомнила его покадрово и мне пыталась объяснить, как это и что значит. И я, когда посмотрел «Зеркало», о многом догадался уже, мне многое было понятно (какую роль стихи играют и так далее).
А вот в «Сталкере», смею думать, я разобрался совсем недавно. Потому что, я думаю, до последнего был уверен, что всё-таки в Зоне что-то есть, что какое-то чудо там есть — иначе необъяснимо, почему у сталкеров рождаются дети-инвалиды. Но только потом уже, прочитав и перечитав воспоминания Стругацкого, я понял, что Тарковский из второго варианта картины сознательно изъял всю фантастику. Ребёнок у Сталкера родился такой случайно, никакого абсолютно воздействия в Зоне нет. Сталкер всё придумал. Он ведёт туда Писателя и Профессора не потому, что он хочет стать вождём секты, а потому, что в жизни должно быть место хоть какому-то чуду, а они этого чуда абсолютно не хотят и его исключают.
То, что он надеется привести людей… По сути дела, он аниматор. Вот это — самое страшное, что есть в картине. Он выдумывает все эти чудеса. Он выдумал «мясорубку». Он подвергает их искусственным испытаниям. Он сам кричит «вернись!». Он всё это выдумал. Это работа человека, который прогоняет их через аттракцион, через «пещеру ужасов», лишь бы они во что-то поверили. Потому что мир, который этого лишён, даже в самом юродивом варианте, — это мир, в котором жить нельзя, это огромная страшная барная стойка, вот и всё.
И когда я это посмотрел, когда я это увидел в «Сталкере», мне картина показалась, конечно, гораздо глубже и интереснее. Потому что когда я поначалу думал, что это всё-таки хоть в какой-то степени Зона, что в ней есть какой-то момент чуда (неслучайно все пейзажи там цветные, а до этого всё чёрно-белое), вот пока я думал, что там есть хоть какой-то момент чуда изначального, картина мне представлялась непонятной. А как только я увидел простую и суровую мысль Тарковского о том, что чудо может быть только рукотворным, только результатом добровольной веры, тогда мне всё величие этого фильма и вся его трагедия открылись quantum satis.
И что ещё я хочу сказать напоследок, что мне представляется в Тарковском принципиально важным. Можно отбросить высокопарность, напыщенность, длинноты, но нельзя не принять и не полюбить в нём главного — высочайший профессионализм, железное мастерство человека, который умеет в одном кадре показать и сказать больше, чем в километрах теоретических рассуждений. У Тарковского (как и у Хуциева, кстати говоря) из некоторых кадров просто хлещет счастье. Писала Татьяна Хлоплянкина, Царствие ей небесное: «Когда вы смотрите, как у Хуциева герои идут сквозь дым горящих листьев, вы чувствуете остроту молодости, свежести, счастья. Запах счастья просто хлещет на вас!» И когда вы у Тарковского смотрите на переливающиеся водоросли, на пасущихся на лугу коней, на дождь, который, как нить, связывает небо с землёй, как жизнь идёт между этих двух начал, — вы испытываете счастье. А искусство и должно давать счастье, потому что в этом его главная задача.
Увидимся через неделю.
*****************************************************
10 июня 2016
-echo/
Д. Быков― Здравствуйте, дорогие друзья. Хорошо ли меня слышно и слышно ли меня в принципе? Если слышно, то я радостно приветствую всех. Дело в том, что я выхожу в эфир из гостиницы «Гельвеция» в Петербурге. Это штаб-квартира «Эха Москвы». Во всяком случае, здесь находится петербургская студия, и лично среди ночи поднятый для организации эфира Виталий Дымарский, руководитель «Эха Петербурга», отладил здесь для меня возможность с вами поговорить. Вот он поднимает палец. Не знаю, что это означает.
В. Дымарский― Я пытаюсь понять.
Д. Быков― Он, кажется, пытается понять, слышат ли нас.
В. Дымарский― Да, слышат ли нас.
Д. Быков― Кажется, нас слышат.
В. Дымарский― Потому что мы нарушили формат — мы вдвоём вместо одного Быкова.
Д. Быков― Так случайно получилось, сейчас вы поедете всё-таки досыпать.
В. Дымарский― Да, я сейчас поеду досыпать.
Д. Быков― То, что нас слышно — совершенно очевидно. Просто я решил продемонстрировать, что это действительно живой Дымарский сам приехал мне помочь.
Ну что, поступило страшное количество вопросов. Я по мере сил постараюсь на них ответить. Хотя на этот раз они, прямо скажем, затрагивают несколько более широкий спектр проблем литературных, чем я привык, и посвящены в основном англоязычной литературе, британской и американской. Ну, будем как-то вертеться.
Что касается темы лекции, то с редким единодушием все проголосовали за обещанного Куприна. Я попробую, хотя у нас уже был разговор о Куприне — правда, пока прикидочный, но настоящего, более или менее серьёзного, всё-таки не было. И мы должны, по всей вероятности, об этом выдающемся авторе, незаслуженно остающемся в тени Горького, Андреева, а особенно Бунина, который мне кажется автором, совершенно равным Куприну, ничуть не выше… Он продолжает оставаться в тени, и мы попробуем эту несправедливость исправить.
В. Дымарский― Можно я вас перебью?
Д. Быков― Ради бога. Всё, что хотите.
В. Дымарский― Попросите наших слушателей прислать SMS, слышно нас или нет.
Д. Быков― Просит Дымарский прислать SMS, слышно нас или нет. Он всё-таки очень ответственно подходит к вопросу. Пришлите, пожалуйста, SMS или любое сообщение на «Эхо Москвы», хорошо ли нас слышно. Потому что если нет, то это очень горько. Ну а я тем временем отвечаю.
Постоянный слушатель eliza_liza просит сказать несколько слов о стихотворении Марины Цветаевой «Германии». «Такая безоглядная искренность, нежелание, неспособность подстраиваться под общее мнение — может быть, это и есть то самое, что отличает гения?»
Лиза, нет. Слишком было бы легко. Понимаете, конечно, это черта серьёзного характера, и независимости, и, пожалуй, даже некоторой одиозности, рискну сказать, — всегда противостоять общему мнению. Когда Лимонов в 90-е годы объявлял себя фашистом, это вызывало у меня скорее уважение, потому что это действительно он своих молодых учил нонконформизму, тренировал. Но всегда, вечно любой ценой быть поперёк здравого смысла — это не всегда хорошо.
Иной вопрос, что стихотворение Цветаевой «Германии» действительно имеет абсолютно прямую задачу — сбить накал германофобской в это время истерики. И тут она печатает абсолютно германофильское стихотворение. Это очень принципиальный жест. Вы знаете, что в это время происходят германские погромы в Петербурге — громят немецкие магазины, обрусевших немцев, которые уж ни сном, ни духом не виноваты в войне. Происходит истерика. И в это время Цветаева принципиально заявляет свою германофильскую позицию.
Я, кстати говоря, не думаю, что Цветаева была такой уж последовательной и слепой германофилкой. Во всяком случае, она видела и понимала те корни немецкого фашизма, которые стали уже всем очевидны в 30-е годы. Ясно, что фашизм в Германию прилетел не с Марса. Ясно, что в Германии всё это давно зрело — раньше Ницше, раньше Бисмарка, думаю, что и раньше Лютера.
И поэтому германофильство Цветаевой имеет не такой принципиальный, не слепой характер. Она все про Германию понимает. Но всё-таки она чувствует себя героиней Гёте, последовательницей Гёте; она отстаивает, пытается отстаивать Германию настоящую. И это, конечно, жест превосходный. Другое дело, что, когда она писала «Стихи к Чехии», от её Германии, от прежней, уже ничего не осталось, и она тем больнее воспринимала происходящее.
Вообще, когда кого-то травят, возвысить голос для поэта необходимо, это такая особенность поэтической участи. Я вам больше скажу. Цветаева в моем любимом тексте, который по первой строчке называется «Милые дети» (это такой часто мною цитируемый текст), для русского журнала детского во Франции она там пишет: «Увидев человека в неловком положении, прыгайте к нему туда — и неловкость поделится на двоих». Вот она действительно всегда прыгает к тому, кто в отчаянии, кто на дне, кто в травле. И это принципиальная, очень высокая и истинно поэтическая позиция.
«Как вы относитесь к творчеству Теккерея и Элиот? Заслуженно ли эти писатели пребывают в тени Диккенса?»
Ну, Теккерей не пребывает. Теккерей — как раз абсолютно самостоятельная фигура. Я думаю, что он, может быть, рассматривается в одном ряду скорее с Шериданом, но по большому счёту, конечно, «Ярмарка тщеславия» — это новаторский грандиозный роман. Диккенс просто совершенно по другому ведомству проходит. Теккерей — гораздо более скептик, гораздо более элитарный автор, и уж совсем не демократ и не защитник простых людей. С фабулой у него дело обстоит гораздо более напряжённо — в смысле, с фабулой хуже. Он не такой строитель интриги, как Диккенс. Но Диккенс же — писатель всё-таки для массового читателя, а Теккерей — для довольно элитарного. И Теккерей свою нишу занимает достойно, с двухтомным романом и не только с ним.
Что касается Элиот. Понимаете, я честно пытался читать «Миддлмарч», и я не далеко ушёл. Я понимаю, что это хорошо. Но я не понимаю, как можно 800 страниц написать о провинциальной Англии, и так ещё, чтобы там при этом ничего не происходило. Да, она заслуженно в тени Диккенса, конечно. Я понимаю, что она благородный человек и прекрасный писатель, но мне даже самые пылкие защитники её литературы (я не буду называть, это довольно известные современные авторы) — даже они мне рекомендовали её как снотворное, хорошее честное доброе снотворное.
Понимаете, я мало верю в то, что сейчас есть люди, способные читать Филдинга. Хотя покойный Владимир Харитонов мне говорил, что Филдинг — это писатель свифтовского класса. Но тем не менее я и над Филдингом, честно говоря, носом клевал. Мне кажется, что литература столь многословная канула, даже и в Диккенсе ужасно напрягают длинноты. Хотя Диккенс, конечно, равных себе не имеет.
«С удовольствием пересмотрел фильм «Испытательный срок» по повести Павла Нилина. Там были интересные милицейские стажёры-антиподы. Один из них — добрый. Второй жестоко карает. Мне кажется, этот сюжет подтолкнул Вайнеров к созданию типажей для «Эры милосердия».
Ну, я не задумывался об этом, Лёша, но одно могу сказать: конечно, Нилин для 60–70-х годов, когда формировались и входили в славу Вайнеры, был одним из ключевых писателей. Проблема, строго говоря, доверия и недоверия, жестокости и понимания — она была гораздо более наглядно поставлена не в «Испытательном сроке», хотя это хороший фильм, и повесть неплохая.
Но по большому счету, конечно, главным хитом Нилина — и как писателя, и как, рискну сказать, социального мыслителя — была, конечно, повесть «Жестокость». Там вот было противостояние Малышева и Узелкова. Узелков — это догматик, трус, ничтожество, «всё лицо ушло в нос». «Тщедушная личность» — там о нём сказано. «Я никогда не понимал, — там говорит повествователь, — как такая тщедушная личность, как Узелков, мог доконать такого человека, как Венька Малышев». Но там речь идёт об этом Лазаре Баулине, [Баукине] рыжебородом таком мужицком вожаке, который в общем наш, но Узелков его подозревает и арестовывает, и проявляет все черты советского зверя-догматика. А Малышев, наоборот, человек сильный и поэтому — добрый.
Я думаю, что может быть, противостояние Жеглова и Шарапова отчасти отсюда. Но ведь обратите внимание, что у Вайнеров Жеглов гораздо сложнее Шарапова. И не потому, что его таким сыграл Высоцкий, а потому, что он таким и написан. Помните, как пушкинское замечание: «У Мольера Скупой скуп — и только; у Шекспира Шайлок жаден, мстителен, чадолюбив, остроумен».
Вот Жеглов — он, конечно, зверь, но при этом он интеллигент, интеллигент в таком ещё прежнем понимании. Сам он «из бывших», как поясняли Вайнеры и Высоцкий, он действительно прошёл довольно большую школу. Он деклассированный элемент, который сам нашёл себе место в новой реальности. У него есть совершенно неожиданные навыки и неожиданные познания. И он как-то шире Шарапова. Шарапов слишком правильный и прямой (почему он и сделал прекрасную карьеру в дальнейших текстах Вайнеров, там же есть продолжение про Шарапова). А вот как раз Жеглов — он, конечно, к Узелкову несводим. И в этом смысле Вайнеры пошли, конечно, дальше.
Я, правда, не могу не сказать, что Нилин как стилист и выше, и интереснее Вайнеров. Я Вайнеров любил, я по-человечески их знал и очень хорошо к ним относился. Но дело в том, что, конечно, Нилин писал лучше. Нилин прошёл школу репортажа, школу такого советского конструктивизма. Он, безусловно, прекрасный сценарист; у него пейзаж, диалог, при замечательном лаконизме двумя штрихами обрисован герой. Всё это очень характеризует его как писателя с хорошей языковой школой. Такие вещи, как «Тромб», «Впервые замужем», «Дурь», из которой Хейфиц сделал замечательный фильм «Единственная», — это, конечно, проза класса Веры Пановой, это такая советская… Может быть, ещё можно назвать несколько авторов класса Юрия Германа. Вот такие это авторы, понимаете, которые действительно прошли школу советского журнализма, поэтому пишут, как будто у них очень мало времени, надо на коротком пространстве быстро реализоваться. И Нилина я как прозаика, конечно, ценю гораздо выше.
«Ваше мнение о повести Бунина «Деревня». Неужели только один писатель видел бездну в сельской России?»
Да нет, не один. И Бунин не первый в этом смысле, хотя он всю жизнь и настаивал на своём первенстве, на уникальности своего взгляда. У Чехова в «Овраге» всё это уже есть. У Успенского все это уже есть, и не только у Глеба, а и у Николая Успенского, так ужасно жившего и так ужасно погибшего. Да, в общем, в значительной степени у Помяловского уже все это есть. В сельской России, в России черносотенной и низовой очень многие видели ужас. Просто Бунин писал более ёмко, и для него совершенно не было этих народнических утешений, что есть плохая деревня, а есть другая, настоящая. В конце концов, не забывайте, что и сельская драма… трагедия, точнее, Льва Толстого называется «Власть тьмы». И единственный свет там — это Аким, который знает два слова — «тае» и «не тае». А в остальном… Вспомните, какая у Лескова сельская жизнь, провинциальная жизнь.
Бунин не первый, просто Бунин своей, что называется, «сухой кистью» (знаете, есть такая техника) сумел наиболее выпукло это всё изобразить и привлечь читательское внимание, и потрясти читательское воображение гораздо больше. Характерна ещё вот эта его, знаете, нейтральная интонация. Вот в «Суходоле», который написан почти сразу после «Деревни», уже есть романтизация, это такая поэма. А «Деревня» — это просто другой жанр.
«Рассказ Чехова «Ариадна», по-моему, излишне откровенен. Писатель высказался о женщинах слишком правдиво. Может, не стоит предупреждать безоблачных романтиков, что последует за эйфорией влюблённости?»
Нет, как раз, мне кажется, этот рассказ пристрастный, злой, предельно субъективный. Видит ли, какая штука. О женских образах у Чехова следовало бы, конечно, читать отдельную лекцию, потому что у Чехова женщина либо «душечка» — тупая, добрая, в общем, дура, которая живёт жизнью мужа, страстно любит мужа, вызывает слёзы у читателя сентиментального, но вообще представить рядом с собой такое существо страшно. И когда в финале она любит уже мальчика вот этого, с которым вместе готовится к экзаменам и к переэкзаменовкам, тут полагалось бы, наверное, разрыдаться — а Чехов сардонически усмехается. Это, конечно, не та женщина, которая ему нравится.
Есть другой тип чеховской женщины — тип «Чайки», тип Нины Заречной, которая изображена, не побоюсь этого слова, почти с ненавистью, потому что она всё время говорит красиво. Она сама — жертва мужской похоти, конечно, но она и жертва собственного самолюбования, собственного желания быть с прославленным писателем. Она бросила Треплева, и бросила его без сожалений, потом пришла ещё показаться ему, дать ему надежду — и опять исчезнуть, после чего он и застрелился. Нина Заречная ничем не лучше, чем Тригорин. И хотя она жертва его, но она же сама летела навстречу этому огню.
Вот другой тип женщины чеховской — это героиня рассказа «Жидовка», которая претендует быть умной, и действительно умна, но использует этот ум только для того, чтобы вертеть мужчинами и лгать им на каждом шагу. Вообще эта женственная природа еврейства, о которой писал Отто Вейнингер, у Чехова тоже очень подчёркнута.
Ну и Ариадна — как вариант. У Чехова очень мало героинь, женщин, которые бы действительно вызывали у него самого любовь и умиление. Мне приходит на ум только Мисюсь из «Дома с мезонином». И именно потому, что Мисюсь — она робкая, слабая, добрая. Для Чехова же очень важны люди слабые, которые не претендуют учить. Вот Лида из того же рассказа, красивая, с твёрдыми губами, с твёрдыми бровями, отвратительная Лида, которая диктует про этот свой кусочек сыра, которая уверена в своей правоте, которая любуется и кичится своей благотворительностью, — это тоже, в общем, довольно распространённый тип.
Я рискнул бы сказать, что женщины у Чехова, как сказал один француз, не помню кто, «либо гораздо лучше мужчин, но таких мало, либо гораздо хуже мужчин». Вот все мужские пороки — самолюбование, тупость, менторство, бестактность, чудовищный эгоцентризм — у чеховских героинь они очень преувеличены. Он был таким, знаете, гендерным мизантропом, он к женщинам относился намного хуже. Помните: «Когда актриса ест куропатку — мне жаль куропатки».
У меня есть такое ощущение, что это черта многих интеллигентов в первом поколении — людей, которые старательно воспитывали в себе суровое, строгое отвращение к жизни. А отвращение к жизни — это всегда отвращение… Отношение к жизни — это отношение к женщине. Женщина и есть жизнь, по большому счету. И вот, может быть, поэтому у меня, дурака 48-летнего, до сих пор и жизнь как-то полна сюрпризов, и женщины для меня — нечто божественное, в лучшем случае. И я считаю, что женщины всё-таки в большинстве своём меньше подвержены мужским порокам. Они всё-таки гуманнее, и они не так самонадеянны. Не говоря уже о том, что в них как-то больше инстинкта жизнеутверждения, жизнеохранения. В них нет этой страшно разрушительной эгоцентрической злобы. Ну, у меня такой опыт, а у Чехова был другой. Я очень хорошо понимаю его состояние иногда.
«Фильм Марка Осепьяна по сценарию Васильева «Иванов катер» удивил. Добрый главный герой похож на современного толстовца, активно не противится злу насилием. Васильев жалеет своего добряка, но и ужасается ему. Правильно ли я понял?»
Ну, картина Марка Осепьяна легла в своё время на полку, и повесть Бориса Васильева «Иванов катер» тоже имела довольно печальную судьбу. Она напечатана была, что ли, через четыре, через шесть лет после того, как была написана. Он её предлагал в «Новый мир» ещё Твардовскому, но Твардовский был тогда в осаде и эту вещь напечатать не смог. Напечатана она была в 1972 году, когда уже Васильев прославился «А зорями здесь тихими», и «Офицерами». В общем, не восприняли эту вещь. Если бы она появилась раньше, он бы воспринимался как писатель класса гораздо более высокого.
Вот тот Иван, которого играет Вельяминов, — он не главный герой. Главный герой там, насколько я помню, этот Сергей. Я давно не перечитывал вещь. Но это новый человек, понимаете, умелец жизни, вот ради него написана повесть. Вот этот жёсткий, такой расчётливый персонаж, который — да, разрушает мир Ивана. Иван — он такой немного губошлёп, конечно, но писалась вещь, подчёркиваю, не ради него. Это просто в фильме Вельяминов всех переиграл, а на самом деле главная тема картины — это рождение нового героя, умельца, вот того, кто у Вампилова в «Утиной охоте» почти одновременно появился в качестве этого официанта. Понимаете, это тот человек, который побеждает даже Зилова, потому что Зилов просто лишний, а этот — не лишний, этот органически вписан, у этого всё получается. Это циник прожжённый, это будущий герой Трифонова. Таких героев довольно много.
«Какое у вас сложилось мнение о повести Тендрякова «Кончина»? Это история председателя колхоза Лыкова, ставшего пожизненным временщиком на своём посту. Неужели Тендряков уже тогда знал всё о нас?»
Я рад, Андрей, что вы читаете Васильева и Тендрякова — главных писателей семидесятнического периода. Многие скажут, что это авторы второго ряда; я с этим не согласен. Конечно, с Трифоновым и с Аксёновым их не сравнить. Но такие авторы, как Георгий Семёнов, да, Владимир Тендряков, главный писатель 50-х, да, конечно, Борис Васильев — они много горькой правды сказали, просто их знали не за это.
У Тендрякова в «Кончине» другой сюжет. Тендряков в 70-е годы показывает извращённое, вымороченное, атеистическое, страшно редуцированное общество, в котором все моральные проблемы неразрешимы, потому что в нём не осталось морали. Вот перечитайте «Расплату», «Шестьдесят свечей», «Ночь после выпуска» — всего Тендрякова 70-х. «Кончина» вписывается в этот ряд. Это мир, где нельзя быть хорошим, потому что в нём все хорошие люди неизбежно становятся или убийцами, или догматиками. Ну не знаю, в общем, это такая хроника вымороченного мира — мира, откуда отняли мораль.
«Маликов сказал в интервью, что не может писать новых хитов, потому что перестал испытывать яркие эмоции. Неужели в мире не остаётся ничего, что могло бы вызвать яркие эмоции?»
Ну, Лёша, это довольно… Я, кстати, с Маликовым ехал давеча в поезде — вполне он может испытывать яркие эмоции. Говорит очень эмоционально обо всём, что происходит. Вот скоро мы позовём его в «Литературу про меня» в ближайшее время. Как вам сказать? Дело не в Маликове. Дело в том, что сегодня в литературе вообще нет ярких эмоций. Посмотрите, современная литература вся эти эмоции добывает из прошлого. Всё сильное, что мы читали в последнее время, — это написано на историческом материале.
Современность — да, она ярких эмоций не предполагает. Вернее, она предполагает их, но для этого надо было бы назвать вещи своими именами. А кто может их назвать своими именами сегодня, мне довольно затруднительно представить. Я не могу сегодня представить трезвой прозы о нашем времени — прежде всего потому, что это требует от автора большой метафизической смелости и большой высоты взгляда. И много приходится сказать такого, в том числе и про себя, чему не зарадуешься. Ну а если всё время врать или уклоняться от серьёзного разговора, какие ж тут будут яркие эмоции? Только отвращение.
«Искусство не ставит перед собой целей улучшения человеческой породы, по определению не может быть дидактичным, но не означает ли это и обратного? Любое искусство по определению не может являться безнравственным. Если предельно упростить, «Триумф воли» Лени Рифеншталь — это искусство или нет?»
Что понимать под искусством? Если для вас искусство — это искусность, штукарство до некоторой степени, то — да, с «Триумфом воли» всё в порядке, это искусство. Если же понимать под искусством всё-таки чудо, то есть вещь, способную вызвать у читателя эмоции чрезвычайно высокого порядка, то, конечно, «Триумф воли» не искусство. Обратите внимание, сегодня его очень скучно смотреть. Ну, ты видишь, что камера поставлена очень профессионально, что монтаж великолепен, что очень интересна композиция картины. Но это всё — такая статуарность. Эти маршировки, эти железные тела и стальные когорты — это приедается очень быстро. Такое искусство становится мёртвым. Это, в общем, чистое тоже формотворчество.
Вот я, знаете, вчера в Высшей школе экономики читал лекцию по Шаламову. И действительно, даже в Высшей школе экономики, которая вызывает у меня довольно скептические чувства, — там оказался некоторый процент детей, которые обгоняли моё представление об обычном студенческом уровне; детей, которые сумели очень правильно поставить вопросы. Да, в общем, Шаламов пишет сильнее Солженицына, но те эмоции, которые вызывает Шаламов, — человеческие ли это эмоции? Это эмоции скорее физиологические, животные. Это страх, брезгливость, отвращение, ужас. А Солженицын, может быть, и слабее Шаламова пишет, но тем не менее он вызывает эмоции человеческие, более высокие.
Это знаете, как в триллере: если вам покажут кишки вывернутые, вам будет страшно. А если вам покажут, как у Хичкока, светящийся стакан с ядом, вам будет ужасно (там просто источник света помещён в стакан). Тут вопрос весь в том, к эмоциям какого порядка вы апеллируете. Искусство апеллирует к эмоциям человеческим, а гениальность Шаламова (для меня несомненная) — это всё-таки топор, и даже иногда, как мне кажется, топор в руках сумасшедшего.
Такие рассказы, как «Прокажённые» — это, конечно, очень высокий класс, но литература ли это? Или это, как говорил Адамович, уже сверхлитература? Преследует ли она цель — избежать повторов, избежать повторения этого, или сказать какую-то новую правду о человеке? В это Шаламов не верит. Она преследует цель — отомстить; отомстить тем, кто этого не пережил. И у меня возникает сложное отношение к этой литературе, хотя я всё равно очень люблю Шаламова. Ну, нельзя сказать «я люблю Шаламова». Как можно любить Шаламова? Я восхищаюсь Шаламовым!
«Блок говорил, что России суждено стать новой, лучшей Америкой. Согласны ли вы с мнением поэта, или это патриотический угар? Не потеряла ли Россия этот шанс, вступив на путь коммунизма?»
Имеется в виду слабое, на мой взгляд, стихотворение Блока «Новая Америка» — с избыточными повторами, с такой водянистостью и с таким странным выводом финальным: «Так над степью пустой загорелась мне Америки новой звезда». Там, понимаете, сама лексика, где воет руда, где пустая степь — она, в общем, не радостна, не празднична, ничего там хорошего из этой новой Америки не выйдет. Это умозрение блоковское.
Блок вообще относительно судьбы России впадал иногда в совершенно дурновкусную гигантоманию: то она представлялась ему новой, лучшей Америкой, то какой-то усовершенствованной Евразией. И вот «скифы мы», «мы перед Европою пригожей раскинемся», «мы обернёмся к вам своею азиатской рожей». И целое движение евразийства, скифства из этого выросло. Геополитические, простите за выражение, концепции Блока поражают наивностью и именно какой-то гигантоманией, на мой взгляд, совершенно неуместной. Блок вообще же не теоретик. Но как было сказано про Петра Ильича Чайковского: «Пётр Ильич Чайковский дорог нам не только этим».
«Во всех фильмах Тарковского есть загадки, особенно загадочны сны — например, в «Зеркале». В литературе этот приём часто используется. У вас есть мнение на этот счёт, и были ли в вашей жизни значимые сны?»
Я успел задать этот вопрос, прочитать его, а отвечать на него подробно, видимо, буду уже после трёхминутной паузы.
РЕКЛАМА
Д. Быков― Продолжаем разговор. Дмитрий Быков. Тут у меня прискакало мне письмо: «Что-то вы сегодня больно мирный».
Ну хорошо, ребята, я могу вам устроить не мир. Ну, почему мирный — это легко понять. Я сижу в отеле «Гельвеция» в Петербурге. Это, наверное, самое уютное место, из которого я когда-либо вещал. Белая ночь у меня за окном золотится. Ну что тут хотеть? Конечно, я мирный. Подождите, приеду в Москву — и флюиды ненависти пронизают мою кровь.
Так вот, Наташа, отвечаю на ваш вопрос про сны. Они играют в литературном произведении роль двоякую, ну как и в нашей жизни, собственно. Иногда сон — это дуновение какого-то ветерка из потусторонности. Такую роль играют кошмары во снах, именно в циклах снов, у Тургенева, «Senilia», вот эти «Стихотворения в прозе», где несколько снов приведено. Один из них — «Порог», другой — «Насекомое», «Могила». У него много хороших снов, таких страшненьких. «Насекомое», конечно, самое страшное из них.
У Достоевского сны до известной степени выполняют ту же миссию, как бы иллюстрируя слова Тютчева: «И бездна нам обнажена своими страхами и снами»; или там уж совсем шекспировское: «И сном окружена вся наша маленькая жизнь». То есть ощущение бездны, подсвечивающей и окружающей какими-то багровыми сполохами обычную жизнь.
В этом смысле, наверное, самый страшный сон в русской литературе, который я знаю, — это всё-таки сон в «Кларе Милич» (про «Клару Милич» тут отдельный вопрос, сейчас про неё поговорим) у Тургенева. Вот сон про обезьянку в «Кларе Милич» — это ад. Да, такой сон, действительно, приснится — поседеешь.
Вторая группа снов. Тоже у Достоевского они встречаются. Например, если сон первого порядка, сон из бездны — это кошмар Ипполита про насекомое в «Идиоте», то есть ещё сон, проясняющий действия, более рациональный; сон, который как бы вытаскивает на поверхность смысл происходящего. Это сон о лошади в «Преступлении и наказании» — украденный, конечно, из некрасовского годом ранее написанного стихотворения «О погоде».
И самый наглядный пример такого сна, наверное лучший сон в советской литературе, — это сон о лечебнице для душевнобольных в повести Трифонова «Другая жизнь». Вообще вот это страшное ощущение другой жизни и того, что ты живёшь, а жизнь стала другая, переродилась, — это у Трифонова дано, конечно, с потрясающей силой, в этом и смысл повести. И наверное, лучшее, что там есть — это сон главной героини, которая в этом сне едет (как бывали такие, знаете, грибные выезды) за город со своим учреждением. И она там с дочкой заблудилась в лесу. И вдруг видит дом за зелёной оградой. Я вам не буду пересказывать этот сон, найдите его в «Другой жизни», но он очень страшный и один из самых таких лучших снов, показывающий, как заблудился человек в жизни.
Интересные, кстати, сны пересказанные Толстого и Горького в очерке мемуарном Горького о Толстом. Он там рассказывает два своих страшных сна. В одном комета летит и звезды лопаются, а в другом идут валенки — пустые валенки по серой дороге. «Комета у вас литературная, — говорит Толстой, а вот валенки — хорошо». Это действительно страшно.
«Пара слов о вашем отношении к Джону Кеннеди Тулу и его «Сговору остолопов».
Я говорил о нём, уже был вопрос. Понимаете, мне вообще горько о нём говорить, потому что судьба этого человека трагическая, покончил он с собой, насколько я помню, не дождавшись славы, не напечатав этот роман. Но вот «Заговор остолопов» — грех сказать, если б я был редактором, я бы его тоже не напечатал. Мне кажется, что эта книга с тяжеловесным и многословным юмором. И чудаковатый её герой (который, казалось бы, должен мне быть симпатичен, потому что он, во-первых, нонконформист, а во-вторых — толстый) как-то не вызывает у меня большой любви и симпатии.
Джон Кеннеди Тул — это был очень хороший человек. Вот я это чувствую, что он был очень хороший человек, какая-то первая неудавшаяся проба к Дэвиду Фостеру Уоллесу. Такое часто бывает, когда человек раньше времени появился в несовершенном варианте. И прекрасные есть куски в этом романе, но в целом он мне показался безбожно затянутым.
«Посоветуйте книги о литературной жизни разных эпох — наподобие «Травы забвения» и «Алмазного венца».
В первую очередь, конечно, мемуары Панаевой. Мемуары и переписку Суворина. Наверное, мемуарные очерки Горького при всей их субъективности, но очерк об Андрееве гениальный; очерк о Толстом — очень высокого класса; очерк о Короленко хороший. Ну и бунинские очерки литературной жизни, недавно объединённые издательством «ПРОЗАиК» в книгу «Гегель, фрак, метель». Это пристрастные тексты, но очень живые и убедительные. Ну, Вересаева неплохие мемуары.
Понимаете, трудно сказать даже… Вот если вы регулярно будете читать, скажем, выпуски трудов Одесского литературного музея, то там попадаются поразительные мемуары, вот о жизни литературной Одессы 1910–1920-х годов. Помню, что переписка Бандарина (писателя, казалось бы, очень второразрядного, но хорошего) и его воспоминания — вот она меня потрясла просто, потрясла гораздо больше, чем «Алмазный мой венец». У Гехта остались интересные… Но правда, бандаринские письма — тут просто слеза меня прошибла.
«Как вам кажется, в чем причина появления неоязычества, и почему популярным для его адептов является либо древнеславянское язычество, пантеон которого даже не вполне ясен, либо древнегерманское, о котором известно несколько больше? Что-то я не слышал о последователях язычества античного или, к примеру, древнеегипетского, хотя о них как раз известно довольно много».
Хороший вопрос. Дело в том, что и древнеславянское язычество, каким его рисуют адепты вроде Иванова в «Руси изначальной», и древнегерманское язычество, каким его рисуют создатели «Песни о Нибелунгах» (и Вагнер, конечно), — это именно апофеоз дикости, грубости. Вот этим людям очень симпатична грубость, им это кажется чем-то пассионарным. А вот как, помните, правильно совершенно писал Герцен: когда мы рассматриваем античное искусство, мы видим себя как бы в здоровой детской, в детской здорового и хорошего ребёнка.
Когда мы читаем мифологию других стран (индийскую, например), то перед нами проносятся какие-то жуткие картины, абсолютно алогичные. Исландские ли это саги, индийские — в общем, всякое язычество выглядит каким-то пугающе алогичным и очень зверским. А вот когда мы рассматриваем Грецию, то это как бы детство христианства, вообще детство мира. И поэтому, конечно, адептов Древнего Египта или Древней Греции гораздо меньше — и именно потому, что об античности египетской, греческой, шумерской даже, известно больше, чем о викингах или праславянах. Праславян принято в плохой литературе изображать косматыми, жестокими — что-то такое среднее между воином и волхвом, что-то жреческое, мистическое, очень иррациональное и совсем антикультурное. Вот поэтому и возникают эти культы.
«Читали ли вы книгу «Пострусские» Дмитрия Алтуфьева? — увы, нет. — Периодически задают вопросы про Гурджиева. Всем рекомендую прочитать, что о нём написал Шульгин в «Речи о разном». На мой взгляд, это два самых загадочных человека начала XX века».
Помилуйте, ну что же загадочного в Гурджиеве? И что загадочного в Шульгине? Оба очень обаятельные люди. Но оба — к сожалению, всё-таки это тип скорее авантюриста, нежели мыслителя. Гурджиев — это опять-таки обаятельный, прелестный, жуликоватый, опасный, но совершенно не глубокий и не интеллектуальный человек. Почитайте «Записки Вельзевула своему внуку» (они, правда, надиктованы, наговорены) или его «Воспоминания о встречах с интересными людьми» в его странствиях. Он пожил, постранствовал, повидал людей, и всё обаяние Востока в нём. Он такой немножко Бендер. Почитайте его советы дочери. Это замечательное умение пустить пыль в глаза.
И Шульгин — в общем, фигура авантюристического склада. У него были, конечно, глубокие монархические убеждения, но в общем Шульгин по складу души своей, как ни печально это говорить, фельетонист, и довольно поверхностный. И, например, его книга «Дни» — это поражает именно журналистской хлёсткостью. Он очень мало понимал в России. Да я думаю, что, кстати, и большинство людей евразийской ориентации (а он в конце концов эволюционировал именно в этом направлении) очень плохо понимали, что такое по-настоящему монархия, и что такое происходит в России, и кто такой Сталин. Так что и Шульгин — при всех моих симпатиях к нему, особенно к его прелестной откровенной книжке «Что нам в них не нравится…» — не такой он был умный, как кажется.
«Можете ли назвать несколько шедевров детской мультипликации — как отечественной, так и зарубежной?»
А у меня очень тривиальные вкусы в этом смысле. Я очень люблю советскую мультипликацию. Помню, как мне Друян — классический оператор, главный оператор всех этих фильмов — уже тогда 93-летний говорил: «А мне прислал благодарность Папа Римский. Прислал он мне благодарность за то, что мы делали истинно христианские мультфильмы». Да, мне нравятся очень советские мультфильмы — ну, рисованные, конечно, прежде всего. Но и кукольные были недурны. Какую-нибудь «Варежку» вспомнишь — и плачешь.
Что касается остальных. Конечно, Миядзаки — это очень высокий класс. Хотя моя любимая картина — это «Тоторо». И главный герой на меня очень похож, и я этих Тоторо скупал одно время, где только мог. Ну и мне нравится, конечно, Дисней, что ж тут спорить-то, кто ж говорит. Не весь опять же, но «Бэмби» меня доводил до слёз в своё время.
«Как, на ваш взгляд, повлияла ли вынужденная европейская эмиграция русских художников, поэтов, на уровень их таланта, вообще на их потенциал? Если повлияла, то усилила или ослабила? В поэме «Версия» вы остроумно и неожиданно ставите под сомнение саму возможность расцвета таланта Набокова, если бы он не получил зарубку на сердце от расставания с Родиной. Но с другой стороны, в ситуации эмиграции на начальном этапе — неизбежный психологический дискомфорт, неустроенность, отсутствие читателей. Есть ли здесь общие закономерности?»
Надя, есть, конечно. Набоков бы не сформировался потому, что тема изгнания для него главная. Или даже я бы сказал: тема хорошего поведения в изгнании. Это заставило его всю человеческую участь, человеческую судьбу трактовать как изгнание, шире — как изгнание из рая (из рая детства, из рая прошлой жизни). Поэтому Набоков вне изгнания не сформировался бы, мне кажется.
Что касается остальных. Видите, тут всё зависит от того, куда происходит изгнание. Масштаб территории страшно влияет на масштаб писателя. Отъезд в Америку для Рахманинова, для Алданова был, в общем, равной заменой, потому что Америка и Россия симметричны. Набоков, тоже оказавшийся там в конце концов. Мне кажется, что переезд во Францию, особенно в стремительно мельчавшую Францию предвоенную, он вёл, конечно, к истощению.
Мне трудно привести примеры писателей, которые бы в эмиграции писали лучше. Единственный случай, может быть, Бунин, но и то «Тёмные аллеи», на мой взгляд, несколько проигрывают во многих отношениях, хотя бы в смысле разнообразия и пестроты они несколько проигрывают его ранней прозе. Другое дело, что они лаконичнее, сильнее и лучше написаны. Это более модернистская проза, более трагическая. Бунин во Франции расцвёл. А так — ни Андреев (правда, Андреев в эмиграции пробыл всего два года, и это фактически не было эмиграцией), ни Куприн, ни Замятин, ничего такого.
У Горького произошёл неожиданный взлёт — рассказы 1922–1924 годов и, может быть, «Заметки из дневника. Воспоминания» (лучшая его книга, по-моему). Знаете, в чём штука? Горький — это случай уникальный. Почему у Горького стала литература лучше после отъезда? Он в России вынужден был носить слишком много масок, а уехав из России, он от этих вынужденностей избавился. Он наконец сказал то, что он думал о народе, то, что он думал о человечестве, о России в целом.
Он всё время… Помните, в рассказе «О тараканах» он иронически о себе говорит: «Я хочу быть похороненным в приличном гробе. Я забочусь о репутации, о том, что обо мне подумают». Уехав, он на какое-то время перестал думать, что о нём подумают, он освободился. И вот под действием этой новой свободы написаны были — и написаны лучше гораздо, чем в России — три его вещи: «Дело Артамоновых», рассказы 1922–1924-го и «Заметки из дневника». Мне кажется, что вот поздний Горький, который сбросил с себя Россию, сбросил как маску, он записал с полной силой. Потому что Горький — ведь по большому счёту писатель совсем не из русской традиции. Он писатель, отрицающий эту традицию. Вот Чехов ещё русский, а Горький — уже не русский. Это Горький откуда-то из другого места. Вот о нём очень точно сказал Толстой: «Он ходит, смотрит и всё докладывает какому-то своему неведомому богу, и бог у него урод». Вот это страшные слова, но точные. Поэтому Горькому, в общем, эмиграция пошла на пользу.
«Стал разочаровываться в фигуре своего учителя литературы в школе. Раньше его мнение казалось наиболее авторитетным. Случайно наталкиваюсь на источник тех мыслей, которые он открывал нам на занятиях, и нахожу, что на самом деле эти источники серьёзнее и интереснее, и приводимые им цитаты были неточными или неверными. Стоит ли для себя сохранять авторитет учителя? Крайне тяжело расставаться с таким образом. Полина, студентка журфака».
Поля, друг милый, когда вы оказались на журфаке, где вообще чрезвычайно сильная кафедра литературы — Богомолов, патриарх наших штудий о Серебряном веке, Эдельштейн, ну там много замечательных людей, — естественно, что ваши школьные учителя поблёкли в ваших глазах. Но вы их не презирайте. Потому, во-первых, что их работа труднее. Потому, во-вторых, что быть школьным учителем и не деградировать при этом крайне трудно — именно в силу конвейерного характера этой работы. И в-третьих… Понимаете ли, есть евангельская цитата: «Даже и усовершенствовавшись, никто не будет выше учителя, а в лучшем случае будет как учитель его». Мы не можем перерасти своих учителей. Дорасти до них можем, но снисходительно на них смотреть мы не можем.
Я про многих своих учителей могу сказать, что в чём-то я, наверное, пошёл дальше них. Но я не стал выше них, потому что в то время они демонстрировали максимум. Ну и потом, меня вообще как-то господь наделил такими учителями, которые сами очень бурно растут, очень интенсивно развиваются. Вот я упоминал уже Лилиану Комарову, которая и в свои почти 90 продолжает интенсивно совершенствоваться в профессии; и Льва Мочалова, которому 88 лет мы только что в Питере здесь отметили — человек, который продолжает напряжённейшим образом эволюционировать. И когда я навестил его в больнице, он вместо того, чтобы распространяться о своих хворях, говорил о Гегеле. Вот так надо, понимаете? Надо вот так.
«Вы говорили, что роман «Лавр» вам нравится без приставки «очень». Те вещи, о которых говорит Водолазкин, вам кажутся очевидными, или вам не нравится то, как книга написана?»
Ну, шока нет эстетического, понимаете. Ну, она хорошая книга, но она не открыла мне ничего того, что я бы до этого не знал или не догадывался. Она очень интересно построена, она местами очень остроумна, но вот шока я не испытал.
Я тут недавно, кстати, перечитывал прозу Валерия Попова, который мне всегда представлялся очень крупным автором, — и тоже меня что-то разочаровало. Но от каких-то вещей я всё равно вздрагиваю. Вот я перечёл сборник «Любовь тигра», который прошёл почти незамеченным в разгар перестройки. И какие-то вещи там до сих пор как током ударяют — ну, рассказ «Божья помощь», например. Он такой простой, но просто до слёз. Кстати, если меня Попов сейчас слышит, я ему из Петербурга в Петербург передаю привет. Вот в нём есть те «кванты истины», как это называли Вайль и Генис, кванты точности, которые пробивают, пронзают. Даже мою читательскую броню, довольно толстую, они пробивают. Я не исключаю, что в следующих романах Водолазкина этих «квантов точности» будет гораздо больше.
«Прошу рассказать про Дилана Томаса». Давайте в следующий раз.
«Просьба порассуждать о феномене фейкерства. Вы говорите о добродетелях сноба, о том, что мы на самом деле те, кем хотим казаться. Утратил ли безвозвратно время тот, кто, предпочитая показаться клоуном, теперь действительно ощущает себя клоуном?»
Нет, я продолжаю верить, сообразно фильму «Генерал делла Ровере», одному из любимых моих фильмов, что человек есть то, что он о себе думает. Человек рано или поздно становится тем, кем он притворяется. Было замечательное стихотворение, кажется, у Ваншенкина, «Трус притворился храбрым на войне»… Или у Винокурова? Нет, у Ваншенкина, по-моему. Сейчас уточню. Вот я — за такое притворство. И когда мы притворяемся хорошими, мы становимся хорошими. Кстати, и обратное верно: когда мы притворяемся плохими, мы стремительно становимся плохими. Достаточно посмотреть на эволюцию советских и постсоветских телепропагандистов.
«Как вы относитесь к творчеству Айрис Мёрдок? Прочитал «Чёрного принца», он произвёл сильное впечатление. Что вы думаете об этом романе? Можно ли его удачно экранизировать? Спасибо вам большое».
Понимаете, я к Айрис Мёрдок вообще отношусь довольно скептически, потому что английский интеллектуальный роман 70–80-х годов мне кажется во многом искусственным, умозрительным, усложнённым. Это, увы, касается даже Фаулза, у которого я очень люблю «Коллекционера», меньше люблю «Волхва», совсем не люблю «Дэниэла Мартина». Проза Айрис Мёрдок мне кажется во многом надуманной, переутончённой, многословной. Но «Чёрного принца» я выделяю, потому что это такое жёсткое, горько-ироническое произведение. Девочка эта там отвратительная, тоже постоянно собой любующаяся. Он умирает от любви к ней — а она любуется собой. Вообще же мой любимый английский прозаик — Дафна дю Морье. Вот кто действительно писал тонкую, глубокую, интеллектуальную прозу.
А мы услышимся после новостей.
НОВОСТИ
Д. Быков― Ну вот, после такой затянувшейся музыкальной паузы (совершенно непонятно, зачем нужной) мы с вами продолжаем разговор в программе «Один». Начинаю читать письма из почты.
Вот Саша меня спрашивает, желая, видимо, проверить на знание некоторых элементарных фактов из истории литературы: «Пушкин как минимум трижды использовал сюжет, когда неживое оживает и убивает живое: в «Медном всаднике» — памятник Петру; в «Каменном госте» — статуя командора… Назовите третье произведение. Вы его знаете».
Ну как же мне, голубчик, не знать? Ведь у меня на этой статье Якобсона — «Образ оживающей статуи у Пушкина» — построена целая глава в «Маяковском». Естественно, третье — это «Золотой петушок». Все три вещи построены по единой фабульной схеме, по инварианту, который выявил Якобсон.
А вы вот мне назовите. Маяковский, видимо, пытаясь как-то повторить Пушкина и отсылаясь к нему, тоже трижды строит подобный сюжет, когда герой раздразнил стихию или раздразнил загробную жизнь — и из иного мира ему является вестник, и он с ним вступает в диалог. Первое — это «Необычайное приключение…», когда солнце к нему пришло. Второе — «Юбилейное», когда он разговаривает с памятником Пушкину. А назовите мне третье стихотворение? Сразу хочу сказать, что это диалог с портретом.
«Вера в бессмертие души исключает лузерский смысл суицида».
Ан нет! Совсем не исключает. Почитайте рассказ Марины и Серёжи Дяченко «Баскетбол» — много узнаете интересного.
Вот вопрос из Макеевки, вот из этих мест. Сообщают мне, кстати, что всю неделю очень лупили. Я с большой грустью передаю ваше сообщение. Собственно вопрос: кого я предпочитаю — Ульянова или Солоницына? «Ульянов — профессионализм, который от великого ремесла переходит к чему-то горнему. А Анатолий Отто (действительно у него было такое второе имя) изначально был мастером и сжёг себя буквально. Насколько оправдан выбор Солоницына?»
Знаете, трудно сказать. В случае Ульянова я не думаю, что это просто профессионализм. Нет, в случае Ульянова была просто безумная органика, но у них органика разная. Понимаете, Солоницын — это сплошное и бесконечное самомучительство. А герой Ульянова — он герой торжествующий, он победитель, несмотря ни на что. Наиболее себя и, пожалуй, наиболее сильную роль свою он сыграл в «Егоре Булычове» Сергея Соловьёва. Ну а лучшая работа Солоницына — это, как вы понимаете, «Андрей Рублёв». И тут, по-моему, двух мнений не может быть.
«Как вы думаете, возможно ли воплощение Достоевского в XXI веке, учитывая вашу цикличность?»
Да, уверен, что возможно. Потому что, во-первых, воспроизводится схема. Во-вторых, у нас хватает писателей, которые преимущественно через публицистику, а не через художественные образы, не через пейзажи, не через диалог себя реализуют. Достоевский, на мой взгляд, в меньшей степени художник, чем гениальный публицист и памфлетист. Такие люди у нас есть, их довольно много. Любопытно, что эти люди — всегда враги Запада и прогресса. Видимо, это как-то связано с тем, что публицистика и памфлетизм предполагают желчность, постоянное раздражение, а это эмоции у нас наиболее присущие консерваторам и антилибералам.
«Благодарю вас за позитив». И я вас, Марина, благодарю.
«Вы по-прежнему считаете, что в России в наше время возможен лицей?» — это после лекции моей о лицее.
Возможен, конечно. Власть — по-прежнему главный бренд. И если власть захочет осенить собой закрытое учебное заведение, то, конечно, получится лицей. Надо только набирать туда профессионалов, а не клевретов.
«Что вы думаете об отношениях Пушкина и Горчакова?» Ну, Пушкин сам всё сказал:
Но невзначай просёлочной дорогой
Мы встретились и братски обнялись.
Тут, кстати, спрашивают, насколько, по моему мнению, эта встреча была случайной. Случайная абсолютно, я думаю. И не надо уж такую хитрую конспирологию: Горчакова подослали к Пушкину. Нет, не думаю. И Кюхельбекера ведь не подослали, когда… Помните, он принял его за жида, а потом они в слезах обнимались, когда Кюхельбекер следовал на каторгу. Как вам сказать? Отношения Горчакова и Пушкина были хотя, мне кажется, с обеих сторон прохладными (а у Горчакова со всеми были довольно неприязненные отношения, ровные, дистанционные), но они как оба выпускники лицея сознавали себя слугами России. Лицей воспитывал элиту не в денежном и не в карьерном, а в рыцарском смысле. Это были люди, которые сознавали себя принадлежностью России, и для них невозможно было… Почему и неправильное толкование «Медного всадника», которое предлагало советское литературоведение. Для них не стоял вопрос: надо ли строить столицу в потенциально опасном городе? Фактор личной опасности не существовал. И я думаю, что эта рыцарственность была Пушкину и Горчакову одинаково присуща.
«Я никогда не был лидером хулиганов. Обнаружил это случайно в 16 лет, пойдя с друзьями в секцию ушу. Сломал мозг в попытках понять, откуда это».
Видите ли, человек оказывается лидером криминальной или агрессивной группы (вы пишете, что это ситуация, как в «Заводном апельсине») или просто лидером бандитов очень часто неожиданно для себя. Ведь что в Алексе главное? Не сила, не авторитет, не влияние. Главное в Алексе — это страшная, бушующая в нём злоба, жажда разрушать. И лидером в секте хулиганов, лидером в стае хулиганов оказывается не самый сильный и не самый корпоративный, а самый злой. Видимо, в вас сидел страшный источник злобы, который не всегда понятен.
«Как понять, любишь ли ты девушку?» Если такой вопрос встаёт, значит вы не любите девушку. Если вы любите девушку — знаете, это как удар физический.
Что я думаю о последнем альбоме «АукцЫона»?
Я плохой в этом смысле критик, потому что я никогда не разделял восторгов по поводу «АукцЫона». Мне нравятся самые простые и самые известные их вещи — альбом «Жилец вершин» или песня про глупую холодную Луну из «Брата» («Птичка» она, кажется, называется [«Дорога»]). Я не понимаю восторгов по поводу Леонида Фёдорова или Гаркуши. Я понимаю, что это очень хорошо, но и понимаю то, что это абсолютно мне что-то чужое. Я добросовестно прослушал альбом «На солнце» — ничего метафизического, страшного и засасывающего я там не обнаружил. Может быть, и слава богу.
«Что именно вы могли бы отметить особенного в романе «Убить пересмешника»? Что в нём такого?»
Ну, как вам сказать? Именно то, что в нём нет ничего особенного, то, что эта книга такая простая и даже простодушная, но с глубочайшим, огромным подтекстом — вот это и делает её бестселлером и шедевром. Она действительно она простая, понимаете, она без всяких ухищрений написана. Во-первых, она жутко динамична. А во-вторых, там как-то… Ну, нам-то, в общем, чьё детство прошло на дачах, это особенно понятно. Не надо только думать, что это были элитные дачи. Это были крошечные садовые участки под Москвой, довольно удалённые. Понимаете, это мир детства, мир жуков, лягушек, бабочек, духовых ружей самодельных, позднего бадминтона, оглушающего запаха табака; мир вот этих маленьких сельских сообществ, людей с таинственной биографией, мир обязательных страхов перед заколоченным домом. Это мир таких детских архетипов, благодаря чему «Вино из одуванчиков», «Убить пересмешника» и «Дети в день рождения» Капоте были нашими любимыми книгами.
«Как вы считаете, с какого фильма стоит начинать знакомство с фильмами Тарковского?»
Однозначно с «Зеркала». Тоже есть хороший совет… Я вообще, вы знаете, совсем не пью. И тут многие мне говорят, что я много теряю, что непьющий поэт — это подозрительно. Ну, что поделать? Подозревайте. Просто я понял, что мне уже в трезвом состоянии лучше, нежели в пьяном, физически лучше. Но это, конечно, ни к чему вас не обязывает. Просто «Зеркало» можно смотреть «слегка под газом», ну, грамм сто приняв, — тогда вам, что ли, монтажная логика картины будет более понятна. Эта логика очень тонкая.
«Посоветуйте хорошие книги о войне».
Господи помилуй! Неужели ещё надо что-то советовать? Курочкин, «На войне как на войне». Естественно, Бакланов. Василий Быков обязательно, хотя это не только и не столько о войне. Конечно, некоторые ранние сочинения Бондарева, особенно «Тишина» — о первом послевоенном времени. Конечно, очень сильная книга Богомолова, обе книги Богомолова, я считаю — его «В августе сорок четвёртого», и особенно «Жизнь моя, иль ты приснилась мне…». Да много есть. Борис Васильев тоже. Замечательные воспоминания, записки Никулина. Конечно, «Блокадная книга» Гранина и Адамовича. Конечно, я думаю, Елена Ржевская с её документальной прозой. А уж стихов-то столько написано…
Простите, что я делаю паузы. Просто не всегда быстро открывается письмо.
«Вы говорили про фильм Прошкина. А вас не смутило присутствие в нём символической сцены с исчезновением статуи вождя? По сюжету, наверное, нужно было обозначить исторический контекст — возобновление гонений на веру. Но разве необходимо было акцентировать внимание на кровавом идоле?»
Ну, знаете, как раз гонения на веру начались после Сталина. Сталин пытался веру вернуть, и она ему в каком-то смысле была нужна. Хрущёв, возражая против всех культов, заодно с культом Сталина решил посягнуть и на культ религиозный. Вот это как раз левацкие заблуждения 20-х годов, или скажем так — левацкая бесовщина 20-х годов. Хотя, посмотрев на сегодняшнюю клерикальную Россию, иногда начинаешь и Хрущёва тогдашнего понимать. Но дело в том, что как раз Сталин в фильме «Чудо» присутствует как один из символов религиозных, а не символ гонения на веру. Вот так бы я сказал.
«Интересно ваше мнение о романе Кинга «Противостояние».
Всё, что есть в романе «Противостояние», в гораздо более кратком и ёмком виде присутствует в гениальном, по-моему, сценарии «Буря столетия». Вот это лучшее, что сделал Кинг для телевидения. А что касается «The Stand». В особенности второй том, конечно, из трёх (я беру издание в трёх книгах) там хорош, но в принципе… Да и вообще сама эта идея шествия всех к собирающей всех седой негритянке, похожей на негатив — то, о чём так пронзительно поёт группа «Пикник»: «И любит их Чёрная Женщина с серебряными волосами» (я абсолютно уверен, что они имеют в виду «The Stand») — в общем, это немножко, конечно, выдаёт нагромождение дикое и избыточность. Я думаю, что у Кинга два самых больших романа — «It» и «The Stand». Они всё-таки грешат чрезвычайным многословием, повторами, обилием персонажей. В общем, это тот случай, когда «вулкан изрыгает вату». Мне кажется, что было бы правильнее с его стороны сделать это как-то изящнее и компактнее.
«Читали ли вы роман «Девушка в поезде» Пола Хокинса?» Читал. И жалею об этом. По-моему, абсолютно напрасно потраченное время.
«Не дождался ответов в прошлый раз, — ну, Андрюша, простите. — Зачем в поиске предназначения автору понадобились баскеры? Совсем ведь незатейливые мостики для столь сложного текста».
Во-первых, текст не сложный. Вся его сложность иллюзорная, это просто сожжённые мостики, которые Стругацкие практикуют со времён «Попытки к бегству». Что касается баскеров. А почему этот образ ужаса должен быть таким сложным? Ну, собаки и собаки — страшные, фермеровские, баскервильские. И совершенно не нужно искусственно усложнять. Понимаете, страшен не монстр, а страшна именно собака, помещённая в нестандартное положение и в нестандартную функцию. Страшно, когда голован. Это же просто пёс, тем не менее мыслящий, наводящий глюки, галлюцинации. Страшен баскер, по которому не видно, что он сверхсобака, а он тем не менее сверхсобака, господь не приведи.
«Вы не раз говорили, что развитие страны невозможно без коллективного усилия, однако русский человек, вопреки всем урокам истории, упрямо не хочет участвовать в общественных делах. Это такая ментальность, или есть национальное объяснение?»
Ну, наверное, есть. Просто поскольку мне кажется, что русская государственность в прежнем виде сейчас трансформируется радикально — один период кончается, другой начинается, вот бегание по кругу… Эти семь кругов, мне кажется, закончились, потому что сейчас уже все абсолютно спустя рукава имитируют эти стадии. И поэтому у меня есть ощущение, что грядёт действительно что-то новое. Но действительно семь веков русской государственности прошли без участия населения. Население выступало скорее как зритель пассивный, всегда беря сторону победителя. Исключение составляют внешние войны, которые поэтому и вспоминаются населению при всём своём ужасе как оазисы внутренней свободы.
«В лекции вы сказали, что гибель Пушкина была результатом спецоперации, — нет, не спецоперации, а заговора. — В других выступлениях вы говорили, что Пушкин в последние годы стремился к смерти, — стремился, и, по-моему, это не только я говорил. — Как обстояло дело на самом деле, по вашему мнению?»
Рассказать вам подробности этого заговора я не могу. Я отсылаю вас к книге Серены Витале «Пуговица Пушкина», где обнародована в частности и переписка Жоржа Дантеса с Геккерном (любовником старшим и покровителем, якобы приёмным отцом), ну и к запискам Ахматовой, к наброскам её работы об Александрине. Там действительно имел место заговор с целью — ликвидация потенциально опасного человека.
«Выскажите своё мнение о четырёх британских писателях-ровесниках: Барнс, Макьюэн, Мартин Эмис и уже ушедший Иэн Бэнкс. Что выделяет их в истории Великобритании?»
Знаете, Британия вообще очень интересно эволюционировала в постимперский период: она прошла период ностальгии по империи и период предсказания каких-то новых ценностей. Это особенно заметно у Голсуорси в трилогии «Конец главы», которую я считаю лучшим его произведением. Он там говорит: «Нам надо взять лучшее от старой Британии и построить что-то новое». Мне кажется, что перечисленные вами авторы (прежде всего, конечно, Макьюэн) взяли от старой Британии лучшее, а именно — этическую определённость, строгость этического кодекса. У них нет постмодернистского релятивизма, постмодернистской относительности, релевантности всего, точнее релятивности всего.
Тут у нас разгорелась как раз в Сети дискуссия: «релевантный», «релятивный» — как следует их употреблять? Скажем так: «релевантный» — для какого-то момента, то есть тоже относительный; но если говорить об относительности этической, то, наверное, правильнее будет сказать «релятивный».
Вот этого морального релятивизма нет в текстах Эмиса, как и в текстах его отца (а он писатель потомственный). Ну, они все немножко наследники Ивлина Во, отчасти — Моэма. Вот лучшее, что есть в прозе этих авторов… И Коу, конечно, я бы назвал в первую очередь, он из них, по-моему, самый талантливый. У них есть традиционное британское понимание добра и такая же традиционная ненависть ко злу.
«Читаю Буковского, «И возвращается ветер…» — замечательное продолжение традиции Шаламова и Солженицына».
Э нет, Вадим, традиции Шаламова и Солженицына не существует, это две разные традиции. Это всё равно что… Некоторые очень любят слово «иудео-христианский», абсолютно не понимая, что «иудео» и «христианский» в значительной степени друг другу противостоят. Но тем не менее Буковского читать следует. Он не продолжатель традиции, а он абсолютно своеобразный человек, новый — тот, о котором Солженицын мечтал — человек, который не будет терпилой, у которого будет обострённое и больное чувство собственного достоинства. И в этом смысле я Буковскому свидетельствую своё глубокое уважение.
«Нельзя ли снять хороший фильм о диссидентском движении?»
Вадим, хороший вопрос, но тут, понимаете, какая штука тоже? Диссидентское движение вызывает к себе очень разные отношения. И чаще всего это отношение негативное и ироническое. Давайте вспомним, скажем, роман Владимира Кормера «Наследство». Кормер был талантливый писатель, но «Наследство» — это роман о сектантской природе диссидентского движения, о культах личности, которые там возникают, о диком самомнении, о невежестве диссидентов. Диссиденты сами отличались довольно большой самоиронией. Вспомните кимовские песенки типа «Блатной диссидентской»:
Покамест мы статую выбирали,
Где лозунги сподручней раскидать,
Они у нас на хате побывали,
Три доллара засунув под кровать.
Дело всё-таки ом, что против органов закона
Мы умеем только спорить горячо,
А вот практику мы знаем по героям Краснодона
Да по «Матери» по горьковской ещё.
Ким — такой летописец русского диссидентства, очень горько-иронический. Ну а Войнович, который сказал, что у большинства диссидентов сидело тоталитарное мышление поглубже, наверное, чем ни во что уже не веривших партийных функционеров? Да, диссиденты, в отличие от функционеров, во что-то верили, и поэтому они, наверное, бывали очень радикальными, поэтому они и ссорились всё время.
Такой фильм можно было бы снять. И даже, в общем, такой роман надо было бы написать — побогаче, пообъективнее кормеровского. «Зелёный шатёр» Улицкой как-то пытается эту лакуну заполнить, но книга эта касается слишком небольшого среза — преимущественно религиозного диссидентства.
Вот я говорил сегодня с Томасом Венцлова, очень рад был его слышать. Вспомнил круг покойной Натальи Трауберг, Царствие ей небесное, вспомнил «Даниэль Штайн, переводчик», вспомнил книги Улицкой об этом, воспоминания Горбаневской. Это был очень узкий круг, а диссидентство было гораздо шире. Оно было не только религиозным, оно было не только народническим, не только богоискательским. В диссидентстве были разные спектры. Например, люди, которые делали «Хронику текущих событий», — это были прекрасные организаторы. Например, среда физиков, и прежде всего Сахаров, — это были люди, воспитанные точными науками и прекрасно организованные.
Это сегодня принято иронизировать над подпольем и, как я уже говорил, спрашивать много с диссидентов, и прежде всего с сегодняшней оппозиции: «Ах, если вы такие безупречные, что же вы позволяете себе дышать воздухом? Ведь этот воздух отравлен кровавым режимом!» Понимаете, с диссидентов спрашивают, а брежневским сатрапам прощают легко, потому что брежневские сатрапы не признавали над собой моральных ограничений, а диссиденты признавали. Поэтому, если бы кто-то написал хороший, горький, абсолютно не апологетический, но трезвый и серьёзный роман о диссидентах — да, такую книгу я бы приветствовал, я был бы очень рад такой книге. Я думаю, что и такой фильм был бы уместен. Но пока я не вижу людей, способных такое сделать. Это тоже непросто.
«Где лучше всего получать журналистское образование?»
Меня об этом смешно спрашивать. Я всё-таки выпускник факультета журналистики — и, естественно, я не буду альма-матер как-то ругать. Но я считаю, что вообще журналистское образование получать необязательно. Идите работать в газету — она вас научить всему.
«Посоветуйте книгу, похожую на «Талисман» Кинга».
Ну, знаете ли, «талисманов» есть несколько. Есть ещё очень хорошая повесть британской писательницы, которую Роулинг назвала своей учительницей. Сейчас я в паузе найду её фамилию и вам посоветую. Но вообще таких сочинений довольно много. Я бы вам посоветовал для начала Гофмана почитать.
Тут вопрос от читателей «Квартала»: «Мы очень готовимся. Надо ли начинать 15 июля?»
Начинайте, конечно. Спасибо, тут очень смешной коллаж, очень милый. Братцы, я просто вам хочу сказать, что «Квартал», конечно, сделает вас и богаче, и сильнее, но самоцель не это. «Квартал» вас сделает свободнее.
«Как вы считаете, кто из современных русских писателей войдёт в историю литературы? Интересно ваше мнение о «Ледяной трилогии» Сорокина».
Я уже говорил о том, что Сорокин — гениальный деконструктор чужих фабул, но, когда он строит собственную, он, к сожалению, вторичен. Это касается даже «Метели», хотя «Метель» кажется мне лучшим из его сочинений. Тут меня спрашивают, что я люблю из раннего Сорокина. Больше всего, наверное, «Тридцатую любовь Марины». Остроумно выдуманы «Сердца четырёх», но остроумие этой придумки совершенно теряется за избытком действительно чрезмерных, на мой взгляд, натуралистических подробностей. И шокировать читателя хорошо, но под это дело несколько разрушается тонкость замысла, тонкость фабулы.
«Не услышал от вас рецензии на книгу Зыгаря «Вся кремлёвская рать». Очень интересно».
Да что же здесь интересного? Книга Зыгаря неплоха, но тут вот тот самый случай… Я об этом говорил. Это как Толстой, когда он прочитал первую часть купринской «Ямы» в восьмом году. Он вообще Куприну очень благоволил. И он сказал: «Конечно, он возмущается и негодует, но, негодуя, он всё-таки наслаждается. И от человека со вкусом это скрыть нельзя». Ну, чем наслаждался Куприн, мы будем подробно говорить в четвёртой четверти программы.
Тут, конечно, не шла речь о наслаждении всякой грязью. Но одно несомненно: Зыгарь, описывая, действительно наслаждается, и страшно сказать — он восхищается этими героями. Так мне показалось. То есть мне показалось, что книга полна любовью, полна даже она некоторого преклонения перед этими персонажами, хотя они не заслуживают ни любви, ни даже, страшно сказать, сколько-нибудь наглядного интереса. Мне кажется, что следовало бы как-то относиться к ним с меньшим пиететом, что ли. Именно поэтому книга напечатана, так широко продаётся и так нравится там, наверху, потому что они увидели себя в зеркале, которое им льстит. Я не увидел там не то что брезгливости или отвращения, но я не увидел там анализа, а как-то существующее положение вещей представляется автору оптимальным. Это, по-моему, довольно скучно. Хотя, конечно, есть там и интересные куски, замечательные наблюдения.
«Есть ли песни на ваши тексты?» Да, полно.
«Поделитесь вашим мнением о романах Форда Мэдокса».
Форд Мэдокс Форд — немецкий автор, который взял после Первой мировой войны германский псевдоним. Я читал только «Солдат всегда солдат». У него есть ещё «Конец парада» — довольно длинная тетралогия, которая мне вообще показалась дико скучной, и я не стал её читать совсем. В «Солдат всегда солдат» интересный повествовательный приём, но, честно вам сказать, господствующее ощущение… Может быть, это по-английски надо было читать. Я читал его в ленинградском издании, кажется, 2004 года (надо проверить тоже). В общем, как-то мне показалось, что это очень нудно. Изобразительной силы, языкового чуда какого-то я там не почувствовал (ещё раз говорю, наверное, оригинал надо читать), а возникло у меня ощущение… Помните, как Толстой писал… вернее, не Толстой, а Тургенев про первые главы «Анны Карениной»: «Всё это и манерно, и мелко, и даже, страшно сказать, скучно». Не понял я, из-за чего там… Ну, это немножко похоже на Гэддиса, но у Гэддиса, конечно, гораздо интереснее его «Recognitions», гораздо ярче.
Вот вопрос: «Хотелось бы узнать ваше мнение. Может ли сам поэт объективно оценить свои стихи? Если возможно, ответьте как поэт и как литературовед. P.S. Благодаря вам я сдала ЕГЭ по литературе на 96 баллов. Писала сочинение на тему дома в «Тихом Доне».
Спасибо, Кира, очень приятно. Может ли поэт сам оценить свои стихи? Конечно. У Пушкина же сказано на эту тему:
Они в самом тебе. Ты сам свой высший суд;
Всех строже оценить умеешь ты свой труд.
(Имея в виду, что награда в самом тебе.)
Ты им доволен ли, взыскательный художник?
Доволен? Так пускай толпа его бранит
И плюет на алтарь, где твой огонь горит,
И в детской резвости колеблет твой треножник.
Конечно, сам всегда всё понимаешь. Более того, самые глубокие стиховедческие работы написаны поэтами, самые тонкие наблюдения именно о технологии нашего ремесла: у Цветаевой, у Маяковского в «Как делать стихи?», у Ходасевича в его рецензиях на поэтические сборники, у Набокова, да и у Пушкина тоже.
Пропускаю несколько приятных комплиментов. Спасибо.
«Вопрос о критической литературе. Я читаю для удовольствия, многое воспринимаю поверхностно. Читала «Постороннего», ничего не поняла, — Камю имеется в виду. — Вот тогда я и подумала, что буквально воспринимаю сюжеты книг. И задумалась: не стоит ли читать критику?»
Видите ли, критику, да, читать надо — хотя бы для того, чтобы уяснить себе контекст. Иногда критик знает то, чего не знаете вы. Ведь в чём беда? Критик существует не для того, чтобы читателю давать гид — «ходи туда, ходи сюда». Критик существует для того, чтобы автору объяснять закономерности его пути. Но автор один, а читателей много, поэтому критика современная обслуживает прежде всего интересы книжных магазинов или издательств — она превратилась в нечто рекламное. И я не первый это открыл. Мне же кажется, что даже не читателю надо растолковывать, а писателю надо объяснять, но для этого критик должен уметь сопереживать, владеть даром эмпатии, для этого критик должен любить поэта и за ним следить. Последний такой критик в России — по-моему, Лев Александрович Аннинский, которому я, пользуясь случаем, передаю пылкий привет.
РЕКЛАМА
Д. Д. Быков― Продолжаем мы наш разговор, уверенно вступаем в его последнюю четверть. Я всё-таки на парочку важных писем ещё отвечу.
«Перечитал собрание сочинений Достоевского, — Вадим пишет, — и был поражён его ненавистью к оппонентам».
Это не ненависть. У него был полемический темперамент, такой задорный. Он сбрасывал так избыток желчи. Другое дело, что он часто вёл себя неблагородно по отношению к оппонентам. Ну, взять хотя бы «Крокодил, или Пассаж в Пассаже» — не очень-то хорошо на сидящего Чернышевского писать памфлеты. И «Бесы» — роман неблагородный. Но для Достоевского важно было высказаться, а все эти кодексы для него большой роли не играли.
О связи Даниила Хармса с Дэвидом Линчем. Ребята, я очень люблю Линча, но я не специалист. Приходите 30 июня, у нас Настя Яценко, тоже студентка, будет читать в «Прямой речи» лекцию о Линче. Спрашивают, какие ближайшие лекции можно слушать. 5 и 6 июля буду я в Лондоне рассказывать. 5-го — о битве за Бродского, развернувшейся сейчас.
Меня тут, кстати, спрашивают, что я думаю о статье, напечатанной в сетевом журнале «Кругозор», которая называется «Голос Бродского». Ребята, что можно думать о судьбе и статье человека с такой репутацией, как её автор? На мнение каждого графомана не стоит реагировать, а особенно если это графоман, уличённый в неоднократном плагиате и иных сомнительных поступках. Почему-то я притягиваю таких людей, им очень нравится обо мне поговорить, защитить Бродского. Хотя, наверное, не от меня его надо защищать, а уж скорее от них. Вообще я люблю подразнить обывателя, как-то посягая на общие места. А особенно мне нравится, когда Бродского начинают защищать люди, которые пишут с грамматическими ошибками. И естественно, когда уж Бродского начинают защищать адепты Русского мира или единой России — тут просто гуляй душа.
Меня спрашивают, сильно ли я завишу от чужого мнения о себе. Мне кажется важным ответить на этот вопрос. Знаете, меня радуют, конечно, добрые слова. «Спасибо» — это и кошке приятно. Но особенно мне нравится, когда мне удаётся зацепить и разозлить человека, который даже ещё не отдаёт себе отчёта в том, что его взбесило, но понимает, что он разозлён, понимает, что он кипит, и иногда по совершенно несообразному, ничтожному поводу. Вот это мне нравится. Такой человек не безнадёжен, не потерян, из его раздражения проистечёт какой-то пересмотр его убеждений.
А если вам действительно хочется про Бродского поспорить, то вот пожалуйста — 5 июля будет лекция в Лондоне, мы её сразу выложим. А 6 июля будет лекция там же о Маяковском, приходите. Там и книжку можно будет, наверное, приобрести, если она к тому времени переиздастся, потому что сейчас её нет нигде, и меня это очень радует. Ну, можно будет, наверное, там и книжку каким-то образом приобрести. В Сети она правда (спасибо моим друзьям) выложена и доступна. И я очень рад, что она там доступна и, может быть, обсуждаема, скачиваема и уточняема.
А теперь — о Куприне.
Куприн наряду с Мопассаном был любимым писателем моего детства, и я обоих читал запоями, по несколько томов, долго читал только Куприна. Потом опять начинался через полгода, через год этот «купринский запой», я перечитывал какие-то вещи. Беда Куприна в том, что самые сентиментальные и самые розовые, слащавые его произведения стали хитами, чемпионами зрительского и читательского спроса: это «Олеся», это «Гранатовый браслет», который я считаю поразительно слабым, слюнявым и сопливым произведением. Куприн писал же такие слащавые и сентиментальные детские стишки. Ну, была у него такая слабость, я думаю, иногда с похмелья особенно, потому что это дело он любил и знал.
Но Куприн мне представляется всё-таки как раз писателем, существующим, как и Мопассан… Вот у нас была сегодня лекция про Мопассана, про его незаконченные последние романы, и прежде всего про «Анжелюс». Там мы как раз говорили о том, что он существует на пересечении сентиментальности и зверства. И в этом смысле у Куприна как раз мне его сила и ум симпатичнее, чем его слащавость.
Он вообще был человек сентиментальный, потому что он, вы помните, воспитывался-то в доме престарелых, где его мать работала. Они нищенствовали, невзирая на аристократические татарские свои корни. У них вечно денег не было. Его вечно кормили и жалели эти старушки, старухи-богаделки. И поэтому у него есть, как в рассказе «Святая ложь», та болезненная, мучительная сентиментальность, которая, как сам он пишет, бывает иногда в работных домах, в казармах, в публичных домах, в тюрьмах и в домах престарелых — такая страшная тоска, какая бывает вечерами в казарме. Он силён в изображении радости, силы, силён в изображении вот этих сентиментальных чувств. Я, кстати, совершенно не скрываю, что, когда я был дитём, я горше всего плакал над его рассказом «Королевский парк». Вот я рекомендую его детям. Я не буду вам его пересказывать. Почитайте, это очень душеполезное чтение. Я, кстати, не уверен, что я и сейчас не разревусь, если «Королевский парк» перечитаю.
Но, помимо сентиментальности таких рассказов, как «Святая ложь» или «На покое» про престарелых актёров тоже в богадельне, Куприн мне дорог прежде всего вот чем. Это всё-таки писатель, для которого высшим критерием в оценке человека является профессионализм. Для него профессия — это аналог совести. Я думаю, что этому я научился у него. Куприн — писатель профессионалов, любящих своё дело, самозабвенно его делающих и находящих в этом деле спасение от любых невзгод. Посмотрите, сколько профессий он сменил, и посмотрите, как он любуется людьми, которые хоть в чём-то да профессиональны: будь то шарманщик, или гимнаст, или борец, или лётчик, или даже (как в моём любимом рассказе «Ученик») карточный шулер. Причём для Куприна в человеке главное — это именно страстность, страстная верность чему-нибудь.
Он любуется даже ворами. У него есть дивный очерк «Обида» о том, как сидят одесские адвокаты и пишут протест против погрома. Но вдруг входит человек, одетый очень эклектично — отчасти очень дорого, а отчасти очень дёшево. Голова его похожа на боб, стоящий горизонтально. И он говорит: «Молодые люди, мы пришли присоединиться к вашему протесту. Мы тоже против погромов. Мы — одесские карманники. И думаем, что наши корпорации ради такого дела можно объединить». И дальше они их объединяют. А потом говорят: «А сейчас мы хотим вам показать наше искусство», — и блистательно обчищают всех, хотя после этого быстро возвращают обчищенное.
Для Куприна в условиях России, где человек вообще весит и стоит очень мало, единственным критерием его незаменимости, его абсолютной защищённости и востребованности является профессионализм. И посмотрите, как важен, как дорог для него человек, отдающийся собственному делу. Это касается и писательского профессионализма. А вообще у Куприна есть вот эта слабость именно к профессии, именно к профессиональным навыкам, поэтому он пишет так быстро, так грамотно, так удивительно точно, поэтому у него так всегда напряжена, натянута фабула. Он такой немножко тоже наш русский Мопассан, потому что рассказы его развиваются стремительно, и фабулы там всегда неожиданные, и характеры очень яркие, и заданные тоже несколькими словами. И посмотрите, с каким упоением он описывает людей, жадно познающих мир и умеющих в этом мире делать своё дело. Конечно, для Куприна «страсть» — ключевое слово. Именно поэтому, кстати говоря…
Я возвращаюсь к теме наслаждения. Да, конечно, он наслаждается, когда описывает Яму, но самая обаятельная героиня там — Тамара. Почему? А потому что Тамара среди всех этих проституток, которые занимаются своим делом хаотично и от голода, она — настоящая профессионалка. Она умеет быть любой, она умеет нравиться, на неё огромный спрос, у неё прекрасные манеры. И именно она в конце концов — единственная победительница. Куприну может сколько угодно нравиться Женька, но Женька — просто человек хороший. А, вообще говоря, Тамара — это та, которая отдаётся с умом, которая актриса замечательная, которая умеет сделать карьеру даже в публичном доме. И, как ни странно, здесь Куприн тоже ценит прежде всего умение, искусство.
Надо сказать, что и в «Поединке» — одном из самых известных его произведений — нет ненависти к армии вовсе. Напротив, он восхищается, например, Бек-Агамаловым, помните, когда Бек там устраивает эту рубку, когда он гладко, зеркально умеет срезать глиняного болвана. Ромашов этого не умеет совсем, и ему в армии делать нечего. А настоящий офицер — ну, даже такой, как этот полковник [капитан] Слива — ему всё-таки симпатичен. Куприн любит армию. Он ненавидит армейскую тупость, он ненавидит ту квазиармию, которую сделали в царской России, вот эту сплошную принудиловку он ненавидит. А любит он, чтобы люди умели, чтобы люди с наслаждением служили. Кстати говоря, это у Веллера очень есть. Помните, в этом рассказе (забыл, как он называется), где у него внезапная проверка, и там единственный артиллерист понравился этому генералу. Он ему даёт «Командирские» и говорит: «Хочешь — ночи, а хочешь — пропей» [«Бог войны»].
Профессионалы у Куприна — пожалуй, единственные люди, кому он горячо сочувствует. Посмотрите на «Гамбринус» — один из самых лучших рассказов вообще когда-либо написанных, рассказ с удивительной силой. Конечно, формально это рассказ о бессмертии искусства, но по большому счёту это рассказ ещё и о бессмертии профессионализма. Потому что, когда Сашка музыкант из «Гамбринуса» возвращается с войны с перебитой рукой, и все спрашивают: «А где же скрипка? И как же скрипка»? — он достаёт из кармана глиняную свистульку, бедную и убогую, и начинает такое на ней выкамаривать, что весь «Гамбринус» пускается в пляс! И эта свистулька как бы поёт о том, что искусство всё выстоит и всё победит. Но на деле-то речь, конечно, не об искусстве как таковом (это слишком абстрактно для Куприна). Победит гениальность, победит профессия, потому что всё можно сделать с человеком, а нельзя у него отнять его дар.
Что ещё мне кажется очень важным для Куприна? Я много раз признавался, что моё любимое произведение Куприна — это повесть «Каждое желание», которая издавалась впоследствии под названием «Звезда Соломона», потому что такое название менее откровенно. Мне безумно нравится в этой повести её пафос. Я не буду вам её пересказывать. Я всегда детям, школьникам пересказываю первые три главы (кстати говоря, как и мать со мной когда-то поступила) и говорю: «А дальше — сами». Ну, оторваться действительно нельзя.
Я вам даже эти первые три главы не буду пересказывать, чтобы вам история Афанасия Ивановича Цвета была явлена с первых глав во всей своей наглядности великолепной и во всей своей увлекательности. Конечно, это отчасти пародийная вещь, там пародируется вся готика. Внезапное наследство, приезжает он получать это наследство. Заброшенный дом, куда никто из крестьян местных не хочет войти, боится. Репутация у хозяина самая чернокнижническая. Афанасий Иванович Цвет приезжает, видит на столе таинственную книгу, начинает её расшифровывать… А дальше — сами.
Так вот, эта вещь хранит в себе какой-то очень глубокий, очень человечный и, в общем, странный пафос. Цвет — добрый человек. Но быть добрым недостаточно. Вот здесь, как ни странно, такая мысль Ходасевича: «Будь или ангел, или демон». Как раз мы с соавтором моим, Лерой Жаровой — очень близким мне человеком и замечательным писателем — сегодня спорили: насколько прав Ходасевич, когда он это говорит? С одной стороны, ангелов и демонов столько, что уже простая человечность востребована. А с другой стороны, когда смотришь на XX век, то понимаешь, что в XX веке мало быть просто человеком. Цвет — добрый, Цвет — безвредный, но ведь он — насекомое.
Ведь когда Тоффель… Там, правда, конечно, Мефистофель это говорит, а особенно верить Мефистофелю не следует. Я думаю, что монолог этого Мефистофеля будет посильнее, чем в «Фаусте» Гёте, и уж, конечно, посильнее, чем у Томаса Манна. Тоффель ему говорит: «Слушайте, ведь у вас всё было в руках! Вы могли залить мир кровью, а могли стать благодетелем человечества! А что вы сделали?» И он с ужасом понимает, что ему ничего не хочется, а ему хочется быть коллежским регистратором. И финал этой повести, когда к нему вваливается толпа сослуживцев и поёт:
Коллежский регистратор
Чуть-чуть не император.
Зубровку [листовку] пьёт запоем,
Страдаем геморроем.
И после, в финале, ему встречается женщина, которая помнила его в эпоху всемогущества. И он её где-то видел, и она его где-то видела. И она говорит: «Я, помнится, вас видела где-то, но вы были совсем-совсем другой, совсем не такой». Он был окутан флёром этого всемогущества. И как же он им распорядился? Простой и добрый малый, но мало быть простым и добрым малым. Малый — он и есть небольшой. Пафос этой купринской вещи странен, но мне в каком-то смысле он близок, потому что время добрых кончилось, с добрыми слишком легко сделать всё что угодно.
Мне возразят (и мне уже возражают, я получаю уже в изобилии эти письма, спасибо вам за вашу активность), что, конечно, нельзя сравнивать Куприна с Буниным, потому что Бунин — высокое искусство, а Куприн — беллетристика. Ребята, а чего вы наезжаете собственно на беллетристику? Хорошо, мне уже пишут: «Вот вы побиваете Айрис Мёрдок Дафной дю Морье». Дафна дю Морье всю жизнь прожила с клеймом беллетриста, но как писатель она, конечно, выше и талантливее, чем Мёрдок. Простите меня, что я всем расставляю оценки и оттенки. Это учительская манера, школьная. Но в литературе вообще действует конкуренция, иначе бы литература не была интересным делом. Для этого нужны и премиальные сюжеты, кстати. Дю Морье заботится о напряжении сюжета, об обрисовке персонажей, о сложной и нестандартной мысли. Об этом всём и должен заботиться беллетрист. Беллетрист хочет, чтобы его было интересно читать. А Мёрдок пользуется кредитом читательского доверия и может позволить себе написать такую нудную вещь, как «Море, море», «Алое и зелёное», или «Под сетью». «Чёрный принц» — ещё более или менее приятное исключение из этого.
Так вот, посмотрите, Куприн — конечно, он беллетрист. И он никогда этого не скрывал. Он газетчик, он массу рассказов написал в газеты — например, такие как «Чудесный доктор», «Улыбка ребёнка» или изумительный рассказ «Травка». Но Куприн при всём при этом заботится о читателе, и в этом ничего плохого нет. Он хочет, чтобы читателю было интересно. Он старается, чтобы читатель не терял ни на секунду нити повествования. И я ничего дурного не вижу в беллетризме. Я вспоминаю как раз статью Аннинского — «Жажду беллетризма!». И я очень хорошо помню, как Аннинскому за это прилетало. Писатель должен по-купрински заботиться о том, чтобы быть ярким и интересным.
У Куприна, конечно, есть чудовищные провалы вкуса. Но, как уже было сказано, гению вкус необязателен, во-первых. Во-вторых, он пользуется этими штампами иногда для пародий. И тоже, ребята, простите меня, но пародии Куприна — одни из лучших в русской литературе. Вспомните его потрясающую пародию на Горького — «Дружочки»: «В тени городского писсуара лежали Мальва, Челкаш и я. Провалившийся нос Мальвы свидетельствовал о маленьких заблуждениях её молодости». Абсолютно горьковский стиль! Или потрясающую его пародию на Бунина: «Сижу я у окна, жую мочалу, и в дворянских козьих моих глазах светится красивая печаль». Потрясающий текст абсолютно! (Или «козьих» там не было, а «козьими» глаза Бунина называл Катаев.) Это блистательная вещь абсолютно.
И Куприн умеет поиграть со штампами массовой культуры. Я вообще думаю, что игра со штампами читателю необходима, потому что Куприн под маской штампа проникает в читательское воображение, в его сознание — и вы читаете… Кстати, обратите внимание, что есть запись голоса Куприна, он там читает своё стихотворение переводное. Послушайте, какой это умный голос. И Куприн — прежде всего умный и сильный писатель, каких в русской литературе очень мало.
А мы с вами услышимся через неделю.
*****************************************************
17 июня 2016
-echo/
Д. Быков― Добрый вечер, дорогие друзья! Доброй ночи, дорогие полуночники! «Один», в студии — на этот раз вполне московской — Дмитрий Быков.
Прежде всего спасибо большое всем, кто поздравил и нас, и вас с годом эфира. Как-то незаметно вместе пролетело время. Это печально, потому что время должно пролетать заметно, должно оставлять некие вехи. Я с некоторым ужасом думаю, что четыре года назад было 6 мая на Болотной (такое ощущение, что это было вчера), не так давно был Беслан. Это как стоячая вода: вроде бы её много, вроде бы прозрачная она, и видно всё. В общем, очень горько сознавать, что динамика ничтожна. Всё время вспоминаются стихи Тарковского:
И грустно стало мне,
что жизнь моя прошла,
что ради замысла я потрудился мало.
Действительно потрудился мало, да и не очень было над чем трудиться. Всё чаще вспоминаются и слова Раневской: «Всю жизнь проплавала в унитазе стилем баттерфляй». Я уже слышу некоторые голоса, которые говорят: «А, вам революции хочется, вам событий хочется». Нет, событий хочется, но революция же — не единственное событие, которое может произойти. Всё время хочется как-то этого внутреннего цензора заткнуть, но ничего не получается — он всё время вылезает в комментах. Конечно, хорошо, что мы год с вами провели. Я не собираюсь бросать эту затею. В общем, надеюсь, что и вам она ещё не надоела. Я надеюсь, что «Эхо» будет нас пока терпеть. Что называется, «мой углекислый вздох пока что в вышних терпят», как сказано у Бродского. Ну и будем вздыхать далее.
Лекция сегодня будет, по всей вероятности, о Тынянове, потому что неожиданно шесть заказов на него. А остальные набрали по три, по четыре голоса. Очень много просьб прочитать лекцию о Заболоцком (правда заразное время), но, видите ли, Заболоцкий требует очень серьёзной подготовки. Мне надо будет много чего перечитать. И я, по всей видимости, вернусь к этой теме спустя неделю. А пока же начинаем отвечать традиционно на форумные вопросы.
Что касается Тынянова. Я, конечно, не специалист. Я недостаточно много читал его литературоведческих работ, и думаю, что совсем недостаточно критических статей. Но, по крайней мере, все его художественные сочинения я знаю довольно прилично.
«Нельзя ли несколько слов о творчестве Эдуарда Багрицкого и о его судьбе? — спрашивает Виталий. — Относите ли вы его поэтам «первого ряда»? Близок ли он вам? И не находите ли вы, что «Контрабандисты» написаны не без влияния «The Rhyme of the Three Sealers» Киплинга?»
Не думаю, что конкретно этого текста, хотя возможно, что и его тоже. Но, конечно, некоторое влияние Киплинга было. Гораздо большее и гораздо более отчётливое влияние Гумилёва:
И пахнет звёздами и морем
Твой плащ широкий, Женевьева.
— это прямо к Багрицкому перекочевало. Понимаете, Багрицкий — довольно типичный поэт «южной школы». И, как все поэты, прозаики этой «южной школы»… Это такие люди, как Катаев, Ильф и Петров, Гехт, Бондарин, Олеша в значительной степени — те, кого я в разное время называл. Примыкает к ним и Бабель, хотя он, в общем, несколько наособицу всегда. В общем, весь этот «одесский десант» отличается двумя существенными качествами.
Во-первых, в них есть определённый одесский провинциализм (провинциализм, конечно, в хорошем смысле). Одесса — это одна из культурных столиц империи, но всё-таки это столица вторичная по отношению к Петербургу и Москве. Петербургские и московские веяния в Одессе обретают какое-то особое обаяние, воспринимаются очень живо и очень горячо, пропитываются одесским солнцем и какой-то такой одесской неистребимой пошлостью. Это, в общем, ничего плохого о городе не говорит (Одесса вообще один из любимых моих городов), потому что пошлость вполне может быть, не будем этого забывать, и эстетическим фактором, такой высокой культурой. В конце концов пошлость есть и в советской литературе 20-х годов, пошлость есть и в Зощенко — как один из инструментов художественного воздействия. Надо пропитаться ею хорошо, чтобы её разоблачать и с ней бороться. Это тоже одна красочка на палитре. Конечно, когда Багрицкий пишет:
Над нами гремели церковные звоны,
А мы заряжали, смеясь, мушкетоны
И воздух чертили ударами шпаг!
— это совершенно сознательная вторичность. Или:
Там, где выступ холодный и серый
Водопадом свергается вниз,
Я кричу у холодной пещеры:
«Дионис! Дионис! Дионис!»
Я всё это запомнил навсегда по катаевскому «[Алмазному моему] венцу». Кстати, не сильно исказили его память эти строки. Но вот такая пошловатость, вторичность, определённое преломленное влияние севера на юго-западе очень ощутимы. Кстати, именно Багрицкий назвал свою книгу «Юго-Запад», задав две главные координаты «одесской школы». С одной стороны — западная, космополитическая, свободная, авантюрная. Курс на Запад, провозглашённый Лунцем, там тоже очень понятен, потому что все они любят резкую фабулу, любят авантюрных персонажей. Ну а Юг — это, конечно, гедонизм, торжество сочных красок, всё облито этим прекрасным, всепримиряющим южным солнцем; море, которое само по себе замечательно размыкает мир.
В Багрицком, помимо этой вторичности, есть и вторая очень существенная черта «южной школы» — это ирония. О чём, собственно, Евгений Петров в книге «Мой друг Ильф» сказал, в набросках этой книги: «У нас не было истин, всё было скомпрометировано, все мировоззрения были отброшены. Ирония заменяла нам мировоззрения». Ну, это и делает собственно одесский плутовской роман таким глубоко христианским чтением, потому что ирония в таком предельном своём развитии не может не привести к христианству. Христианство само по себе иронично.
Когда Блок боится иронии, он просто говорит об иронии низкой или об иронии пошлой. Но есть и ирония высокая. Она есть и у Багрицкого, который вынужден всё время отрицать то, что он любит, и то, с чего он состоит. Это такие стихи, как «От чёрного хлеба и верной жены». Помните это знаменитое:
Мы — ржавые листья
На ржавых дубах…
Ощущение своей неправомочности, своей конечности, анахроничности, если угодно. В его стихотворении «Разговор с комсомольцем Дементьевым», где всё назойливо повторяется «Подождите, Коля, дайте и мне», — это такая вечная попытка вставить слово, доказать, что он тоже ещё молодой. Он, кстати, сам признаёт некоторую свою вторичность:
А в походной сумке —
Спички и табак,
Тихонов,
Сельвинский,
Пастернак…
Кстати, интересно, что и Сельвинский, и Тихонов — это его ровесники. Но он действительно признаёт, что весь его романтизм — это романтизм довольно книжного и довольно вторичного толка.
Настоящая проблематика творчества Багрицкого, как ни странно, начала проступать только в последние годы, когда он написал «Человека предместья» и в особенности, конечно, «Февраль». «Февраль» — замечательная поэма, недоделанная. Вообще он умер обидно рано. Конечно, его смерть совершенно справедливо Бабель назвал «бессмысленным преступлением природы». Он умер на взлёте. Это мог получиться грандиозный поэт, избывающий по-настоящему всю эту романтическую традицию и начинающий писать очень жёсткие вещи. Мне кажется, что «Февраль» — это прекрасная поэма о том, как формируется это новое поколение и как оно борется за свою любовь. Это то, что Пастернак сказал:
Отсюда наша ревность в нас
И наша месть и зависть.
Вот ревность, месть и зависть как основа революционного мировоззрения. Это замечательно всё сделано. Ну, там где он борется за обладание своей возлюбленной, революция даёт ему это обладание.
Мне просто кажется, что слишком трезво и без снисхождения относиться к раннему романтическому опыту Багрицкого тоже неправильно — там много детства. Но вот в чём штука. Ведь поэзия — это то, что даёт нам ощущение иного мира. И вот каким бы книжным ни было стихотворение Багрицкого, скажем, «Птицелов», из которого такую замечательную песню сделал Никитин, во всей книжности этого стихотворения такая невероятная концентрация витальности, силы, очарования!
Так идёт весёлый Дидель
С палкой, птицей и котомкой
Через Гарц, поросший лесом,
Вдоль по рейнским берегам.
По Тюринии дубовой,
По Саксонии сосновой,
По Вестфалии бузинной,
По Баварии хмельной.
Это же запоминается, это приятно говорить вслух. Вот Житинский когда-то главной приметой настоящей поэзии назвал такую «фоничность» — приятность произнесения вслух. И действительно она звонкая, лихая. И, конечно, ранний Багрицкий при всей его вторичности очень музыкален, и живописен, и заразителен:
По рыбам, по звёздам
Проносит шаланду:
Три грека в Одессу
Везут контрабанду.
Берковский не зря из этого сделал песню замечательную. А потом, в Багрицком очень чувствуется этот провинциальный астматик, который мечтает о море, который страшно боится качки, а пишет всю жизнь о качке. Это тоже, в общем, серьёзное противоречие, на котором он стоит, — именно противоречие между Дзюбиным и Багрицким, которое разрывает его всю жизнь. Я же говорю, без большого внутреннего контраста нет настоящего поэта. Так что, конечно, он поэт замечательный.
Насчёт моего знаменитого очень противного действительно учительского выставления оценок, что это первый ряд, а это второй ряд. Я совершенно искренне считаю, что Багрицкий — поэт первого ряда, в отличие от Сельвинского. Вот этот мой с любимым Олегом Коваловым давний, к сожалению, спор… Я вообще Ковалова очень люблю, и мне нравятся все его вкусы и выводы. Он недавно правильно сказал: «Просто проблема в том, что мне нравится кубизм, а вам не нравится кубизм». Да, мне кубизм не очень нравится. Но Сельвинский всё-таки не нравится мне, потому что он эгоцентрик, потому что он любуется собой всё время, и у него вкус хуже, чем у Багрицкого. У Багрицкого вкус очень хороший, вкус начитанного одесского ребёнка.
«Иногда писатели пишут произведения, которые выбиваются из общей их манеры — как романтик Стивенсон написал повесть «Странная история доктора Джекила», а Бунин перевёл «Песнь о Гайавате». И только Чехов… Однажды я начала читать «Чёрного монаха» и подумала, что он себе изменит и напишет что-то об ожившей легенде, но — нет, он описал клинический случай сумасшествия. Когда я читала пьесы Чехова, никогда не могла понять, за что их так любят актёры. Ведь не за тоску же и безысходность! Такое ощущение, что каждый персонаж сам себе очертил круг и не может выйти».
Ну, насчёт круга вы довольно точно заметили. Как раз, дорогая flamingo, на этой идее построена была вся замечательная постановка някрошюсовских «Трёх сестёр», где эти сёстры вокруг себя строили такие колодцы из берёзовых поленьев и под конец не могли из них выйти. Някрошюс — гениальный режиссёр, и его метафоры всегда очень наглядны.
Но что касается Чехова, то я с вами, конечно, согласиться не могу. Пьесы Чехова как раз не о безысходности. Пьесы Чехова — они жестокие, они комедии, как часто он обозначает жанр. И как правильно заметил один мой студент, точнее школьник: это всё равно что пишут «moderato» перед музыкальным сочинением. Это не значит, что это комедия по жанру, а это значит, что её играть надо как комедию — и тогда она будет поразительно действовать. Конечно, «Вишнёвый сад», сыгранный как комедия, производит впечатление великой, высокой трагедии, а сыгранный как трагедия — производит впечатление гомерически смешное (чего Чехов не хотел). Я не думаю, что «Чёрный монах» — это история сумасшествия. «Чёрный монах» — это история о том, что художнику обольщение нужнее правды. И нужно действительно иметь мужество это признать.
Кроме того, я думаю, что о Чехове как о реалисте вообще говорить смешно, потому что «Палата № 6» — произведение в высшей степени символическое. В «Палате № 6», по справедливому замечанию такого литературного критика Ленина, «собрана вся Россия». И действительно все главные персонажи страны там собраны: и сторож Никита, и интеллигент Громов, и толстовец Рагин, и, конечно, страшный этот безымянный мужик, который тупо качается, как кукла-неваляшка, когда его избивает сторож. И, кстати, жид Мойсейка — пророческий единственный персонаж, которому разрешено покидать палату. Это гениальная история. И Чехов, конечно, символист, первый символист. Я думаю, что в «Палате № 6», как и во всех остальных его произведениях, не следует искать ни социальной критики, ни реализма. Кроме того, Чехов выдвинул совершенно новый тип сюжета — сюжет не как развитие фабулы, а как чередование лейтмотивов (давайте вспомним «Архиерея»). Поэтому я не стал бы так уж его сводить к набору штампов.
Привет сообществу! Привет Лёше! «Существует ли вероятность, что в будущем (через 20 лет) кто-нибудь решится написать роман на текущие темы и описать жизнь людей и их быт, вложенные в наш сегодняшний информационный бардак, не прибегая к жанру фэнтези? Будет ли уместен сатирический (или, может быть, даже более оскорбительный) смысл в этом тексте, как, например, «История одного города» у Салтыкова-Щедрина?»
Такой роман будет написан обязательно. Более того, такой роман уже пишется — и даже я знаю кем, и вы знаете кем. Да мною же он пишется. Просто я его совершенно не собираюсь публиковать пока. Насчёт 20 лет — вы что-то слишком большой пессимист.
Тут, кстати, мой друг Кохановский Игорь… Большая для меня честь называть другом столь авторитетного старшего коллегу. Вперёд, Кохановский! Ты меня, конечно, сейчас слышишь, Васильевич. Я отвечаю на твой вопрос, пришедший на SMS: «В чём истоки твоего странного оптимизма?» Я понимаю, что ты хотел написать «идиотского оптимизма», но я могу ответить.
Истоки моего оптимизма — исключительно в моём чутьё и в хорошем знании русской истории. Вот и всё. Я знаю, что Россия слишком значительная страна, чтобы позволять надолго загонять себя в положение ничтожества, чтобы давать над собой долго издеваться. Как вы понимаете, я имею в виду англосаксов, которые осмеливаются издеваться над нами. Только странно, что эти англосаксы так глубоко проникли в российское руководство. Как вы понимаете, я от души убеждён в том, что уже очень скоро мы увидим покаяние многих мерзавцев, резкую перемену их публичной риторики. Под мерзавцами, как вы понимаете, я разумею в первую очередь оппозицию, ну и вообще много чего. Вы же понимаете, что иронии никто не отменял.
Если говорить совсем серьёзно, то почти все сегодняшние российские пропагандисты ещё будут нам рассказывать, как они нарочито дискредитировали указания и темники, как они нам подмигивали, как они воспитывали прекрасное поколение правдоискателей от противного. Всего этого мы наслушаемся и насмотримся. Почему я думаю, что это будет скоро? Опять-таки потому, что русская история мне слишком хорошо известна и слишком известны признаки, по которым она меняется. Да и запах уже какой-то идёт, понимаете.
Что касается вопроса о сатирическом романе. Много будет таких романов, потому что, как уже было сказано, мы пережили откровение, и в процессе этого откровения мы увидели очень многое про русскую идею. Мы увидели, что русская идея, как её подавали официозные граждане, скомпрометирована колоссально. И настоящая русская идея только начинает вербально оформляться. С точки зрения этой новой русской идеи и будет по-настоящему это всё написано. Многие говорят, что настоящая идея России — это идея левая, и что это наша национальная идея. Чем чреват синтез левого и национального, мы очень хорошо знаем по теории и практике национал-социализма. Преимущество левой идеи как раз в том, что эта идея космополитическая. Нет более верного способа убить эту идею как сделать её национальной. Просто что из этого получается, мы видели: сначала лихорадочное возбуждение, а потом крах с такими последствиями, что нация может его и вовсе не пережить. Собственно это то, что я имею сказать на многочисленные просьбы прокомментировать отдельные манифесты.
Будет ли уместен сатирический роман? Да, конечно. Я вообще думаю, что настоящая одиссея всегда имеет в себе какой-то привкус сатирического романа. Более того, я абсолютно уверен, что это будет роман плутовской, то есть в высшем смысле христианский.
«В советском сериале «Люди и дельфины», когда люди были разобщены и не понимали друг друга, дельфины пытались помочь методом телепатии. Может быть, нам сейчас нужны произведения, в которых меньшие существа могут образумить старших собратьев?»
Ну, в романе Пепперштейна «Мифогенная любовь каст» уже есть такая попытка — там говорящие сказочные животные и даже Колобок. Наверное, можно. Но я не очень верю, потому что с тех пор, как роман Мерля «Разумное животное» появился (помните, это фильм «День дельфина»), ничего как-то к этому существенного не было прибавлено. Интересные пролегомены к этой теме имеются, скажем, у Хлебникова («Я вижу конские свободы // И равноправие коров»), имеются они у раннего и среднего Заболоцкого в «Торжестве земледелия», в «Безумном волке». То есть животные начинают как-то участвовать в человеческой жизни. Это занятно. Совсем интересное и неожиданное развитие этой темы у Стругацких в «Жуке в муравейнике», где голованы вступают в диалог с Абалкиным. И действительно иногда, когда видишь собаку, есть полное ощущение, что она говорит и понимает. Ну, хочется так думать. Во всяком случае она умнее и лучше некоторых людей. Как вы знаете, «чем больше я узнаю людей, тем больше люблю собак» — классическая фраза, не помню чья. Так что, видимо, это на подходе.
Но тогда это надо делать очень ярко, от лица этого животного. Ведь то, что сделал Булгаков в «Собачьем сердце», вот этот монолог Шарика — он очень антропоморфен и неубедителен. Вы попробуйте действительно увидеть мир глазами животного. Это умел только Толстой. Он однажды Тургеневу начал так рассказывать, он говорит: «Я расскажу вам жизнь этого мерина, глядя из него». Тургенев в ужасе воскликнул: «В прежней жизни вы были лошадью!» Вот надо так. Например, «Холстомер» написан так, как видит мир лошадь, абсолютно точно. И все выводы, которые там делает лошадь, очень точные: мы никого не любили, а нас любили все.
«Актриса Елена Сафонова отметила свой юбилей, — поздравляю! — Когда-то давно вы брали у неё интервью, которое не сохранилось, — нет, оно сохранилось, кажется, в какой-то мосфильмовской газете, когда-нибудь оно выплывет обязательно. — На какие темы вы с ней говорили?»
Я говорил с ней в основном о «Зимней вишне». О том, чего женщина ждёт от мужчины: главное — чтобы с ним было не скучно; пусть будет страшно, пусть будет плохо, лишь бы не скучно. И о том, вообще что такое одинокая женщина, и почему эта проблема становится главной. О любимых партнёрах по фильмам мы говорили. И вообще был очень интересный разговор — к сожалению, телефонный.
«На какой вопрос вы хотели бы ответить, но вам его никто пока так и не задал?»
Знаете ли, задавать самому себе вопросы — это дело самое неблагодарное. Наверное, единственный вопрос, который я бы себе сейчас задал по-серьёзному, — это вопрос: зачем я это всё делаю? Вот это вопрос, на который у меня нет однозначного ответа. Мне всё-таки через полтора года полтинник, если я доживу. Это довольно трудное время и трудная мысль. Я не могу сказать, что меня настигает кризис среднего возраста, потому что я не думаю, что я проживу 98 лет. Помните, как у Иртеньева:
Меня зовут Иван Иваныч.
Мне девяносто восемь лет.
Я не снимаю брюки на ночь
И не гашу в уборной свет.
Я не думаю, что я доживу до такого. Но, естественно, вопросы «зачем?», «и надо ли?», «и следует ли?» — они меня часто посещают. У меня есть одно ощущение. Действительно я много раз говорил: жить надо так, чтобы Богу было интересно. Ну и надо как-то прибавлять кислорода в мире, прибавлять, может быть, какого-то… не скажу, что гуманизма, но какой-то минимальной человечности в последовательно бесчеловечном мире. А он последовательно бесчеловечен, вокруг нас так. Россия — просто наиболее наглядное выражение. Ну и надо как-то быть на стороне Бога, надо помогать ему играть, чувствовать себя его пальцем, а не сторонним зрителем на трибуне — и тогда вопрос о теодицее снимается автоматически.
Тут масса всяких цитат из Дмитрия Алтуфьева. Что я думаю насчёт произведения «Пострусские»? Я его не читал. Теперь по вашему совету прочту.
Лёша Евсеев, ведущий моего сообщества, поздравляет. Спасибо вам, Лёша. И спасибо вам, что вы это ведёте и выкладываете, и героически терпите моё присутствие в литературе. Если бы не ваши замечательные усилия, конечно, всё это распространялось бы гораздо более узкими кругами по гораздо более пресной воде.
«Часто в Интернете встречаю подборку афоризмов Чехова, большая часть которых принадлежит его героям. Отсюда вопрос: в какой степени слова и мысли героя принадлежат самому автору?»
Понимаете, когда-то Леонид Леонов — человек вообще неглупый — сказал Чуковскому: «Все заветные мысли надо отдавать отрицательному персонажу — тогда вас, по крайней мере, не убьют сразу». Это довольно глубокая мысль, хороший метод. Кстати говоря, сам Леонов так и поступил, очень многие заветные мысли в «Evgenia Ivanovna» вложив уста заведомо неприятного человека, потому что приятный там англичанин, а вот этот реэмигрант неприятный — бежал и вернулся. Я забыл, как его звали. Опять-таки у него есть неприятный герой Шатаницкий в «Пирамиде», который тоже высказывает очень много мыслей (в нём, я думаю, странным образом предсказан Сатановский). Довольно интересные мысли высказывает в «Воре» Фирсов, но Фирсов, как мы знаем, человек идеалистически заблуждающийся, поэтому автору многое сошло с рук.
Что касается чеховских идей. Постоянно Чехову приписывают слова про «человека с молоточком», который должен стоять около счастливцев. Между тем, это говорит Чимша-Гималайский — человек, от которого неприятно пахнет и который неприятно храпит. У Чехова почти все герои, произносящие такие монологи, маркированы какой-то неприятной чертой. Я думаю, от своего лица Чехов сказал единственную фразу: «Признаюсь, хоронить таких людей, как Беликов, это большое удовольствие». Он циник, хотя циник очень талантливый и очень гуманный. Мне нравится, как под ударом чеховского «молотка» разлетаются всякие фантомы и приличия (перефразируя Набокова). Думаю, что до известной степени Чехов мог бы подписаться под большинством афоризмов и мыслей художника в «Доме с мезонином». А вот фраза Белокурова, толстого и сырого человека, про соус и скатерть, что «культурный человек не тот, кто не пролил соус, а тот, кто этого не заметил», — надо помнить, что это говорит дурак. Тот, кто этого не заметил, создал, может быть, ещё большую неловкость.
Вернёмся через три минуты.
РЕКЛАМА
Д. Быков― Ну что ж, дорогие друзья, продолжаем наши разговоры.
«Одна знакомая дама мне рассказывала, что видела в 70-е годы Сергея Довлатова в Ленинграде. Он шёл по улице с велосипедом в халате и в тапочках. Это была стратегия независимого художника? Простых людей возмущало такое поведение».
Андрей, я не знаю, что такое «простые люди». Люди, которые сознательно называют себя «простыми», на мой взгляд, просто устраивают такое самоуничижение паче гордости, чтобы потом в чём-то обвинить людей сложных, с их точки зрения, — евреев, например, или либералов, или интеллигентов. Я никогда и никого «простыми людьми» не называю, потому что простых людей не бывает. Простые бывают камни, и те не всегда.
Что касается такого поведения Сергея Довлатова. Ну, шёл и шёл. Ну, было ему это интересно или удобно. Он совершенно не хотел épater le bourgeois, я думаю. Я знаю совершенно точно, что…
Тут, кстати, одна не очень умная женщина (простите меня, но действительно не очень умная) в обсуждении какой-то моей статьи на «Снобе», там кто-то её процитировал… Сам я на «Сноб» не пишу, потому что я не сноб, слава богу. Пусть туда пишут люди, которые литературно не очень состоялись — за исключением, может быть, Невзорова и Белковского. Они тоже не снобы, кстати. Так вот, в обсуждении одного из текстов эта женщина пишет: «Я Быкова не читала и читать не буду. Я видела его на Лондонской ярмарке. Он был в шортах, хотя было ещё не жарко, в шлёпанцах и сидел развалясь. После этого я не открою ни одной его книги».
Ну, слава тебе господи, что она не откроет ни одной моей книги. Во-первых, она не огорчится. Во-вторых, среди моих читателей качественно вырастет процент умных, а это очень важно. И количественно тоже вырастет. А шлёпанцы называются на самом деле «кроксы». Просто эта женщина не знает, что это такое. Ну, бог с ней. Понимаете, на всякий чих не наздравствуешься. Я же не видел, как выглядит она. Если бы я её там увидел, может быть, я бы вообще в обморок упал от зависти.
«В рассказе Джека Лондона «Любовь к жизни» запомнилась деталь: герой, несмотря ни на что, всегда заводил часы, выполняя на грани и жизни ежедневный ритуал. Писатель неслучайно обращает наше внимание на этот казус?»
Нет, конечно, неслучайно. Джек Лондон всё-таки имел достаточно суровый опыт жизни, в том числе опыт золотоискательства на Аляске, насколько я помню. Уж во всяком случае «Смок и Малыш» написан на личном материале и на биографическом. Конечно, он понимал роль и значение повседневных ритуалов в экстремальной ситуации: заводить часы, делать зарубки, вычёркивать цифры в календаре, завязывать узелки, учить в день по стихотворению, вспоминать в день по слову. Человек как-то должен держаться хотя бы за волосяную, хотя бы за паутинную какую-то нить.
Про фильм Жалакявичюса? Когда-нибудь со временем, непременно.
«Дмитрий Львович, рассказы Фазиля Искандера о Сандро из Чегема всегда были моей настольной книгой. Особенно я люблю историю о принце Ольденбургском. Добрый вельможа сотворил в Гаграх хрупкий оазис. Но постепенно понимаешь, что настоящее здесь — это наглое обаяние дяди Сандро. Мир принца-идеалиста погибнет, но останется мир плута. Образ принца — это обречённый Дон Кихот? Или я не прав?»
Конечно, принц Ольденбургский — это образ сатирический, даже в большей мере сатирический, чем Дон Кихот. Хотя и Дон Кихот обрисован с некоей насмешкой, со смесью восхищения, ужаса, презрения и насмешки, да. Но иногда ведь Сервантес прямо презирает Дон Кихота за его глупости и за его абсолютно пародийное рыцарство. Принц Ольденбургский — на мой взгляд, это просто попытка Искандера показать, что бывает с европейским человеком в архаическом сообществе. Потому что он всё время подчёркивал, что дядя Сандро — это история архаического сообщества. И надо всё время это помнить, вот и всё.
«Прочитал о польском поэте Юлиане Тувиме. Знакомы ли вы с его творчеством? Расскажите о нём».
Ту́вим, которого у нас часто называют Туви́м с лёгкой руки Сергея Михалкова:
Не подам руки грязнулям,
Не поеду в гости к ним!
Сам я моюсь очень часто.
До свиданья!
Ваш Туви́м.
Ту́вим — польский поэт еврейского происхождения, принадлежит к той же блестящей плеяде польских поэтов, что и Константы Ильдефонс Галчиньский, что и Станислав Ежи Лец. Из них он, наверное, самый серьёзный, самый пафосный в каком-то смысле, патетический. Потому что Галчиньский, вечно писавший зелёными чернилами свои странные стихи, конечно, в гораздо большей степени городской сумасшедший. Тувим — это такой прекрасный экспрессионист. У нас лучше всего знают его детские стихи благодаря многочисленным переводам, но, конечно, он взрослый сюрреалист, замечательный, очень глубокий поэт, очень хороший переводчик, который осчастливил польскую поэзию множеством текстов, в том числе и русских. У него, кстати, были вещи, очень похожие на ранний русский футуризм. В Польше экспрессионизм был чудесный, там настоящая сюрреалистическая традиция была. В прозе — меньше. Хотя у Тувима, кстати, была и замечательная сатирическая проза в переводах Асара Эппеля, она доступна.
В Тувиме есть очень глубокий трагизм, не всегда осознаваемый русским читателем. Трагизм этот происходит, конечно, от того, что участь Польши в XX веке — это опыт поражения прежде всего, трагического поражения. И неважно, Польша в этом виновата или не виновата. Но этот горький привкус поражения — он и в польской иронии, и в любовной лирике, и в кинематографе так называемого «морального непокоя». Это всё попытка избыть национальную трагедию. И это в лирике Тувима очень ощутимо. Может быть, поэтому в Польше так любят Окуджаву, потому что Окуджава — это тоже солдат разгромленного полка, и это ощущение разгромленного полка жило во всех его военных стихах, несмотря на Победу.
«Что хотел сказать Дефо своей историей о Робинзоне Крузо? Это притча о возделывании своего сада новым Адамом?»
Нет. Это следующий извод одиссеи. Робинзонада — это продолжение одиссеи как жанра. Принципиально она отличается следующим. Одиссея — это описание мира, попытка задать его координаты. Робинзонада — это попытка возделать этот мир, влиять на него, пересоздать его. В этом смысле Робинзон — это эволюционировавший Одиссей. Если Одиссей — это плут, как правило, насмешник, фигура тоже христологическая в некотором смысле, то Робинзон — это Одиссей, повзрослевший, осевший и начавший воспитывать Пятницу; это Одиссей, который уже вписан в мир. Он заброшен на этот остров, он его не выбирал, но он начинает его любить, он начинает испытывать перед ним ответственность. Это какая-то следующая ступень моральной эволюции Одиссея.
В жанре робинзонады, кстати, выдержаны очень хорошие тексты. Это прежде всего «Таинственный остров» Жюль Верна — наверное, самая утешительная и самая уютная европейская книга, и уютная именно потому, что показано, как человек из голой земли сделал прекрасное обитаемое тёплое место. Помните, как они сделали себе этот грот замечательный, как они для Пенкрофа вырастили табак, как они капитана Немо нашли, подтаскивающего им всё время какие-то посылки и делающего для них добрые дела. Это такая прелестная история, доказывающая, что одна из функций человек (к вопросу о смысле жизни) — это именно как-то обуютить мир, согреть его своим дыханием.
И в этом смысле Робинзон, конечно, пионер — и не только необитаемого острова, но абсолютно новой литературы. И прекрасно, что это сделал Дефо, глубокий христианский мыслитель. Потому что следующая стадия в одиссеи плута (это очень интересно) — это обуючивание, возделывание мира. Такая же одиссея плута — это, скажем, Беня Крик, который начинает заново перестраивать мир отца (помните, когда он пытается наладить заново его конюшню, извоз). Плут приходит не только для того, чтобы разрушить страшный и жестоковыйный мир отца, а для того, чтобы его как-то сделать уютнее, человечнее. И в этом смысле Робинзон — сколь ни пафосно это звучит, но это какое-то своеобразное второе пришествие. Сначала Христос приходит, принося не мир, но меч, а потом он приходит, принося соль, спички и табак, начиная заново перестраивать планету.
«Есть большое желание начать писать (литературу), но одновременно с этим есть и боязнь. Стоит ли поддаваться этому чувству и «откладывать»? Полина, студентка журфака». Коллега, не откладывайте. Жизнь коротка.
«Фильм Алова и Наумова «Мир входящему» проникнут пацифизмом…»
Нет, неправда, не проникнут. Это им ушили пацифизм. Это не пацифизм. Это фильм так называемой «второй оттепели». Понимаете, это вопрос о смысле войны, как он решался во время оттепелей. Первая оттепель решала его очень просто: смысл жизни только в победе, только в героической гибели или, если повезёт, там уцелеть. А дальше начинаются вопросы о метафизике войны, о том, зачем война. Это только моя точка зрения — как хотите, к ней относитесь. «Мир входящему» — это вопрос о том, какая будет новая мораль на руинах. Можно ли было купить новую мораль не такой ценой? Вот о чём собственно проблема.
«Расскажите о вашем восприятии поэзии Фазиля Искандера, — пора делать лекцию про Искандера, конечно, — поскольку о его прозе многое сказано. Его «Баллада о свободе» сегодня в России опять страшно актуальна, не кажется ли вам?»
Не только «Баллада о свободе». Я вообще люблю позднего Искандера — те его стихи, которые он написал уже после восьмидесяти:
Жизнь — неудачное лето.
Что же нам делать теперь?
Лучше не думать про это.
Скоро захлопнется дверь.
Всё же когда-то и где-то
Были любимы и мы —
А неудачное лето
Лучше удачной зимы.
Вот это он молодец, это хорошие стихи. И тем из нас, кто говорит, что мы родились в плохое время, лучше эти стихи почаще вспоминать.
Искандер мне объяснил как-то в интервью, почему он после восьмидесяти окончательно перешёл на стихи. Он сказал: «Проза требует усидчивости, а за столом сейчас долго не просидишь, спина болит. А стихотворение — это коротко, это не больше часа». И вот я думаю, что поэзия Искандера была, мне кажется, в юности его слишком рассудочной и холодноватой, но она стала великолепно насыщенной и горькой в поздние годы. Он всё-таки прозаик по преимуществу, но настоящие стихи он написал тогда, когда уже проза ему стала надоедать. И они объединены в превосходный сборник «Ежевика». И похожа эта поэзия на ежевику своей колючестью, своей горьковатой сладостью, терпкостью. Я очень люблю Фазиля Абдуловича, люблю его как человека и люблю его, конечно, как поэта, замечательного и афористичного. Конечно, ранний Искандер, ранние его баллады, очень хорошо спародированные Левитанским…
Да здравствуют ритмы Киплинга,
папаха, аллюр, абрек,
фазаны и козлотуры,
мангал, чебурек, чурек!
Да, это так. Но при этом, конечно, при всей этой экзотике и при всей, скажем так, вторичности этих интонаций его стихи афористичны, а я это люблю. Это традиция скорее восточная. Искандер не столько лирик, сколько эпик, но это и хорошо. А вот его зрелые вещи с их такой горечью, кажутся мне гораздо более лиричными. И вообще я передаю ему большой привет.
«Есть много непрочитанных книг, но хочется возвращаться к тем, которые давно прочитал, что-то в них недопонял. Как определить, что старая книга важнее, чем нераспечатанная? Перечитываете вы книги при необходимости или по зову души?»
Знаете, сегодня так складываются дела, что, когда я захожу в книжные магазины, я чаще всего выхожу оттуда без покупки. В российские книжные магазины, конечно. В английских гораздо больше увлекательных новинок и больше книг по философии, истории и социологии, которые мне совершенно необходимы для работы. А из российского магазина я чаще всего ухожу ни с чем. Ну, ничего не поделаешь. Да, я перечитываю довольно много. Прежде всего потому перечитываю, что я школьный и университетский учитель, а наша профессия такая, что нам надо каждый год перечитывать какие-то вещи. И слава богу. Иногда под новым углом открываются совсем новые детали.
Вопрос о Сьюзен Хилл. Привет, Наташа! «Почему рождающиеся ангелочки через несколько лет становятся такими страшными, превращаются чуть ли не в садистов? Генетика? Воспитание? Равнодушие взрослых?»
Есть такой термин «гебоидность», восходящий к имени жестокой Гебы, жены Зевса… То есть нет. Дело даже не в том, что она жестокая. Сейчас я попробую объяснить, в чём тут дело. Гебоидность — это эмоциональная холодность, вот скажем так. Зевс, в отличие от Гебы, постоянно людей жалеет, и это нормально. Он задумывается о том, какова их участь. А Геба — она жена бога, жена верховного божества. Ну, как бы вам сказать… Это такая довольно частая женская черта. Я попробую это объяснить. Если вы видели фильм, по-моему, очень хороший и один из моих любимых… А, нет! Геба — это как раз дочь. Я чувствую, что что-то не так. Гера — это жена Зевса, а Геба — дочь. Поэтому отсюда и гебоидность подростковая.
Так вот, Геба, как часто бывает, как член семьи бога относится к живым — к землянам, к людям — более жестоко и снисходительно, чем верховное божество, чем отец. Объясняется это тем, что, во-первых, она младше. Во-вторых, Зевс — это, в общем, творец, хозяин мира, а у детей очень часто этого чувства нет.
В фильме Германа «Трудно быть богом» нет Киры, какой она у Стругацких, а есть Ари. И вот эта жестокая рыжая Ари в его доме заправляет очень сурово, потому что она туземка, которую вознёс бог, и поэтому у неё нет чувств бога. А чувство бога перед людьми — это чаще всего всё-таки сострадание и даже некоторая вина. Вот как у того же Искандера в «Сандро из Чегема», помните, когда девочка эта… Я забыл, как её там зовут. Тали, по-моему, да? Стебелёк шеи которой можно обхватить одной рукой. Когда она сидит на холме, ей представляется Бог, уходящий от людей, виновато волоча крылья. Понимаете, вот эта виноватость бога перед людьми — это высокое проявление совести божества. У детей божества этого нет. Поэтому ветреная Геба, изображаемая чаще всего жестокой, она — подросток.
Вот у подростка нет чувства вины чаще всего, нет ответственности, нет сострадания — он ещё не дорос до этого. Поэтому эта пресловутая гебоидность — это неистребимое качество. Я помню себя достаточно молодым и жестоким, разрубающим все узлы и редко испытывающим чувство вины. Это дурное качество. Я это помню. Подростку кажется, что он всегда прав. А вот молодой человек от подростка отличается тем, что он уже понимает (по замечательной формуле Житинского), что «нельзя быть живым и невиноватым». Отсюда и ветреная Геба. Мы уже люди совершенно другой породы.
«Если в возрасте 11–13 лет подросток — негодяй, подлец, то может ли он, повзрослев, стать нормальным человеком, если жизнь его ударит? Или и это не поможет?»
Жизни совершенно необязательно его ударять. Гебоидность излечивается не этим. Она излечивается тем, что с человеком происходит чудо, что он встречается с чем-то другим. Я говорю, воспитывает не жестокость, а воспитывает чудо. И надо встретиться с чем-то волшебным, непредсказуемым, непонятным. Стругацкие учат нас, что человек проверяется непонятным. И мне кажется, если эта непонятность как-то достаточно глубоко подростка потрясёт, то у него исчезнет вера в свою абсолютную правоту. Я думаю, что большинство детей в 11–13 лет очень жестокие. Вот они мучили Кюхельбекера, и Пушкин принимал в этом участие. А потом он стал задумываться. Может быть, поэтому Кюхельбекер и казался ему таким важным человеком в его жизни — на его примере он понял, что такое травля. А потом стал сам жертвой этой травли в зрелости уже.
«К вопросу о феномене неоконченного романа. Надо ли заканчивать «Замок» Кафки и «Человека без свойств» Музиля? Есть ли у вас предположения, каким образом они могли бы заканчиваться?»
Понимаете, в самом общем виде неоконченными романы бывают по пяти причинам. Первая причина — автор умер («Тайна Эдвина Друда»). Вторая — автору надоело или он понял неосуществимость задачи («Человек без свойств»). Третья — книга не может быть закончена в это время, потому что её нельзя напечатать, и автор вынужден печатать неоконченный вариант («Евгений Онегин»). Четвёртая причина — автор понял иллюзорность поставленной ему задачи, потому что время изменилось («Чёрная металлургия» Фадеева).
А пятый случай — случай «Жизни Клима Самгина», когда автор понял, что герой не хочет умирать, вернее, не хочет умирать так, как он ему придумал. Горький пишет в черновиках (эта фраза хранится в его музее, в доме Рябушинского): «Конец героя — конец романа — конец автора». Вот конец автора — да. А конца романа и конца героя не вышло, потому что сноб плохо живёт, но хорошо умирает. Не убивается Самгин! В общем, честный человек Горький не может его убить так, как собирался — затоптан рабочей демонстрацией в семнадцатом году. Ничего подобного! Он затоптан мужиком, грозно поющим «Отречёмся», и после этого Самгин лежит, как мешок костей, — это очень трудно придумать. Самгин умирает, как Ходасевич, — в парижской больнице, гордо сказав: «Только тот мне брат, кто страдал, как я». А затоптать Самгина невозможно. Самгин — очень неприятный персонаж, но поди ты его убей. Кстати, после семнадцатого года Самгины эти не убились, а они процвели, во всяком случае некоторые из них. А некоторые погибли, но не так.
Поэтому заканчивать неоконченный роман, как правило, не имеет смысла именно потому, что автор сам понял ненужность этого. Он понял, что роман в неоконченном виде действует гораздо сильнее. У Кафки было время закончить «Замок» — он за год до смерти охладел к роману. Ну, как Блок говорил: «Не чувствую ни нужды, ни охоты заканчивать во время революции вещь, полную революционных предчувствий», — речь идёт о «Возмездии». Точно так же и здесь. Кстати, я думаю, что в незаконченном виде роман Кафки производит гораздо большее впечатление — именно потому, что он показывает дурную бесконечность пути землемера. Ну, никуда землемер не может прийти. Прийти в Замок он не может, а умереть просто — это вообще не выход.
«Человека без свойств» вообще, по-моему, не надо заканчивать, потому что это роман довольно аморфный по своей структуре, отсюда — дико разросшийся второй том. Я вообще не большой любитель этой книги, честно вам скажу. При том, что она очень умна, мне всё-таки кажется, что это занудство. Музи́ль сам это осознавал, Му́зиль, поэтому он с презрением говорил: «В наше время в популярной книге должна быть изрядная доля беллетризма», — говорил он, имея в виду Томаса Манна. Но самому ему беллетризм не давался. И, в общем, это читать нудно. Хотя сама концепция «человека без свойств» довольно привлекательна — вот то, что Молчалины блаженствуют на свете, и то, что в наше время не надо обладать никакими свойствами, чтобы вписаться в мир. Но его «человек без свойств» гораздо шире этого определения — там всё-таки герой, наделённый свойствами очень серьёзными.
И, если хотите, как-нибудь о Музиле, в частности о «Душевных смутах [воспитанника Тёрлеса]», можно было бы поговорить подробно. Хотя, кстати, я совершенно не уверен… Сейчас посмотрим. Да, «воспитанника Тёрлеса», совершенно верно. Тут уж фамилию не перепутать. Поговорим, может, о Музиле. Хотя «Человека без свойств» перечитывать, честно вам скажу, — та ещё каторга. Когда-то прочёл только потому, что заставила Иваницкая.
«Есть ли новости о новых романах Сэлинджера? Неплохо бы о нём лекцию…»
Совершенно точно известно, что там найдены законченными пять книг, а остальные в разной степени готовности. Найдена книга об индуизме, больше похожая на учебник. Найден сборник рассказов, в том числе и рассказов о семье Колфилда. Найдена повесть о первых посмертных минутах Симора Гласса, и это очень странно. Найден автобиографический роман о войне, о первом его браке. И что самое интригующее — найдено то ли продолжение, то ли какие-то ещё истории про «Над пропастью во ржи». Последнее под вопросом. Это я передаю слухи, которые циркулируют в университетской и издательской среде. Считается, что к 2020 году всё это будет напечатано. Если не будет напечатано, то очень жаль. Такие люди, как Стивен Кинг, говорят, что жить стоит уже для того, чтобы до этого дожить. Это решается тайна: может ли человек в отшельничестве, в затворничестве создать шедевр, или надо жить социальной жизнью, чтобы его создавать? Я абсолютно уверен, что там шедевры есть. Хотя последние тексты Сэлинджера — в частности, конечно, знаменитый «Hapworth 16, 1924» — производят впечатление полного уже безумия.
«Пересмотрела «Зеркало» и «Солярис». Мне показалось, что эти фильмы — реквием по человечеству. Льющаяся вода с потолка и обваливающаяся штукатурка — это невозможность вернуться в детство и предостережение о чём-то впереди. Хотя у Тарковского нет обречённости, как в «Меланхолии» Триера. Откуда же неизбывная тоска?»
Неизбывная тоска потому, что это очень красиво. Чехов когда-то сказал в рассказе «Красавицы»: «Красота вызывает тяжёлое, но приятное чувство, тяжёлую, но приятную грусть». Откуда эта грусть? Иногда — при виде заката, иногда — при виде красавицы. Мне представляется, что как раз «Зеркало» — это фильм не тоскливый, но в нём есть определённая безвыходность. Понимаете, это же фильм про то (и я говорил об этом на лекции), что мы — зеркало родительской судьбы, что мы — родительское продолжение, и нам никуда из этого зеркала не выпрыгнуть. Отсюда — сквозной образ матери, протирающей зеркало. Я с наслаждением сегодня как раз пересмотрел эту картину после вчерашнего разговора с Жолковским на эту тему и лишний раз убедился, какое это великое печальное совершенное искусство.
Ну, что делать? Придётся говорить после трёхминутного перерыва.
НОВОСТИ
Д. Быков― Здравствуйте, дорогие друзья, ещё раз. Продолжаем наши с вами разговоры. Поотвечаю я на вопросы с форума и на письма.
Очень много вопросов о том, как я отношусь к полемике вокруг статьи Григория Ревзина и ответа Алексея Навального.
При всём уважении к Ревзину я двумя руками подписываюсь под каждым словом статьи Навального. Мне не очень понравилось, как статья Ревзина написана, тон её мне не понравился — такой высокомерно-пренебрежительный. Действительно, стоит человеку хоть немного «закорешиться» с властью — и он начинает вещать от имени Абсолюта. Я допускаю, что Ревзин больше меня понимает в градостроительстве. Но меня как-то очень смутило, что эта новая Москва, которую построят на этой плитке, даст возможность сидеть в зелёных кафе и наблюдать проходящих мимо актёров. Почему актёров? Откуда? Актёры не шастают, они работают.
И мне не надо вообще-то, чтобы мой город был friendly. Мне надо, чтобы он был удобен для работы, в первую очередь — для моей. А если не получится для моей (я эгоцентрик же, и это известно), то вообще для работы. Жёнам богатых людей, которым делать нечего и которые сходили на шопинг, а потом посидели в приятном кафе, им некуда торопиться. А я, например, сегодня от дома до «Дождя» добирался два часа. То, во что превратился центр — мы видим. Статистику по плитке мы видим. Зелёные полосы на заборах и издевательски обклеенные писательские биографии (бедная Цветаева) — тоже мы это видим. И не надо нам делать красивый хипстерский город. Не надо нам делать friendly city. Вы нам сделайте город удобный для того, чтобы в нём можно было работать, а не для праздношатающихся, которые будут потом ходить по этим улицам.
И потом, совершенно мне не понятно, откуда у Григория Ревзина берётся этот вывод: «Чтобы в городе меньше ездили, в нём должны больше ходить». Если хотят сделать из центра Москвы зону, вообще свободную от автомобилей, то надо назвать вещи своими именами, надо просто и прямо об этом сказать. Можно себе представить, во что превратится тогда остальная Москва, но людям, работающим в Кремле и вокруг него, будет комфортно. Мы уже видели идеальную Москву во время инаугурации — пустую Москву с проездом автомобиля с кортежем… с эскортом, с мигалками. Мы к этому готовы.
Я вообще не думаю, что в России сейчас какое-либо телодвижение власти — московской или российской — способно вызвать череду протестов. Российские протесты идут сейчас по другому сценарию — по сценарию эскапистскому, по сценарию ухода от конфликтов и попытке выстроить отдельный мир. Я давно это предсказывал. Этот отдельный мир можно выстраивать сколько угодно, но всё-таки вторжение уже на московские улицы и мостовые создаёт определённые трудности просто при передвижении.
Я это говорю как человек, живущий неподалёку от абсолютно перекопанного Мичуринского, где везде висят плакаты «Неудобства — временные. Метро — навсегда». Простите, нет ничего более постоянного, чем временное. К тому же уже совершенно понятно, что к четвёртому кварталу 2016 года никакое метро там не откроют. Это очень надолго, и с этим тоже придётся мириться.
Судя по размаху катастрофы, постигшей центр Москвы, это тоже надолго. И почему по плитке лучше ходить, чем по асфальту — это мне совершенно не понятно. Я, конечно, понимаю, что, может быть, это приятнее, но я человек неприхотливый, я уж как-нибудь по асфальту похожу, лишь бы у меня был шанс, что я буду ездить в чуть менее пробковом городе, в чуть менее стоящем. По совершенно справедливой формуле Михаила Эпштейна, сейчас все заняты не тем, что ничего не делают, а тем, что делают ничего, то есть производят беспрерывную имитацию. Теперь в этой имитации со своей стороны участвует вполне идейный Григорий Ревзин — человек, которого я привык воспринимать с большим априорным уважением.
«Читали ли вы «Новой» статью о группах смерти? — читал и высказывался о ней трижды. — Что вы думаете о «Страданиях юного Вертера» и волне самоубийств, прокатившейся по Европе?»
Я уже говорил и о том, что, согласно Гандлевскому, «молодость ходит со смертью в обнимку». К сожалению, суицидная мания для подростков естественна. Люди, которые на этом играют и это подогревают, видимо, чувствуют себя хозяевами Вселенной, но это очень дурно.
«Вновь «Град обреченный», поэтому вопрос вряд ли привлечёт внимание. Не хотел посылать, после вашего диалога с коллегой Лазарчуком прошло достаточно много времени. Всё же не оставляет какое-то недоумение от его гипотезы о том, что тема Дома является чуждой пространству романа».
Нет, понимаете, среди экспериментов, которые ставят над героями в «Граде обреченном» — над Ворониным, Кацманом, Гейгером и другими, — нужен и Красный Дом [Красное Здание]. Я не думаю, что эта тема чужда. Я просто думаю, что Красный Дом — это своего рода концентрация истории XX века. И, как и всякая такая концентрация, она может быть с точки зрения вкуса хуже остального романа, а с точки зрения исторической наглядности она очень важна.
«В 1980 году мне попала в руки книга Дубровина «Дивные пещеры». Был несказанно удивлён смелостью этого лирико-сатирического романа-детектива. Расскажите что-нибудь о творчестве Дубровина».
Видите ли, я мало его знаю. По-моему, «Зелёный огонь козы» — это его произведение, если я ничего не путаю [«В ожидании козы»]. Да, Дубровин был такой, как это называли, писатель-сатирик. Иногда сатирикам что-то в 80-е годы удавалось.
Просьба рассказать о Маршаке. Ладно, обязательно.
«Что вы думаете о творчестве Сафона, в частности о «Тени ветра»?»
Я читал, конечно, «Тень ветра», когда её все читали. Она кажется мне идеально вторичным произведением, потому что тема таинственной книги пришла из Борхеса. И все эти библиофилы, библиотеки — это в испаноязычной традиции хорошо проработано. Первая же фраза совершенно отчётливо отсылает к «Ста годам одиночества». Всякие кортасаровские и вообще все латиноамериканские мотивы там представлены с невероятной полнотой. И это как бы такая… Знаете, это как Коэльо просто сделал квинтэссенцию всей латиноамериканской прозы, доведя её до консистенции жвачки.
Сафон, конечно, более талантлив, тонок. И лучшее, что мне показалось наличествующим в его романе — это то, что свою эзотерику он очень хорошо вписал в исторический конкретный контекст Гражданской войны в Испании, в испанскую историю. Мне кажется, что это хороший роман — при том, что он безупречно вторичен, при том, что он содержит действительно краткую хрестоматию всей латиноамериканской литературы. В общем, он далеко не так увлекателен, как там написано в первой главе.
Если говорить об аналогичных книгах, о том, как находят таинственную книгу, записи на полях, и эта книга начинает влиять на жизнь читателя, я в тысячный раз упомяну один из своих самых любимых романов — роман, который называется «S». Это совместный проект Джей Джей Абрамса и Дуга Дорста. Это роман, в основе которого лежит таинственная книга некоего писателя-космополита Страки под названием «Корабль Тесея». Ну, все знают этот парадокс корабля Тесея: если корабль Тесея состоит из полностью заменённых деталей, будет ли это тот же самый корабль? И вот там история человека, потерявшего память на корабле с таинственной командой. Идёт переписка на полях, и какие-то старинные таинственные карты вложены в книгу. Книга безумно интерактивна, и там надо очень много рассказывать, догадываться самому, разгадывать все эти загадки. В общем, я этот роман люблю гораздо больше. Просто он сложнее, поэтому той судьбы, какая была у «Тени ветра», он не имел. Второй и третий романы Сафона я уже, к сожалению, не читал. Но из всех, кто эпигонствует в латиноамериканской и испанской литературе, он мне представляется самым одарённым и самым забавным.
«Не кажется ли вам, что стихотворение Бродского «На независимость Украины» — это прежде всего страстная полемика с Цветаевой?»
И близко там ничего подобного нет! Но приятно ваше желание оправдать любимого поэта. Он в оправданиях совершенно не нуждается. Ну, иногда поэт должен быть неприятным. Что ж поделаешь?
«Нельзя ли лекцию о Юрии Левитанском? Это лучший русский поэт второй половины XX века, имхо».
Да нет, конечно. Тоже в Левитанском очень много вторичности и такой жидковатости. Но у него была своя манера, свой голос. Он был очень узнаваем. У него были превосходные лирические стихи, а особенно в сборниках «Белые стихи» и «Кинематограф». Отдельную лекцию делать о нём я не вижу смысла, но многие его тексты благодарно помню наизусть. И, наверное, какие-то из них следовало бы… Понимаете, он идеальный поэт для «омузыкаливания», для авторской песни. В авторской песне стихи всегда немного недостаточны, чтобы было что досказать музыке (вот у Сухарева, например). Это тоже благородство такое, аскеза — недосказать, чтобы было что на тебя написать. Но у Левитанского, на мой взгляд, это просто бедноватость поэтической мысли, например, на фоне Окуджавы. Хотя бывали у него настоящие шедевры, а особенно, как уже было сказано (он поздно созревший поэт), года с 1970-го. «Как показать зиму» мне очень нравится — при всей примитивности этого стихотворения. И вообще весь цикл из «Кинематографа» — «Как показать лето», «Как показать зиму» — это всё неплохо.
«Что вы думаете по поводу зоогуманизма?» Ничего не думаю, Андрей. К сожалению, не всё знаю, далеко не всё знаю.
«Как вы относитесь к творчеству Сокурова и к фильму «Франкофония»?»
Я не видел «Франкофонию». Из всего, что снял Сокуров, мне больше всего нравится «Русский ковчега», потому что там самая интересная идеология и самый точный и виртуозно проведённый приём. А так… Ну, это не мой режиссёр. «Дни затмения» я никогда не мог понять. Я понимаю, что это хорошо, но это для меня смотреть невыносимо. Пожалуй, самую пылкую неприязнь я чувствую к фильму «Спаси и сохрани» — к такой странной экранизации «Мадам Бовари».
«С термином «парадигма» у меня проблемы. Я ничего не понял из определения в «Вики. Не могли бы вы дать своё определение?»
Это смысловой ряд или, как определяет Лев Мочалов, системный ряд. Скажем, парадигма слова в русском языке — это набор всех его возможных падежных изменений. Парадигма — это именно ряд волшебных изменений милого лица или, если угодно, это всё смысловое поле того, что может произойти с предметом, с текстом и так далее. Скажем, вся парадигма русской истории XX века — это некое облако, некий набор (вот облако — самый точный аналог) тех событий, из которых эта история состоит. Системный ряд — это самое точное.
«На что рассчитывают персоналии (журналисты, писатели, политические деятели), явно поддерживающие власть? Они не понимают законов истории?» Да понимают они прекрасно законы истории. Законы истории показывают, что ничего им не будет, потому что всеобщее облегчение будет так сильно, что их немедленно простят.
«Судя по новогоднему выпуску «Один», вы дружны с Шендеровичем. А как вы оцениваете его литературный талант? И с чего стоит начать при ознакомлении с его творчеством?»
С его ранних рассказов — прежде с «Цветов для профессора Плейшнера», с «Голубцов», с «Тараканов» [«Из последней щели»] — с такой ранней язвительной фантастики. Шендерович начинал как фантаст очень хороший, и печатали его сначала именно в тексте. Со стихов — неплохо.
«Возможно ли написание современной версии (или аналога) «Жизни Клима Самгина»?»
Конечно, возможно. Просто надо вычленить такого же типажа в современной русской жизни — человека, который умеет быть всегда правым. Именно такую жизнь сноба или снобки написать. «Жизнь Клима Самгина», по-моему, вполне может быть и романом о женщине сегодня, потому что это скорее женская стратегия — казаться и не быть женской (в том смысле, что гибкая).
«Как вы оцениваете финал повести «Прощание с Матёрой»?» Ну, ясно же, что все погибли. По-моему, иначе никак.
«Москва Платонова, — имеется в виду «Счастливая Москва», — это издевательство, пародия или неадекват?»
Серёжа, не знаю. На этот вопрос не могут ответить крупнейшие платоноведы в диапазоне, скажем, от Елены Шубиной и кончая Варламовым, автором его биографии. Ну, не понятно, что там. Конечно, «Счастливая Москва» — это, с одной стороны, книга изо всех пытающаяся быть лояльной. Но, с другой стороны, в этом лоялизме, конечно, уже есть масса и противоречий, и опасностей, и прямого абсурда. Я думаю, что и «Ноев ковчег» — это тоже вещь, написанная с мучительным желанием быть лояльным, а на самом деле это пародия. У него так получается.
Много вопросов про «Анну Каренину». Вот вопрос: «Полной ерундой представляется ему [Чехову] «Крейцерова соната». А почему же ему не представляется такой же ерундой и «Анна Каренина»?»
Потому что в «Анне Карениной», во-первых, содержится очень точный, в том числе политический, портрет России. И, конечно, эта вещь гораздо масштабнее. А во-вторых, ему кажется, что если в основе «Крейцеровой сонаты» лежит совершенно абсурдная мысль о вредности секса, деторождения, о кошмаре семьи и так далее, то в «Анне Карениной» концепция на втором плане, а на первом — потрясающие художественные средства. Интересно, что Чехов не хочет видеть в «Крейцеровой сонате» подробную клиническую картину безумия, а видит в ней авторскую мысль. Наверное, у него есть к тому некоторые основания.
Поотвечаем на вопросы, приходящие на почту. Их тоже чрезвычайно много. Сейчас, подождите, пока откроется.
«Зачем пытаться объективно анализировать «Замок» с точки зрения разных школ? Это отдельное и ужасно мучительное удовольствие». Да, можно попробовать. Я думаю, что как раз… Ну, тут пишут: «Замок» — это невротический роман высшего класса, а всё невротическое характеризуется нескончаемыми навязчивыми повторениями. Кафка почувствовал, что не сможет закончить книгу, потому что в идеале она должна продолжаться до бесконечности». Совершенно верно, Денис, именно это я и сказал.
«В своих статьях и лекциях вы часто упоминали о Павле Антокольском как об одном из недооценённых русских поэтов XX века. Расскажите о вашем отношении к нему».
Решено — следующая лекция будет об Антокольском. Я Антокольского люблю страстно, наизусть знаю «Франсуа Вийона» (его лучшую, как он считал, драматическую поэму) и «Девушку Франсуа Вийона» ( продолжение, аппендикс к ней). Я считаю его великим поэтом. Так сложилась его жизнь, что тридцатые-сороковые были для него потеряны. В пятидесятых он начал выправляться и написал несколько гениальных вещей — например, «Балладу о чудном мгновении». А шестидесятые-семидесятые — это такой поздний великолепный старческий взлёт.
В этой чёртовой каменоломне,
Где не камни дробят, а сердца,
Отчего так легко и светло мне,
И я корчу ещё гордеца?
И лижу раскалённые камни
За чужим за нарядным столом.
И позвякивает позвонками
Камнелом, костолом, сердцелом.
Это писал восьмидесятилетний старик, но совершенно грандиозный текст.
«Есть ли у вас ответ на вопрос природы сепаратизма в современной Европе?» Я говорил уже о том, что любой сепаратизм — это одно из sinful pleasure (во всяком случае, в наше время), это удовольствие от падения.
«Посоветовали почитать Сашу Соколова. Что вы о нём скажете? И почему он Саша, а не Александр?»
Почему он Саша — это вопрос к нему. Я бы не советовал вам читать Сашу Соколова, но на вкус и цвет товарищей нет. Мне он нравится в некоторых коротких рассказах из второй главы «Школы для дураков». В целом это совершенно не понятный мне писатель, и я не понимаю, что в нём находят. А уж более занудного и бессмысленного плетения словес, чем в романе «Между собакой и волком», мне встречать не приходилось.
«Ангелоид Дымков — это Абалкин наоборот?»
Нет конечно. Ну что вы? Под Абалкиным понимается Лев Абалкин из «Жука в муравейнике», а ангелоид Дымков — это персонаж из «Пирамиды». Общее в них только то, что они вызывают подозрение у окружающих и желание использовать их в своих целях. А в принципе Дымков — это совсем другое дело. Во-первых, у Дымкова есть дар провидения будущего. Во-вторых, Дымков — это именно ангел, а насчёт Абалкина ничего не понятно.
«В чьём переводе лучше читать «Старшую Эдду»?»
Знаете, я читал её в единственном переводе. Не знаю, чей он. Надо сказать, что более мучительного чтения у меня за всё время журфака, пожалуй, не было, за всю зарубежную литературу. Как-то Герцен писал: «Верование всех народов — это какие-то болезненные картинки, а верование древних греков — это добрый, простой и уютный мир». Вот мир «Старшей Эдды» — это страшные картинки, косо летящие по каким-то стенам. Это мир, абсолютно для меня не постижимый — мир ирландский саг, исландских саг и в значительной степени мир нибелунгов. Вот эти северные мрачные истории очень от меня далеки.
«Как вы всё-таки относитесь к Невзорову?»
Мне кажется, что Невзоров — это человек смелый прежде всего. Я никогда с ним не согласен, но он мне всегда интересен. Это не значит, что я могу с его мнениями соглашаться, иногда они меня раздражают (а они на это и рассчитаны). Но Невзоров — это школа мысли. Я рад всегда с ним встретиться и никогда не буду ему навязываться. Вот так бы я сказал. Но мне всегда приятно его внимание.
«Не могли бы вы рассказать о своём понимании первых глав Бытия? Кураев очень здорово рассказывал…» Вот Кураев пусть и рассказывает, это его епархия.
«Как вы понимаете грехопадение? Как Адам мог понять «смертью умрёшь», ведь он не знал смерти?» Он, конечно, не знал и не мог понять — потому и не понял. Но в природе человека всегда кусать то яблоко, которое нельзя, ничего не поделаешь. Вот Бог так его создал.
«Смотрели ли вы «Орлеан»? О чём он?»
Я смотрел «Орлеан», я читал эту книгу Арабова. Фильм мне нравится, пожалуй, больше романа. Это редкий случай, потому что обычно Арабов лучше своих фильмов, проза лучше и сценарии лучше, чем реализация. Это касается и Сокурова. Говорить сейчас о замысле «Орлеана» я не готов. Он сложен. Следовало бы мне книгу, конечно, перечитать. В принципе, это попытка опять анализировать природу советского чуда, природу советского язычества. Можно поговорить достаточно серьёзно об этом.
«До сих пор встретила одно близкое мне объяснение пошлости у Лидии Гинзбург. Каково ваше определение пошлости?»
Пошлость — это всё, что делается для чужого мнения, а не для себя. Пошлость — это всё, что делается, чтобы выглядеть, а не чтобы реализовать внутренние потребности. Так понимаю я. Кто-то понимает иначе.
«Мог ли Николай Гумилёв написать стихотворение «Жди меня. Я не вернусь»?» Конечно нет. Это никакого отношения к нему не имеет.
«Читаю вашу книгу «Тринадцатый апостол», хочу посетовать на корректоров — много опечаток. За книгу спасибо».
Спасибо и вам. Ну, это ко мне претензии, а не к корректорам. Ну, не было времени вычитать. Там опечаток не так много, там много каких-то фактических небольших неточностей, которые я со временем выправляю. Вот, например, Иваницкая подсказала, что Маринетти умер раньше Муссолини — в 1944 году, полгода не дожив до краха фашизма. Мне казалось, что он пережил этот крах. Значит, просто я недосмотрел.
Спрашивают, будет ли книга продаваться в Казани. Будет обязательно. И вообще уже второй тираж выйдет в двадцатых числах. Меня много спрашивают, говорят: «Вы говорите, что книга распродана, а я видел её продающейся там-то и там-то». Ребята, книга считается распроданной в тот момент, как последние экземпляры отгружены с издательского склада в магазины. В магазинах она потом может быть, но в издательстве, на складах издательских её больше нет. Второе издание выйдет в двадцатых числах, и тогда она доедет и до Новосибирска, который об этом спрашивает, и до Казани, и до Уфы — везде, где хотите.
Тут спрашивают, как меня пригласить на лекции в Новосибирск, «хотелось бы побеседовать живьём». Мне бы тоже хотелось. В конце концов, Новосибирск — почти родной город, родина жены. А потом, Академгородок — это самая любимая моя среда. Ну, очень просто меня пригласить: обращайтесь на сайт pryamaya.ru, там «Прямая речь», и там всё будет.
Как попасть на лекции в Лондоне? Ну, как-нибудь придумаем, приходите. Там лекция будет 5 июля про Бродского. На неё попасть труднее, понятное дело, все ждут скандала. «Война за Бродского» называется эта лекция. А 6 июля — про Маяковского.
«Можно ли посвятить один из эфиров Кобо Абэ?» С удовольствием. Прежде всего — «Человеку-ящику» и «Красному кокону».
«Можно ли пригласить Жолковского? Вы говорите, что он в Москве».
Он в Москве, да. Давайте попробуем. С Веллером мы никак не можем совпасть по времени: то он в Ленинграде, то я… в смысле — в Петербурге. Хорошо было бы: то он в Ленинграде, то я в Петербурге. Надо, конечно, его спросить. Но с Александром Константиновичем можно поговорить. Почему же нет? Он завтра, насколько я знаю, докладывает в РГГУ. И если у него будет время, то давайте в следующий раз позовём Жолковского. Готовьте вопросы по русскому Серебряному веку, по Золотому веку, по инвариантам и прочим загадочным вещам.
«Что делать человеку, если ему 26 лет и никаких талантов он в себе не обнаружил? Брался за многие занятия, но выходило средне или посредственно. Стимул постепенно утрачивается. Буду благодарен за ответ».
Серёжа, милый, это не страшно, ничего тут особенного нет. Значит, вы просто принадлежите, по всей вероятности, к той замечательной породе людей, которая ещё не востребована, которая пока ещё не сумела, так сказать, свою специальность обозначить. У меня про них есть такое стихотворение «В России шестнадцатого [блистательного] века» из цикла «Песни славянских западников». Найдите его, там всё сказано. Просто ваша профессия ещё не открыта, ещё не изобретена. Или уже забыта. Может, вы гениальный лучник. Может быть, вы миннезингер.
Очень просто ответить на этот вопрос. Попробуйте месяц ничего не делать. Вот к чему вас потянет — то и есть ваша профессия. Ну, это как собака находит целебную траву. А есть люди, вообще не рождённые что-либо делать. А есть люди, рождённые наблюдать, наслаждаться. Зачем вам обязательно что-то делать? И без вас хватает. А вообще мне кажется, что сегодня такая пассивность общественная — это тоже неплохо. По крайней мере, вы не участвуете в мерзостях. И я с радостью думаю о людях, которые ничего не добавляют гадкого к сегодняшнему миру. Я думаю иногда, когда захожу в книжные магазины: «Господи помилуй! И мы ещё хотим в эту «братскую могилу» чего-то добавить? Да и так уже ломятся полки! Хватит!» Зачем всё время что-то делать? Можно просто размышлять.
«Говорят, что всё прощается, кроме хулы на Духа Святого. Закрадывается сомнение: бесконечно ли милосердие Бога? И откуда вообще взялось это выражение?»
Ну, хула на Бога здесь имеет более широкий смысл. Это хула на те основы, на которых построен мир: попытка заменить любовь ненавистью, доверие — подозрительностью и так далее. Хула на Бога — это именно непонимание тех добрых и очень важных, кстати, основ, на которых мир стоит. Насчёт того, что всё прощается — нет, не всё прощается, мне так кажется.
«Нельзя ли лекцию про Янку Дягилеву и сибирский панк?» Про сибирский панк ничего не знаю, а про Янку Дягилеву уже говорил. Говорил, что со временем, может быть, её и Башлачёва в одной лекции объединим.
«С детства воспринимал прозу ритмически и в цвете. Из этого комплекса выстроилась цветовая иерархия. Бесцветный (высший) уровень — Толстой, «Отец Сергий», «Хаджи-Мурат», «Севастопольские рассказы». Далее прозрачно-серый, почти бесцветный — «Война и мир», «Казаки», Чехов, джойсовский «Улисс», Фолкнер и так далее. В поэзии, наоборот, привлекало спектральное разнообразие и густота. Возможно ли здравое понимание литературного текста на этих основаниях?»
Только мне очень странно, что у вас «Улисс» монохромен, потому что «Улисс» — как раз очень пёстрая книга. И для меня это всегда немножко арлекинада — то, что Толстая называла «арлекиновыми цветными стёклами» («Взгляни на арлекинов!»). «Улисс» — как раз калейдоскопная вещь. А в целом вы правы, конечно. Такое синергетическое восприятие, цветовое видение текста у вас есть. Это довольно распространённый дар, о нём Набоков много писал. И я вас с этим от всей души поздравляю.
Тут ещё несколько вопросов новых: «Я постоянно ссорюсь с родителями, с которыми живу вместе. Они смотрят ящик, новости, «Дом-2», пошлые сериальчики. Когда я пытаюсь объяснить им, что это всё чушь, ложь и дурновкусие, они соглашаются, но говорят: «А что нам ещё делать? Смотреть-то больше нечего». Хотя телевизор ловит 40 каналов! Есть ещё младший брат, семиклассник. Он постоянно играет в интернет-стрелялки и ругается на меня матом, когда я пытаюсь отвлечь его от этого. А дедушка и бабушка и вовсе считают меня сумасшедшим и самолюбивым. Когда мы разговариваем об искусстве и религии, они мне говорят: «Тоже мне возомнил о себе!» Есть у меня ещё двоюродный дядя — добрый и милый человек, который любит всех вокруг и всегда улыбается, но его в семье считают больным. Как дальше с ними быть? Спасибо».
Эдик, вы переживаете совершенно нормальный период, когда как раз подростку и кажется, что весь мир жесток и несправедлив. Что вам делать, Эдик? Ну, проще всего, конечно, сказать какую-нибудь глупость и пошлость, типа того: со временем вы поймёте, молодой человек, как любили вас родители и как глубоко мудр был их выбор. Нет, у каждого возраста своя мудрость: у подростка — своя, у родителей — своя.
Эдик, мой вам совет: как можно раньше заживите своим домом. И вообще я вам скажу, что долго жить с родителями нельзя. У меня с матерью очень хорошие отношения, и во многом потому, что я большую часть времени всё-таки живу отдельно. Если у вас нет такой возможности, ну найдите такую возможность! Почему надо всё время жить в родительской сумке? Кенгуру, вомбат и все сумчатые животные рано или поздно своё родное животное выпускают оттуда. И нечего долго жить с родителями. Вы уже достигли того уровня, когда у вас свои представления. Чего вам с братом с его стрелялками, с родителями с их сериалами, с бабушкой и дедушкой с их навязанной скромностью — чего вам с ними жить? Обретите финансовую самостоятельность, женитесь, уезжайте, поступите в московский институт. Если вы уже москвич, поступите в петербургский. Нечего всё время за семью цепляться, попробуйте сами.
Вопрос от Димы Усенка, хорошего поэта: «Что вы думаете о Мамлеве и особенно о романе «Шатуны»?»
Я очень люблю Мамлеева как человека, Царствие ему небесное, а прозу его не люблю совсем. Я не могу вам объяснить почему. Наверное, потому, что много в этой прозе какой-то паранормальности, мне не близкой, какой-то бесчеловечности, тоже мне не близкой. Ну, самое главное, что это не та Россия, которая описана у него же в «Светлой России» [«России Вечной»]. Лучшая его проза — по-моему, «Московский гамбит».
Вернёмся через три минуты.
РЕКЛАМА
Д. Быков― Мы продолжаем. Я ещё немножко поотвечаю. Письма очень хорошие в этот раз, и жалко их как-то миновать.
«Что я думаю о творчестве Виктора Кривулина?»
Я очень высоко ценю Кривулина как человека — мужественного, героического, преодолевавшего всю жизнь болезнь свою. Что касается его стихов, то мне они кажутся довольно тяжеловесными. Ну, может быть, каждое третье, каждое пятое из них и могло бы меня задеть как-то, но боюсь, что они слишком, что ли, антологичны, слишком полны реалий культурных. Ну, это питерская обычная черта. Вот два главных поэта петербургского андеграунда — Кривулин и Шварц — почему-то никогда не вызывали у меня внутреннего отзыва, отклика, хотя вчуже я их ценю достаточно высоко.
Замечательное письмо от Дмитрия (я частично его зачитываю, оно очень личное): «Отец водил меня по моему желанию на могилу деда, которого я никогда не знал. Он покончил с собой через несколько дней после моего зачатия. Чем старше я становлюсь, тем живее чувствую непосредственную связь с этим человеком. Моя внешняя жизнь довольно благополучна и пустотна, в нашем краю по-другому редко бывает. И мне никогда ещё не приходилось всерьёз думать или говорить о смерти, но лет с тринадцати меня мучает вопрос бытия Божьего (даже заглавную букву в этом слове пишу через раз). Я читал «Исповедь» Августина, Кьеркегора, «Братьев Карамазовых», Экхарта, выборочно Библию, долго погружал себя в юнгианство (правда, после «Красной книги» остановился), много читал, смотрел, слушал. Сейчас мне 26 и я по-прежнему стою на этой развилке. И последовательно я нахожу для себя доводы «за» и «против». Меня не покидает мысль, что вера должна быть целостной. После посещения могилы деда во всей этой симпатической трясине появилась моя строчка — не Достоевского, Кьеркегора, Августина или Юнга, а моя. Может быть и вера моя должна быть написана только моей рукой? Я работаю в музыкальной школе и знаю, как легко скатиться в высокомерие и наплевать на совесть, когда у тебя есть слушатели. Рад, что вы об этом тоже помните и не позволяете себе. Назовите книги, которые стоит прочитать».
Дима, спасибо! Очень дельное письмо, очень хорошее. И мне кажется, что вам бы писать следовало, и не только письма. Просто замечательное письмо по честности и адекватности выражения. Знаете, я бы вам порекомендовал читать Льва Лосева — не Алексея Лосева, философа, а Льва Лосева, поэта, человека, который очень мучился отсутствием веры. Помните у него (наверное, вы читали): «Ведь я могу сказать «ревю», могу сказать «еврю» — так почему же я одно никак не говорю?» Действительно, сказать «верю» очень трудно. Это и для меня был очень нелёгкий опыт. И он не бывает лёгким. Если он лёгкий, то это не вера. Но попробуйте очень глубоко прорефлексировать себя. Если вы упрётесь в чёрную стену — значит, действительно ничего нет. А если за это чёрной стеной что-то вы ощутите, что что-то толкается и живёт, то тогда вы поймёте, что наши знания о себе не абсолютны.
Вот странная штука, я тут подумал… Может быть, я об этом стишок отдельный напишу. Вот умер Каравайчук, Царствие ему небесное. Я никогда его не знал живьём, видел один раз. И я думаю, что это хорошо, что я с ним никогда не говорил, не отвлекал его, не мешал ему. Люба Аркус однажды собиралась меня к нему свозить, но вдруг разразилась снежная буря, и мы к нему не попали. Счастье! Спасибо, Люба.
И вот я о чём думаю. Вот Каравайчук умер, и, может быть, он уже знает, что там ничего нет. А музыка его продолжает нам рассказывать, что там что-то есть. Так кто же прав — он или музыка? Я думаю, что когда мы упираемся в мысль о смерти, мы действительно не понимаем до конца — до какой степени бессмертен разум и бессмертна личность. Я говорю, это именно не страх, а это когнитивный диссонанс — помыслить себя конечным. Вот это совершенно для меня исключено — и не из-за эгоцентризма моего, а просто из-за глубины этой рефлексии, восходящей ещё к очень далёкому детству.
Поэтому и вам, Дима, я советую почитать стихи Лосева, где он борется всё время со своим самоощущением, со своим глубоким убеждением, что мир не случаен и жизнь не конечна, а в нём побеждает иногда рационалист. Понимаете, у него же вечное страшное ощущение пустоты в центре собственного Я:
Повстречался мне философ
в лабиринтах бытия.
Он спросил меня: «Вы — Лосев?»
Я ответил, что я — я.
И тотчас заколебался:
я ли я или не я.
А мудрец расхохотался,
разлагаясь и гния.
Вот если бы ваш внутренний мудрец сгнил, было бы лучше, потому что тогда Я заговорило бы в полный голос. И вообще почитайте Лосева. Это очень, как сегодня говорят, духоподъёмный поэт. Я его очень люблю и любил.
А теперь — про Тынянова.
Когда-то очень точно сказал Владимир Новиков (наверное, вообще один из лучших российских специалистов по творчеству Тынянова), что второй такой роман, как «Смерть Вазир-Мухтара», написать невозможно, потому что дальше тупик. Мне всегда казалось (я в детстве прочёл эту книгу, лет в двенадцать), что она ближе к стихам, нежели к прозе. И действительно форма этой книги (короткие афористические, очень резко гротескные зарисовки), сама эта форма выражает очень точно пойманное состояние, — состояние, которое является синтезом трёх главных настроений.
С одной стороны, это чувство переломившегося времени, потому что книга, если вы помните, начинается со слов: «На очень холодной площади в декабре [тысяча восемьсот] двадцать пятого года исчезли люди двадцатых годов с их прыгающей походкой, — и понятно, почему «прыгающей» — торопящейся, взволнованной. — Время вдруг переломилось». Тынянов не от хорошей жизни начал писать историческую прозу. Он, как и Трифонов, прибегнул к ней, разумеется, как к метафоре.
Тоже довольно глубокая мысль Новикова о том, что если бы Тынянов не ограничивался условиями какой-то цензуры, не смирял себя сам ограничением, в дальнейшем, конечно, идеи «формальной школы» обязаны были перейти на социальную сферу. Они у Гинзбург уже переведены на сферу психологическую, где она пытается деконструировать, разобрать человеческое поведение, разобрать всё как систему приёмов не только искусства, но и психологическую защиту и так далее. Наверное, на социальную сферу это обязано было перейти — например, как перешёл структурализм на неё в журнале «Неприкосновенный запас». Поэтому Тынянов, с одной стороны, конечно, болезненно переживает перелом времени, и слом времён является его главной темой — что в «Смерти Вазир-Мухтара», что в не понятной многими «Восковой персоне».
Второе ощущение, которое владеет Тыняновым. Почему он берётся за Грибоедова? Его волнует феномен литературного молчания: почему писатель создал шедевр и замолчал? Меня как-то всегда очень занимали эти странные случаи — случай Сэлинджера, случай Грибоедова. «Я столько всего могу сказать. Отчего же я нем, как гроб?» — цитирует он Грибоедова. По-моему, это кем-то сохранённое высказывание или из письма. Но действительно, почему Грибоедов, написав «Горе от ума», молчит? Тынянов даёт довольно чёткий ответ на этот вопрос: потому что не для кого, потому что нет больше той аудитории, которая могла бы его услышать; и, грубо говоря, после двадцать пятого года нет той России, для которой можно было бы это написать. В общем, это записки удушенного человека.
И, конечно, третий аспект, уже не социальный, а чисто экзистенциальный, если хотите — бытовой. Вот есть возраст. Тот же самый кризис среднего возраста, о котором так много мы сегодня говорили. Как его пережить? Что делать, когда делать нечего, и непонятно зачем? Остаётся один стимул — честь. Вот для Грибоедова это честь. Гибель Грибоедова — это гибель последовательного человека среди конформистов, человека, у которого есть какие-то надличностные мотивы. Они никому больше не нужны. И то, что он предлагает России — это были бы замечательные спасительные проекты, но эти проекты никому не нужны. И смерть человека, который не нужен, — это и есть тема «Смерти Вазир-Мухтара». Это, конечно, роман-надгробие, роман-автоэпитафия. И совершенно прав Новиков, что после этой книги другую такую написать нельзя. Ну, потому и нельзя, что она — предел. Она — предел плотности, остроты, художественной выразительности.
Роман «Пушкин» уже гораздо жиже — и не потому, что Тынянов в это время болеет рассеянным склерозом, а потому, что это, как говорит Лидия Гинзбург, «вещь не из внутреннего опыта». Вот она говорит, что лирика Олейникова не из внутреннего опыта — на что Олейников возражает расплывчато: «Бывают разные внутренние опыты». Может быть, действительно роман «Пушкин» — это хроника преодоления болезни. И в этом смысле роман о Пушкине только так и должен писаться, потому что Пушкин тоже всю жизнь преодолевает имманентности, преодолевает врождённое — свои предрассудки, свои обстоятельства. Он и любит эти предрассудки, и преодолевает их. И роман о борьбе с болезнью — с рассеянным склерозом, от которого гибнет Тынянов, — это, конечно, и роман о Пушкине тоже. В известном смысле Пушкин борется там с рассеянным склерозом времени, потому что время вокруг деградирует, забывает слова, забывает принципы, а он пытается напоминать. Время теряет свой интеллектуальный уровень, а он — живое напоминание о могучем движущемся интеллекте.
В этом смысле, наверное, «Пушкин» — тоже вещь из внутреннего опыта, но она, по выражению Шкловского, написана «вдоль темы», это описательная книга. А вот «Смерть Вазир-Мухтара» — это роман, где состояние показывается, где мы проживаем изнутри состояние Грибоедова, состояние доктора, состояние Мальцова (но прежде всего, конечно, Грибоедова). Записки очень умного, очень желчного человека, который мог бы, но — незачем. Вот это страшное состояние прокрастинации… И весь роман — это прокрастинация.
Кстати, «прокрастинация» — самое частое слово, которое случается в ваших исповедальных письмах. Наверное, потому, что это слово часто вытаскивает «Яндекс» как пример запроса. Но думаю, что за этим стоит нечто более глубокое. Прокрастинация — чувство человека, который должен встать со стола и не может этого сделать по разным причинам (то ли лень, то ли «дай-ка я ещё один пасьянс разложу»), чувство кризиса мотивации. Помните этот классический анекдот, когда казнят на электрическом стуле очень толстого человека, а он не влезает в стул. Его начинают держать на хлебе и воде — он всё равно не влезает. Ему говорят: «Почему ты не худеешь?» Он говорит: «Мотивации нет». Вот так и здесь. Отсутствие мотивации — это самая страшная драма таких эпох, как наша.
И именно в такую эпоху написана «Смерть Вазир-Мухтара» (роман 1927 года), и дальше это всё прогрессировало. И в том-то и ужас, что современники этого не почувствовали. Это было состояние очень умного человека, прозорливо заглянувшего в следующие десятилетия. Вопрос в том, как найти для себя мотивации, когда их нет, когда исторический путь — тупик, когда единомышленники истреблены, когда во главе страны стоит Николай (там очень хороший портрет Николая), думающий только о том, как он выглядит. Кстати, Тынянов здесь, конечно, восходит к эпиграмме Тютчева «Ты был не царь, а лицедей». Но он действительно был лицедей, ему ничего не надо. Ему надо производить впечатление, ему надо замораживать Россию, а не двигать её. Что делать в такие эпохи? И писать-то нельзя. Вот — честь сохранять.
Кстати говоря, Грибоедов не нашёл мотивировки. Пушкин нашёл, но нельзя не заметить того, что талант Пушкина и личность Пушкина перенесли страшную фрустрацию, они были необратимо побеждены. Как раз в диалоге с Мицкевичем — «Медный всадник» как ответ на «Олешкевича», на знаменитую элегию «Московским [Русским] друзьям» («Друзьям-москалям») и так далее — Пушкин совершенно чётко даёт понять, в каких условиях приходится ему жить и писать: в условиях вечного конфликта гранита и болота. Да, он нашёл для себя там органическую нишу — транслятора государственной воли вниз, транслятор народных надежд наверх. Но такая ниша бывает одна — для великого поэта. А Грибоедов в эту нишу не помещается. Грибоедов — фигура пограничная, почему он и живёт за границей, пересекает границы, он дипломат. И эта пограничность его фигуры в том, что в нём есть и Чацкий, и Молчалин, в нём есть и борец, и карьерист, есть и конформист, и человек чести. И это тоже драма, потому что Тынянов очень тяжело переживал свой статус официального учёного.
Есть замечательный диалог его с Чуковским, записанный Чуковским, где Тынянов говорит: «Ведь страшно признаться, что любишь колхозы, потому что упрекнут в сервильности». Невозможность быть искренним патриотом, честным патриотом очень мучает Тынянова. Он хочет, как и Пастернак, «труда со всеми сообща и заодно с правопорядком», но у него вкус слишком хороший. Поэтому Тынянов — конечно, обречённая фигура.
«Восковая персона», которую совсем не понял Ходасевич, изругав её. Вот пример самой субъективной статьи — более грубой, чем у Маяковского. Он хочет Тынянова уязвить побольнее и пишет, что в литературной группе формалистов почётнее всего было быть открывателем-новатором, а самое постыдное было быть эпигоном. Так вот, Тынянов — «самое постыдное» — он именно эпигон. Ну, когда ты пишешь о человеке, который является основоположником этой группы (вместе с Якобсоном и Бриком), об отце «формального метода», то ты хоть прочитай для порядку «Проблему стихотворного языка»! Любишь ты, не любишь Тынянова, но ты хоть понимай, что основы советского стиховедения, основы стиховедения XX века заложены им! И Якобсон, и Брик, и Шкловский оглядывались на него как на учёного наиболее универсального. Ты прочти всех архаистов и новаторов, прости господи, а потом уже будешь судить о том, кто эпигон, а кто — нет. Так вот, конечно, «Восковая персона», в которой Ходасевич пристрастным своим глазом увидел только стилистическое упражнение, — это как раз страшная повесть о костенеющем времени, о постреформенной России, о том, как в России исчезает движение и заменяется тотальной имитацией.
Пожалуй, ещё более откровенная вещь в этом смысле — «Подпоручик Киже», где один человек возникает из-за описки, а другой из-за этой описки исчезает, он вычеркнут из списков и больше не существует (в России жив только тот, кто есть в списках). «Подпоручик Киже — это довольно тонкая и довольно интересная вещь. И, кстати, особенно интересно, что образ Павла там замечательный — наверное, более гротескный и менее глубокий, чем у Мережковского, но важно подчеркнуть, что Павел — жертва. И Тынянова он тоже жертва, неслучайно его Гамлетом называл Герцен. Конечно, он зверюга, в нём есть садическое начало. Он и с солдатами безобразно обращается, и с офицерами, и он срывает постоянно своё зло. И можно сказать, что к последнему году жизни это уже просто душевнобольной.
Но изначально Павел — человек, который действительно мечтал реформировать многое в России, просто Россия его сожрала, и не в своё время он начал. А так это человек с потенциями великого реформатора, и главное, что человек искренний, человек по-своему доброжелательный, просто замученный. И вот о Павле в «Подпоручике Киже» сказано хотя и с огромной иронией (почти с издевательской), но и с глубочайшим сочувствием, потому что роль личности в российской истории печальна: любая тенденция сжирает личность, прежде чем она успеет что-то сделать.
Нельзя, конечно, не сказать и о теоретических работах Тынянова, и в особенности о его литературной критике. Я думаю, что, наверное, лучшая литературно-критическая статья 20-х годов (конечно, наряду с рецензией Брика не «Цемент») — это тыняновский «Промежуток», где как раз содержится довольно несправедливая оценка Ходасевича как сугубо эпигона. Там сказано, что он, может быть, и хороший поэт, но мы заслуживаем нового поэта, и нам поэтому интереснее Маяковский. Отсюда же, кстати, дикая ненависть Ходасевича к Маяковскому. Потому что возводить Маяковского к XVIII веку и не увидеть намеренной архаизации Ходасевича, туда же обращающегося (он потом и роман о Державине написал), — вот этого, конечно, он не мог простить — того, что Маяковского к одической традиции возвели, а он остался вечно непонятым и незамеченным.
Что касается статьи «Промежуток». Там вообще масса ценнейших наблюдений о том, что поэт уходит на сопредельную территорию, чтобы набраться там новых навыков и смыслов — это уход Маяковского в газету, а в своё время уход Пушкина в мадригал. Это изящно дополняет теорию Шкловского о движении литературных жанров: периферийные выходят в центр, а центральные уходят на периферию, в глубину.
Второе и очень важное, что там есть — это, конечно, очень ценное понимание творческой эволюции Пастернака и Мандельштама. Я думаю, что Тынянов был единственным человеком, который по-настоящему эту эволюцию понимал. И я понимаю жажду Мандельштама увидеться с ним. Он просит его приехать в Воронеж, говорит, что в последнее время он «становится понятен решительно всем, и это грозно». Это очень верное наблюдение, потому что для Мандельштама лучше было быть непонятным, как Пастернак замечательно умел. А Мандельштам действительно становился всё понятнее — и всё страшнее. Конечно, внутренний хаос нарастает, но этот хаос совпадает с читательским, поэтому Мандельштам понятен, конечно. Но Тынянов был уже смертельно болен и не мог к нему туда, в Воронеж, приехать, он ограничился пересылкой денег.
Не только «Промежуток», а большинство литературно-критических диагнозов Тынянова было очень точным. Конечно, это было жестковато. Он не понял совершенно, например, «Хулио Хуренито». Вот Шкловский оставил знак вопроса, что, может быть, этот фельетонный роман удачен, а Тынянов припечатал: «У него все герои — у них чернила вместо крови. И они умеют только гибнуть, а жить не умеют. И все они двумерные, их носит ветер». Ну, может быть, это просто другая проза. Зачем от всех требовать плоти, достоверности, психологизма? Бывает роман-фельетон, и он бывает ещё прозорливее.
Но тем не менее большинство тыняновских диагнозов, большинство тыняновских оценок удивительно точны, поэтому Маяковский и говорил ему: «Давайте, Тынянов, разговаривать, как держава с державой», — сказал он ему во время встречи в гостинице «Европейская». Я думаю, что и проза Тынянова, и его литературная критика (я не беру сейчас литературоведение совершенно гениальное) — это, конечно, в первую очередь пример трезвого, неустанно работающего, прекрасно организованного ума, пример интеллекта, сильного чувства истории и беспощадной честности к себе. Читайте Тынянова — и вам станет ясно, зачем жить.
А мы увидимся через неделю.
*****************************************************
24 июня 2016
-echo/
Д. Быков― Доброй ночи, дорогие друзья! В эфире «Один». Дмитрий Быков, слава богу, не один в студии, потому что, как и было анонсировано, удалось Александра Жолковского, замечательного профессора-филолога, живьём притащить в студию. Он, сколько захочет, столько с нами и пробудет. Вопросов ему достаточно много. Лекция сегодня, сразу говорю, по достаточно многочисленным просьбам и по недельной давности заявке будет о Павле Антокольском — это в последней четверти эфира. А пока поотвечаем на вопросы, которые пришли Александру Константиновичу (ну, Алику, как он обычно себя называет) и мне.
Алик, я начну с вопроса, который мне представляется чрезвычайно занятным. И я даже, грешным делом, уже вам этот вопрос анонсировал в предварительном разговоре. Игорь спрашивает: «С точки зрения Михаила Леоновича Гаспарова, филология — это нравственность. Мне же, напротив, кажется, что филология — это безнравственность, поскольку на протяжении XX века российская филология занимала позиции диаметрально противоположные. Осмелюсь напомнить также, — продолжает Игорь, — что бо́льшая часть диссидентов происходила из физиков, а не из филологов». Как вы можете это всё прокомментировать?
А. Жолковский― Это сложно, тут конгломерат вопросов. Когда Михаил Леонович Гаспаров говорит своё «филология — это нравственность», он имеет в виду, что та филология, которую он любит и которой хочет заниматься (и по возможности занимается и практикует), нравственная или должна быть нравственной. Для него это серьёзное нравственное дело: нужно держаться истины, правды, честных методов исследования и так далее, и так далее.
А та продажная филология, о которой говорит слушатель, она, конечно, имела место, но не вся она была филологией, а в значительной мере просто была, так сказать, спекулятивными занятиями приспособленцев. Но даже если какие-то филологи и пытались быть нравственными, серьёзными, совершенно честными и так далее, обстановка и цензура не всегда это позволяли, поэтому производилось такое давление, создававшее полунравственную филологию, где эзоповскими средствами как бы говорилась и правда, и полуправда, и что-то такое в этом роде.
Является ли филология как таковая вообще нравственной — это отдельный и совсем другой вопрос. Я так не думаю. Я думаю, что наука (если мы позволим себе назвать филологию наукой — а она хочет ею быть, но необязательно достигает этого) старается быть точной, верной, правильной и так далее, но нравственность — не главная её задача. Главная задача — это вскрытие истин, фактов, законов, которые могут показаться и безнравственными.
Д. Быков― Ну а чем вы объясняете действительно тот факт, что бо́льшая часть диссидентов происходила из технической интеллигенции (из физиков, из биологов, как мы знаем от Улицкой), а филология сидела, в общем, засунув язык достаточно глубоко?
А. Жолковский― Ну, во-первых, среди нашего брата-филолога тоже всё-таки были какие-то диссиденты. А во-вторых, тут есть опять-таки серьёзная причина социологическая. Филология — наука, мало что…
Д. Быков― …меняющая в мире.
А. Жолковский― Мало того что она не всегда нравственная, вообще очень зависимая и пытается притворяться чем-то другим и так далее. Это не такая нужная и точная наука, чтобы она могла стоять на собственных ногах и возражать сильной власти, говоря: «Вы там что хотите, а всё-таки она вертится». У физиков же, которые одновременно делали для страны что-то совершенно бесспорное (какое-нибудь ядерное), была бо́льшая точка опоры просто, чтобы чувствовать себя независимыми, поэтому они как бы по социально-властному положению в обществе были более независимыми, и потому могли быть нравственнее в этом смысле, я бы так сказал.
Д. Быков― Чрезвычайно интересный вопрос от Константина: «Полезный ли это опыт — противостоять в одиночку всему обществу?» Ну, имеется в виду, видимо, ваш опыт 70-х годов.
А. Жолковский― Ну, «в одиночку»… Не будем из меня делать какого-то такого…
Д. Быков― Ну, имеется в виду — в составе меньшинства. Назовём это так.
А. Жолковский― Одиночки — это как Солженицын: один против всего государства, что-то такое. Это опыт трудный, интересный, ценный, потому что он очень требовательный. Но в то же время он очень горький, потому что постоянно возникает вопрос: а кто я такой, чтобы обязательно чувствовать себя всё время правым, вопреки такому количеству…
Д. Быков― Да, есть очень большой соблазн подумать, что мы не правы.
А. Жолковский― Есть давление стокгольмского синдрома, так сказать: почему вся рота шагает…
Д. Быков― Да, не в ногу, а ты в ногу.
А. Жолковский― …не в ногу, а ты один в ногу? Ну, это опыт и острый, и серьёзный. Очень интересное и замечательное было эссе у Бродского ещё в давние годы, оно называлось «The Condition We Call Exile» («Состояние, которое мы называем изгнанием»), где он рассуждает о том, что быть в изгнании — значит оказаться принципиально одиноким, принципиально оторванным, поскольку ты оказываешься без опоры, по крайней мере на всё родное и своё, и так далее. Зато это порождает и даёт необычайную энергию индивидуального стояния, индивидуального отстаивания способности быть самим собой и понимать свои ценности, своё напряжение жизнью.
Д. Быков― Замечательный вопрос: «Уважаемый Александр Константинович, что за ужасная вещь на вас надета?» Имеется в виду… Ну, нас кто-то всё-таки смотрит по Сетевизору.
А. Жолковский― Да, значит кто-то смотрит. Да нет, ничего ужасного. Тут я немного потянул шею. Я могу произнести греческие слова, которые описывают, как это называется, но у нас сегодня всё-таки филология, а не вертебрология.
Д. Быков― Филология, а не физиология, не вертебрология, да.
А. Жолковский― Ну, там потянута шея. В общем, надо поддерживать мышцу, чтобы она там держала мою…
Д. Быков― Но ничего страшного не произошло?
А. Жолковский― Ну, вроде бы нет. Как говорится, «доктор сказал резать резать». Вроде бы резать не будут. Вообще говоря, когда боль перестаёт, можно это снять — и тогда можно немножко поговорить с совершенно открытым забралом.
Д. Быков― Ну, потом. Естественно, вы напросились сами на вопрос о Бродском — и сразу два пришло вопроса о том, как вы относитесь к битве за Бродского, развернувшейся сейчас, к попытке присвоить его со стороны казённого патриотизма. И отдельно вопрос про стихотворение «На независимость Украины». Как вы оцениваете его с риторической точки зрения?
А. Жолковский― Я его наизусть не помню, узнал как-то поздно, в центр творчества Бродского его как-то не ставил и не ставлю. Общий вопрос, который тут возникает: сколько мы можем великому поэту позволить вот этой самой безнравственности, с которой начали? Ну, Бродский пишет это, Пушкин пишет «Клеветникам России». Каждый пишет что может. Всё-таки мы любим поэзию не за это.
Д. Быков― А битва, которая происходит?
А. Жолковский― А за битвой я не очень слежу.
Д. Быков― То есть биографию — работу Бондаренко — не читали?
А. Жолковский― Нет, Бондаренко не читал, извините.
Д. Быков― Принесу.
Замечательный вопрос: «Трижды принимался читать «Затоваренную бочкотару». Не понимаю, что вы находите в этом произведении, которое так часто хвалите». Имеется в виду повесть Аксёнова 1968 года. «Забрало» снято наконец.
А. Жолковский― Повесть Аксёнова «Затоваренная бочкотара» относится к числу моих любимых вещей Аксёнова. Но, вообще говоря, это вкусы, а о вкусах не спорят, и навязывать их было бы смешно. У меня несколько вещей Аксёнова очень любимых — прежде всего рассказ «Победа». И «Затоваренная бочкотара», может быть, на втором таком месте (опять-таки это мои вкусы, это ничего никому не прописывается). Объяснить, почему она так хороша? Я пробовал. Мы, Дима, уже немножко об этом заговорили с вами.
Д. Быков― Потому что я тоже не понимаю, что вы там находите, честно.
А. Жолковский― Во-первых, конечно, это вещь своего времени — 1968 года. Она принадлежит своей эпохе. И надо было быть в той культурно-эстетической волне, чтобы полностью вибрировать на каждое её предложение и так далее. Но, по-моему, в этой вещи замечательно запечатлены, встроены, вкраплены, сверкают оттуда, как алмазы или как изюм в каком-нибудь пироге, типичные и моменты, и повороты, и словечки, и клише того времени, вобравшие в себя ту атмосферу напряжения, вопросы и ответы к имеющейся ситуации. Ну, просто это текст, в котором есть много мест, которые хочется процитировать. Как мы любим процитировать из «Горя от ума» и «Евгения Онегина», для нас это энциклопедия цитат…
Д. Быков― Из Ильфа и Петрова.
А. Жолковский― Да. Вот так же для меня «Затоваренная бочкотара» содержит такие места.
Д. Быков― «You like sentences».
А. Жолковский― Да, «фраза, которую я очень люблю». Я как-то прочёл, что Хемингуэя спросили… Ну, это апокриф, может быть, это необязательно так было (в Интернете где-то нашёл). Его спросили: «Как становятся писателем?» И Хемингуэй якобы отвечает: «Как становятся писателем? Интересный вопрос. Как становятся писателем? Наверное, надо любить предложения», — говорит он. Вот в «Затоваренной бочкотаре» очень много предложений, которые хочется любить. Ну, я не знаю, вспомнить какой-нибудь…
Д. Быков― Ну, «Старик Моченкин дед Иван».
А. Жолковский― «И все спрашивали: «Ирина, а вы помните, у Ремарка? А вы помните, у Хемингуэя?» — «За какой-то коктейль «Мутный таран» я обязана им всё помнить», — думает Ирина Валентиновна». Это отдаёт вот культурой тех времён.
Или там какой-то лётчик, который опыляет какими-то удобрениями, в то же время летит в небе, а герои едут в этой полусломанной машине с этой бочкотарой. И вдруг этот самолёт начинает падать. И кто-то из них там произносит: «Умело борется за жизнь».
Вот все такие советско-мужественно-стихотворно-матросские какие-то идеологемы там в очень хорошей оправе поданы. Ну, в ней есть ещё и сюжет, там много чего. История с Халигалией одна чего стоит.
Д. Быков― А с Халигалией — это где он всё про неё знает, но никогда там не был?
А. Жолковский― Да, там герой-интеллигент…
Д. Быков― Вадим, по-моему.
А. Жолковский― …Дрожжинин, который знает каждую реку, каждого человека и находится в переписке с каждым жителем этой страны, но никогда там не был. А наоборот, Володька Телескопов там побывал. «Мы помощь везли для землетрясения», — что-то такое. И я как-то Аксёнову (я был немножко с ним знаком) говорю: «Здорово у вас тут, что он там всех знал и никогда не был. Это, наверное, у вас цитата из Бабеля? Это из рассказа «Ги де Мопассан»?» Там Казанцев — персонаж, который знал…
Д. Быков― Всё знает о Париже.
А. Жолковский― Нет, про Испанию. Знал в Испании каждую реку, каждый замок, но никогда там не был. Аксёнов сказал: «Не читал этого рассказа. Ничего подобного». Я говорю: «Ну как же, как же?» Он говорит: «А вот вы, Алик, ведь специалист по языку сомали, — а я тогда был редким советским специалистом по языку сомали. — Вы были в Сомали?» — «Не был». — «Ну вот! Всё взято из источников жизни, и не надо никаких цитат».
Д. Быков― Халигалия. Прелестно!
Вот опять-таки вы напросились сами на вопрос о Бабеле. Спрашивает Наташа: «Читала вашу совместную книгу с Михаилом Ямпольским о Бабеле и вашу работу о рассказе «Улица Данте». Как вы полагаете, «Улица Данте» — это начало нового Бабеля или «доскребание последышей»?» Вот это интересная формула — «доскребание последышей». Ну, может быть, так оно и есть.
А. Жолковский― У меня готового ответа на этот вопрос нет, я об этом не думал. Рассказ, мне кажется, замечательный и прекрасно весь исполненный. То есть желания сказать «ах, тут какие-то последыши, поскрёбыши, что-то последненькое», — у меня такого желания нет. А насчёт начала нового Бабеля… Надо иметь какую-то теорию нового Бабеля. У меня нет такой теории, что вдруг… В 30-е годы начинается какой-то совсем новый Бабель? У меня нет такого представления.
Д. Быков― Но вы в курсе, было что-то или не было взято при аресте?
А. Жолковский― Я никак особенно не в курсе. Но мне однажды пришлось разговаривать на эту тему с вдовой Бабеля, Антониной Николаевной Пирожковой — тогда ещё вполне живой и активной, очень старой, девяностолетней, но ещё вполне… Это были 1994–1995 годы, когда впервые праздновались огромные годовщины Бабеля. И там все эти разговоры: был ли арестован роман про чекистов или не был? И она сказала, но опять-таки со своей колокольни: «Ничего такого не было». — «Почему?» — «Он не очень любил работать, он не очень любил писать». Мы знаем, что Бабель был очень живой человек: он любил играть на конных скачках, он любил женщин, он любил путешествия, любил поехать во Францию и там знать, что поесть, и так далее.
Д. Быков― Бетала Калмыкова любил очень.
А. Жолковский― Он много чего любил. Возможно, такого романа и не было. Но это не документальное утверждение…
Д. Быков― Слух.
А. Жолковский― …а такой вот слух.
Д. Быков― «Что продуктивнее в эмиграции — общаться со своими или пытаться врасти в чужую жизнь?»
А. Жолковский― Ну, это трудный вопрос, на который возможны, наверное, разные ответы. Я меньше врос в чужую жизнь, чем общаюсь со своими. А то и вообще ни с кем не общаюсь — вот такое тоже может быть. Но я думаю, что, конечно, конструктивно, осмысленно врастать и становиться заодно ещё и полноценным американцем или французом.
Д. Быков― «Прочёл в пятом «Новом мире» ваше эссе об американской бюрократии. Чем она так уж лучше российской?» Ну, имеется в виду, видимо, как вы получали паспорт там.
А. Жолковский― Да. Но там разве у меня говорится, что она как-то лучше? Я такого утверждения там не делаю.
Д. Быков― Ну, может быть, сама интонация как-то…
А. Жолковский― Я рассказываю эту историю как очередную историю забавных событий, которые бывают с людьми, попадающими в объятия разных учреждений. Это главная черта жизни нашего XX и XXI века: мы всё время в объятиях институтов, учреждений и так далее — как бюрократических, конкретно физических учреждений, так и всякого рода бумажных, символических и так далее. Но там история как раз кончается довольно мило и неплохо.
Д. Быков― Просто потому, что вы нашли пиджак, сняли его.
А. Жолковский― Ну да. Дамочка дала мне пиджак, и я трансвеститно снялся в женском пиджачке. Ещё раз, вопрос был какой?
Д. Быков― Ну, бюрократия американская.
А. Жолковский― Когда я эмигрировал, а это было 30 с лишним лет назад, у меня было наивное ощущение (возможно, как у задающего вопрос), что здесь, в России, жуткая бюрократия, советская, а там всё как-то замечательно.
Д. Быков― Как по маслу.
А. Жолковский― Прозрачно, как по маслу и так далее. И мне тогдашние друзья и коллеги-лингвисты американцы объясняли: «Нет-нет-нет, Америка — очень бюрократическая страна. Огромное количество бумаг, масса процедур. Всё надо писать, соблюдать, сохранять все бумажки и так далее и тому подобное». И это полная правда. И самая страшная организация в Америке для американцев — это…
Д. Быков― Налоговое ведомство.
А. Жолковский― Налоговое ведомство.
Д. Быков― Это я знаю.
А. Жолковский― Отнюдь не какие-то ФБР, ЦРУ.
Д. Быков― Конечно. Налоговое ведомство знает про вас больше гораздо.
А. Жолковский― Да, налоговое ведомство — это главное.
Д. Быков― «Моя сестра прослушала ваш курс по истории мировой новеллы. Почему этот жанр умер?» Имеется в виду, конечно, не курс, а жанр «новелла».
А. Жолковский― Сестра прослушала в Америке?
Д. Быков― Да.
А. Жолковский― Почему жанр «мировая новелла» умер?
Д. Быков― Ну, вообще умер жанр «новелла».
А. Жолковский― А разве он умер?
Д. Быков― Вы знаете, что рассказа нет сейчас.
А. Жолковский― Я знаю, Дима, что вы так замечательно умеете писать рассказы, а настаиваете…
Д. Быков― Спасибо, Алик. «А пишете зачем-то романы».
А. Жолковский― А пишете зачем-то романы. Возможно, здесь происходит та динамика, о которой…
Д. Быков― Я вам могу ответить, зачем я пишу романы.
А. Жолковский― Ну подождите, дайте я что-нибудь отвечу.
Д. Быков― Нет, это я потом, потом.
А. Жолковский― Я думаю, что так устроено в престижно-институциональном смысле, что за романы дают большие премии и как-то это признают за большую литературу, большую книгу и так далее, а за рассказом нет этого статуса. И потому невольно безнравственный писатель пишет длинно, а не коротко. Шутка, Дима.
Д. Быков― Нет, я понимаю. Только институционально? Или есть что-то в самом жанре, что его подтачивает изнутри?
А. Жолковский― Для меня не подтачивает. Есть замечательные новеллисты ещё XX века, каких я помню.
Д. Быков― Ну, например? Вот Пелевина, я помню, вы включили.
А. Жолковский― Ну, Пелевин из русских писателей — несомненно, да. Я думал почему-то… Испанец…
Д. Быков― Перес-Реверте?
А. Жолковский― Нет-нет. Автор «Blow-Up».
Д. Быков― Господи боже мой!.. Кортасар?
А. Жолковский― Кортасар! Замечательнейший новеллист. Мы в XX веке…
Д. Быков― Алик, правда замечательный новеллист?
А. Жолковский― По-моему, да. Я просто XXI век уже не так хорошо знаю, и поэтому не берусь говорить.
Д. Быков― Нет, подождите…
А. Жолковский― И вообще всякого рода слова — «конец романа», «конец рассказа» — это такие модные мемы, которым не надо особенно доверять. Объявили вдруг конец романа!
Д. Быков― Про Кортасара — это отдельная тема. Нет, роман живёхонек, с романом всё хорошо.
А. Жолковский― А сколько кричали «конец романа»?
Д. Быков― Мне просто кажется, что хороший рассказ труднее написать, чем хороший роман.
А. Жолковский― Вот и старайтесь.
Д. Быков― На маленьком пятачке крайне сложно это сделать.
А. Жолковский― Правильно. Ну да, труднее. «Писать трудно, брат», да?
Д. Быков― Да, «difficile à écrire».
А. Жолковский― Я не знаю. Они ведь были «серапионы». Они, наверное, по-немецки это думали?
Д. Быков― Нет, они это выдумали вообще.
А. Жолковский― Выдумали, да? Не то что кто-то сказал у Гофмана, нет?
Д. Быков― Нет, по-моему, они это выдумали, да.
А. Жолковский― «Писать трудно, брат». Ну, трудно. Вот и хорошо.
Д. Быков― «Как относился Солженицын к вашей версии о том, что Ленин — это Бендер?» Ну, имеется в виду…
А. Жолковский― Солженицын не дожил до этой моей версии.
Д. Быков― Он не читал эту публикацию?
А. Жолковский― Ну, эта публикация создана где-то в последние десять лет, а не раньше.
Д. Быков― А, то есть он просто не знал?
А. Жолковский― Я написал это, так сказать, задним числом.
Д. Быков― Ну, мы поясним не читавшим, что речь идёт об анализе вставки, так называемой «сплотки» глав «Ленина в Цюрихе».
А. Жолковский― Да, это замечательная книжка.
Д. Быков― По-моему, это единственный текст Солженицына, который вы оцениваете высоко. И «Кочетовку», конечно.
А. Жолковский― Я очень высоко ценю «Кречетовку»/«Кочетовку» и очень высоко ценю «Ленина в Цюрихе». Не хочу ничего плохого сказать про всё остальное. Но тут опять возникает вопрос масштаба. В «Ленине в Цюрихе» удалось… Ну, это был 1975 год, ему это нужно было, видимо, как-то и коммерчески — он только что был выброшен из России, надо было что-то издать, видимо. Он сам оказался в Цюрихе. Короче говоря, была издана эта замечательная книжечка с ленинским портретом. Как я написал: «Если бы её подложить в киоск…» Как это? Киоск гос…
Д. Быков― …печати.
А. Жолковский― «…Госпечати, то никто бы её и не заметил». По-моему, очень удачно, потому что Солженицыну удалось спроецировать в образ Ленина свои собственные черты такого матёрого одинокого волка-диссидента, борца несколько истеричного и так далее. А ведь лучшие результаты получаются, когда автор в героя умеет вложить много от себя.
Д. Быков― Я, грешным делом, спросил Наталью Дмитриевну [Солженицыну], что она думает об этой статье.
А. Жолковский― Я её не спрашивал, хотя я с ней был когда-то хорошо знаком (в последнее время меньше). Но я говорил с Сараскиной, которая с ней очень дружит, и она биограф Солженицына. Она сказала, что они как-то вместе читали, и вроде бы им понравилось.
Д. Быков― Он сказала: «Он никогда этого не отрицал». То есть он всегда утверждал, что авторские черты действительно туда вложены.
А. Жолковский― Минутку! Сейчас мы говорим не про авторские черты. Вопрос был про Бендера.
Д. Быков― Да.
А. Жолковский― Статья «Бендер в Цюрихе» — так она называется?
Д. Быков― «Бендер в Цюрихе», совершенно верно.
А. Жолковский― Её прочитала Наталья Дмитриевна, и они обсуждали с Людой Сараскиной.
Д. Быков― И что?
А. Жолковский― И Сараскина мне пересказывала, что вроде бы им понравилось. Я очень рад.
Д. Быков― Васюкинские черты.
«Горький и Лимонов пишут в основном на собственном опыте. Кто, на ваш взгляд, сильнее как прозаик?» Это хороший вопрос!
А. Жолковский― Хороший вопрос. Но мне Лимонов как-то ближе по эпохе, по возрасту, по духу и так далее. Мне кажется, что Лимонов — прозаик совершенно изумительный. Поэт он просто, по-моему, абсолютно первоклассный, а прозаик тоже очень хороший в своих лучших вещах — просто крепкий, интересный, сильный, мужественный. Мы здесь отвлекаемся от его идеологических…
Д. Быков― Да. Но как новеллист он, по-моему, ещё сильнее.
А. Жолковский― Я не уверен, что… Скажем, мне даже его лучшие романы — «Эдичка» и «Подросток Савенко» — нравятся больше, чем его лучшие рассказы — например, «Красавица, вдохновлявшая поэта».
Д. Быков― Про Мандельштама.
А. Жолковский― Рассказ, где он образует такой треугольник любовный — он, восьмидесятилетняя Саломея Андроникова и Мандельштам в прошлом — такой треугольник виртуальный у них.
Д. Быков― Кстати, о Мандельштаме. Хороший вопрос от Татьяны: «Вы деконструируете «ахматовский миф». По-моему, самая пора жахнуть по Мандельштаму!»
А. Жолковский― Ну, «жахнуть» я оставлю на совести…
Д. Быков― Тамары Катаевой?
А. Жолковский― Нет. Кто там пишет?
Д. Быков― Ну, Татьяны.
А. Жолковский― Вопрос Татьяны. Ну, «жахнуть»… Тамара Катаева… Это мы перебрасываемся в такой весело-скандальный жанр. Ведь демифологизация, вскрытие мифа — это же серьёзное дело, оно серьёзное и важное для культуры. Поэтому говорить о нём как о некоем озорном «жаханьи» — просто снижать важную тему.
Про Мандельштама. Несомненно, имеет место некоторый завывышенно-залакированный культ Мандельштама. Так получилось по ряду причин. Но надо сказать, что мандельштамоведение — на мой взгляд, необычайно высокопрофессиональная отрасль филологии, гораздо более профессиональная, чем ахматоведение. Ахматоведение действительно очень сильно занято тем, чтобы вслед за Ахматовой повторять, какая она замечательная, и даже не сметь отойти никуда, шаг в сторону, шаг влево, шаг вправо как побег; говорить про Ахматову не то, что она ожидает, что про неё будут говорить. Тогда как Мандельштам давно стал объектом внимания с точки зрения того, как же он себя подаёт (а это важнейшая тема).
Григорий Фрейдин — ну, наш русский эмигрант Гриша Фрейдин, профессор Стэнфордского университета Грегори Фрейдин — автор книги 1987 года. Там прямо в подзаголовке книги self-presentation — как Мандельштам сам себя представляет, какой он создаёт образ себя в своей поэзии. Книга необязательно даёт все правильные ответы, но она вносит эту очень важную категориальную ноту: что поэт делает, как он себя преподносит, как он нам себя, грубо говоря, продаёт, преподносит и так далее.
И вот рефлектировать на эту тему, понимать, что перед нами не просто божественные стихи, упавшие с неба… Когда мы читаем Надежду Яковлевну, мы знаем, что диктуют ему с небес, он записывает слова, потом вставляет, поправляет — и вот всё. Не так просто, конечно. Мандельштам знает, что пишет, каким он хочет быть, каким не хочет и так далее. И вот Фрейдин первым поставил эту тему. «Жахнуть» не приходится, потому что эта тема исследуется.
Д. Быков― Исследуется?
А. Жолковский― Исследуется. И нет той сакральной истерики, которая возникает, когда мы пытаемся спросить что-то подобное про Ахматову.
Д. Быков― Нет, на самом деле она, конечно, есть.
А. Жолковский― Кто «она»?
Д. Быков― Истерика. Потому что здесь фактор судьбы. Понимаете, Мандельштам всё-таки погиб, и кощунством будет выглядеть любая деконструкция. Ну, если вы попробуете спросить: «Насколько Мандельштам равен себе как поэту? А вот он тырит книжки. А вот он ест чужую моржевятину», — и сразу вам скажут: «Мандельштам погиб!» — и вопрос захлебнётся.
А. Жолковский― Нет, это не так. В биографиях обсуждается, он ли украл у Волошина или Волошин…
Д. Быков― Или Волошин у себя.
А. Жолковский― Кто там у кого взял книгу? Не всегда готов автор, желающий написать житийную биографию, это признать. Но кто-то другой это пишет. Это не запрещается. Нет того, что есть какая-то такая моральная цензура «не скажи слово», а действительно Мандельштам… Он же сам о себе очень ясно пишет: «ворованный воздух», «многодонная жизнь вне закона». Он любит вийоновскую свою противоречивость, и поэтому это законно входит в его образ. Но главное, что Мандельштаму повезло — индустрия исследований Мандельштама попала в очень…
Д. Быков― …профессиональные руки.
А. Жолковский― …в очень профессиональные талмудические руки.
Д. Быков― Вот Юрий пишет: «Жолковский — очень умный, но обаятельный и не занудный. Посидите ещё полчасика». Посидите ещё полчасика. Мы сделаем небольшую паузу.
А. Жолковский― А я и не…
Д. Быков― «…никуда и не иду». Пауза!
РЕКЛАМА
Д. Быков― Продолжаем разговор. Я пока отвечу на вопрос, мне лично пришедший: «Помните ли вы фильм «Шут» Андрея Эшпая? Можно ли сказать, что Валя — это Генка Шестопал конца 80-х, а учитель математики в исполнении Костолевского — продолжение Ильи Семёновича, с учётом прошедших 30 лет». Спасибо, дорогой peeves, это очень хороший вопрос.
Мне случалось с Игорем Старыгиным (я с ним дружил) обсуждать примерно смысл, который заложен в фильм «Доживём до понедельника», потому что это непростая картина, это фильм о крахе романтизма 60-х годов. Старыгин очень чётко формулировал замысел фильма: «Это фильм об историке, который устал преподавать эту историю». То есть об историке, который устал от повторяющихся штампов, устал от бесполезности его работы. Помните, он говорит: «Мой КПД мог бы быть гораздо выше».
Там драма в другом. Генка Шестопал — он же поэт, романтик, вполне себе положительный герой, который противостоит Косте Батищеву, пытаясь каким-то образом утвердить всё-таки прежние романтические ценности. История Вали совершенно другая. Я считаю, что фильм Эшпая блистательный. Во всяком случае, он не хуже повести Вяземского. Юрий Павлович, привет вам, кстати, большой! Вяземский вообще для меня — писатель очень значимый. Я очень хорошо помню, как в 80-е годы дети моего поколения, достаточно умные (тогда росло поколение чрезвычайно перспективное), читали повести Вяземского и рассказы его тогдашние, всегда очень остро провокативные.
И вот шут — этот мальчик, который своими шутэнами ставит людей в чудовищно трагические и неловкие положения, который бьёт по больному, по слабому месту, по формуле «УБУ» (удар — блок — удар) — это мальчик достаточно противный. И когда в конце эти жалкие старшеклассники и первоклассники, и несчастные эти рожи, и всё это под арию из оперы Моцарта «Идоменей» («Пусть невиновность сына пробудит в вас сочувствие!»), там была надежда, что всё это как-то пробьёт его броню ледяную.
Но Вяземский оказался прав в одном: растлевающее время (а это 1982 год) породило растленных типов. И Валя, конечно, растленный тип, и никакой надежды для него нет. И когда я Вяземского спрашивал: «А можно ли сказать, что учитель в каком-то смысле одержал моральную победу? Вот тот, которого так сложно, так спорно сыграл Костолевский», — он сказал: «Ни о какой моральной победе здесь говорить невозможно, потому что просто шут наткнулся на более опытного шута. Нельзя сказать, что победило добро. Победило более опытное зло».
Это достаточно серьёзная и трагическая картина. Конечно, фильм Ростоцкого и лучше, и трогательнее, но фильм Эшпая для нашего времени был блистателен. И мне очень важно, что вы о нём до сих пор помните.
Вопрос к Жолковскому: «Почему такой успех в России имеет антиамериканская риторика?»
А. Жолковский― Почему в России имеет успех антиамериканская риторика? Ну, я совсем не специалист в таком вопросе.
Д. Быков― Но риторика — это филология, в общем.
А. Жолковский― Ну да. Но надо понимать, почему она имеет успех. Я думаю, что Россия находится в кризисном состоянии. И это не новость, я думаю. Экономический ли это кризис или какой-то иной — в общем, очевидно, что это есть. А в кризисные моменты возникает обязательно анти-какая-нибудь история.
Д. Быков― Потребность во враге.
А. Жолковский― Да. Был какой-то старый анекдот: «Будут арестовывать евреев и велосипедистов».
Д. Быков― «А почему велосипедистов?»
А. Жолковский― И тогда спрашивали: «Почему велосипедистов?» Мне кажется, что сейчас спрашивают: «А почему евреев?» — потому что велосипедистов уже где-то арестовали за какой-то ночной пробег, где-то в Петербурге, кажется.
Д. Быков― Да, пробег, совершенно верно.
А. Жолковский― Так что это не сложное риторическое упражнение — вдруг искать врага. Но — не конструктивное, по-моему. И я думаю, не долго продержится, я надеюсь.
Д. Быков― «Дорогой Александр Константинович, вы высоко цените поэзию Лимонова, но почему вам тогда не нравится Хлебников, из которого Лимонов вырос целиком?»
А. Жолковский― Это очень хороший вопрос. Прямо сказать, что мне не нравится Хлебников, было бы неправильно. У Хлебникова много хорошего, замечательного, интересного и того, откуда растёт и Лимонов, и некоторые другие. С Хлебниковым, как и со многим другим, что не нравится…
Скажем, не то чтобы мне Ахматова так сильно не нравится. Разговор идёт не с Ахматовой. Сама Ахматова говорила: «Какая есть. Желаю вам другую». Ахматова может быть какой хочет, и Хлебников тоже, но вокруг них (именно этих двух фигур) создаётся необычайно залакированный, абсолютно нереалистический, до небес какой-то культ, который вызывает вопросы, проблемы и желание его декультифицировать, понять его культовую чрезмерную природу.
Хлебников — прямо уже «ответ на все вопросы», он уже и «король времени», «председатель Земного шара». Я как-то разговаривал с одной более молодой коллегой и что-то такое ироническое сказал: «Король времени, открыл законы времени». И она говорит: «Если бы он не умер так рано, он бы, наверное, открыл законы времени». Но ни на секунду в её сознании не возникает вопрос: есть ли какие-то законы времени — в том смысле, в каком Хлебников, складывая 2, 3 и 317, мог мыслить?
Д. Быков― Но согласитесь, что красивая идея.
А. Жолковский― Идея, что бывают короли времени, короли пространства…
Д. Быков― Колебания струны, цикличность.
А. Жолковский― Это замечательно, но всерьёз это принимать…
Д. Быков― Невозможно.
А. Жолковский― …не нужно, да. А стихи Лимонова — лучшие стихи — мне кажутся действительно замечательными. И там действительно много учёбы у Хлебникова, но с одной большой разницей.
Д. Быков― Хлебников — сумасшедший, а Лимонов — нет.
А. Жолковский― Ну, можно так пойти, в эту сторону. Просто Хлебников — программный футурист, отрицатель всего, заявитель, что он всё придумал сегодня и так далее. Вот тут сидит недалеко автор одной книги, которая называется «Мнимое сиротство», о том, как футуристы…
Д. Быков― Это Лада Панова, не будем скрывать.
А. Жолковский― Да, Лада Панова. Где футуристы утверждают, что они просто родились абсолютно из пустого, из головы Зевса, я не знаю.
Д. Быков― И она доказывает, что они родились?
А. Жолковский― А Лимонов — поэт в самом прямом и простом смысле слова. Это поэт с его поэтическим миром, характерной его душой, его лирикой, его страстями, его болями и так далее. То есть у него «подрывная техника» — весь этот подрыв языковых клише и правил — направлена не просто, чтобы удивить мир подрывом, а направлена на выражение его поэтического мира, очень интересного, по-моему.
Д. Быков― Вот блестящий вопрос! Если бы можно было как-то поощрять вопросы, допустим, вашей книжкой с автографом… Мы можем же это, в принципе, делать, да? Мы можем за хороший вопрос давать книжку с автографом, допустим, вашу? У вас есть книга?
А. Жолковский― Можем давать. А есть такая книжка?
Д. Быков― Ну, у вас есть какие-то книжки.
А. Жолковский― Вообще они есть у меня, да.
Д. Быков― Тогда за этот вопрос я бы дал, безусловно. Григорий спрашивает: «Насколько продуктивна для литературы ситуация идеологического раскола?» Можно час об этом говорить.
А. Жолковский― Идеологического раскола?
Д. Быков― Да.
А. Жолковский― То есть одни считают одно, а другие — другое. И хорошо ли это для литературы?
Д. Быков― Ну, вот то, что сейчас происходит в русской литературе.
А. Жолковский― Это вопрос… Может, вы свою книжку дадите с автографом?
Д. Быков― Алик, давайте дадим две книжки с автографами.
А. Жолковский― Давайте дадим две, потому что это не тот тип вопроса, который меня волнует, хотя он законный вполне. Вы могли заметить, что я вообще не так идеологичен, скажем, как вы.
Д. Быков― Просто это у вас настолько естественно…
А. Жолковский― Я больше люблю стихи, чем идеи.
Д. Быков― Ну, это связанные вещи.
А. Жолковский― Они связанные вещи. Но поэты отличаются тем, что они пишут стихи, а не тем, что у них есть идеи. Идеи есть у всех, и у некоторых — поумнее, чем у поэтов.
Д. Быков― Но в какой-то момент идеи начинают влиять.
А. Жолковский― А поэты здорово пишут стихи. Вот это хорошо. Но вернёмся к теме.
Д. Быков― Идеологический раскол — насколько он продуктивен?
А. Жолковский― Наверное, идеологический раскол порождает сильное интеллектуально-идеологическое напряжение в стране: появляются славянофилы, западники, почвенники и так далее; тут Достоевский, там Тургенев, и так далее. Но чтобы именно это было каким-то корнем особой…
Д. Быков― Продуктивности.
А. Жолковский― Ну, и это тоже. Был такой термин в советские времена, он назывался «вопрекисты» и «благодаристы». Знаете этот термин?
Д. Быков― Да, знаю.
А. Жолковский― Вопреки ли поэты пишут тому, что на них давят и их мучают, или благодаря тому, что на них так давят и мучают?
Д. Быков― «Когда б не били нас, мы б не писали басен».
А. Жолковский― Может быть, есть и этот фактор. Ну, не знаю. Фет прекрасно писал стихи, а что там у него с идеологией, насколько она его волновала, кроме проблемы — дворянин он или нет…
Д. Быков― Алик, но с Некрасовым рядом же нельзя его поставить всё равно.
А. Жолковский― Это «хум хау» [«кому как» — to whom how], Дима: кто поставит, кто не поставит; кто поставит одного, кто — другого. И я знаю, что здесь абсолютно люди расходятся. Михаил Леонович Гаспаров необычно высоко ставил Некрасова.
Д. Быков― И правильно. И я.
А. Жолковский― И вы. Пожалуйста. И необязательно он какой-то эстет, обязательно предпочитающий Фета. Я думаю, что здесь нет простого ответа.
Д. Быков― «Как вы относитесь к творчеству Владимира Войновича? Ничего у вас о нём не читал».
А. Жолковский― Про Войновича действительно мне не пришлось ни разу ничего умного написать. Я читал его смолоду как своего… Ну, он старше меня, естественно.
Д. Быков― Ну, понятно. Вы читали его в бледных ксероксах, естественно?
А. Жолковский― Ну, сначала в журнале «Новый мир» — «Хочу быть честным». Нет, я читал Войновича всегда, и всегда с сочувствием. Самые блестящие вещи, на мой взгляд, — это «Иванькиада» и…
Д. Быков― «Шапка»?
А. Жолковский― Нет. И «Чонкин», первый «Чонкин». По поводу «Чонкина» есть очень интересная статья моего покойного друга, коллеги и соавтора — Юрия Константиновича Щеглова.
Д. Быков― А он писал о нём?
А. Жолковский― Более широко известного народу как комментатор Ильфа и Петрова.
Д. Быков― Ильфа и Петрова, да.
А. Жолковский― Но у него масса других работ. И у него по поводу романа Войновича «Чонкин» есть замечательная статья — по-моему, теоретически очень проницательная. Он ввёл там понятие «административного романа». Щеглов придумал понятие «административный роман». Это такой роман (или рассказ), сюжет, в котором герой никуда не идёт, ничего не делает — он прикован к месту. Иногда он ранен, болен, арестован. Он неподвижен и делать ничего не может. Ну, вот и Чонкин никуда не может двинуться, да?
Д. Быков― Да, он на карауле.
А. Жолковский― Но то, что он говорит, делает, то, что о нём знают, то, что про него рассказывают, то, что про него доносят, волнами расходится по пространству сюжета и романа, достигает царя и антицаря, Сталина и Гитлера, не знаю. Волны информации о герое по административным ступеням мощно расходятся, и сюжет состоит из этого. И так написан не только «Чонкин». Конечно, так написаны…
Д. Быков― Это восходит к Обломову — неподвижный герой, «250 страниц лежу на диване».
А. Жолковский― Нет, речь не в неподвижности, а в том, состоит ли роман в том, что про него говорят и думают, где надо, по административным ступеням власти.
Д. Быков― А, понятно.
А. Жолковский― И вот таков «Хаджи-Мурат».
Д. Быков― Конечно.
А. Жолковский― Хаджи-Мурат неподвижен, а вокруг него в два лагеря — к Шамилю и к Николаю — идут волны.
Д. Быков― Клубится, да.
А. Жолковский― Таков рассказ Лескова «Человек на часах», который опять-таки выпорот, лежит, а вокруг него миф о нём движется. Элементы этого есть в романе «По ком звонит колокол». И так далее. Но важно, что Щеглов выявил вот такой…
Д. Быков― Термин, принцип.
А. Жолковский― …конструктивный тип романа. А с чего мы начали? С Войновича?
Д. Быков― Да, мы начали с Войновича. Войнович это блестяще реализовал.
А. Жолковский― Войнович — очень острый стилист и очень острый автор. С одной стороны, он придумал, как написать «Иванькиаду», то есть историю про квартиру, а с другой стороны — как написать «Чонкина» в жанре административного романа.
Д. Быков― Вы упомянули Толстого — и тут сразу два вопроса. Но я возьму вопрос Виталия: «Можно ли сказать, что поздняя проза Толстого — признак распада личности?» Имеется в виду: не маразм ли это, грубо говоря — «голая проза» так называемая? Ну, «распад личности» применительно к Толстому — это сильно сказано. Так сказать, дай бог нам в его годы…
А. Жолковский― Интересно, что слово «голо» Толстой применяет в ранние годы, перечитывая «Капитанскую дочку» и собираясь писать «Войну и мир». И ему «Капитанская дочка» слишком гола как-то. И действительно «Капитанская дочка» написана…
Д. Быков― Головато.
А. Жолковский― Нет, она написана в традиции чуть ли не… ну, Вальтера Скотта и даже раньше — XVIII века. Действительно для Толстого, желающего напитать всё деталью и дыханием, это голо, и он пишет не так. А потом действительно всё сам себя обдирает, обдирает и хочет писать всё более и более голо. Но я никак не могу сказать, что мой любимый и мною разобранный рассказ «После бала» — это какой-то распад литературы; или что «Хаджи-Мурат» (поздняя вещь) — это какой-то… Совершенно не согласен.
Д. Быков― Да. А мы с Драгунским считаем, что «Отец Сергий» — вообще лучшее, что он написал. Но здесь, видимо, имеется в виду «Азбука», вот эти рассказы. «Железом хлеба добывают».
А. Жолковский― А! Вы знаете, у нас со Щегловым была… Второй раз его вспоминаю. Всегда его вспоминаю. Очень много с ним работал и многого у него научился, и продолжаю учиться. Мы с ним когда-то проделали работу. Мы разобрали детские рассказы Толстого, это 1870-е годы («Акула», «Прыжок» — вот эти), как своего рода та же самая «Война и мир», только для маленьких. Там всё такое же происходит: такие же катастрофы, такие же рывки и так далее. И разобрали это до полного предела, до молекул. И я опять-таки не вижу там никакой в этом бедности, хотя это принципиально нарочито…
Д. Быков― Аскетично.
А. Жолковский― …аскетично, просто и так далее. Толстой в этом смысле… Мне кажется, вот этот распад… Я не знаю, к чему слушатель привязал это понятие, что у Толстого распад.
Д. Быков― Ну, понимаете, многим кажется, что большинство российских литераторов с годами утрачивают адекватность. Это всегда так бывает.
А. Жолковский― Утрачивают адекватность, художественность и начинают проповедовать.
Д. Быков― Да.
А. Жолковский― Ну, было у Толстого. Ну, проповедовал он. Но мы же любим его не только за это.
Д. Быков― «Что вы можете сказать о современных американских студентах?» — вопрос Глеба.
А. Жолковский― Ну, у меня есть какое-то количество американских студентов и аспирантов. Аспиранты — это слависты, то есть либо люди русского происхождения, решившие учиться в Америке, либо американцы, решившие защитить русскую литературу. И у меня есть очень способные студенты. Вы некоторых из них встречали, когда были у нас. Вот как раз одна занимается Толстым и темой животных у Толстого.
А американские первокурсники, просто студенты, которые слушают курс «Русская новелла в переводе» (курс якобы умершей русской новеллы), — это просто срез вообще студентов, которым надо послушать чего-нибудь гуманитарного. Ну, они попали на этот курс, а могли бы слушать немецкую или латиноамериканскую новеллу, или что-нибудь ещё. Они в меру любопытные, в меру невежественные, для них это не центральное занятие. Но преподавать им всё равно интересно, потому что я очень верю в новеллу и её захватывающую силу. И можно за 80 минут (это один большой урок) преподавать целого писателя через одну новеллу. Это я опять в защиту новеллы.
Д. Быков― В принципе, да, конечно.
«Как вы относитесь к творчеству Александра Введенского и его растущему влиянию?»
А. Жолковский― Ну, как-то у меня нет никаких сильных…
Д. Быков― От обэриутов вообще нет сильных эмоций?
А. Жолковский― Обэриутов некоторых я люблю за их обэриутственность: Олейникова, конечно, и Хармса за отдельные обэриутские повороты. Я не думаю, что обэриуты достигли реально в своём творчестве того масштаба и тех успехов, которые им приписываются сейчас и которые они себе приписывали сами заранее, чувствуя себя безмерными гениями.
Вы, наверное, читали у Шварца в его записных книжках (у него есть две толстые записные книжки), есть то место, где они… Ну, Шварц был как бы при обэриутах, ближе к ним. И они как-то в гостях на даче у Каверина. И вот Вениамин Каверин — весь такой старательный, культурный, писательский. А они — такие гении! Голодные, может быть, пьяные и так далее, но абсолютно на него смотрят свысока. А Шварц потом пишет: «Время шло, шло, шло… Каверин работал — и стал настоящим писателем».
Д. Быков― И Каверин стал приличным человеком.
А. Жолковский― Ну, он не пишет, что с обэриутами вообще ничего не вышло (и этого нельзя сказать), но риторика там такая: «Они заняли себе эту высшую нишу, а вопрос остаётся отчасти открытым».
Д. Быков― «Что вы можете сказать о мере художественного таланта Булгакова и о книге Майи Каганской «Мастер Гамбс и Маргарита»?» Ну, это книга совместная, там ещё Зеев Бар-Селла, насколько я знаю, соавтор.
А. Жолковский― Да-да-да. Майя Каганская — ныне покойная, а он — ныне живой и пишущий о Бабеле тоже и так далее.
Д. Быков― О Беляеве Александре, о Шолохове.
А. Жолковский― Что я могу сказать об этой книжке? Она тоненькая, очень яркая, написанная очень рано, это 1984 год.
Д. Быков― Даже раньше.
А. Жолковский― Ну, 1983-й. В ней впервые смело сразу проведены параллели с Ильфом и Петровым.
Д. Быков― С «Телёнком», да.
А. Жолковский― Эта книжка интересная, умная. Майя Каганская была совершенно блестящий литературовед. Разумеется, на сегодня это далеко не последнее слово в булгаковедении. Там вначале был вопрос, что я могу сказать…
Д. Быков― О художественном уровне Булгакова.
А. Жолковский― Я знаю, что Булгаков — спорная фигура. Некоторые просто клянутся Булгаковым, и «это абсолютно лучшее, что может быть»; вот уже Ильф и Петров свергнуты, и вместо них — Булгаков. Я думаю, что эта эпоха прошла, уже и других писателей почитали. Я очень люблю Булгакова. «Мастера и Маргариту», которую иногда упрекают за некоторую как бы уж чрезмерную популярность, так сказать, дешевизм, хохмачество и так далее, я люблю полностью. И очень люблю «Театральный роман» («Записки покойника») неоконченный. Но там оканчивай, не оканчивай — это, по-моему, совершенно гениально.
Д. Быков― Шедевр. Хотя я совершенно не понимаю, что вы все находите в этой злобной книге.
А. Жолковский― Минуточку! Вы согласны, что шедевр, но не понимаете, что мы там находим?
Д. Быков― Да, не понимаю. Потому что мне кажется, что это как бы шедевр злобы и некой мелочности. Простите вы меня, но это тоже бывает.
А. Жолковский― Я сам не большой знаток Данте, но уже упоминавшаяся моя жена Лада Панова много занимается Данте.
Д. Быков― Там тоже злобы много.
А. Жолковский― Там полно злобы. И пишут биографы, что он был обижен и вполне честно свою злобу там блестяще строит. Ну и что? И почему же этой злобе не быть источником литературы? А «Театральный роман» («Записки покойника»)… Что-то я хотел сказать… Вот я сказал, что он — незаконченная вещь, а тем не менее гениальная. Ведь это очень важная черта. Конечно, очень важна структура, важна построенность, важны начало, середина и конец — всё, что структуралисты любят сказать.
Д. Быков― Но вещество тоже важно.
А. Жолковский― Но в действительности выходит на сцену актёр (я говорю про театр), и он ещё ничего не сказал, а вы уже увлечены этим актёром и вам интересно его смотреть. Он ничего не сказал, и может случиться, что ничего и не скажет, а тем не менее перед вами была актёрская удача. И я думаю, что «Театральный роман» — это такая бесспорная текстовая удача. А о чём этот роман? Этот роман о власти и художественности власти. То есть там весь этот театр во главе с этим Иваном Васильевичем — это не просто какой-то реакционный театр, а это попытка нового («я новый») прийти, пробиться, найти место себе и раздвинуть эти оковы власти. Я думаю, мы это читаем.
Д. Быков― Ну, это вы вычитываете там свою тему — стратегию власти. Вы у и Ахматовой её находите тоже.
А. Жолковский― Ну да.
Д. Быков― Эта тема действительно достаточно привлекательная.
А. Жолковский― Я думаю, что это один из живых нервов этого романа. Есть такое английское слово territoriality. Как ему в территорию войти? Как ему занять место?
Д. Быков― Место, да. Territoriality — хорошее слово.
А. Жолковский― Territorial.
Д. Быков― Надежда спрашивает: «Прочла высказывание Виктора Сосноры, что у Северянина пошлость работает. Может ли пошлость быть элементом поэтики?»
А. Жолковский― Вы знаете, я высказывания Сосноры не знаю, но известно, что Борис Пастернак любил Северянина, ценил его.
Д. Быков― И Маяковский ценил.
А. Жолковский― Я не знаю, как с Маяковским. Маяковский хотел кастетом с ним как-то разбираться, по-моему, да? А Пастернак прямо как бы признавал эту ценность северянинской палитры, можно сказать. И особенно у раннего Пастернака эта палитра присутствует. Все эти «трюмо»… Знаете, Дима?
Д. Быков― Да.
А. Жолковский― «В трюмо испаряется чашка какао», — это же полный Северянин, а — Пастернак.
Д. Быков― Ну, «трюмо» разве что. А «какао» — это нормально.
А. Жолковский― «В трюмо испаряется чашка какао».
Д. Быков― Да нет, это не Северянин, это нормально.
А. Жолковский― Нет, это нормально у Пастернака, но он признавался, что ему нравится Северянин. И вот он делает северянинские жесты — и мы не протестуем. Поэтому писать одну только северянинщину — это будет забавно и смешно. Но такая палитра, такая краска есть, и она…
Д. Быков― Работает.
А. Жолковский― Да.
Д. Быков― Тут почему-то страшное количество личных вопросов. Многие просят совета в личной жизни. Но надо понять, в какой степени вы ещё кондиционны. Можете ли вы ещё полчаса сидеть или нет?
А. Жолковский― Я, Дима, не хочу у вас отнимать ваше время…
Д. Быков― Нет, вы у меня ничего не отнимете.
А. Жолковский― …великого скандинавского бога Одина.
Д. Быков― Да, Одина. Я буду спокойно читать лекцию об Антокольском.
А. Жолковский― А я всего лишь Локи здесь.
Д. Быков― Бальдр. И тут очень много вопросов личного порядка, и это интересно.
А. Жолковский― Ну, на что можно — отвечу.
Д. Быков― Давайте. Тогда мы делаем ещё одну трёхминутную паузу, после чего переходим наконец к эротической теме.
А. Жолковский― Ну, это я не обещал.
НОВОСТИ
Д. Быков― Продолжаем разговор. Тут вопрос ко мне: «Обязательно ли проходить «Квартал», живя в Москве?»
Нет конечно. Тут, кстати, очень много вопросов по прохождению «Квартала». «Квартал» — это мой роман, если кто не знает, роман-прохождение. Роман, который одновременно является, по-моему, и довольно забавным чтением, увлекательными полезным, но самое главное — это способ приобрести финансовую независимость. Это 150 духовных упражнений, рассчитанных (ну, 90 на самом деле, я сейчас делаю расширенную версию, но пока 90) на три месяца, 90 глав. Надо каждый день проделывать духовные упражнения — и тогда по окончании этого вы получите деньги, потому что вы станете духовно независимым человеком, которому деньги не нужны. Очень многие люди прошли уже «Квартал», и, в общем, я рекламаций пока не получал. Но особенно меня поражает, что в этом году какое-то страшное количество собирается проходить по переизданию 2016 года, дополненному и расширенному. Спасибо вам большое за такое внимание и интерес. Конечно, это можно делать не только в Москве и не только в России.
Вот очень хороший вопрос от любимого моего Трофимчука, который всегда присылает вопросы очень интересные. Он в силу болезни не очень подвижный человек. Он спрашивает: «А обязательно ли все физические упражнения, которые там есть, тоже проделывать?» Совершенно необязательно, дорогой мой. Вы можете делать всё, что хотите. Просто можно духовно их проходить, а можно воображать себе. Важно не просто читать, а как-то на это реагировать.
Тут, естественно, вопрос: как я отношусь к творчеству Александра Иличевского? Я очень люблю Александра Иличевского как человека. Творчество его от меня бесконечно далеко, и я никогда не мог понять его прозу. Наверное, он утончённый стилист, но мне это в литературе как-то совершенно непринципиально. Эта проза меня никогда не задевала. Но человека этого я так люблю, что мне совершенно даже и не важно, строго говоря, что он пишет.
«Пожалуйста, передайте Жолковскому привет от моего деда — математика Александра Крылова. Он утверждает, что знаком с Жолковским лично». Если знаете математика Александра Крылова, то он передаёт вам большой привет.
А. Жолковский― Сашу Крылова, конечно, знаю. Привет, Саша!
Д. Быков― Замечательно!
«Почему противопоставляют Мандельштаму Пастернака, а не Маяковского? Мандельштам менял поэтику семь раз за жизнь; Маяковский — ни разу. Мандельштам разгадывается по внешним ссылкам на себя и мировую культуру; Маяковский не содержит никакой сложности, кроме внутренней. Интонация Мандельштама монотонна; у Маяковского — бесконечно разнообразна. Мандельштам — хрупкий, маленький, таким себя и преподносит; В.В. — сами понимаете. Кто из них вам ближе?»
А. Жолковский― Я очень внимательно слушал, но боюсь, что не полностью охватил противопоставления. Почему Мандельштаму…
Д. Быков― Почему противопоставляют Пастернака, а не Маяковского?
А. Жолковский― Почему сравнивают Мандельштама и Пастернака…
Д. Быков― …а не сравнивают Мандельштама и Маяковского — ведь они, казалось бы, такие наглядные противоположности.
А. Жолковский― Ну, давайте я попробую что-то своё ответить.
Д. Быков― Вы только не ругайте Маяка. Не ругайте Маяка!
А. Жолковский― Просто речь идёт о разнице масштабов. Есть два великих поэта — Мандельштам и Пастернак. А Маяковский — это вообще не надолго. Дима, я не хочу вас огорчать, но это просто не тот масштаб, не та лига. Это лига «Б», а не лига «А». Такое в футболе бывает, да? А Мандельштам и Пастернак действительно разные, но во многом сходные. И интересно понимать, как они друг к другу относились, что они друг у друга брали, подражали, завидовали или нет и так далее. Насколько Маяковский разнообразен? По-моему, он предельно однообразен. И единственное его разнообразие, что до революции он изображает независимого человека…
Д. Быков― А после революции — радостно зависимого.
А. Жолковский― …а потом становится радостным рабом… Как это называется?
Д. Быков― Системы.
А. Жолковский― Рабом системы. Так что, где там разнообразие, я не знаю. Падает разнообразие метрики и интересности его рифмовки и так далее — ну, это то же самое, только победнее. Мандельштам — конечно, в целом это один поэт. Но тем не менее «Воронежские стихи» совсем другие.
Д. Быков― Да, совершенно не похожие на «Камень».
А. Жолковский― Я никак не могу согласиться с этим абрисом, который предложил слушатель. И Пастернак много менялся. Видимо, слушателю близок Маяковский.
Д. Быков― С этим ничего не сделаешь.
А. Жолковский― И, конечно, не моё дело слушателя отучать от Маяковского.
Д. Быков― Понимаете, как? Маяковский нам не то чтобы близок (нам — которые его любят), но он вызывает у нас бесконечное сострадание. Что не всегда можно сказать о Пастернаке, который кому-то близок, а кто-то говорит: «Ну, он слишком благополучный человек».
А. Жолковский― Благополучие Пастернака — это очень интересная тема. Дело в том, что часто говорят (я уже немножко говорил об этом), что у Ахматовой такая-то мифология самой себя, у Мандельштама вот такая-то самопрезентация. А иногда говорят: «А вот Пастернак — он чистый поэт просто так». Ничего подобного! У него тоже есть очень сложная, сложно организованная и, может быть, необычайно удачная стратегия самопрезентации: каким же быть, каким себя представлять, как держаться? И вот этот образ — «немножко не от мира сего», поэта-дачника… Как там Сталин сказал? «Не трогайте этого…»
Д. Быков― Небожителя.
А. Жолковский― «…небожителя». Это ведь не Сталин придумал «небожитель», а это Пастернак в себе придумал небожителя и сумел его держать и так далее. Не то что мы это сейчас ему приписываем задним числом, ревниво пытаясь снизить немножко туда же, где Ахматова, Мандельштам и так далее — нет, он сознательно приспосабливался. Мы читаем его письма, где он ясно пишет: «Я должен быть понятен. Я хочу так. Я хочу свои идеи выдать таким-то образом», — и так далее. Но эта вся стратегия построения своего поэтического самообраза — важнейшая часть поэтической жизни, поэтического творчества. Не только зарифмовать что-то, не только сказать что-то, но и создать образ себя, который подойдёт и читателю, и поможет как-то выжить ему.
Д. Быков― Это стратегия выживальщицкая, конечно.
А. Жолковский― В одной работе, где я рассматриваю какие-то тонкости построения образов зловещих всяких мотивов, каких-то зловещих отношений между цветком и лепестком у Пастернака, я пишу, что он туда вытесняет всё драматическое зло — и тем самым придумывает поэзию счастливого выживания. И весь его роман — это роман о том, как правильно выжить.
Д. Быков― Ну, он бы, конечно, обиделся.
А. Жолковский― О том, как правильно поэту остаться собой и выжить. Может быть, умереть в какой-то момент, но выжить.
Д. Быков― «Вопрос у меня личный, — Василий пишет. — Через пару дней иду на свидание с девушкой. В 23 года это не должно быть проблемой, но она первая, которая мне действительно нравится. Я смотрю на её фотографии — и мне становится страшно от её красоты. Я перечитываю нашу переписку — и восхищаюсь её образованностью. А у меня есть недостаток внешности, которого я сильно стесняюсь. Ничего смертельного, но штука неприятная. Мне кажется, что это всё испортит. Как вести себя при встрече?»
Собственно, почему я озвучил этот вопрос, который совсем не филологический? Я вспомнил, как вы рассказывали, что было несколько женщин, на которых вам действительно было страшно смотреть от их красоты.
А. Жолковский― Да, такое бывает, что женщина так красива, что даже как-то…
Д. Быков― Страшно подойти.
А. Жолковский― …страшно подойти. И надо себя как-то, тем не менее, заставить подойти и так далее. Конечно, я не могу отвечать на этот вопрос.
Д. Быков― А я могу, у меня есть идея. Но вы расскажите.
А. Жолковский― Я расскажу другое. Был такой французский кинорежиссёр Трюффо, и у него был любимый персонаж — Жан-Пьер Лео — такого маленького росточка мальчик, который снимался во многих его фильмах. И в одном его фильме он ухаживает за женщиной огромного роста. И его другой какой-то собеседник или парень спрашивает: «Ну а как же, когда ты идёшь с ней по улице? Ты такой маленький, а она такая большая». — «Держусь сугубо профессионально», — отвечает он. Держаться профессионально, держаться своих достоинств.
Д. Быков― Знаете, я вот отвечу со своей стороны. Обычно недостаток внешности можно превратить в самый притягательный момент — как Сирано де Бержерак поступил со своим носом. Представьте себе Сирано без носа.
А. Жолковский― Нос — это не такой сильный недостаток, как вы хотите его предоставить.
Д. Быков― Ну, мы все понимаем. Вот в последней книге Андрея Зорина как раз сказано, что нос — это чаще всего метафора, и мы понимаем чего.
А. Жолковский― Нос — это не так неудачно.
Д. Быков― Но вот вам, Вася, я хочу напомнить: прочтите обязательно рассказ Акутагавы «Нос» в гениальном переводе Стругацкого. Там у монаха, помните, был нос огромный, и он решил от него избавиться. Замечательно описана процедура избавления от носа. И когда он избавился, он понял, что его индивидуальность утратилась абсолютно. Вы попробуйте этот недостаток…
А. Жолковский― А там в конце как-то этот нос…
Д. Быков― Он стал молиться — и нос вернулся. «И в конце он подставил свой бедный нос осеннему ветру». Я так люблю этот финал! Вот это мой самый любимый финал, когда у него вернулся нос, и он почувствовал, что вернулась личность — жалкая и убогая, но личность. Просто вы этот свой недостаток должны подать как такую неповторимую особенность. И даже если бы это было то, на что так изящно намекает гость, даже если речь идёт о недостатке потенции, допустим, из этого тоже можно сделать…
А. Жолковский― Кто намекает?
Д. Быков― Ну, вы говорите, что нос — это ещё не самое страшное. Из этого тоже можно сделать образ: вот вы настолько возвышенные, что вам это не нужно, а вам нужно другое от женщины. Хотя не дай бог, конечно.
А. Жолковский― Мой любимый американский фильм по-английски называется «Some Like It Hot», а по-русски — «В джазе только девушки».
Д. Быков― Да, совершенно верно, «Some Like It Hot».
А. Жолковский― Там вся сцена соблазнения Тони Кёртисом Мэрилин Монро поставлена на том, что он якобы…
Д. Быков― На том, что он не может. И в результате он смог!
А. Жолковский― Да. Вот так.
Д. Быков― Хотя он на самом деле еле сдерживался с самого начала.
А. Жолковский― Так сказать, рецептов достаточно.
Д. Быков― Вот совершенно блестящий вопрос: «Пересмотрел недавно фильм Роома «Третья Мещанская». Насколько актуальна, по-вашему, тема семьи втроём?» Ну, имеется в виду, видимо, то, что у вас тоже есть рассказ на эту тему, и не один.
А. Жолковский― У меня рассказ про «втроём»?
Д. Быков― Ну, скажем так, про много — «Бранденбургский концерт».
А. Жолковский― А!
Д. Быков― Такая довольно изящная схема. Ну как?
А. Жолковский― «Третью Мещанскую» я смотрел не как кино, а как то, что надо преподавать. Когда в Америке дошло дело до преподавания какого-то курса и надо было его посмотреть, я его посмотрел и как-то изучал, почитал Шкловского и так далее. Но я никогда не полюбил этого фильма…
Д. Быков― А я обожаю!
А. Жолковский― …так что не могу ничего о нём такого вот зрительски-читательского сказать.
Д. Быков― Ну, скажите про семью втроём. Вопрос про семью, а не про фильм.
А. Жолковский― Про семью втроём тоже ничего не могу сказать, хотя есть целые книги о том, как в русском модернизме и футуризме эротическая утопия «втроём» стала программным мотивом. А рассказ «Бранденбургский концерт», который вы щедро упомянули, — там ведь сплошное издевательство. Так что это не пропаганда такого полигамного брака, нет.
Д. Быков― «Читал ваш рассказ «НРЗБ» и книгу Сорокина «Голубое сало». Кто у кого увёл идею?» Ну, имеется в виду идея писательских клонов, которые пишут.
А. Жолковский― Тут интересный вопрос. Я очень почитаю Сорокина, начиная с его ранних вещей.
Д. Быков― Вот про Сорокина тоже три вопроса, кстати.
А. Жолковский― Я очень люблю его ранние вещи, геологические такие рассказы — замечательные!
Д. Быков― «Первый субботник».
А. Жолковский― Я не знаю, как там с «Голубым салом» хронологически. Мог ли я у него украсть, если, может быть, я написал раньше? Но я сейчас не знаю. Кто украл — так это Гандлевский украл у меня «НРЗБ».
Д. Быков― Ну, это, знаете, не такой уж и бином Ньютона.
А. Жолковский― Ладно.
Д. Быков― К Сорокину, к вопросу о Сорокине.
А. Жолковский― Я думаю, что «Голубое сало» написано позже, чем «НРЗБ».
Д. Быков― Понятно. А «НРЗБ» когда написано?
А. Жолковский― Ну, можно как-то там датировать, но в 1991 году напечатано, а написано в каком-то 1987-м.
Д. Быков― А, значительно раньше. У него — в 1997-м. Но он, я думаю, не читал. Хотя возможны всякие совпадения.
А. Жолковский― Может быть, и читал. Может быть, и не читал. Ведь Сорокин очень талантливый человек. Ему не надо всё читать, чтобы…
Д. Быков― Чтобы придумать. Да, совершенно верно.
А. Жолковский― Да, чтобы придумать. Но Сорокин очень дружил с моим другом-филологом Игорем Павловичем Смирновым.
Д. Быков― В Венеции проживающим, кажется. Ну, в Европе, в Германии.
А. Жолковский― Проживающим в Констанце, в Германии, и преподававшим там в университете, а ныне на пенсии. Смирнов все мои ранние вещи читал. Кто знает, может быть, Смирнов рассказал Сорокину.
Д. Быков― Как-нибудь беседуя в Констанце.
А. Жолковский― Но «Голубое сало» — прекрасный роман, так или иначе.
Д. Быков― Да ладно?
А. Жолковский― Ну да. Ну, не на сто процентов. Там слишком много «жеребятины».
Д. Быков― И вообще там много всего.
А. Жолковский― Да. Но хороший роман, да.
Д. Быков― Первая часть — переписка — она замечательная. А то, что дальше…
А. Жолковский― А больше всего я действительно люблю эти ранние такие геологические, соцреалистические рассказы. Я забыл, как они называются…
Д. Быков― «Помучмарить фонку» — вот это, да? Ну, помните, где геологи сидят.
А. Жолковский― «Мзыка, мзыка» [«Мысть, мысть»] там какая-то.
Д. Быков― Да-да-да! Совершенно замечательная вещь.
Вот тоже совершенно неизбежный вопрос: «Не стоит ли Америка на пороге нового маккартизма?» — спрашивает Леонид.
А. Жолковский― Думаю, что не стоит.
Д. Быков― Просто отвечаете. Но вы будете голосовать?
А. Жолковский― Очень тяжёлый выбор предлагается — два совершенно невозможных кандидата.
Д. Быков― Почему невозможных?
А. Жолковский― Ну, с одной стороны — безумный Трамп. С другой стороны — эта врушка Клинтон.
Д. Быков― Да что врушка? Где она врёт?
А. Жолковский― Ну, она всё врёт.
Д. Быков― А, ну хорошо. Правды вообще нет.
А. Жолковский― Всё подряд, всё подряд.
Д. Быков― Всё подряд, понятно.
А. Жолковский― Открывает рот — и уже видно, что неправда.
Д. Быков― И как вы, Алик, не боитесь, что вас там арестуют? Ведь там так страшно!
А. Жолковский― Нет, это большая драма, что две мощные партии не смогли выдвинуть что-то более осмысленное, более конкурентоспособное, более конструктивное, нежели один кандидат от безумного, совершенно заскорузлого истеблишмента Демократической партии, а с другой стороны — абсолютная выскочка. Понятно, почему Трамп так популярен, но это неконструктивная позиция для партии.
Д. Быков― И вопрос, который здесь совершенно неизбежен, но я ждал его: «Приходилось ли вам страдать от феминизма в американском университете?»
А. Жолковский― Ну, как следует страдать не приходилось.
Д. Быков― Но вы сталкивались?
А. Жолковский― Иной раз столкнёшься с тем, что кто-то что-то феминистическое говорит или требует. Или как говорят: «Обязательно на эту должность надо нанять женщину».
Д. Быков― Такое бывает?
А. Жолковский― Такое бывает, да.
Д. Быков― Но вам это не угрожает?
А. Жолковский― Лично мне — нет. Но то, что это вредная установка — руководствоваться очередным -измом при работе в профессиональной области — это, конечно, серьёзно. И аргументация, что наконец надо избрать первую женщину-президента, представляется мне каким-то детским садом. Когда Маргарет Тэтчер избрали руководителем Англии, никто не говорил «надо избрать первую женщину», а избрали самого сильного политика. А тут аргументация такая — надо избрать почему-то женщину.
Д. Быков― Нет, ну согласитесь, что выбор Обамы — это, в общем, был серьёзный положительный стресс для нации.
А. Жолковский― Ещё раз?
Д. Быков― Выбор Обамы — это очень хороший и позитивный стресс.
А. Жолковский― Стресс для кого?
Д. Быков― Для нации в целом. «Мы смогли. Мы сделали. У нас первый чернокожий президент». Это красиво. Нет?
А. Жолковский― Ну, это, может быть, и красиво, но политика — это не про красиво, а про то, чтобы делать то, что надо. А какие цветовые гаммы рисовать…
Д. Быков― Алик, это неполиткорректно!
А. Жолковский― Я неполиткорректен в чём бы ни было. Цветовой, сексистский и так далее подходы — это, в сущности, расизм, сексизм и так далее, против чего якобы борются, а в действительности берут в качестве знамени.
Д. Быков― «Почему в русской литературе нет школы хороших эротических сцен, а в англосаксонской, например, в каждом втором тексте присутствует сильный эротический эпизод?»
А. Жолковский― Опять-таки очень серьёзного ответа у меня нет, но я думаю, что русская литература и культура в целом отстают на какой-то большой период времени.
Д. Быков― А, то есть вы думаете, что табу?
А. Жолковский― В своё время не было Возрождения… Ну и так далее. И поэтому заполнение этой важной культурно-эстетической лакуны происходит, но происходит медленно.
Д. Быков― Хороший вопрос про эмиграцию: «У большинства русских после эмиграции отлично складываются дела. Почему они у них здесь не складываются?»
А. Жолковский― После эмиграции? То есть там, в эмиграции?
Д. Быков― Там, да. Имеется в виду: что мешает здесь? И вообще, почему здесь всё заворачивает на одни и те же обстоятельства? Но ведь должен быть какой-то механизм. Почему это неизбежно? Ведь столько раз мы читали… Тут масса вопросов про Салтыкова-Щедрина, который сейчас самый актуальный писатель. Ну невозможно уже больше разбирать эти намёки, эту эзопову речь, «пакет Яровой». Ну, это кошмар!
А. Жолковский― А какой тут вопрос мне?
Д. Быков― Почему нет выхода из этого круга? Ведь за границей это свободные люди.
А. Жолковский― Наука не даёт ответов на вопросы… Я, конечно, никакой науки здесь не представляю, но наука не даёт ответ на вопрос «почему?», а она говорит — как. Дело обстоит вот так.
Д. Быков― А кто же должен отвечать на вопрос «почему?»?
А. Жолковский― «Почему Луна вращается вокруг Земли?» Не так ставятся вопросы в физике и в астрономии, да? Вот сложилась такая неудачная конструкция, и она всё время воспроизводится, выхода не получается. Ну, что же делать? И не у всех эмиграция получается хорошо, должен вам сказать. Это не то, что поехал, озолотился, и всё прекрасно. Это тоже огромный опыт. Требуется как-то встроиться, перестроиться и овладеть соответствующими инструментами житейского поведения и так далее. Это не просто так — приехал и всё получил. Люди умеют устраиваться и так, но это совсем не так просто. Это целое дело.
Д. Быков― К вопросу о науке, отвечающей на вопросы. Вы знаете, Келдыш любил своим студентам задавать вопрос: «Почему Луна не из чугуна?»
А. Жолковский― Это какой Келдыш?
Д. Быков― Ну, это который физик, математик и все дела.
А. Жолковский― А, главный теоретик космонавтики.
Д. Быков― Да. Правильный ответ: «Потому что на Луну не хватило чугуну». Потому что действительно столько нет этих элементов, чтобы из этого построить Луну. Так что наука иногда отвечает на вопрос «почему?». Только этим она и должна заниматься.
А. Жолковский― Образцовый ответ на вопрос «почему?».
Д. Быков― Просто, понимаете, если все будут уходить от вопросов в эмпирику какую-то сплошную, то мы никогда из этого не выйдем.
А. Жолковский― А почему в эмпирику? Есть социология, есть умные люди, которые умеют про это говорить профессионально. Среди говорящих на «Эхе Москвы» я иногда слушаю Дондурея. По-моему, он очень умный, культурно-социологически мыслящий аналитик.
Д. Быков― Да, он культуролог настоящий.
А. Жолковский― И он объясняет, что дело не в том, что какая-то личность нам помешала вчера или мешает завтра, или помешает послезавтра, а в том, что вся система того, что мы условно называем «по понятиям», — она вся устроена так, что не работает. А искоренить эту систему неработающих «понятий» — это дело не одного десятилетия, к сожалению. Но хотя бы надо на этом…
Д. Быков― Фокусироваться.
А. Жолковский― Ну, я повторяю за ним. Сосредоточиться на этом, а не просто говорить «ах, ах!».
Д. Быков― «Ваше отношение к прозе Юрия Казакова?»
А. Жолковский― Мне нравились рассказы Юрия Казакова.
Д. Быков― Они интересовали вас как филолога?
А. Жолковский― Как у филолога у меня не было на эту тему никаких находок. Вот ещё пример хорошего рассказчика, рано умершего.
Д. Быков― Да, 50 лет с небольшим. Ну, там от понятных, традиционных причин.
«Кто из писателей, знакомых вам (а вы знакомы со многими), произвёл на вас наиболее сильное человеческое впечатление?» Я так подозреваю, что «Саша Соколов» сейчас будет ответ. Нет?
А. Жолковский― Самое сильное человеческое впечатление?
Д. Быков― Ну, кто из них был наиболее состоятелен по-человечески, наиболее интересен? Переведём это так. Бродского вы, по-моему, не знали.
А. Жолковский― С Бродским я разговаривал один раз десять минут и несколько раз бывал на его выступлениях, когда я за границей жил и он жил там. Встречал я некоторое количество писателей и поэтов. Очень люблю возможность оказаться с современником и даже немножко знакомым — в сущности, объектом своего научного интересного. И у меня нет простого ответа, кто из них самый какой-то замечательный. Аксёнов был обаятельнейший человек. Лимонов очень интересный.
Д. Быков― Вы где-то написали, что при нём нельзя врать.
А. Жолковский― При ком?
Д. Быков― При Лимонове.
А. Жолковский― Ну, не то чтобы при нём нельзя…
Д. Быков― Ну, провоцировать на честность.
А. Жолковский― Человек, у которого написана честность, скажу прямо… «Беру деньги за это. Вот я честный». Саша Соколов — загадочный, странный, сам себе не отдающий отчёта, кто он такой. У Лимонова есть замечательные стихи «Кропоткин»: «В самом себе не до себя».
Д. Быков― А! «По улице идёт Кропоткин»? Совершенно замечательные стихи! «Кропоткин — пиф! Кропоткин — паф!»
А. Жолковский― Да. «В самом себе не до себя». Так что очень разные люди. Интереснейший человек был Дмитрий Александрович Пригов, захватывающий человек.
Д. Быков― Да, тут вопрос про Пригова: «Что вы находите в Пригове?» Говорят, что одна известная поэтесса (не будем называть имён) называет его «приговно». Это, по-моему, совершенно оскорбительно и несправедливо. Но всё-таки что вы о Пригове можете сказать?
А. Жолковский― Ну, Пригов — целое явление, целая миниэпоха в русской подсоветской и постсоветской культуре и изобретатель целого типа дискурса и типа… Ну, там произносятся слова «концептуализм», «соцартизм» и так далее. Но это человек нового, другого, особого сознания, которое внесено…
Д. Быков― Ну какого сознания? Алик, одни мифы вы развеиваете…
А. Жолковский― Да он и не скрывается. Все эти интонации того, как он берёт готовые клише, готовые реалии советской или постсоветской жизни и как он их перед нами метаповорачивает — и мы смотрим вдруг трёхмерное изображение этого явление со стороны, и ещё имеем возможность и понять, и улыбнуться. Но я понимаю, Дима, вашу реакцию. Он поэт, вы поэт. У вас свои…
Д. Быков― У меня с ним были прекрасные отношения.
А. Жолковский― Он пишет так, а вы хотите писать эдак.
Д. Быков― Я его как раз очень любил. И мне кажется, что это… Как бы вам сказать…
А. Жолковский― «И даже эта птица козодой…»
Д. Быков― Да. «Что доит коз на утренней заре». Ну, запоминается же почему-то.
А. Жолковский― Это запоминается. И это новый способ писать стихи.
Д. Быков― Ну, Алик, новый способ — необязательно значит хороший.
А. Жолковский― Новый способ повернуть вещи и сделать их объектом поэзии. Что там у вас?
Д. Быков― Очень интересный вопрос от Ярослава: «Вы говорите о конструкциях, — это Щеглов говорит, — где волны расходятся от главного героя. А можно ли считать административным романом «Приглашение на казнь» Набокова?» Там нет слухов о главном герое, которые бы досягали. Правда, там есть, что он непрозрачный, но по признаку неподвижности…
А. Жолковский― Неподвижность героя там есть, а вот этого… Важным условием этого административного романа является администрация. Надо, чтобы была администрация или желательно две, к которым идут сигналы оттуда — от неподвижного персонажа. Сколько-то этого есть, но это не главное построение романа. Вообще весь роман написан из него — из Цинцинната. А надо, чтобы роман был написан эпически…
Д. Быков― Из какого-то источника.
А. Жолковский― …извне, где мы видим вот эти административные ступени.
Д. Быков― «Вы говорите, что нет эротики. А как же Горенштейн?» Ну, имеется в виду роман «Чок-Чок», который полон эротики, и самой грубой, и хорошо написанной. Но мне кажется, что как раз там такое отвращение к этому — вот это всё красное мясо и так далее. Ну, не знаю… Что вы скажете о Горенштейне?
А. Жолковский― Ничего не могу сказать. Это вопрос к вам. Вы сказали, что нет эротики, а не я.
Д. Быков― Вот замечательное замечание от Максима Глызуна: «Самая административная пьеса русской литературы — «Ревизор». Очень интересная точка зрения.
А. Жолковский― Интересно. Давайте подумаем.
Д. Быков― Ну как? Он неподвижен, он прикован к городу, он не может съехать.
А. Жолковский― Секундочку! Он непрерывно действует, он всё время пытается кого-то соблазнить, взять какие-то взятки. Я не отрицаю позиции вашего слушателя, но надо рассмотреть.
Д. Быков― Ситуация слухов.
А. Жолковский― Щеглов выделил такое ядро: герой прикован и ничего не делает, он ничего и не может делать. Хлестаков сначала тоже ничего не делает. Его приводят в движение, его как бы магнитом заставляют начинать действовать. Сначала он просто в полном отчаянии, но дальше он всячески бросается туда, бросается сюда, пытается что-то отнять, пишет своё письмо Тряпичкину. Хотя он и как бы ноль…
Д. Быков― Но это ноль, активно шевелящийся.
А. Жолковский― Такой активно шевелящийся ноль. Так что это не ровно укладывается в это. Но это правильно, это хорошо, что слушатели начали думать о том, где будет эта конструкция, думать о том, как устроено.
Д. Быков― Где возможен административный сюжет.
А. Жолковский― Статья Щеглова опубликована. Она опубликована в одной из двух его книг, в издании которых (уже посмертно) я принял участие. Одна книга издана «НЛО» — «Избранные работы». А другая издана РГГУ — «Избранные труды». «Избранные труды» изданы омерзительно плохо — расклеиваются, тяжёлая книга. Но на моём сайте я вывесил pdf.
Д. Быков― Там лежит, да?
А. Жолковский― Там можно читать.
Д. Быков― Тут, кстати, вопрос: «Много ли текстов осталось после Щеглова? И кто владеет правами?»
А. Жолковский― Правами, естественно, владеет вдова. Ничего больше не осталось. В смысле — всё, что было, мы напечатали вместе с вдовой, Валерией Алексеевной. Последняя книжка выходит вскоре в «НЛО» — о детских рассказах Толстого и понятии поэтики выразительности, над которой мы работали. А одна работа пропала. Я помню доклад его и замечательную работу о теории комментариев на примере комментариев Набокова.
Д. Быков― Набокова, да.
А. Жолковский― Он делал этот доклад на «Эткиндовских чтениях» в Петербурге при мне. Доклад был блестящий. Работа была…
Д. Быков― А текста нет.
А. Жолковский― Лера, Валерия Алексеевна не может его найти, он пропал.
Д. Быков― «Считаете ли вы сильным новеллистом Шукшина?» Долгая пауза повисла.
А. Жолковский― Я думаю, что это хороший и интересный писатель. Я не такой большой его поклонник, но у него есть замечательные рассказы, да.
Д. Быков― Тут масса писем. Одни пишут, что гости ни в коем случае не нужны в программе «Один», другие — что всегда нужны такие гости в программе «Один» и пусть этого будет как можно больше. И это мне всегда приятно — столкновение мнение.
Тут напоследок вопрос, который я не могу не задать, потому что совершенно вопль души: «У меня закончились главные отношения в моей жизни. Она замужем, но уже полгода мне снится. Что мне делать? Чем отвлечься?»
Костя, не надо отвлекаться. Зачем отвлекаться? Может быть, с вами происходит главное событие в вашей жизни. Может быть, ваш нос — главная черта вашей личности. Как было в замечательном сценарии Михаила Львовского «Прошу винить Клаву К. в моей смерти»: «Что мне делать?» — «Страдать!» Алик, у вас есть какой-то ответ?
А. Жолковский― Мыслить и страдать.
Д. Быков― Ну, что можно делать, если она замужем и снится? Что тут делать?
А. Жолковский― Я совершенно начисто отказываюсь пытаться отвечать на вопросы…
Д. Быков― Личного порядка.
А. Жолковский― На вопросы, обращаемые к ребе. Я совершенно не ребе.
Д. Быков― В любом случае тут вам масса приветов. Мне очень понравилось письмо от Анны: «Дорогой Александр Константинович, по моим подсчётам вам должно быть лет 70, но вы не производите такого впечатления». По-моему, это очень приятно.
А. Жолковский― Это Анна смотрит меня по телевизору, да?
Д. Быков― Нет, она следит как бы за вашими мнениями, творчеством и так далее. То есть вы не производите такого впечатления. То ли вы ещё не дожили до мудрости, то ли наоборот — вы сохраняете юношескую живость.
А. Жолковский― Дима, вот как раз когда вы устраивали мне празднование 75-летия… Помните, было такое?
Д. Быков― Помню, да.
А. Жолковский― И это празднование было не в день моего рождения, а 22 сентября, что не является днём моего рождения. И так как это было объявлено, то я получал некоторые поздравления 22 сентября. Ну, кому-то отвечал, что это неправильно, неточно и так далее. А мне на это отвечали: «А вот в Википедии не пишут, когда день рождения». На что я, по-моему, очень удачно ответил (хотел бы этим и закончить): «Там, в Википедии, не только скрывают день рождения, но и грядущей смерти».
Д. Быков― Ха-ха-ха!
А. Жолковский― «Годовщину», как писал наш общий любимый поэт.
Д. Быков― Спасибо! Услышимся через три минуты.
РЕКЛАМА
Д. Быков― Мы продолжаем. Теперь уж я подлинно один в студии. И мы проведём лекцию об Антокольском, но сначала я отвечу на несколько вопросов, лично ко мне обращённых.
«Что стоит почитать из болгарской литературы? Относительно владею болгарским языком, живу среди болгар, но совсем не знаю местной прозы».
Понимаете, мой ответ будет неоригинален, но мне кажется, что самый сильный болгарский писатель последних 100 лет — это Павел Вежинов. Уж во всяком случае такие романы, как «Белый ящер», обязательно «Часы» [«Весы»], «Ночью на белых конях» — знаменитая книга, которую когда-то я в оригинале читал, пытаясь как-то освоить язык; и «Барьер» — наиболее знаменитое произведение, благодаря болгарской картине с нашим Смоктуновским. Но «Барьер» как раз нашумел очень сильно, печатаясь в «Иностранке», тогда магический реализм был в большой моде. И мне не очень нравится «Барьер». Ну, не то чтобы не нравится, но он слишком тривиальный. Но мне страшно нравится, конечно, «Белый ящер». Это такая странная история о мутанте, который так рано развился, оставаясь ребёнком, психологически стал взрослым человеком уже к 12 годам — ну, такой своего рода «Tin Drum» («Жестяной барабан») наоборот, о человеке, который этически не развит, а физиологически очень силён. Это такая история об абсолютной моральной индифферентности, о человеке, который не чувствует вообще моральности никакой. Это интересное произведение.
«Вы говорите, что самоубийство — уклонение от долга. Кому же этот долг?»
Знаете, чего я буду вам рассказывать? Возьмите и прочтите рассказ Марины и Серёжи Дяченко «Баскетбол» — и вам всё станет совершенно понятно. Это довольно страшный рассказ, который, кстати говоря, я знаю, психологи клинические рекомендуют людям, одержимым суицидной манией, и он действует. Действительно обжигает нёбо такой глоток. Ну, почему не прочесть? Посмотрите — и у вас, возможно, отпадут некоторые вопросы. Кому долг? Многим долг. Понимаете, вы — палец на Господней руке. С вашей помощью Господь сводит счёты со всяким злом мерзким. Я всё-таки расцениваю смерть как дезертирство. Мне кажется, вообще самоубийство — довольно унизительная вещь.
«Упрямство — это дурной характер или доблесть?»
Доблесть. Без упрямства ничего в жизни сделать невозможно. И я вообще считаю, что упрямство, верность себе и последовательность — это, по-моему, замечательно.
Ещё раз просят обязательно любой ценой Янку и Башлачёва. Хорошо, в следующий раз всё будет. Хотя тут тоже спрашивают: «Можно ли говорить о том искусстве, которого вы не любите и не понимаете?» Можно. А кто вам сказал, что я не понимаю? Может быть, это вы не понимаете. А может быть, вообще никто не понимает. Я же говорю в меру своего разумения, понимаете. И совершенно не нужно…
«Если человек думает, что потерял когда-то лицо, есть ли надежда вновь обрести его?»
Конечно. Милосердие Божие бесконечно. Да вообще и резервы человеческие бесконечны.
«Хочу поделиться и похвастаться. Поставил себе сверхзадачу — выучить наизусть «Онегина». Первая глава близка к завершению. С недавних пор мой девиз: «Ни дня без строчки, выученной наизусть!». Когда вокруг такая безнадёга и торжество зла и несправедливости, что делать кроме как ставить себе сверхзадачи? Завтра мне 44, — поздравляю вас! — Решил проверить способность памяти. Она у меня не хуже, чем в 18, а то и лучше».
Поздравляю вас с этим. Знаете, я тоже, когда совсем уж безнадёжной мне казалась ситуация, начал переводить одну поэму Браунинга — «Сорделло» — поэму, про которую, кажется, Теннисон сказал или Теккерей (не помню, кто из них): «Там понятна только первая строчка и последняя: «Кто хочет услышать историю Сорделло?» и «Вот и вся история Сорделло». А то, что между ними, вообще понять невозможно».
Я начал это переводить, пока перевёл прозой. Там шесть песен, она очень длинная. Дальше буду переводить рифмованными двустишьями, но это будет нескоро, потому что сейчас я перевожу Сирано де Бержерака заново по заказу одного хорошего московского театра, да что уж там говорить — по заказу Райкина. Я Райкина ценю настолько высоко, что всякий заказ от него — для меня закон. Получится, не получится — не знаю. Если не получится, честно вам об этом скажу. Пока довольно много уже оттуда сделал. И вообще то, что вы взялись за такую внутреннюю работу… Пушкина учить наизусть — вообще счастье, потому что это, как говорит Набоков, «упражнять мускулы музой». Вот прогуливаться с Пушкиным, как Синявский, — это наш кислород. И вы, насыщая свою кровь этим кислородом, правильно делаете.
А теперь — Павел Антокольский.
Павел Григорьевич Антокольский — один из самых моих любимых поэтов, в русской литературе — к сожалению, до сих пор может считаться достаточно невезучим по двум причинам.
Причина первая заключается в том, что поэты такого характера и темперамента, такого несколько арлекиновского дара — театрального, патетического, легко перевоплощающегося, легко переходящего от гаерской шутки к пафосной серьёзности и так далее — они в русской литературе как бы считаются крепким вторым сортом. Мы не очень любим театральность. С Мариной Цветаевой, с которой Антокольский дружил и которой он очень многим обязан (кстати, как и она ему), он в своё время спорил много из-за того, что по мысли Цветаевой (она цитирует Гейне в этом случае): «Поэт неблагоприятен для театра и театр неблагоприятен для Поэта».
Про Антокольского я часто слышал, что «он надел театральный костюм, да так и позабыл его снять» (тоже цитируется при этом старая шутка Алексея К. Толстого). И, естественно, что он действительно слишком театральный по своей природе автор. Он работал и как театральный режиссёр у Вахтангова. Ставил, кстати говоря, «Егор Булычов и другие», но неудачно, и его заменили. Он был всегда дружен с театром, был женат на одной из прим этого театра — на Зое Бажановой. Он вообще по природе своей действительно, может быть, немножечко такой декламатор, но это как раз (для меня, во всяком случае) великолепная черта, потому что русская поэзия имеет соблазн нытья, сильную склонность к рефлексии на пустом месте. Антокольский — да, он действительно поэт яркого действия, быстрой смены интонаций. В этом смысле, конечно… Вот уж кому переводить бы Сирано.
Но самое главное, что он по природе своей, безусловно, поэт драматический. Драматические поэмы Антокольского — это лучшее, что в этом жанре появилось в русской литературе. Он не зря считал «Франсуа Вийона» лучшим своим произведением. Эту его поэму драматическую или пьесу в стихах (я склонен думать, что это, конечно, драматическая поэма) я знаю наизусть всю. Она довольно большая. Я прочёл её впервые, когда мне было лет двенадцать. Оказался я с матерью в Крыму на отдыхе, и там в библиотеке местного санатория (Мориса Тореза, как сейчас помню), был двухтомник Антокольского, красный, 1956 года. И для меня «Франсуа Вийон» был тогда совершенным откровением. Я про Вийона знал. Я знал, что есть такой поэт. Но, конечно, Вийон Антокольского от Вийона исторического отличается очень сильно — это вещь не историческая. Но эта театральная романтика, замечательный средневековый Париж, дороги средневековой Франции, по которым бродяжит этот Вийон, эта осень страшная, сквозь которую он бредёт, — это действовало на меня поразительным образом. И сейчас скажу почему.
Мне просто не приходилось рефлексировать на эту тему: почему я полюбил Антокольского с такой силой, почему он так вообще мнемоничен, почему он так запоминается? Для меня вообще в поэзии очень значима интонация. И чем она органичнее, чем естественнее, тем лучше. Я не люблю, когда строку ломают. Люблю, когда она естественна, как дыхание. Люблю, когда иначе — даже прозой — сказать нельзя. Органика поэтической речи очень важна для меня. И у Антокольского живость и естественность поэтического диалога просто не имеют себе равных.
Я считаю, что один из лучших диалогов в русской поэзии — даже зная, что у нас есть и «Горе от ума», и есть драматическая трилогия А.К. Толстого, есть в конце концов «Роза и Крест» Блока, которую сам Антокольский считал великой драматической поэмой, он Блока боготворил, как и всё его поколение… Несмотря на это, одной из лучших сцен в поэтической драматургии XX века я считаю диалог Вийона с матерью. Вот это:
Здравствуй, мать! Не узнаёшь ты, что ли?
Я — твой сын, воробушек родной, —
Сын был глаже. — Плохо кормят в школе,
Пичкают грамматикой одной!
И дальше начинается этот диалог про ведьму:
Я слыхал об этой ведьме рыжей,
Что сводила дураков с ума.
Хороша была, чертовка, видно,
Стала пеплом — стало быть, не зря.
И мне тем, кто знал её, завидно.
Спи спокойно. Через час заря.
И тут страшное начинается, потому что появляется младшая сестра Вийона — вот эта безумная девочка, видимо, одержимая бесом. И она говорит, что в огне она видит ведьму эту:
Обожгу я ноженьку босую,
Растопчу её глазок опять.
И дальше Вийон бежит в ужасе от них и кричит им: «До свиданья! Вы мне не родня».
Это довольно жуткая трагическая сцена. И прекрасно, что сделана она таким пятистопным хореем — размером, который когда-то Тарановский исследовал именно как пример наиболее откровенной семантики выхода в какое-то пространство (как «Выхожу один я на дорогу»). И то, что Вийон, убегая, произносит эти монологи, — это как раз ещё одно замечательное подтверждение его правоты.
И там же совершенно замечательный прощальный монолог Вийона, когда он уходит из Парижа:
Ты здесь живёшь, Инеса Леруа.
Ты крепко спишь, любовница чужая.
Ты крепко двери на ночь заперла
От злых людей. А утром, освежая
Лицо и руки в розовой воде,
Ты вспомнишь всё, чего мы не сказали
Тогда друг другу. Никогда, нигде
Не повторится этот день. Он залит
Чернилами и воском. Искажён
Дознаньем. Пересудами оболган.
Мне нужно потерять пятнадцать жён,
Чтобы найти тебя. Как это долго!
Совершенно прекрасный монолог, в котором есть и гаерство, и вызов.
Там совершенно потрясающая сцена, где Вийон находит повешенного, у которого на груди болтается дощечка со словами «Вийон». И он видит, что за него повесили кого-то другого. И замечательный финал этого монолога чудесного:
На свете много разных чувств,
Их сила мне чужда.
И я с тобою распрощусь,
Как мне велит нужда:
Без оправданий, без вранья,
Без всякой доброты.
Спи крепко, молодость моя!
Я всё сказал. А ты?
И, конечно, потрясающая любовная там сцена, когда монолог его, обращённый к возлюбленной:
А по дорогам, как бывало,
Растёт лопух и вьётся хмель.
И где-нибудь за рвами вала
Другим открыта ширь земель.
И в пот я вглядываюсь жадно,
В едва расцветшую зарю.
Жена моя, голубка Жанна,
Где ты? Я на костре горю.
Невероятная мощь какая-то! И, конечно, знаменитая песенка эта «Голод не тётка, голод не шутка».
Всё это наслаждение цитировать, наслаждение произносить вслух. Вот эти взлёты интонационные, замечательные чередования пафоса и иронии, гротеска, гнева — всё это делает вещь чрезвычайно насыщенной и обаятельной. Не говоря уже о том, что и сам пафос её, вот эта патетика противостояния, когда… Ну, в сущности, та же мысль, что и в «Андрее Рублёве», когда среди средневекового ада вдруг расцветает поэт. В какой степени он от этого ада зависит? В какой степени он им детерминирован? Это очень интересно. И, конечно, для 1932 года, когда эта вещь написана, это грандиозное явление.
Тогда же Антокольский — примерно в конце 20-х — пишет вторую свою драматическую поэму «Робеспьер и Горгона», которая мне представляется одним из самых тонких и точных высказываний о подходящем, начинающемся терроре 30-х годов. Хотя он писал: «Таких пошлостей, как прямые аналогии, я, конечно, не мог себе позволить», — но тем не менее эти аналогии там есть. Там есть ощущение вот этого накатывающего вала пошлости, жестокости, реакции, под которым задыхается Робеспьер. И Робеспьер там не идеализируется абсолютно. Там единственный положительный герой — это фургон бродячих циркачей, который через всё это проходит. И, кстати, это тоже невероятно обаятельно у Антокольского. Конечно, он книжный поэт (а кто спорит?), но эта книжность совершенно его не портит, потому что она пропущена всё-таки через живой опыт.
Вторая причина, по которой ему не очень повезло в представлении современников (да и в памяти потомков), — он реализовался, к сожалению, очень поздно и на ничтожную долю. Но ранние его стихи, которые считаются эталонными, которые так любила Цветаева и по которым она его собственно узнала, — они, как мне кажется, всё-таки ниже своей славы. Они достаточно риторичные, декларативные, декламационные.
И настоящий Антокольский для меня начинается даже не с «Вийона» и даже не с поэмы «Сын», которая стала самой знаменитой, это понятно. Тут как бы вам сказать? Вообще писать некролог сыну, убитому на войне, — это задача невероятной ответственности. Как здесь не впасть в патетику, в декларацию? И действительно он умудрился большую часть этой поэмы… Там есть какие-то декларативные куски, но большую часть этой поэмы он сумел сделать действительно лирически-интимной:
Мне снится, что ты ещё малый ребёнок,
И счастлив, и ножками топчешь босыми
Ту землю, где столько лежит погребённых.
На этом кончается повесть о сыне.
Поразительные стихи!
Но для меня всё-таки Антокольский начинается с 60-х годов, как мне кажется. Понимаете, это очень серьёзная проблема: в каком возрасте лирический поэт достигает своего апогея и при каких обстоятельствах? Из Межирова мы помним:
До тридцати — поэтом быть почётно,
И срам кромешный — после тридцати.
А мы знаем ничтожно мало поэтов, которые, подобно Гёте или подобно Гюго, способны были бы после 70 лет сочинять шедевры. Но весь же вопрос в том, когда поэт попадает в оптимальную для него лирическую позицию. Я знал поэтов, которым, например, надо было быть травимыми и гонимыми для того, чтобы себя уважать. Знал даже поэтов, которым надо было сволочами, чтобы хорошо писать — Тиняков, например. Не то чтобы я знал его лично, но я знаю такой пример. Тиняков хорошо пишет из положения сволочи — и из этого получаются неплохие тексты. Есть поэты, которые сильнее всего в положении раздавленном, как Ахматова, и не любят, не принимают положения триумфаторов, а живут с девизом «Первые да будут последними!».
Антокольский лучшие свои стихи написал из положения одинокого старика, который потерял жену. Зоя Бажанова умерла в 1968 году, и он остался, в общем, один. Хотя были, конечно, и дети, были и члены семьи, но всё-таки он оказался в состоянии изоляции, о чём его последний дневник говорит с невероятной скорбью и точностью. Он оказался одинок. Не говоря уже о том, что он любил её страстно всю жизнь, и для него это была чудовищная потеря. Он оказался в одиночестве, потому что пережил почти всех сверстников. Кстати говоря, его поколение (он 1896 года рождения) было выбито с какой-то колоссальной жестокостью — век такой выпал. Будучи другом и отчасти учеником Цветаевой, он, естественно, был в изоляции и от неё тоже, очень много для него значившей. Кстати, я думаю, что его школа поэтической драматургии отчасти зависела и от неё.
И вот из этого положения одинокого старика, который и любим вроде бы учениками, и вместе с тем ощущает себя бременем для них, и понимает, что они его переросли в чём-то (во всяком случае, в степени свободы), он написал несколько совершенно гениальных стихотворений. У него, кстати, случилось то, что называется «второю молодостью» — он влюбился в старости и посвятил замечательные стихи этой молодой своей возлюбленной, которая писала диплом вообще по его творчеству. Он несколько раз брал её на блоковские праздники. Эти поздние стихи совершенно гениальные.
Как жил? — Я не жил. — Что узнал? — Забыл.
Я только помню, как тебя любил.
Так взвейся вихрем это восклицанье!
Разлейся в марте, талая вода,
Рассмейся, жизнь, над словом «никогда!»,
Всё остальное остаётся в тайне.
Циркачка в чёрно-золотом трико, —
Лети сквозь мир так дико, так легко,
Так весело, с таким бесстрашьем детским,
Так издевательски не по-людски,
Что самообладанием тоски
Тебе делиться в самом деле не с кем!
Вот это самообладание тоски, которым не с кем поделиться, — это для меня одна из гениальных поэтических формул.
И вот что самое интересное. Понимаете, это же огромное мужество ещё — быть, как Антокольский. Вот последнее его стихотворение называется «Старинный романс». Ему 81 год (1977 год). Он написал стихотворение — оно смешное! Представляете? Поди так напиши в 81 год.
Ты мне клялся душой сначала,
Назвал ты душенькой меня, —
Но сердце у меня молчало,
Бесчувственное для огня,
Ты от меня ушёл в дурмане,
Ужасно бледен, со стыдом,
И с горстью медяков в кармане
Пришёл в ту ночь в игорный дом,
Там деньги на сукне зелёном,
А в канделябрах жар свечей.
Там в каждом сердце воспалённом
Гнездится алчный казначей.
Ты входишь… В голове затменье…
Но, глядя гибели в глаза,
На карту ставил всё именье —
И сразу выиграл с туза!
Что за удача! Что за диво!
Удвоил ставку банкомёт,
Но он фортуны нестроптивой
Из рук твоих не переймёт.
Уже вам не хватает мела
Сводить подсчёты на сукне…
Ты пред рассветом стукнул смело
На огонёк в моем окне.
Проснулась я и онемела.
Казалось, всё это во сне.
А ты стоял белее мела
И бросил выигрыш свой мне.
И сердце у меня стучало!
Я ассигнаций не рвала,
Клялась тебе душой сначала,
А после душенькой звала.
Лев Толстой сказал когда-то, что перед смертью скажет всё, что думает о женщинах. Вот Антокольский сказал. Это не отрицает, не посягает на высоты его сказочной любовной лирики, но, конечно, это замечательный пример нежно-иронического отношения к жизни и к женщине.
Я полагаю, что, по крайней мере, два поздних стихотворения Антокольского претендуют на настоящее величие — это поэма «Княжна Тараканова» и совершенно гениальное стихотворение «Иероним Босх»:
Я завещаю правнукам записки,
Где высказана будет без опаски
Вся правда об Иерониме Босхе…
И так далее. Это, по-моему, гениальные произведения.
Тут многие меня спрашивают: «Как отвлечься от депрессии? Как победить тоску? Что делать со своей жизнью?» Почитайте позднего Антокольского — Антокольского времён 1970 года:
Что ни утро — восходит свежей
Розопёрстая девушка Эос.
И мудрец обращается к ней:
«Noli tangere circulos meos! —
Не касайся моих чертежей!»
Вот это очень неглупые стихи. Перечитайте старика Антокольского — и жизнь вам покажется прекрасной.
А мы услышимся через неделю.


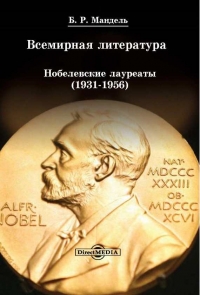

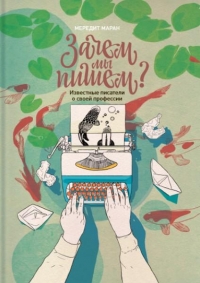
Комментарии к книге «Транскрипции программы Один с сайта «Эхо Москвы». 2016 Январь-Июнь», Дмитрий Львович Быков
Всего 0 комментариев