Н. Долинина
Предисловие к
До с то е в ском.у
Рисунки Н. Кошелькова
70803—146
Д Д/Ц01(03) 80 ^^—^ ©Издательство «Детская литература», 1980 г,
Читать книги Достоевского трудно. В них вроде бы все понятно и все увлекательно: читающего охватывает любопытство — что же дальше? Судьба героев сразу, с первой страницы, становится важной, от книги не оторваться. Но все-таки читать трудно, даже мучительно. Вероятно, потому, что Достоевский не боится заглядывать^в такие тайные уголки и углы человеческой души, мимо которых проходил даже великий Толстой.
Или — нет. Пожалуй, лучше сказать иначе: в романах Толстого — жизнь, как она есть, каждодневная, с буднями и праздниками, с радостью и горем, с унынием и восторгом, с прозрениями и ожиданием чуда, потерями и находками. Читатель узнает в героях Толстого себя и радуется узнаванию, сопереживает героям, жалеет их, любит, иногда сердится на них, раскаивается в совершенных ими поступках, потому что и сам мог бы совершить те же ошибки.
Достоевский не пишет о жизни каждого дня. В его книгах герои раскрываются перед читателем в часы и дни таких событий, какие могут выпасть на долю одного человека один только раз в жизни, а могут и не выпасть никогда.
Герои Достоевского живут в особом измерении, нисколько не похожем на обычную жизнь обыкновенных людей. Они страдают так мучительно, что читать об этих страданиях больно. Они решают такие важные вопросы жизни и смерти, пользы и бесполезности человеческого существования, любви и долга, счастья и отчаяния, что нам, читателям, трудно представить себя на их месте. Все человеческие чувства доведены у героев Достоевского до высшего напряжения: любовь и страсть, муки ревности, доброта и ненависть, детская наивность и холодное коварство, бескорыстие и расчет, легкомыслие и тяжкая ответственность долга — все достигает высшего предела. Читая, мы проникаемся состраданием. Это очень нужное человеку понятие: СО-СТРАДАНИЕ. Да, мы страдаем вместе с героями, и это обогащает наши души, как ни мучительно читать Достоевского.
«Униженные и оскорбленные» — далеко не лучшее произведение писателя. Это, в сущности, первый его большой роман, написанный после большого перерыва. Почему же я решилась писать именно об этом произведении? По двум причинам. Во-первых, мне кажется, что начинать читать Достоевского, входить в мучительный, сложный и бесконечно увлекательный мир его героев лучше именно с этого рома^ на. Пожалуй, можно сказать: он более доступен. Во-вторых, на мой взгляд, в «Униженных и оскорбленных» автор как бы примеривается ко всем своим будущим творениям; это как бы черновик и «Преступления и наказания», и «Идиота», и «Подростка», и «Братьев Карамазовых», и даже «Бесов», Будущий зрелый Достоевский приоткрывается на страницах «Униженных и оскорбленных».
Он был одним из самых серьезных русских писателей, он ставил в своих книгах труднейшие философские проблемы. И в то же время Достоевский владел искусством увлекательного чтения. В каждой его книге есть тайна, к раскрытию ко-* торой спешит читатель. Раскольников в «Преступлении и наказании» уже в начале книги совершил преступление: убил и ограбил. Думающего читателя волнует состояние души героя, муки его совести, психологический спор Раскольникова со следователем Порфирием Петровичем, его любовь к Соне и трагическое возрождение героя. Но тот же думающий читатель не может не быть увлечен разрешением детективной истории: найдут убийцу или нет? Сознается ли он сам? Как раз-» решится таинственная для всех остальных героев книги история убийства старухи-процентщицы?
Князь Мышкин в «Идиоте» покоряет нас с первых же страниц светом своей души, добром, правдой. Мы следим за его жизнью со страхом: этот человек так хорош, что не мо^ жет он быть благополучным, это понимает читатель. И в то же время следит за трагедией любви князя Мышкина к Настасье Филипповне, предчувствует ее гибель и не может оторваться от острых поворотов сюжета книги.
Острые, почти детективные сюжеты — в «Подростке», «Бесах», «Братьях Карамазовых».
Это необыкновенное сочетание глубины и серьезности разрешаемых автором проблем с увлекательным, таинственным, острым сюжетом пришло к Достоевскому не сразу. Читая его первые повести, мы видим, как он постепенно медленно учится быть Достоевским.
«Униженные и оскорбленные» — первая книга писателя, где он начинает находить свой неповторимый стиль философа, психолога и мастера увлекательного чтения.
ЧАСТЬ I
Город пышный, город бедный, Дух неволи, стройный вид, Свод небес зелено-бледный, Скука, холод и гранит...
Л. С. Пушкин
to
1. Как
начинаются книги
«Прошлого года, двадцать второго марта, вечером, со мной случилось престранное происшествие».
Так начинается роман «Униженные и оскорбленные». На то, как начинаются книги, всегда интересно обратить внимание.
У Пушкина часто первая же фраза вводит нас прямо в центр повествования: «Однажды играли в карты у конногвардейца Нарумова». («Пиковая дама».) А вот как начинается «Гробовщик»: «Последние пожитки гробовщика Андриана Прохорова были Езвалены на похоронные дроги, и тощая пара в четвертый раз потащилась с Басманной на Никитскую, куда гробовщик переселялся со всем своим домом».
Для многих писателей это умение Пушкина сразу ввести читателя в мир своих героев оставалось недостижимым идеалом: это не каждому удается; есть писатели, для кого естественнее начинать книгу постепенно, медленно вводя в нее читателя, не сразу представляя ему героев.
Глава I
СТАРИК И ЕГО СОБАКА
В «Герое нашего времени» — иные, не пушкинские, но тоже стремительные начала каждой части. Герои Лермонтова —постоянно в движении, и каждая часть романа с того и начинается: герой куда-то едет. Первая повесть — «Бэла»: «Я ехал на перекладных аз Тифлиса». Вторая повесть — «Максим Максимыч»: «Расставшись с Максимом Максимы- чем, я живо проскакал Терекское и Дарьяльское ущелья, завтракал в Казбеке, чай пил в Ларсе, а к ужину поспел в Владикавказ». Оба эти «я» не Печорина, но все вокруг Печорина движется, торопится, спешит — и офицер-рассказчик тоже. В следующих трех повестях «я» уже принадлежит Печорину, и он тоже все время едет, непрерывно находится в движении. Вот начало «Тамани»: «Тамань — самый скверный городишко изо всех приморских городов России. Я там чуть- чуть не умер с голоду, да еще вдобавок меня хотели утопить. Я приехал на перекладной тележке поздно ночью».
Здесь — сразу все: и необыкновенные приключения, и быстрое движение, и резкий, быстрый тон речи... «Княжна Мери» начинается тем же глаголом «приехал»: «Вчера я приехал в Пятигорск, нанял квартиру на краю города...» Только в «Фаталисте» Печорин, казалось бы, никуда не едет и ниоткуда не приезжает, но и там — движение: «Мне как-то раз случилось прожить две недели в казачьей станице...» — опять жизнь не устоявшаяся, переменчивая, укладывающаяся в сжатые сроки...
«Мертвые души» Гоголя начинаются, как ни странно, более похоже на Лермонтова, чем на Пушкина: здесь тоже движение: «В ворота гостиницы губернского города NN въехала довольно красивая рессорная небольшая бричка, в какой ездят холостяки...» И это не случайное начало: вся книга — о движении Чичикова по губернии, недаром бричка станет одним из самых запоминающихся предметов в «Мертвых душах», недаром и кончится книга движением, но уже не Чичикова: «Русь, куда ж несешься ты, дай ответ?..»
Но другие, более ранние, чем «Мертвые души», работы Гоголя, объединенные под общим названием «Петербургские повести», начинаются иначе. Здесь мы, как и у Пушкина, сразу попадаем в самый центр того мира, куда поведет нас автор. «Нет ничего лучше Невского проспекта, по крайней мере, в Петербурге; для него он составляет все». («Невский проспект».) А вот еще два начала петербургских повестей Гоголя, явно перекликающихся с началом «Униженных и оскорбленных»: «Марта 25 числа случилось в Петербурге необыкновенно странное происшествие». Так начинается «Нос». И — очень похоже — «Записки сумасшедшего»: «Сегодняшнего дня случилось необыкновенное приключение».
В обеих этих повестях, действительно, произойдут события невероятные, фантастические — они оправдают такое начало. Но разве «Униженные и оскорбленные» — фантастический роман? Разве там будут переписываться собаки и носы станут молиться в Казанском соборе? Нет, ничего подобного не будет. Зачем же тогда Достоевский начинает роман таким точным указанием времени, когда с рассказчиком, от чьего имени ведется повествование, «случилось престранное происшествие»?
Пожалуй, даже указание времени излишне точное: прошлого года, двадцать второго марта, вечером... Когда мы прочтем еще несколько строк, то узнаем, что действие происходит в Петербурге, на Вознесенском проспекте (так назывался до революции проспект Майорова). Но, вчитавшись внимательнее, мы через несколько глав поймем, что точность эта не подлинная, что главного-то мы не узнали: «прошлого года» — ничего не значит; события, описанные в рОхМане, не могли происходить за год перед тем временем, когда Достоевский писал свой роман, — в книге сознательно перепутаны сороковые и шестидесятые годы. Значит, точная дата, открывающая книгу, понадобилась автору только для того, чтобы убедить читателя: все описанное было на самом деле; заставить читателя верить тому, что он прочтет дальше.
Так с первых же слов автор ставит непременное условие, заключает договор с читателем: нужно верить всему, что будет рассказано; как бы странно ни было, на первый взгляд, любое происшествие, — оно могло быть; оно точно отражает ту непривычную, странную действительность, в которой живут герои Достоевского: действительность обостренных, обнаженных чувств.
Между тем, после первой фразы ничего необыкновенного или странного не происходит. Наоборот, Достоевский рассказывает о вещах совершенно обычных, даже скучноватых: «Весь этот день я ходил по городу и искал себе квартиру. Старая была очень сыра, а я тогда уже начинал дурно кашлять. Еще с осени я хотел переехать, а дотянул до весны».
Язык Достоевского в первом абзаце нарочито, подчеркнуто прост, даже и не похож на литературный. Скорее так говорят, а не пишут в романах: «...хотелось квартиру особенную, не от жильцов... хоть одну комнату, но непременнобольшую, разумеется вместе с тем и как можно дешевую». Тем не менее, сразу после этих, как будто и корявых, слов мы узнаем, что рассказчик — писатель.
2. Фантастический мир Петербурга
Во втором абзаце разговорный тон ис-* чезает. Перед нами возникает один из главных героев Достоевского: город, Петербург. Вспомним еще раз описание Пе* тербурга, данное Гоголем:
«Но страннее всего происшествия, слу« чающиеся на Невском проспекте. О, не верьте этому Невскому проспекту. Я все-« гда закутываюсь покрепче плащом сво* им, когда иду по нем, и стараюсь вовсе не глядеть на встречающиеся предметы. Все обман, все мечта, все не то, чем кажется... Он лжет во всякое время, этот Невский проспект, но более всего тогда, когда ночь сгущенною массою наляжет на него и отделит белые и палевые стены домов, когда весь город превратится в гром и блеск, мириады карет валятся с мостов, форейторы кричат и прыгают на лошадях, и когда сам демон зажигает лампы для того только, чтобы показать все в не настоящем виде».
Петербург у Гоголя — живое существо, страшный, фантастический город-спрут, который губит все человеческое, возвышенное, искреннее, как погубил художника Пискарева в «Невском проспекте». Гоголь описывает город, пользуясь, как это ему свойственно, чудовищными преувеличениями: «гром и блеск, мириады карет», «сам демон зажигает лампы», но главное у него: город — живой, «он лжет во всякое время», он ужасен, как чудовище.
ттш-
У Достоевского город — тот же, и описание его, без сомнения, навеяно гоголевским: «Я люблю мартовское солнце в Петербурге, особенно закат, разумеется, в ясный, морозный вечер. Вся улица вдруг блеснет, облитая ярким светом. Все дома как будто вдруг засверкают. Серые, желтые и грязно- зеленые цвета их потеряют на миг всю свою угрюмость; как будто на душе прояснеет, как будто вздрогнешь или кто-топодтолкнет тебя локтем. Новый взгляд, новые мысли... Удивительно, что может сделать один луч солнца с душой человека!»
Да, это гоголевский Петербург, в нем те же «серые, желтые и грязно-зеленые дома» с их угрюмостью. Но описание Достоевского не так безысходно; в этом мрачном городе мелькает иногда хоть «один луч солнца», и в этом пейзаже присутствует человек, его душа, умеющая радоваться тому, что на мгновенье «улица вдруг блеснет», «дома как будто вдруг засверкают». Так входит в роман тема человека и города, которая потом разовьется в «Преступлении и наказании».
«Но солнечный луч потух; мороз крепчал и начинал пощипывать за нос; сумерки густели; газ блеснул из магазинов и лавок».
Этот Петербург уже, без сомнения, гоголевский, тот самый, где носы разгуливают по улицам в мундирах статских советников, а портреты выходят из своих рам; город, где не только могут, но и должны случаться «престранные», фантастические происшествия.
И, действительно, внезапно остановившись посреди Вознесенского проспекта, рассказчик почувствовал, что с ним «вот сейчас... случится что-то необыкновенное». И снова повторяет через несколько строк: «Например, хоть этот старик: почему при тогдашней встрече с ним, я тотчас почувствовал, что в тот же вечер со мною случится что-то не совсем обыденное?»
Внешность старика описана подробно, очень подробно — с теми подробностями, на какие способен только Достоевский:
«Старик своим медленным, слабым шагом, переставляя ноги, как будто палки, как будто не сгибая их, сгорбившись и слегка ударяя тростью о плиты тротуара, приближался к кондитерской. В жизнь мою не встречал я такой странной, нелепой фигуры... Его высокий рост, сгорбленная спина, мертвенное восьмидесятилетнее лицо, старое пальто, разорванное по швам, изломанная круглая двадцатилетняя шляпа, прикрывавшая его обнаженную голову, на которой уцелел, на самом затылке, клочок уже не седых, а бело-желтых волос; все движения его, делавшиеся как-то бессмысленно, как будто по заведенной пружине, — все это невольно поражало всякого, встречавшего его в первый раз».
Первая же фраза построена так, что в ней как будто и не сказано, что старик шел. Между подлежащим «старик» и сказуемым «приближался» — три строчки, тогда как в обьь чае русского языка ставить сказуемое сразу вслед за подлежащим. Достоевский отодвигает его целой серией деепричастных оборотов: «переставляя ноги, как будто палки», «как будто не сгибая их», «сгорбившись и слегка ударяя тростью о плиты тротуара» — и только после всего этого: «приближался», то есть как будто и не шел, а слабо, медленно, еле- еле двигался...
Читая это описание, мы не только видим перед собой странного, таинственного старика. Мы начинаем понимать и рассказчика: благодаря его точному взгляду, его метким замечаниям, мы проникаемся интересом и жалостью к старику. Ведь это рассказчик сравнивает старческие ноги с палками, он замечает сгорбленную спину, «мертвенное восьмидесятилетнее лицо», видит ветхость одежды: пальто — «разорванное по швам», шляпа — «изломанная», «двадцатилетняя»; обращает наше внимание на уцелевший «клочок уже не седых, а бело-желтых волос» и, наконец, прямо обращаясь к читателю, восклицает: «В жизнь мою не встречал я такой странной, нелепой фигуры!»
Но вот что мы узнаем, читая описание старика: «И прежде, до этой встречи, когда мы сходились с ним у Миллера, он всегда болезненно поражал меня». Значит, рассказчик видел старика и раньше, отчего же в этот вечер у него впервые возникло предчувствие, что должно случиться «что-то необыкновенное»?
Сам рассказчик объясняет это просто: «Впрочем, я был болен; а болезненные ощущения почти всегда бывают обманчивы». Но ведь и Раскольников в «Преступлении и наказании» чувствовал себя больным, был в бреду все те дни, когда решалась его судьба: превратиться в убийцу? исполнить свое решение или нет? дознаются люди или преступление останется нераскрытым? И, наконец, как избавление от бреда пришло решение сознаться в содеянном самому. Состояние нездоровья, полубреда свойственно героям Достоевского в решительные, трудные, переломные моменты их жизни, а в такие-то моменты писатель и показывает нам своих героев.
Так, может быть, рассказчик потому предчувствовал «что- то необыкновенное», что уже знал: в жизни его происходит перелом, наступает период событий стремительных, трагических и неизбежных?
00 этом мы скоро узнаем. А сейчас вернемся к старику, направляющемуся вместе со своей собакой в кондитерскую Миллера, где уже не раз встречал его рассказчик. Портрет старика все еще не закончен: «Поражала меня тоже его необыкновенная худоба: тела на нем почти не было, и как будто на кости его была наклеена только одна кожа. Большие, но тусклые глаза его, вставленные в какие-то синие круги, всегда глядели прямо перед собою, никогда в сторону и никогда ничего не видя, — я в этом уверен... Лицо его до того умерло, что уж решительно ничего не выражает. И откуда он взял эту гадкую собаку, которая не отходит от него, как будто составляет с ним что-то целое, неразъединимое, и которая так на него похожа?»
Если внимательно прочитать все описание старика, можно заметить: ничего фантастического в его внешности нет — оборванный, несчастный, очень старый старик, вызывающий жалость. Все фантастическое — от воображения рассказчика: «тела на нем почти не было», и кожа его, кажется рассказчику, кем-то «наклеена» на кости, глаза — кем-то вставлены «в какие-то синие круги». И собака старика представляется рассказчику не только «гадкой», но странной, таинственной, похожей на своего хозяина и «неразъединимой» с ним.
Собаке посвящен целый абзац; ее портрет тоже очень подробен, и в нем опять-таки прежде всего виден взгляд и слышен голос рассказчика: «Этой несчастной собаке, кажется, тоже было лет восемьдесят; да, это непременно должно было быть. Во-первых, с виду она была так стара, как не бывают никакие собаки, а во-вторых, отчего же мне, с первого раза, как я ее увидал, тотчас же пришло в голову, что эта собака... не такая, как все собаки; что она — собака необыкновенная... Глядя на нее, вы бы тотчас же согласились, что, наверно, прошло уже лет двадцать, как она в последний раз ела. Худа она была, как скелет, или (чего же лучше?) как ее господин. Шерсть на ней почти вся вылезла, тоже и на хвосте, который висел, как палка, всегда крепко поджатый. Длинноухая голова угрюмо свешивалась вниз. В жизнь мою я не встречал такой противной собаки...»
Еще и еще раз подчеркивая необыкновенность,собаки (как и ее хозяина), рассказчик сообщает: «...в ней непременно должно быть что-то фантастическое... это, может быть, какой-нибудь Мефистофель в собачьем виде...»
Как завершение, как вывод, описание старика и собаки заканчивается следующим предположением: «Помню, мне еще пришло однажды в голову, что старик и собака как-нибудь выкарабкались из какой-нибудь страницы Гофмана...»
Гофман — немецкий писатель, романтик, сказочник, повести его полны таинственных чудес и фантастических превращений. Да, речь идет о таинственной собаке, вызывающей в воображении то «Фауста» Гете («какой-нибудь Мефистофель в собачьем виде»), то странные и страшные повести Гофмана, которыми зачитывались современники Достоевского. Но мне почему-то все вспоминается другой Гофман, «не писатель Гофман, но довольно хороший сапожник...» — персонаж из повести Гоголя «Невский проспект».
В кондитерской Миллера,, описанной Достоевским, собирались пошлые ремесленники, довольные собой и своими низменными интересами. Внезапно в этот мир пошлого самодовольства медленным, слабым шагом вошли старик и его собака.
Рассказчик не впервые увидел здесь этих посетителей. Оказывается, старик приходил в кондитерскую ежедневно: он «никогда ничего не спрашивал», даже газет не читал, не произносил ни слова, просто сидел «в продолжение трех или четырех часов», на одном месте, «смотря перед собою во все глаза... тупым, безжизненным взглядом», а собака неподвижно лежала у его ног. «Казалось, эти два существа целый день лежат где-то мертвые и, как зайдет солнце, вдруг оживают единственно для того, чтобы дойти до кондитерской Миллера и тем исполнить какую-то таинственную, никому не известную обязанность».
Благопристойный мир кондитерской не может долго выносить присутствие неблагообразного старика — столкновение неизбежно, и оно происходит. Один из гостей Миллера, «купец из Риги», почувствовав на себе неподвижный взгляд старика, сначала обиделся, затем возмутился и, наконец, вышел из себя: «...он вспыхнул и... пылая собственным достоинством, весь красный от пунша и от амбиции, в свою очередь уставился своими маленькими, воспаленными глазками на досадного старика». Хозяин кондитерской почел своим долгом заступиться за посетителя и, думая, что старик глух, громко и тоже с чувством собственного достоинства, обратился к нему с требованием «прилежно не взирайт» на посетителя.
3. «Отчего иногда
сердце перевертывается в груди...»
Здесь тон рассказчика резко меняется. Описывая старика и его собаку, он был наблюдателен и, пожалуй, раздражен. Говоря о мире кондитерской, он не скрывал своей неприязни к этим красным «от пунша и от амбиции», самодовольным, тупым мещанам. Теперь он жалеет старика — никакого раздражения больше нет, только жалость, которой не может не разделить читатель: «Старик машинально взглянул на Миллера, и вдруг в лице его, доселе неподвижном, обнаружились признаки какой-то тревожной мысли, какого-то беспокойного волнения. Он засуетился, нагнулся, кряхтя, к своей шляпе, торопливо схватил ее вместе с палкой, поднялся со стула и с какой-то жалкой улыбкой — униженной улыбкой бедняка, которого гонят с занятого им по ошибке места, — приготовился выйти из комнаты. В этой смиренной, покорной торопливости бедного, дряхлого старика было столько вызывающего на жалость, столько такого, отчего иногда сердце перевертывается в груди...»
За этими строками я всегда вижу Федора Михайловича Достоевского — автора «Бедных людей», умеющего перевернуть и сердце читателя.
Умер бедный студент Покровский. За гробом его идет старик отец. Вещи и книги умершего захватила хозяйка квартиры, отец «отнял у ней книг сколько мог, набил ими все свои карманы, наложил их в шляпу, куда мог, носился с ними... и даже не расстался... и тогда, когда надо было идти в церковь... Наконец гроб закрыли, заколотили, поставили на телегу и повезли... Извозчик поехал рысью. Старик бежал за ним и громко плакал; плач его дрожал и прерывался от бега. Бедный потерял свою шляпу и не остановился поднять ее. Голова его мокла от дождя; поднимался ветер; изморозь секла и колола лицо. Старик, кажется, не чувствовал непогоды... Полы его ветхого сюртука развевались по ветру, как крылья... Книги поминутно падали у него из карманов в грязь. Его останавливали, показывали ему на потерю; он поднимал и опять пускался вдогонку за гробом...»
Эта страница — из «Бедных людей», первой книги Достоевского. И в каждой его книге есть страницы, читать которые тяжело, мучительно. Эти горькие, пронзительные слова, действительно, перевертывают сердце; мучительно представлять себе картину, нарисованную Достоевским. Но, право же, человеку, никогда не мучившемуся над книгами Достоевского, непременно недостает чего-то очень важного, может быть, той жалости, что растет прямо в сердце.
Вот такая мучительная картина предстанет сейчас перед нами в кондитерской Миллера. Старика гонят с привычного места...
От него, пожалуй, ждут какой-нибудь обиды... Но рассказчику «было ясно, что старик не только не мог кого-нибудь обидеть, но сам каждую минуту понимал, что его могут отовсюду выгнать как нищего».
Посетители кондитерской были люди хотя и пошлые, но добрые. В том смысле добрые, что, не замечая чужого горя, пока оно не раскроется под самым их носом, они могли расчувствоваться, заметив его наконец. Миллер постарался утешить старика.
«Но бедняк и тут не понял; он засуетился еще больше прежнего, нагнулся поднять свой платок, старый, дырявый платок, выпавший из шляпы, и стал кликать свою собаку...
Азорка, Азорка! — прошамкал он дрожащим, старческим голосом. — Азорка!
Азорка не пошевельнулся.
Азорка! Азорка! — тоскливо повторял старик...»
Достоевский не боится слов, не скупится на самые мучительные для читающего слова: «бедняк... засуетился... старый, дырявый платок... прошамкал... дрожащим, старческим голосом... тоскливо повторял...»
Азорка был мертв. «Он умер неслышно, у ног своего господина... Старик... тихо склонился к бывшему слуге и другу и прижал свое бледное лицо к его мертвой морде. Прошла минута молчанья. Все мы были тронуты...»
Вспомните, в начале рассказчик повторял: «гадкую собаку», «в жизнь мою я не встречал такой противной собаки». Теперь он почувствовал, понял, чем был для одинокого старика Азорка.
Но ремесленники из кондитерской, хотя и были тронуты, остаются пошлыми людьми, и это не замедлило сказаться.
«— Можно шушель сделать, — заговорил сострадательный Миллер, желая хоть чем-нибудь утешить старика. (Шу- шель означало чучелу)...»
И все наперебой стали предлагать свои услуги: кто — сделать чучело, кто — заплатить за него. Как будто чучело могло заменить живую собаку, которая одна оставалась со своим господином, была верна ему! Хозяин кондитерской дошел до такого приступа доброты, что предложил старику рюмку хорошего коньяка. Старик расплескал коньяк и ничего не выпил. «Затем, улыбнувшись какой-то странной, совершенно не подходящей к делу улыбкой, ускоренным, неровным шагом вышел из кондитерской, оставив на месте Азорку».
Вот эта улыбка, которая иногда возникает на лице измученного, погибающего человека, когда он уже все потерял, ему уже нечего ждать, не на что надеяться, — эта улыбка осталась совершенно непонятной обществу. Но ведь и рассказчик — чужой в этом мире. Войдя в кондитерскую Миллера, он спрашивал себя: «Зачем я вошел сюда, когда мне тут решительно нечего делать, когда я болен?..» Но, тем не менее, он остается в кондитерской, тревожась за старика, и, когда тот выходит на улицу, рассказчик спешит вслед за ним. Он успел найти старика в темном закоулке между каким-то забором и домом, успел сказать ему несколько добрых слов и услышать от него:
«— На Васильевском острове, — хрипел старик, — в Шестой линии...»
Рассказчик подумал, что старик живет в Шестой линии, но ничего больше не успел узнать: старик был мертв.
«Это приключение стоило мне больших хлопот, в продолжение которых прошла сама собою моя лихорадка», — сообщает рассказчик. У него не возникло даже мысли, что он мог не хлопотать об умершем старике, просто подозвать полицейского и уйти по своим делам. Ему не чужды судьбы других людей; жизнь и смерть старика заняли его душу, не мог он не принять участия в хлопотах.
Нашли дом, где жил старик: здесь же, рядом. Квартира его будет играть немалую роль в романе, описание ее важно: «..в пятом этаже, в отдельной квартире, состоящей из одной маленькой прихожей и одной большой, очень низкой комнаты, с тремя щелями наподобие окон».
Позже, когда в этой комнате будет жить сам рассказчик, его приятель заметит: «Ведь это сундук, а не квартира».
Невольно вспоминается «Преступление и наказание» с ком* натой Раскольникова, тоже в пятом этаже, «под самой кры-* шей», похожей «более на шкаф, чем на квартиру», — так описал комнату Раскольникова Достоевский, а матери Раскольникова она показалась похожей на гроб.
Достоевский хорошо знал петербургские комнаты, в каких он селил своих героев; он сам много лет жил в таких комнатах. Но жилье умершего старика отличалось от других бедных комнат: здесь дарила полная нищета: давно не топившаяся печь, пустая глиняная кружка и засохшая корка хлеба — все, что нашлось в комнате.
Квартира была жалкая, но рассказчик уверяет, что она ему понравилась, поэтому он оставил ее за собой и даже скоро привык к низкому потолку. О главной же причине он упоминает вскользь: «...может быть, кто-нибудь и наведается о старике». Сам он ничего не мог узнать: ни хозяин дома, ни жильцы ничего не могли ему сообщить. Вспомнив последние слова старика, рассказчик пошел на Шестую линию, но что он мог там выяснить, не зная ничего, кроме номера линии?
Всего, что произойдет дальше, могло бы не случиться, если бы на месте рассказчика был другой человек.
Связь между тем, кто жив, и тем, кто умер, ощущают далеко не все люди; чужой старик как бы завещал случайному встречному кого-то, кто живет в Шестой линии, и рассказчик, почувствовав себя ответственным перед памятью незнакомого старика, решился ждать. «Впрочем, прошло уже пять дней, как он умер, а еще никто не приходил» — так кончается первая глава, оставляя нам множество вопросов. Кто такой был Иеремия Смит? Почему он жил один в такой чудовищной нищете («денег не нашлось ни копейки»)? О ком он волновался в свой последний миг? Почему был так привязан к Азорке?
Найдет ли рассказчик отгадку всей этой таинственной истории?
Глава II
ИВАН ПЕТРОВИЧ
1. Голос рассказчика
Но долго еще нам придется ждать ответа на все возникшие вопросы: рассказчик как будто забудет об умершем старике Смите; целых восемь глав он будет повествовать совсем о других событиях, других людях; мы успеем заинтересоваться, даже увлечься их заботами, их жизнью, когда, наконец, начнет проясняться тайна старика, станут понятнее его слова о Шестой линии.
Странное, фантастическое, таинственное, бурная смена необыкновенных происшествий — все, что было в первой главе, сменяется в следующих главах неторопливым и грустным повествованием о жизни самого рассказчика.
Но утомительно называть его этим безликим словом — рассказчик. Скоро мы узнаем, что близкие зовут его Ваней, а чужие — Иваном Петровичем; будем и мы называть его так же.
Уже из первой главы мы узнали, что Иван Петрович — писатель. Комната Смита привлекла Ивана Петровича тем, что она хотя и низкая, но большая: «Я же, когда обдумывалсвои будущие повести, всегда любил ходить взад и вперед по комнате», — вспоминает Иван Петрович.
Трудно сказать, понимал ли Достоевский, когда писал «Униженных и оскорбленных», что все его привычки станут драгоценны для читателей, что читатели узнают эти привычки, описанные в его первом романе. Вероятнее всего, Достоевский не мог тогда этого предвидеть. Просто он придал Ивану Петровичу некоторые свои черты (скоро мы увидим, что он сделал Ивана Петровича и автором своего первого романа «Бедные люди»). Вот и еще одно признание Ивана Петровича, за которым явственно виден сам Достоевский: «Кстати, мне всегда приятнее было обдумывать мои сочинения и мечтать, как они у меня напишутся, чем в самом деле писать их...» Из писем Достоевского, из воспоминаний о нем мы знаем, что это свойство не придумано автором, оно было у него самого. Писал он тем не менее страшно много — ночами, в самых невообразимых условиях. В эпилоге «Униженных и оскорбленных» мы узнаем, что Иван Петрович написал за два дня и две ночи «три печатных листа с половиною», — а это восемьдесят четыре страницы на машинке.
Так, может быть, Иван Петрович — это и есть сам Достоевский? Может быть, он просто описал себя и то, что произошло с ним? Мы еще не раз увидим, что в Иване Петровиче — много от Достоевского, но, к счастью, жизнь Достоевского сложилась иначе. Иван Петрович вспоминает во второй главе: «В то время, именно год назад; я еще сотрудничал по журналам, писал статейки и твердо верил, что мне удастся написать какую-нибудь большую, хорошую вещь».
Иван Петрович настаивает: события, описанные в романе, происходили «именно год назад». И опять, как в первой главе, говорит о своей болезни, еще более определенно, чем раньше: «... вот засел теперь в больнице и, кажется, скоро умру». В таком случае, рассказчик все-таки не сам Достоевский, который не болел чахоткой и, к счастью, прожил после «Униженных и оскорбленных» долго, написал не одну «большую, хорошую вещь».
Но, может быть, в период работы над «Униженными и оскорбленными» Достоевский чувствовал себя и больным, и даже обреченным, боялся, что не успеет написать все, что хотелось бы ему сказать людям... Может быть, он доверил Ивану Петровичу эти свои чувства, хотя реальная биография Федора Достоевского не имеет ничего общего с жизнью Ивана Петровича.
«Должно полагать, что родители мои были хорошие люди, но оставили меня сиротой еще в детстве, и вырос я в доме Николая Сергеича Ихменева, мелкопоместного помещика, который принял меня из жалости».
Это, собственно, и все, что мы узнаем, потому что фактов Иван Петрович почти не вспоминает, а вспоминает счастье, которое ощущал в детстве, — оно осталось в его памяти счастливым, блаженным временем, когда рядом всегда была она — Наташа Ихменева.
«Тогда на небе было такое ясное, такое непетербургское солнце и так резво, весело бились наши маленькие сердца. Тогда кругом были поля и леса, а не груда мертвых камней, как теперь».
Этот крик отчаяния от того, что «теперь» окружает человека, снова напоминает Гоголя: у него тоже природа, живая и естественная, приносящая человеку счастье, постоянно противостоит Городу, Столице чиновничьей, бездушной империи, каменному темному Петербургу. Все было прекрасно тогда, потому что было «далеко отсюда», «не здесь», не в Петербурге. «Что за чудный был сад и парк... Тогда за каждым кустом, за каждым деревом как будто еще кто-то жил, для нас таинственный и неведомый; сказочный мир сливался с действительным...»
Таинственное было и тогда, но теперь в этом слове скрыт ужас: необыкновенное, таинственное происшествие непременно грозит бедою, потому что происходит в городе, где «груда камней» убивает живую человеческую душу. А в детстве таинственное было сказочным: страшноватым, как все неожиданное, но не страшным, не грозящим бедою, а обещающим неизведанное.
Вот и все, что мы узнаем о детстве Ивана Петровича: тогда было хорошо, прекрасно, счастливо, светло, потому что не было Петербурга и была Наташа, еще ничем не связанная с Петербургом. Позже, уже не так давно, «года два назад», то есть за год до описанных в романе событий, Иван Петрович опядъ встретил Наташу. Но это было уже в Петербурге, детство кончилось, отец Наташи приехал в Петербург «хлопотать по своей тяжбе», а Иван Петрович «только что выскочил тогда в литераторы».
Холодом, ожиданием беды веет от этих уже не детских, очень взрослых слов: «хлопотать по своей тяжбе». Русская литература много раз показывала нам мелкопоместных помещиков, приезжающих в Петербург хлопотать по тяжбам, — эти люди, как правило, проигрывают свои судебные дела — и по неопытности, и по невозможности дать взятку кому следует... У читателя возникает грустное предчувствие. Да и литературная работа Ивана Петровича снижена, сведена к чему-то низменному словом «выскочил».
2. Что необычно в романах Достоевского
Когда писатель описывает человече- · скую судьбу, он как бы проживает вместе с героем всю его жизнь. Иногда это понятно: можно представить себе, как Пушкин вообразил себя на месте Онегина, Ленского, Германна из «Пиковой дамы», Дубровского, даже Татьяны и, пережив за этих людей самые важные, самые роковые минуты их жизни, написал об этом так, что мы верим точности его воображения, верим: так все и было на самом деле. Можно представить себе, как Гоголь чувствовал за Тараса Бульбу, Остапа и Андрия, даже за пошлейших Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича, Нозд- рева, Чичикова, Коробочку.
Но бывают вещи необъяснимые, их принято называть чудесами. Как мог Пушкин чувствовать за восьмидесятилетнюю старую графиню из «Пиковой дамы»?! Как мог Гоголь прожить в своем воображении те месяцы жизни маленького, ничтожного петербургского чиновника Поприщина, когда он сходит с ума, и передать состояние человека, с которым происходит самое страшное: на наших глазах он теряет рассудок? Вероятно, это и есть чудо искусства, — то чудо, которое мы ощущаем, читая о Наташе Ростовой: откуда было сорокалетнему Толстому знать, что испытывает шестнадцатилетняя девушка, ждущая любви, и она" же — в минуты счастья, и она же — в минуты унижения, раскаяния?
Толстой никогда не был Наташей Ростовой, как Пушкин не был старой графиней, и Гоголь — Поприщиным. Все эти писатели умели прожить в воображении жизнь своих героев.
Когда Некрасов, чрезвычайно взволнованный, принес Белинскому первую повесть Достоевского и заявил, что возник «новый Гоголь», Белинский не поверил ему и сказал: «Что- то у вас Гоголи как грибы растут». Но на следующий день, прочитав рукопись, он спросил Некрасова о Достоевском:
« — Скажите, он, должно быть, бедный человек и сам много страдал? Написать такую вещь в двадцать пять лет может только гений, который силою постижения в одну минуту схватывает то, для чего обыкновенному человеку потребен опыт многих лет».
Белинский не ошибся. Достоевский, действительно, оказался гением, и он, действительно, много страдал уже к двадцати пяти годам. Конечно, он не был ни пожилым, полунищим забитым петербургским чиновником, ни несчастной, одинокой и униженной, беззащитной девушкой. Но что такое унижение, беззащитность и одиночество, он уже испытал в полной мере. И дети у Достоевского, — описанные им замученные обществом дети, о которых речь впереди, — все они несут на себе отпечаток горя и страха, и детской гордости, и детского отчаяния, которые испытал сам Достоевский.
Отступление первое
О ЮНОСТИ ФЕДОРА ДОСТОЕВСКОГО
«Есть дети, с детства уже задумывающиеся над своей семьей, с детства оскорбленные неблагообразием отцов своих, отцов и среды своей...» — писал Достоевский в романе «Подросток».
Таким ребенком был он сам. Отец Достоевского был человек холодный, угрюмый и жестокий. К 182.1 году, когда родился его второй сын Федор, Михаил Андреевич Достоевский был уволен из армии, где он еще со времен Бородинского сражения был врачом, и поступил работать в Московскую больницу для бедных.
Мать Достоевского — добрая, мягкая, возвышенная душа — была замучена деспотизмом и ревностью отца. Сыновья рано научились жалеть ее.
Федор Достоевский был вторым сыном в семье. Старший брат Михаил до самой своей смерти оставался самым близким человеком для Федора Михайловича. В семье было еще пятеро младших: три сестры и два брата. Детство старших детей прошло в Москве, за оградой больницы для бедных, где находились также приют для подкидышей и дом умалишенных. До десяти лет Достоевский почти не видел других людей, кроме приютских детишек и душевнобольных. Но с этими людьми он полюбил разговаривать. Может быть, впечатления детства возникли потом на страницах «Села Степан- чикова», где с добротой и жалостью описана полубезумная Татьяна Ивановна, и в «Бесах», где один из самых пронзающих жалостью характеров — убогая Маша Лебядкина.
Когда Федору Михайловичу было десять лет, отец купил небольшое поместье и в следующем году — еще одно. Дети впервые увидели, вместо больничной ограды, — природу, хотя и очень невеселую, мрачную, дикую, но все-таки природу. Отец его был страшно жесток с крестьянами, и это, конечно, запомнилось Достоевскому, как и бесконечная жестокость отца с домашними.
А мать любила отца — какой бы он ни был, любила. Сохранились ее письма: «Не кляну, не ненавижу, а люблю, боготворю тебя и делю с тобой, другом моим единственным, все, что имею на сердце».
Может быть, в романах Достоевского потому так много прекрасных женщин, так много преданной, страдающей, мучительной любви, что писатель с детства знал: такая любовь существует, она есть, он ее видел.
С двенадцати лет Достоевский вместе со старшим братом учился в московских пансионах — и многое из пережитого там вошло,позже в его книги. В «Подростке» есть сцена, где к бедному мальчику, отданному в столичный пансион, приезжает мать-крестьянка. Мальчик стыдится матери. Стыдится ее бедного платья, ее скромных гостинцев, боится, чтобы товарищи не узнали его тайны: он незаконный сын. Сцену эту не только страшно и мучительно, но стыдно читать, — ее не мог бы, не осмелился бы написать никакой другой писатель, кроме Достоевского.
О себе он напишет гораздо позднее: «гордая молодая душа, угрюмая, одинокая, пораженная и уязвленная еще в детстве».
В январе 1838 года семнадцатилетний Достоевский поступил в Главное инженерное училище, помещавшееся в Михайловском замке в Петербурге. Никакого призвания к инженерному делу у Достоевского не было. Через много лет он вспоминал: «Меня с братом свезли в Петербург в Инженерное училище и испортили нашу будущность. По-моему, это была ошибка». Еще мальчиком Федор Достоевский научился жить литературой. Он бесконечно много читал, увлекался романтическими книгами русских и иностранных писателей. Брат его Михаил писал стихи.
За год до отъезда братьев в Петербург умерла их мать; уже после ее похорон Федор Михайлович узнал о том, что месяц назад в Петербурге похоронили Пушкина. Два этих горя слились для него в одно.
Не имея никакой склонности к военному строительству, которому обучали в Инженерном училище, братья Достоевские, без сомнения, хотели бы поступить в Московский университет, где учились в это время все те люди, что вскоре стали их друзьями, — Островский, Писемский, Фет, Полонский...
Но отец презирал «стихолисание» старшего сына и, к счастью, не интересовался душевным миром младшего. Он хотел для сыновей денежной карьеры; поступление в Инженерное училище было решено им, сыновья не смели сопротивляться воле отца. Однако воспитанником училища стал только Федор: Михаила не приняли по состоянию здоровья.
В Инженерном училище были юноши, увлекавшиеся литературой, историей. Блестящие артистические способности Федора Достоевского (он всю жизнь выделялся своим замечательным талантом читать вслух и чужие, и свои произведения) увлекли его друзей. В училище образовалась группа любителей литературы; центром ее был Ф. Достоевский.
В училище он открыл для себя Гоголя. Он много думал о психологии человека, о проблеме сильной личности и ее праве добиваться своей цели любыми средствами — эти мысли впоследствии воплотились в теории Раскольникова; о проблеме власти и силы золота — эти мысли отзовутся в «Подростке».
Тогда же он задумался над судьбой маленьких, забитых жизнью людей.
В июне 1839 года был убит при таинственных обстоятельствах отец Достоевского. Старшие сыновья были в Училище, но пятеро младших детей остались без кормильца. Достоевского мучила мысль об их будущем, он не хотел помощи богатых родственников, строил планы поддержки братьям и сестрам. И эти свои мучительные заботы он передал гораздо позже Раскольникову, терзаемому мыслью о сестре, которая погибнет, если брат не сможет ей помочь. Может быть, из-за младших братьев и сестер Достоевский не оставил сразу Инженерного училища. Он кончил его в 1843 году и был назначен на должность далеко не блестящую. К этому времени братья и сестры были уже устроены — к сожалению Достоевского, именно теми родственниками, которых он не любил и презирал. Он не был уже обязан служить ради семьи, чувствовал себя «поэтом, а не инженером», и «твердо был уверен, что будущее все-таки мое и что я один ему господин».
Служба занимала небольшое место в его жизни. Денег не хватало, и Достоевский познакомился с миром петербургских ростовщиков, — тем самым миром, который был так ненавидим Раскольниковым. Писать он еще не пытался, но придумывал бесконечные и разные истории людских судеб. В 1844 году был напечатан его перевод повести Бальзака «Евгения Гранде». Так началась литературная жизнь Достоевского.
3. Завязка романа
Так что же случилось с Иваном Петровичем и Наташей в холодном сумраке Петербурга? Достоевский устами Ивана Петровича рассказывает нам предысторию романа — события, происходившие гораздо раньше, чем рассказчик встретился со Смитом и был свидетелем смерти старика.
Все началось много лет назад, когда отец Наташи, Николай Сергеевич Ихменев, спокойно жил в своем небольшом поместье, разумно управляя им, и получал не богатые, но вполне приличные доходы. Мы помним: два года назад отец Наташи приехал из своего поместья, где «было такое ясное, такое непетербургское солнце» и «кругом были поля и леса», в Петербург, где человека окружает «груда мертвых камней». Приехал «хлопотать по своей тяжбе».
История возникновения этой тяжбы не сразу становится нам ясна. Оказывается, много лет назад в жизнь Ихменева вошел человек из другого мира, — мира тяжб и блестящих богатств, мира Петербурга. Зовут этого человека князь Петр Александрович Валковский. По сравнению с Ихменевым, у которого пятьдесят душ крепостных, князь — богач: в его селе Васильевском — девятьсот душ.
Приехав в свое поместье, разграбленное плохим управителем, князь увидел, что нужен другой управляющий, на которого можно положиться, «чтоб уж и не заезжать никогда в Васильевское». Таким управляющим удобнее всего было сделать Ихменева. «Князь достиг своей цели. Надо думать, что он был большим знатоком людей. В короткое время... он... понял, что Ихменева надо очаровать дружеским, сердечным образом, надобно привлечь к себе его сердце, и что без этого деньги не много сделают».
Позже мы еще вернемся к этим двум очень разным, противоречивым характерам, трагически объединенным судьбой, — Ихменева и князя Валковского. Но уже сразу, в начальных главах романа, мы чувствуем какой-то зловещий оттенок во всех поступках князя, который, казалось бы, всецело доверился своему управляющему, обращался с Ихменевым дружески, а вскоре действительно полностью предоставилему управлять имением, и сам уехал за границу и не заботился больше о своем имении. Там, за границей, с ним происходили какие-то туманные, никому не известные, но неприятные происшествия. Впрочем, вернувшись через много лет, он «занял в Петербурге весьма значительное место».
Ихменев, конечно, не верил никаким «темным» слухам о князе, был в восторге от успехов своего друга. «Смотрит в вельможи!» — говорил Николай Сергеич, потирая руки от удовольствия».
И вот происходит предательство, о котором старик Ихменев и помыслить не мог. Для него поведение князя — убийственно неожиданно и поначалу даже невозможно, старик не сразу способен ему поверить.
Но прежде чем рассказать о предательстве князя, Иван Петрович вводит в свой рассказ еще одно лицо — молодого князя Валковского, Алешу.
Князь Петр Александрович послал его к Ихменевым на исправление. Он «писал, что сын огорчает его дурным своим поведением», что Ихменевы, как он надеется, могут «исправить его легкомысленный характер и внушить спасительные и строгие правила, столь необходимые в человеческой жизни». Разумеется, старик Ихменев с восторгом откликнулся на доверие князя и принял его сына как родного.
За что князь так рассердился на сына, за что сослал его в деревню, — остается неизвестным. Но зато известно другое: приехав сам на лето в свое имение, «князь Петр Александрович чрезвычайно изменился. Он сделался вдруг особенно придирчив к Николаю Сергеичу: в проверке счетов по имению выказал какую-то отвратительную жадность, скупость и непонятную мнительность. Все это ужасно огорчало добрейшего Ихменева: он долго старался не верить самому себе».
Иван Петрович объясняет поведение князя тем, что «по всему околодку вдруг распространилась отвратительная сплетня»: будто дочь Ихменева Наташа «сумела влюбить в себя» молодого князя, а родители ее способствовали этой любви, стремясь выдать дочь замуж за богатого молодого че* ловека. Иван Петрович как будто верит, что сплетня эта распространилась по зловредности соседей, а князь Валков- ский «поверил этому совершенно». Однако между строк чи« тается и такое подозрение: не сам ли князь посеял сплетню-^ из каких-то собственных расчетливых соображений?
Как бы то ни было, не только князь поверил всему, в чем обвиняли Ихменева, хотя «всякий, кто знал хоть сколько- нибудь Николая Сергеича, не мог бы, кажется, и одному слову поверить из всех возводимых на него обвинений»; но и все соседи поверили, толковали, суетились и «осуждали безвоз* вратно».
Поведение князя Валковского непонятно. Вспомним: ведь прошли годы верного служения Ихменева князю, годы самой дружеской переписки; посылая к Ихменеву сына, князь опять «писал к нему... самым подробным, откровенным и дружеским образом о своих семейных обстоятельствах». Как же мог он теперь поверить, что Николай Сергеич способен употребить во зло его дружбу? Как мог он поверить, наконец, тому, что Ихменев все эти годы обманывал его, и «при свидетелях» назвать Николая Сергеича вором?
Скорее всего князь не задумывался над тем, что будет чувствовать Ихменев, видя опороченным не только свое честное имя, но покрытое клеветой и позором имя дочери. Действительно ли князь поверил болтовне соседей, сам ли способствовал распространению этой болтовни, он знал: Ихменев стоит настолько ниже его на общественной лестнице, что не мо* .жет ничего противопоставить злу, какое князь вольно или невольно ему принес.
«Кажется, князь скоро стал понимать, что он напрасно оскорбил Ихменева», — рассказывает Иван Петрович.
...Но Евгений Наедине с своей душой Был недоволен сам собой. И поделом: в разборе строгом На тайный суд себя призвав, Он обвинял себя во многом...
...Он мог бы чувства обнаружить, А не щетиниться, как зверь...
Это размышления и чувства светского человека 20-х годов XIX века.
Да, Онегин эгоист, да, он принял вызов Ленского не размышляя и не отказался от дуэли потому, что боялся общественного мнения. Конечно, мы осуждаем Онегина, жалеем Ленского, негодуем, когда он гибнет, — из-за чего? Только потому, что Онегин сначала забавлялся, развлекал себя, заставляя Ленского ревновать, а потом убил человека только потому, что его пугал «шепот, хохотня глупцов», — и все-таки поведение Онегина понятно, хотя и не оправдано нами.
Поведение князя Валковского настолько чудовищно, что никак не может быть понято. Уже сообразив, что оскорбил Ихменева напрасно, «раздраженный князь употреблял все усилия, чтоб повернуть дело в свою пользу, то есть, в сущности, отнять у бывшего своего управляющего последний кусок хлеба».
Отправляясь на дуэль с Ленским, Онегин по крайней мере подвергал и свою жизнь опасности; князь Валковский ни в коем случае не станет подвергать опасности свою персону. Вместо пистолетов — судебная тяжба, в которой Ихменев «за неимением кой-каких бумаг, а главное, не имея ни покровителей, ни опытности в хождении по таким делам, тотчас же стал проигрывать». Иван Петрович не говорит, но мы понимаем: князь Валковский, конечно, имел и покровителей, и опытность «в хождении по таким делам». В сущности, начиная тяжбу, он уже знал, что выиграет ее. И значит, понимая свою неправоту, все-таки намерен был отнять у старика «последний кусок хлеба».
Из пятнадцати глав первой части «Униженных и оскорбленных» — больше половины — восемь глав отданы грустно- неторопливому рассказу Ивана Петровича о том, что было — давно, за год, затем за полгода до сегодняшних событий. В рассказе этом переплетаются давнее и недавнее, бывшее и воображаемое, но главное, что мы понимаем из рассказа Ивана Петровича: в его жизни было счастье.
Встретившись с Ихменевыми в Петербурге после долгой разлуки, в то самое время, когда Иван Петрович стал автором своей первой нашумевшей книги, он внезапно понял, что любит Наташу Ихменеву, что всегда любил ее, что она ему «суждена... судьбою».
Конечно, еще в самом начале книги, видя жалость и сочувствие рассказчика к несчастному старику Смиту, мы уже поняли: перед нами добрый и не безразличный к людям человек. Но теперь, когда Иван Петрович рассказывает о своей любви к Наташе, мы начинаем чувствовать в нем одного из тех героев Достоевского, кого не просто любит сам автор; эти люди — его надежда и утешение, в них — спасенье, потому что они, как говорили встарь, — праведники, живут и чувствуют по правде. Таков Макар Девушкин из «Бедных людей», таков Иван Петрович в разгар литературного успеха — и таков же он, когда счастье его рухнуло, литера* турная карьера не удалась, здоровье подорвано. Таков будет Алеша Карамазов, умеющий сохранить добрую и честную душу под тягостным игом своего страшного отца и среда страстей своих братьев. Таков, наконец, князь Мышкин — ни-« щий, больной, не знающий жизни, а на самом деле — благое роднейшая душа, добрейшее сердце из всех, изображенных Достоевским: неожиданное богатство, свалившееся на него как с неба, волнует всех окружающих, меняет их отношение к Мышкину, только сам он почти не замечает своего богатства — разве в нем дело?
Прекрасные люди Достоевского похожи один на другого только тем, что они прекрасны, а по характерам своим, поступкам, по жизни своей они разные; их объединяет умение чувствовать за других, понимать стремления других и преодолевать себя, чтобы не принести никому боли.
Когда князь Мышкин впервые увидел — еще не Настасью Филипповну, только ее портрет, и был навсегда поражен этим прекрасным, страдающим, гордым, несчастливым и победным лицом, этой пронзающей силой красоты, он об одном только и мечтал: «...добра ли она! Ах, кабы добра! Все было бы спасено!» Для кого спасено? Не для него — о себе у него и мысли нет, — для нее, только о ней он думает и счастья хочет прежде всего для нее.
Страшные же люди Достоевского страшнее всего тем, что нисколько не задумываются над волнениями и заботами других людей, а себя считают вправе решать за других их жизнь.
В «Братьях Карамазовых» Алеша и совсем еще молоденькая, наивная Лиза Хохлакова обсуждают, как им помочь несчастному чиновнику Снегиреву и его больному семейству. Беспокоит их прежде всего то, как не обидеть Снегирева, дав ему деньги.
«— Его, главное, надо теперь убедить в том, что он со всеми нами на равной ноге, несмотря на то, что он у нас деньги берет, — волнуется Алеша». А Лиза заходит еще дальше:
«— Слушайте, Алексей Федорович, нет ли тут во всем этом рассуждении нашем, то есть вашем... нет, уж лучше нашем... нет ли тут презрения к нему, к этому несчастному... в том, что мы так его душу теперь разбираем, свысока точно, а?»
Если бы этот разговор услышал князь Валковский, он от души расхохотался бы и назвал молодых людей Шиллерами, то есть наивными, глупыми романтиками. В его представлении всякая попытка понять чужую душу — глупость.
Для праведников Достоевского главное — стараться понять чужую душу и не ранить ее, стремиться избавить человека от лишних страданий.
В «Униженных и оскорбленных» любовь Ивана Петровича к Наташе — это прежде всего желание понять ее душу: «...каждый день я угадывал в ней что-нибудь новое... и что за наслаждение было это отгадывание!»
Но недолгим было счастье Ивана Петровича. Наташа думала, что полюбила Ивана Петровича. Однако Николай Сер- геич не дал своего согласия на свадьбу: «Видишь, Ваня: оба вы еще молоды... Подождем. Ты, положим, талант, даже замечательный талант... ну, не гений, как о тебе там сперва прокричали, а так, просто талант... Да! так видишь: ведь это еще не деньги в ломбарде, талант-то; а вы оба бедные. Подождем годика эдак полтора или хоть год; пойдешь хорошо, утвердишься крепко на своей дороге — твоя Наташа; не удастся тебе — сам рассуди!.. Ты человек честный; подумай!..»
Кто может осудить старика: он желал дочери счастья, как он понимал это счастье; «ты человек честный» — это старик признавал, но быть честным человеком — мало в том обществе, где он жил, и ему казалось: прежде всего надо думать о том. чтобы дочь была обеспечена деньгами. Мог ли он предвидеть, предчувствовать, что ждет его дочь! И мог ли он рассуждать иначе!
33
А все-таки обидно читать: если бы старик не отложил свадьбу, Наташа, с ее честной душой, и не посмотрела бы ни на кого другого, кроме своего избранника, и были бы они счастливы. Но нет, честные люди в мире князя Валковского не могли быть счастливы. Новая литературная карьера не складывалась (князь Валковский тут вовсе ни при чем, не работалось Ивану Петровичу, не удавалось, — и тут старик Ихменев прав, — никто не может дать гарантию, что после первой книги такой же удачной будет и вторая). Через год бедная старушка Ихменева с грустью смотрела на Ивана Петровича и думала: «Ведь вот эдакой-то чуть не стал женихом Наташи, господи помилуй и сохрани!» Самое же горькое — и мать не понимала, что происходит с дочерью: знай
2 Предисловие к Достоевскому
она, то и теперь, может быть, лучше отдала бы Наташу за бледного, больного, плохо одетого, но честного и верного друга.
Никто еще не знал, только один Иван Петрович все уже понимал и предчувствовал, потому что полгода назад снова явился в дом Ихменевых молодой князь Валковский — Алеша, такой же милый, непосредственный и веселый, как прежде, и, как прежде, ему в голову не пришло задуматься: что будет, когда отец узнает о его посещениях Ихменевых. Ему весело было тут, о чем же еще думать? И ему нравилась Наташа. Он ее полюбил — так полюбил, как он мог; не задумываясь ни о чем, кроме своих желаний.
«Разумеется, отец узнал наконец обо всем. Вышла гнуснейшая сплетня. Он оскорбил Николая Сергеича ужасным письмом, все на ту же тему, как и прежде... Старик загрустил ужасно. Как! Его Наташу, невинную, благородную, замешивать опять в эту грязную клевету, в эту низость! Ее имя было оскорбительно произнесено уже и прежде обидевшим его человеком... Й оставить все это без удовлетворения!»
Когда Анатоль Курагин хотел увезти Наташу Ростову, главная забота всех, кто узнал об этом, была — сохранить все в тайне от старого графа, ее отца, от ее брата и князя Андрея, потому что каждый из них, даже старик, почел бы себя обязанным вызвать Курагина на дуэль и стрелялся бы с ним. Это было другое время — да. Но это был и другой круг: князь Курагин не мог бы отказаться от дуэли с графом Ростовым или князем Болконским. В конце сороковых годов прошлого века дуэли были еще возможны, но не между знатным человеком и его бывшим управителем, разоренным и оклеветанным: ничего, кроме нового оскорбления, не могло бы выйти из попытки Ихменева вызвать на дуэль князя Валковского. Что оставалось старику, как не заболеть с отчаяния?
Николай Сергеич Ихменев страдает потому, что видит, как мучается и терзается его дочь. Но он не может понять, отчего она так изменилась: старику кажется, что дочь мучительно переживает оскорбление, нанесенное ей князем, что дочь, как и он сам, не может вынести клеветы.
Правду уже понял Иван Петрович. Он знает, хотя ничего еще не было сказано между ним и Наташей: «бесконечность легла между нами». Он видит, «как переменилась она в тринедели!» И, тем не менее, всё видя и всё понимая, не может поверить самым страшным своим подозрениям. Вот он сидит у стариков Ихменевых — входит Наташа. Душераздирающая сцена, происходящая на его глазах, была бы понятна каждому постороннему человеку, но не тому, кто любит и Наташу, и стариков.
Что чувствует Иван Петрович, зная, что его счастье кончилось, что Наташа уже не любит его? Он не говорит о своих чувствах, он даже и не думает о них. «Но... как она была прекрасна! Никогда, ни прежде, ни после, не видал я ее такою, как в этот роковой день». Он только е е видит, за н е е понимает: это уже другой человек, не та девочка, которая любила его — или ей казалось, что любила, — это прекрасная, страдающая женщина, прожившая «в тот год десять лет» и страданием своим облагороженная, ставшая еще прекраснее — не от счастья, а от муки. И она нуждается в поддержке и помощи.
Наташа собирается в церковь, и родители, видящие ее страдания, хотя и не понимающие их, сами посылают ее, в надежде, что молитва облегчит ее душу. Но Иван Петрович видит и другое: «Все движения ее были как будто бессознательны, точно она не понимала, что делала».
Мать дает ей ладонку с молитвой, отец благословляет ее, просит: «Наташенька, деточка моя, дочка моя, милочка, что с тобою!.. Отчего ты тоскуешь? Отчего плачешь и день и ночь?.. Скажи мне все, Наташа, откройся мне во всем, старику...»
Не может Наташа открыться, потому что, открыв свою тайну, она убьет стариков и знает это.
«— Прощайте! — прошептала Наташа.
У дверей она остановилась, еще раз взглянула на них, хотела было еще что-то сказать, но не могла и быстро вышла из комнаты».
Бросившись за ней, Иван Петрович услышал то, чего он боялся, что уже понимал, знал, но не мог поверить: Наташа ушла из дома совсем, ушла к Алеше — молодому князю Вал- ковскому.
2*
35
«Сердце упало во мне. Все это я предчувствовал, еще идя к ним; все это уже представлялось мне, как в тумане, еще, может быть, задолго до этого дня; но теперь слова ее поразили меня как громом... Голова у меня закружилась». Иван Петрович добавляет: «Мне казалось это так безобразно, так невозможно!»
Да, это было и безобразно, и невозможно не потому, что Наташа переступила через преданную любовь человека, кому она обещала быть женой. Не о себе он сейчас думает: как всегда, не о себе в первую очередь думают прекрасные герои Достоевского. Ведь князь Валковский оскорбил Ихменева не только тем, что назвал его вором, что уже выигрывал в тяжбе, им затеянной. Самое страшное оскорбление была клевета на его дочь — старик до сих пор старается верить, что это была клевета. С того и началось когда-то, что была гнусная сплетня, поддержанная или даже распущенная князем. Эта сплетня оскорбила всех, кто любил стариков, но не Алешу Валковского: уже зная, что его отец обесчестил Ихмене- вых, он приехал к ним раз, другой — и увлекся Наташей, и ни о чем уже не думал, кроме своей любви. То есть, может быть, и думал, но считал, что все как-нибудь образуется, потому что все в его жизни всегда как-нибудь образовывалось без его участия, само (то есть его отцом).
«— Но это невозможно! — вскричал я в исступлении... Ведь это безумие. Ведь ты их убьешь и себя погубишь! Знаешь ли ты это, Наташа?»
Наташу он не судит. И мы, читатели, не можем осуждать ее, когда слышим ее ответ: «не моя воля», и голос, в котором «слышалось столько отчаяния, как будто шла она на смертную казнь».
4. Да бывает ли такая любовь?
Кого же полюбила Наташа? Кого предпочла Ивану Петровичу? Мы слышали об Алеше от Ивана Петровича, для которого он все-таки — соперник, враг. Но ни разу Иван Петрович не позволил себе отозваться об Алеше с неприязнью; он признавал, что Алеша — человек открытый, правдивый, что он хорош собой и не способен обмануть кого бы то ни было. Теперь сама Наташа говорит о том, кого она полюбила: «Не вини его, Ваня... не смейся над ним! Его судить нельзя, как всех других. Будь справедлив. Ведь он не таков, как вотмы с тобой. Он ребенок; его и воспитали не так. Разве не понимает, что делает?.. У него нет характера... Он и дурной поступок, пожалуй, сделает; да обвинить-то его за этот дурной поступок нельзя будет, а разве что пожалеть...»
Вот одно из трагических открытий Достоевского: любят не такого, «как вот мы с тобой», а такого, кто не похож на «всех других». Пусть он и хуже, да другой. Мы читаем — и никак не можем понять: почему же она полюбила такого пустого, неверного, слабого человека. А у нее в душе живет непонятное со стороны, но для нее несомненное убеждение, что человек этот без нее пропадет, что она ему необходима, что она за него отвечает, нельзя ей от него отвернуться, он без нее погибнет. И то же ощущение — у Ивана Петровича: нельзя теперь думать о себе, потому что она без него пропадет, погибнет.
Почти невозможно поверить в ту мысль о спасении стариков, которая пришла ему в голову: «Я тебя научу, как сделать, Наташечка. Я берусь вам все устроить, все, и свидания, и все... Только из дому-то не уходи!.. Я буду переносить ваши письма; отчего же не переносить? Это лучше, чем теперешнее. Я сумею это сделать...»
Да бывает ли такая любовь?
Не придумал ли ее Достоевский? Нет. Он ее пережил — все то, что говорит сейчас Иван Петрович, было в жизни Достоевского. Когда он служил солдатом в Семипалатинске, там он впервые узнал ту мучительную, страстную любовь-жалость, какую мы видим у его прекрасных героев. Он встретился там с женой маленького, полунищего и всегда пьяного чиновника — Исаева (может быть, Исаев потом стал в какой-то степени прообразом для Мармеладова из «Преступления и наказания»). Достоевский полюбил Марию Дмитриевну Исаеву и выстрадал это чувство, как страдали его герои. «По крайней мере жил, хоть и страдал, да жил! (курсив Достоевского) — писал он позже, но в письмах той поры Досто^ евский признавался: выдержать эту муку почти невозможно: «О, не дай господи никому этого страшного грозного чувства! Велика радость любви, но страдания так ужасны, что лучше бы никогда не любить...»
Муж Марии Дмитриевны получил назначение в другой город — Достоевский был в отчаянии. Но в еще большее отчаяние привело его известие о смерти Исаева и о том, что Мария Дмитриевна, больная туберкулезом, с ребенком на руках, осталась без всяких средств к существованию — и он ничем не может ей помочь, так как остается «бессрочным солдатом». И все-таки он достает денег, пробует устроить сына Марии Дмитриевны учиться, наконец, добивается служебной командировки в Барнаул и оттуда заезжает в город, где жила Мария Дмитриевна.
И вот здесь с ним происходит то, что с Иваном Петрович чем. Мария Дмитриевна полюбила другого — «личность совершенно бесцветную», по свидетельству друзей Достоевского. Ни одним словом он не осудил ни ее, ни своего соперника. Достоевский хлопочет о службе для этого человека ради нее, ради ее счастья: «Она не должна страдать». Он встречается со своим соперником — так хотела Мария Дмитриевна. «С ним я сошелся, — писал Достоевский другу, — он плакал у меня, но он только и умеет плакать!»
Эта любовь-мученье, любовь-сострадание, испытанная Достоевским, выльется много позже на страницы его книг, в особенности романа «Идиот». Думая не о себе, а о счастье любимой женщины, Достоевский мучительно хотел понять, будет ли она счастлива с человеком легкомысленным и молодым, «не сгубит ли он женщину для своего счастья». И еще раз он пишет в письме той поры: «Чем кончится, не знаю, но она погубит себя, и сердце мое замирает». То, что чувствовала она, тоже нашло свое отражение и в «Униженных и оскорбленных», и в «Идиоте». Несчастная женщина любила обоих соперников, и мучилась, и страдала от этого раздвоения. Когда она решилась выйти замуж за Достоевского, молодой учитель, которого она любила, был одним из поручителей — несомненно, Достоевский помнил об этом, когда заставил Настасью Филипповну бежать из-под венца с князем Мышкиным к его сопернику Рогожину. Перед свадьбой с Марией Дмитриевной Достоевский писал о своем сопернике в письме: «...теперь он мне дороже брата родного» — эта мысль войдет в роман «Идиот», где соперники обменяются крестами, «побратаются».
Иван Петрович в «Униженных и оскорбленных» ни разу еще ни в чем не упрекнул Алешу. Он готов служить влюбленным, готов переступить через себя ради их счастья.
Наташа понимает эту жертву: «Добрый, честный ты человек! И ни слова-то о себе! Я же тебя оставила первая, а ты все простил, только об моем счастье и думаешь. Письма нам переносить хочешь... А я, я... Боже мой, как я перед тобой виновата! Помнишь, Ваня, помнишь и наше время с тобою? Ох, лучше б я не знала, не встречала его никогда!..» (курсив Достоевского) .
Может быть, эти мучительные страсти выпадают на долю вовсе не только великих людей, просто не каждый, испытавший их, может описать, а главное, не каждый — понять, почувствовать не только за себя, но и за ту, кого любит.
Многие люди уверены, что любовь — непременно счастливое чувство, оно дает человеку только блаженство. У героев Достоевского любовь всегда мучительна, но она так высока, так сильна, что, несмотря на ее мученье, завидуешь такому высокому накалу человеческих чувств.
Описанные Достоевским и в «Униженных и оскорбленных», и в «Идиоте», в «Игроке» и в «Братьях Карамазовых» женщины больше всего страдают от раздвоенности своего чувства, от того, что любят не того, с кем было бы хорошо и счастливо, а того, кто принесет мученье и гибель.
Наташа говорит Ивану Петровичу: «Ваня, послушай, если я и люблю Алешу как безумная, как сумасшедшая, то тебя, может быть, еще больше, как друга моего, люблю».
Этот разговор Наташи с Иваном Петровичем на набережной, когда она уже ничего не скрывает, когда ждет Алешу, потому что навеки ушла к нему, оставив родителей, оскорбив отца, — это один из самых страшных разговоров, написанных Достоевским, понятых и пережитых им вместе с героями.
Один только раз на протяжении этого разговора у Ивана Петровича прорывается собственное страдание. «Что твой новый роман, подвигается ли?» — спрашивает Наташа. Иван Петрович не успевает сдержаться: «До романов ли... теперь, Наташа!» Но тут же спохватывается: «Да и что мои дела! Ничего; так себе, да и бог с ними».
В ответ на это признание он узнает, что происходит в жизни Наташи. Князь сватает сыну богатую, молодую, красивую невесту: «Уж Алеша увлекается ею». Алеша со своей полной и неразмышляющей честностью во всем рассказывает: отцу он рассказал о своей любви к Наташе, Наташе — о том, как хороша и как ему нравится Катя — невеста, которую ему сватает князь.
Иван Петрович не может ничего понять, задает вопросы и не получает на них ответов, но главное Наташа объясняет ему, и это главное — та самая любовь, какой не знали герои ни одного писателя, кроме Достоевского.
Как Иван Петрович готов переносить письма и устраивать свидания, так Наташа решилась: «...если я не буду при нем всегда, постоянно, каждое мгновение, он разлюбит меня, забудет и бросит. Уж он такой...» (курсив Достоевского).
Оказывается, герои Достоевского испытывают точно такие же мучения ревности, как всякий другой человек, — но только они знают, что владеет ими «гадкое чувство», которого не нужно слушаться. Почувствовав, что все решения Наташи продиктованы безумной ревностью, Иван Петрович сознает, что и в нем «разгорелась ревность и прорвалась из сердца. Я не выдержал; гадкое чувство увлекло меня».
Может быть, самое важное — понять мысль Достоевского: разница между людьми страшными и людьми прекрасными не в том, что одни ощущают злобу, ревность, низкие чувства, а другие не ощущают; чувствуют одинаково все; но одни понимают и признают, что их чувства «гадки», стараются преодолеть их, подчинить плохие чувства добрым, а другие отдаются всему плохому в себе, потому что главное для них — свое «Я» и его желания.
Иван Петрович не сдержал ревности и дал ей вырваться «из сердца». Он во всем прав, мы не можем не признать его правоты: «Наташа... одного только я не понимаю: как ты можешь любить его после того, что сама про него сейчас говорила? Не уважаешь его, не веришь даже в любовь его и идешь к нему без возврата, и всех для него губишь? Что ж это такое? Измучает он тебя на всю жизнь, да и ты его тоже. Слишком уж любишь ты его, Наташа, слишком! Не понимаю я такой любви».
Пытаясь объяснить Ивану Петровичу свою любовь к Алеше, Наташа смешивает все понятия: она согласна быть рабой любимого человека, и она готова терпеть от него любые муки, потому что «даже муки от него — счастье». Но Иван Петрович понимает эти ее безумные, страстные слова, да и мы, читатели, сочувствуем ей не просто потому, что она любит, а потому что она не оправдывает себя, наоборот, все время судит, сама себя обвиняет: «не так люблю, как надо», «нехорошо я люблю его...» Наташа казнится сознанием своей человеческой вины — в этом и есть та душевная красота, какую любит в ней Иван Петрович, какую не может не понимать читатель. «Муки! Не боюсь я от него никаких мук!» — восклицает Наташа, и эти слова объясняют ее страдание и оправдывают его.
Мы готовы согласиться с Наташей, что она любит «не так», «нехорошо»... Но кто может диктовать другому, как правильно любить, если человек готов на любые муки ради своей любви?!
«Все ему отдам, а он мне пускай ничего» — вот исчерпывающая формула этой странной, безумной и фантастической любви. И ведь то же самое не говорит, не думает даже, но чувствует Иван Петрович: «Все ей отдам, а мне пускай ничего», — вся жизнь обоих этих людей — в самопожертвовании, как же могли бы они любить друг друга, когда ищут одного: кому бы отдать все, а себе ничего не оставить?
Иван Петрович стоит с Наташей на набережной — и узнает от нее всю правду, окончательно убеждается: она полюбила другого. Не может человек не испытать при этом боли за себя — Иван Петрович чувствует эту боль, но сразу же она сменяется болью за нее; он видит, как оскорблена Наташа, в каком отчаянии она, и он уже не мучается желанием мести за себя, только бы с н е й - т о соперник был хорош, только бы ей не принес погибели...
Вот эта забота — прежде всего о ней — заставляет его обрадоваться, когда вдали появился Алеша. Но ведь Алеша знает, к кому он сейчас подойдет, знает: перед ним человек, у которого он отнял невесту, кому он предпочтен. Многие другие молодые люди не решились бы подойти к несчастливому сопернику, а и подошли бы — с тяжелым чувством, с ощущением вины, с готовностью на ссору. Алеша подходит «тотчас же», без сомнений с-чистым взглядом. Иван Петрович не может не признать: «... его взгляд, кроткий и ясный, проник в мое сердце».
«Он был высок, строен, тонок; лицо его было продолговатое, всегда бледное; белокурые волосы, большие голубые глаза, кроткие и задумчивые, в которых вдруг, порывами, блистала иногда самая простодушная, самая детская веселость».
В этом портрете виден, разумеется, Алеша, но еще больше виден сам Иван Петрович, внешность которого нигде не описана, да и не нужна нам его внешность: слишком хорошо мы видим его душу. Он пристально смотрит на своего соперника — и старается, изо всех сил старается смотреть как можно объективнее, ни одного лишнего упрека, ни одной раздражающей ноты. Да, он видит «несколько нехороших замашек, несколько дурных привычек хорошего тона: легкомыслие, самодовольство, вежливая дерзость». Но и эти недостатки соперника Иван Петрович старается оправдать: не Алешины это привычки; они характерны, свойственны для того круга, где воспитывали Алешу; и не он в них виноват, да к тому же Алеша «был слишком ясен и прост душою и сам, первый, обличал в себе эти привычки, каялся в них и смеялся над ними».
Ивану Петровичу в голову не приходит сказать Наташе: да как же ты могла предпочесть мне, моей преданной и верной любви, мне — умному и доброму человеку — этого пустого мальчика? Так вопрос не стоит для него, ему одно важно: не обидит ли он ее, «не погубит ли» этот мальчик.
Раз она полюбила этого человека, Ивану Петровичу остается только одно: желать им счастья. И он ищет в Алеше хорошие черты; беспристрастно описывает его привлекательные свойства и старается оправдать то, чего не может принять.
Но, описывая Алешу, он бессознательно говорит о нем очень страшные слова, выносит ему суровый приговор: «Даже самый эгоизм был в нем как-то привлекателен, именно потому, может быть, что был откровенен, а не скрыт. В нем ничего не было скрытного. Он был слаб, доверчив и робок сердцем; воли у него не было никакой. Обидеть, обмануть его было бы и грешно и жалко, так же как грешно обмануть... ребенка. Он был не по летам наивен и почти ничего не понимал из действительной жизни; впрочем, и в сорок лет ничего бы, кажется, в ней не узнал. Такие люди как'бы осуждены на вечное несовершеннолетие».
А ведь, пожалуй, это не только Алеше приговор. «Вечное несовершеннолетие» — страшное обвинение тем, кто воспитал этого «ребенка» на горе не только окружающим, но и ему самому, кто обрек Алешу приносить людям зло, когда он хотел всем добра, но настолько не умел это добро девать, что оно оборачивалось бедой, несчастьем. Если бы он мог жениться на Наташе и подчиниться ей вполне, то, может быть, она сделала бы его счастливым и научила жить честно, да ведь он ничего же не мог сам — таким его вырастили. Алеша вовсе не понимает, что сейчас, сию минуту он делает страшное зло, поступок убийственный, безнравственный, губит Наташино имя, честь ее отца, — наоборот, он уверен, что властвует событиями и руководит ими, то есть события, как всегда, сложатся сами, как он захочет.
Алеша искренне любит Наташу, счастлив, что она пришла, что она горда его любовью, что Ваня тоже здесь и готов быть его другом.
«— Не вините и меня. Как давно я хотел вас обнять как родного брата... Будем друзьями и... простите нас, — прибавил он вполголоса и немного покраснев, но с такой прекрасной улыбкой, что я не мог не отозваться всем моим сердцем на его приветствие».
Каждый раз, когда читаю это место, думаю: а если бы сложилось наоборот? Если бы Наташа разлюбила Алешу, покинула его для Ивана Петровича, тогда был бы Алеша готов и обнять соперника, и быть ему родным братом, другом? Представить себе это невозможно, потому что счастлив должен быть Алеша — он не умеет иначе; если б ему выпали страдания безответной любви, мучения ревности, их бы он не выдержал — нашел бы другую любовь, да и только, он же в е ч - ный несовершеннолетний!
Но все сложилось, как сложилось, и Алеша, стремясь оправдаться, рисует свою картину происходящего:
«— Не вините меня! — повторил он, — уверяю вас, что теперь все эти несчастья., хоть они и очень сильны, — только на одну минуту. # в этом совершенно уверен... всему причиною эта семейная гордость, эти совершенно ненужные ссоры, какие-то там еще тяжбы!.. Но... (я об этом долго размышлял, уверяю вас) все это должно прекратиться. Мы все соединимся опять и тогда уже будем совершенно счастливы, так что даже и старики помирятся, на нас глядя».
Он ведь добрый, Алеша, и он так хочет, чтобы все было хорошо! Только совсем не знает, как это сделать, и потому старается не вдаваться в подробности: «Вот видите, я и сам еще не хорошо знаю и, по правде, ничего еще там не устроил... Но все-таки мы, наверное, обвенчаемся послезавтра. Мне, по крайней мере, так кажется, потому что ведь нельзя же иначе. Завтра же мы выезжаем... Тут у меня недалеко, в деревне, есть товарищ, лицейский, очень хороший человек; я вас, может быть, познакомлю. Там в селе есть и священник, а, впрочем, наверное не знаю, есть или нет... Одно жаль, что я до сих пор не успел ни строчки написать туда; предупредить бы надо. Пожалуй, моего приятеля нет теперь и дома... Но — это последняя вещь! Была бы решимость, а там все само собою устроится, не правда ли?»
Вся эта речь звучит как сознательное оскорбление, нанесенное Наташе, как продуманные отговорки от венчания? Ничего подобного! Алеша совершенно искренен, он просто даже думать не умеет, отбрасывает от себя все земные заботы — и, главное, в его жизни всегда все само устраивалось, почему же теперь не устроится, когда надо? И мысли у него нет, что все устраивал отец, так, как хотел он, а не Алеша, и теперь опять все будет только так, как захочет его отец. Князь вырастил сына, какого ему было нужно, теперь он может и отпустить сына на кажущуюся волю — все равно ни с одной жизненной задачей сын без отца не справится.
Алеша и сам чувствует неубедительность своих рассуждений. Он старается найти хотя бы сильные слова: «совершенно уверен», «я об этом долго размышлял, уверяю вас», «мы... будем совершенно счастливы».
Будущее он тоже продумал — на свой лад: отец простит «непременно; что же ему останется делать? То есть он, разумеется, проклянет меня сначала... Но ведь все это не серьезно... посердится и простит... только, может быть, не так скоро. Ну что ж?.. Вот видите: я хочу писать повести и продавать в журналы, так же как и вы. Вы мне поможете с журналистами, не правда ли?.. А впрочем, вы, кажется, и правы: я ведь ничего не знаю в действительной жизни; так мне и Наташа говорит; это, впрочем, мне и все говорят... У меня все-таки много надежд, а в материальном отношении мы будем совершенно обеспечены... я ведь в крайнем случае могу давать уроки музыки... Я не стыжусь жить и таким трудом... Наконец, в самом крайнем случае, я, может быть, действительно займусь службой...»
Достоевский не щадит своего героя — Алеша открывается перед читателями сразу и навсегда; после этой первой встречи он уже ничем не может нас удивить, он ясен. Чем наивнее, легкомысленнее все его разговоры, тем таинственнее и страшнее выступает из-за его спины фигура князя Валковского. Ведь Алеша пытается спорить с отцом, не называя его: он хотел бы устроить свою жизнь по другому образцу, не так, как хочет отец; отсюда нелепое намерение писать повести — какой, в самом деле, из него писатель! Он признается, что не знает жизни, но тот путь, на который его толкает отец, неприятен Алеше, и только «в самом крайнем случае» он готов идти служить на какое-нибудь найденное отцом теплое местечко. Отец, видимо, тоже говорил сыну, что он не знает жизни («это, впрочем, мне и все говорят» — в данном случае, все — отец, который, видимо, использует Алешину неспособность понять «действительную жизнь», чтобы оторвать его от Наташи). И еще раз мы слышим голос отца в Алешиных рассуждениях: собираясь давать уроки музыки, он гордо сообщает: «Я не стыжусь жить и таким трудом...» — ведь ни Наташе, ни Ивану Петровичу не придет в голову стыдить его «таким трудом» — это, видимо, отголосок споров с отцом, который считает труд учителя постыдным для князя!
Но имеем ли мы основания уже сейчас, только на основании того немногого, что мы пока знаем о князе Валковском, осуждать его за воспитание единственного сына? Да, мы уже видим: безответственность Алеши приносит зло и окружающим, и ему самому. Но мало ли есть родителей — и сегодня, к сожалению, они есть, — которые от чистого сердца, из желания добра своим детям, стараются уберечь их от жизненных сложностей, все за них решить, откладывают их взросление, затягивают детство и в конце концов приносят детям зло, не подозревая этого. Может быть, князь Валковский не так уж виноват, что вырастил прелестного ребенка вместо мужчины? Можно ведь предположить, что князь действительно поверил сплетням и клевете, что его убедили злые языки, называвшие и Наташу, и стариков Ихменевых интриганами, что князь беспокоится о сыне, как и всякий отец, и не за что его обвинять. Если бы это было так, то все равно князь достоин был бы сожаления, как достойны его любые неразумные родители, злоупотребляющие заботой и опекой. А что представляет собой князь в действительности, мы узнаем позднее.
Отступление второе
О ПОВЕСТИ «БЕДНЫЕ ЛЮДИ»
Мы помним: первой литературной работой Достоевского был перевод повести Бальзака «Евгения Гранде». К тому времени, как он решился на эту работу, Достоевский еще не осмеливался писать сам, но уже обдумывал свои будущие сочинения, мечтал о них. Работая над переводом Бальзака, Достоевский почувствовал, что теперь он может писать сам, свое. «И замерещилась мне другая история — в каких-то темных углах, какое-то титулярное сердце, честное и чистое, а вместе с тем какая-то девочка, оскорбленная и грустная, и глубоко разорвала мне сердце вся их история» — таков был замысел, такова была мечта Достоевского о первой его книге.
Титулярное сердце мы знаем, мы страдали вместе с ним, читая гоголевскую «Шинель», «Записки сумасшедшего». Но в первой же своей книге Достоевский пошел дальше своего учителя. Его «маленький человек», его Макар Девушкин сохранил все-то, что убито в Акакии Акакиевиче («Шинель» Гоголя), и то, о чем только мечтает Поприщин («Записки сумасшедшего»). Он сохранил живую душу, которая смеет любить и заботиться о той, кого любит.
В «Бедных людях» нет голоса автора или рассказчика. Это — повесть в письмах, мы слышим только голоса двух главных героев: Макара Девушкина и Вареньки Добросело- вой. С первых строк повести нас удивляет и даже раздражает немыслимый для сегодняшнего читателя сентиментальный тон Девушкина, бесконечно повторяющиеся ласковые слова, представляющиеся нам сегодня слащавыми: «Бесценная моя... маточка... голубчик мой... маточка... родная моя... ангельчик... ангельчик... голубчик мой... шалунья... душечка моя... маточка моя...» — и много раз: «маточка!» — много раз.
Зачем нам сегодня все это? Какое нам теперь дело до ничтожного по своему положению, маленького, забитого, полунищего Девушкина с его рваными сапогами и невежественными суждениями, с его запоздалой любовью к Вареньке Доброселовой, какое нам дело и до Вареньки? Но вот в одном из московских театров сегодня, сейчас идет спектакль «Бедные люди». На сцене — два человека: Макар Девушкин и Варенька Доброселова. Они не разговаривают друг с другом, даже как бы не видят друг друга: каждый из них только читает свое очередное письмо.
Единственное, что добавили авторы спектакля, — они сопровождают действие современными песнями Булата Окуджавы, и эти песни не кажутся чужими для бедных людей прошлого века.
Спектакль идет, и зал всегда полон, и, замерев, он слушает историю жизни, любви, отчаяния «Бедных людей».
Почему это оказывается важным сегодня? Потому что Достоевский уже в первой своей книге показал «сокровенную жизнь» человеческой души, и это не может оставить равнодушным современного читателя. Думаю, что спектакль «Бедные люди» хорош прежде всего тем, что заставляет зрителя, вернувшись из театра, открыть книгу и снова прочесть ее, оставшись наедине с героями. И когда оборвется их бедное счастье, увезут Вареньку в пустую, голую степь, с нелюбимым и страшным человеком, а мы прочтем в последнем письме Девушкина: «К кому же я письма писать буду, маточка?.. Кого же я маточкой называть буду; именем-то любезным таким кого называть буду?» — тогда это слово не покажется нам ни смешным, ни слащавым, а ляжет тяжелой грустью на сердце: кого он, действительно, будет теперь любить, «как свет господень... как дочку родную», для кого ему теперь жить?
Он, действительно, маленький человек, Макар Девушкин. Не только потому, что чин его — самый низший, должность — бумаги переписывать, вицмундир у него изношенный, пуговицы так и сыплются, всякий над ним смеется... Он приходит в восторг от чудовищных сочинений придуманного Достоевским литератора Ратазяева и возмущается «Шинелью» Гоголя, потому что не может понять содержащейся в ней защиты человечности: зачем же всему свету рассказывать, что чиновник ходит на цыпочках по краю улицы, стараясь подольше сохранить свои сапоги? Он хотел бы другого конца повести: «...чтобы шинель его отыскалась, чтобы тот генерал... повысил чином и дал хороший оклад жалованья...» — словом, чтобы «зло было бы наказано, а добродетель восторжествовала бы». Он маленький человек, но в нем постепенно просыпается еще жалкая, ничтожная, но все-таки гордость: нет, он еще не спрашивает, как Поприщин, почему он титулярный советник, и согласен оставаться титулярным советником, поскольку так уж «определено». Он много4 раз повторяет: «Я-то не ропщу и доволен». А все-таки ему хочется быть не самым худшим.
Но этот незначительный человечек становится первым в галерее прекрасных людей Достоевского, — людей, умеющих думать о другом прежде, чем о себе. Макар Девушкин не помышляет ни о каком бунте, он приходит в восторг, когда «его превосходительство» дает ему, в сущности, подачку — сто рублей, и восклицает: «Хорошо жить на свете, Варенька! Особенно в Петербурге». И, тем не менее, вся история его жизни, его преданной любви к Вареньке, его горестей и забот, — история эта вызывает протест в душах читателей: ведь перед нами — люди, за что они так мучаются? Кто пожалеет их? Кто поможет им?
Много лет пройдет, много страданий испытает Достоевский, и во многом он изменится, прежде чем станет тем Достоевским, какого мы знаем в его зрелых творениях. Но главная мелодия его творчества уже звучит в «Бедных людях»: мелодия сострадания к человеку, каким бы он ни был жалким и униженным.
Макару Девушкину совсем немного нужно от жизни: возможности заботиться о Вареньке, жить не для себя одного, а для помощи другому человеку, для мыслей о другом человеке, для деятельной любви. Он пишет Вареньке, что без нее «спал, а не жил на свете». И Вареньке так немного нужно: чтобы рядом был человек, который любит ее, о котором и она может позаботиться, упрекать его за внезапное пьянство с отчаяния, посылать ему последний двугривенный...
И в этом малом счастье им отказывает жизнь. Может быть, Достоевский думал о своих сестрах, когда писал о Вареньке, опозоренной, оклеветанной, обреченной на несчастный брак, потому что некому спасти ее от господина Быкова.
Она не раз еще появится на страницах книг Достоевского — под разными именами и в разных обстоятельствах, но та же Варенька Доброселова, обиженная жизнью, преследуемая и не имеющая другого выхода, кроме брака с нелюбимым и страшным человеком.
В «Бедных людях» возник уже и Петербург Достоевского, с его закоптелыми домами, грязными торговками, с горестным восклицанием: «Скучно по Фонтанке гулять! Мокрый гранит под ногами, по бокам дома высокие, черные, закоптелые; под ногами туман, над головой тоже туман», Петербург узких, темных лестниц, где «на каждой площадке стоят сундуки, стулья и шкафы поломанные, ветошки поразвешаны, окна повыбиты; лоханки стоят со всякой нечистью... одним словом, нехорошо». И рядом с этими лестницами, где «чижики так и мрут... не живут в нашем воздухе, да и только», рядом — стоит поворотить в Гороховую — «все так и блестит и горит, материя, цветы под стеклами, разные шляпки с лентами... Пышные экипажи такие, стекла, как зеркало, внутри бархат и шелк...» Эти описания города в «Бедных людях» — еще набросок, эскиз будущего Петербурга Достоевского, но тема города уже заявлена в первой повести писателя.
Здесь и не появляющаяся на сцене зловещая фигура Анны Федоровны — дальней родственницы, погубившей Вареньку, Все беды Вареньки происходят от благодеяний Анны Федоровны: на всем протяжении романа эта женщина не спускает с Вареньки глаз, хочет еще и еще раз помочь ей на свой лад — посылает к ней то совершенно незнакомого мужчину с довольно ясными, хотя и подлыми намерениями, а потом Быкова, за которого Варенька решается выйти замуж, — на беду, на несчастье, но другого выхода у нее нет.
Анна Федоровна появится и в «Униженных и оскорблен-- ных», там она выйдет на сцену и будет еще страшнее, потому что вздумает торговать двенадцатилетней девочкой, там ее фамилия будет Бубнова, и эта страшная женщина будет совершенно убеждена в своем праве обращаться с девочкой как со своей собственностью.
Эти люди — и мужчины, и женщины, — считающие себя благодетелями своих жертв, уверенные, что они могут, имеют право решать за униженных и оскорбленных, как им жить, люди-пауки, пройдут через все творчество Достоевского, потому что они — одно из самых страшных зол того общества, о котором пишет Достоевский, — бездушные мещане, не подозревающие о существовании духовной жизни и духовной свободы человека, которую они без размышления растаптывают.
И, наконец, еще одна сюжетная линия, которая пройдет позже через все творчество Достоевского. Есть человек, которому хуже всех. Хуже, чем Девушкину, — и это наполняет душу Девушкина не только состраданием, но и своеобразной гордостью. В квартире, где живет Девушкин, занимает комнату семья чиновника Горшкова: «...такой седенький, маленький; ходит в таком засаленном, в таком истертом платье, что больно смотреть; куда хуже моего! Жалкий, хилый такой.., коленки у него дрожат, руки дрожат, голова дрожит, уж от болезни, что ли, какой, бог его знает; робкий, боится всех, ходит стороночкой... Бедны-то они, бедны — господи боже мой!»
Несчастный Горшков всех боится, и только Девушкин выслушал его историю, ссудил свои последние двадцать копеек, потому что сердце у него «защемило» от рассказа Горшкова. Девушкин, которому самому есть нечего, а главное, нечем платить за свою «комнату», отгороженную от кухни, один оказался способен пожалеть Горшкова, но, кроме жалости, в нем живет удовлетворенная гордость: кому-то еще хуже, кто-то его «покровительства ищет», кого-то и он «обласкал».
История Горшкова и его семьи проходит через всю повесть: Девушкин постоянно сообщает Вареньке о бедствиях Горшкова: «...между тем ни с того, ни с сего, совершенно не- кстати, ребенок родился, — ну вот издержки; сын заболел — издержки, умер — издержки...»
В «Бедных людях» все трагические судьбы оканчиваются, казалось бы, счастливо. В самый напряженный момент жизни Девушкина, когда его уже гонят с квартиры, денег не осталось совсем, ходить в должность неприлично из-за рваных сапог и выношенного вицмундира; когда он уж и на сослуживцев глядеть стыдится, «поник, присмирел» и, едва выйдя из должности, запивает горькую — да так, что его уже и в квартиру не пускают, ночует на лестнице, — в это самое время он делает ошибку, переписывая важный документ, дрожа предстает перед «его превосходительством» — и вместо ожидаемого разноса вызывает жалость: «его превосходительство» вручает ему сто рублей. Казалось бы: какое счастье! Теперь можно и Вареньку поддержать, и сапоги купить, и даже вицмундир, и хозяйке заплатить за квартиру, а главное, написать Вареньке: «Умоляю вас, родная моя, не разлучайтесь со мною теперь, теперь, когда я совершенно счастлив и всем доволен».
Но — нет. У Гоголя «значительное лицо» накричало на Акакия Акакиевича и напугало его так, что бедный Акакий Акакиевич умер. У Достоевского «значительное лицо» пожалело Девушкина, а счастливого конца все равно не будет: тут-то и появляется господин Быков со своими намерениями жениться на Вареньке. Уже и работу себе приискал Девушкин: переписывать какую-то неразборчивую, но толстую рукопись «по сорок копеек с листа», но ничто не может спасти его, вытащить из грядущей нужды, и Варенька понимает это. Выхода нет, и бедное счастье невозможно.
История Горшкова кончается еще страшнее. Тяжба его завершилась, он «совершенно оправдался». К тому же ему присудили «знатную сумму» денег — теперь все должно пойти хорошо. Горшков счастлив — он оплакивает своего умершего б трудное время мальчика, но остальные дети, но жена, он сам, его доброе имя, честь — все спасено! Теперь уже соседи, раньше не замечавшие Горшкова, готовы пировать с ним, и сама хозяйка готовит парадный обед... В этот счастливый для него день «умер Горшков, внезапно умер, словно его громом убило! А отчего умер — бог его знает».
Удачи, которые выпадают на долю героев Достоевского, только усиливают впечатление безысходности, окружающей бедных людей. Добрый начальник Девушкина не может своими ста рублями изменить жизнь подчиненного. Горшков выиграл дело, но он человек, а человеческих сил хватало на горе и не хватило на радость. Случайность не становится закономерностью, а только подчеркивает закономерность несчастья.
Достоевский работал над своей первой книгой долго, он отделывал «Бедных людей» тщательнее, чем все свои последующие книги; переписывал повесть несколько раз, пока счел ее завершенной и прочитал своему приятелю Григоровичу, а тот — Некрасову, и Некрасов — Белинскому.
Белинский, как известно, прочтя рукопись, пришел в восторг от нового писателя и сразу потребовал его к себе. «Это была самая восхитительная минута моей жизни», — вспоминал Достоевский о первом разговоре с Белинским. — «Я в каторге, вспоминая ее, укреплялся духом».
* * *
Об одном из героев «Бедных людей» я упомянула лишь вскользь, а он играет в романе очень важную роль. Это помещик Быков, за которого на последних страницах повести вышла замуж Варенька Доброселова.
История Вареньки и Макара Девушкина открывается перед нами в письмах за полгода: первое письмо Девушкина—· от 8 апреля, последнее Варенькино — от 30 сентября. На наших глазах проходит всего полгода жизни героев, но из писем мы узнаем и о прошлом: о тихой жизни Девушкина у старушки хозяйки, о таинственной трагедии Вареньки, связанной с ее «благодетельницей» Анной Федоровной. Варенька посылает Девушкину свои записки о прежней своей жизни, из них мы узнаем историю любви Вареньки к студенту Покровскому, о смерти Покровского. Но и в записках этих, и в письмах остается загадочным горе Вареньки, известно только, что оно связано с помещиком Быковым — господином Быковым, как его называет Варенька. Зловещая фигура Быкова так и остается неразгаданной до конца, и от этого еще более страшной.
В первом письме Варенька печалится: «Ах, что-то будет со мною, какова-то будет моя судьба! Тяжело то, что я в такой неизвестности, что я не имею будущности, что я и предугадать не могу о том, что со мною станется. Назад а посмотреть страшно. Там все такое горе, что сердце пополам рвется при одном воспоминании...»
Читая эти жалобы, мы ничего еще не знаем о господине Быкове и о его роли в жизни Вареньки. Не знаем, кто те «злые люди», «от гонения и ненависти» которых защитил Вареньку Макар Девушкин.
Господин Быков будет впервые упомянут рядом с Анной Федоровной, которая продолжает преследовать Вареньку своим «прощением» и упреками: «Анна Федоровна говорит, что я по глупости моей своего счастья удержать не умела, что она сама меня на счастье наводила... что господин Быков прав совершенно и что не на всякой же жениться, которая...»
Так обрывается на полуслове рассказ о Быкове, и больше мы, в сущности, ничего не узнаем о его роли в прежней жизни Вареньки. Достоевский предлагает читателю самому додумать, вообразить эту историю, в результате которой Варенька, опозоренная и одинокая, оказалась в нищете и под защитой одного лишь Девушкина.
Сам Быков долго не появляется на страницах книги: из писем Вареньки мы узнаем только, что Анна Федоровна стремится «уладить все дело с господином Быковым» и что, по словам той же Анны Федоровны, «господин Быков хочет... дать приданое» Вареньке.
Так мог поступать человек, соблазнивший девушку, обманувший ее и опозоривший. В жизни господина Быкова уже имелся такой эпизод: мать студента Покровского «была очень хороша собою» и выдана замуж за «незначительного человека» господином Быковым, давшим «за невестой пять тысяч рублей приданого».
Рассказывая об этом, Варенька не понимает, что случилось с матерью Покровского, «почему она так неудачно вышла замуж», и даже эти пять тысяч приданого кажутся Вареньке великодушным даром. Но когда история начинает повторяться, когда уже самой Вареньке сулят приданое с тем, чтобы «великодушно» выдать ее замуж и успокоить тем свою совесть, — тогда и читатель начинает понимать всю гнусность происходящего, и Варенька одного хочет: чтобы ее оставили в покое.
Господин Быков появляется собственной персоной в тот момент, когда Варенька — в безвыходном положении. Она уже прогнала присланного Анной Федоровной незнакомца, явившегося благодетельствовать Вареньку с явной целью превратить ее в свою любовницу. Работы у Вареньки нет, да и здоровья нет. Макар Алексеевич уже обегал всех ростовщиков, продал все, что имел, денег не достал и запил с горя. Тут-то и настает время появиться господину Быкову. Правда, расчеты нарушаются неожиданной добротой «его превосходительства» и восторгом Девушкина по случаю подаренной «его превосходительством» сотенной бумажки, но Варенька-то знает: денег этих ненадолго хватит.
Лето кончается, уже середина сентября. И вот что пишет Варенька Девушкину: «Я вся в ужасном волнении... Я что- то роковое предчувствую... господин Быков в Петербурге». И, действительно, в том же письме она сообщает, что господин Быков уже знает, где она живет, уже наведывался в ее отсутствие, знает и о Девушкине: ведь он — единственная Ва- ренькина защита. Господин Быков успел уже увидеть Девушкина: «...он взглянул и усмехнулся». Невозможно читать это «усмехнулся». Мы уже полюбили Девушкина, мы уже знаем его прекрасную душу, но ведь сапоги-то дырявые, вицмундира нет, пуговицы сыплются, как же не усмехнуться господину Быкову, увидев, что на его пути — только этот жалкий человечек, с которым и бороться-то не придется, его нужно просто смести с пути, как муху.
Что может сделать Девушкин? Он находит себе еще работу — за нищенскую плату, конечно. А господин Быков является к Вареньке с предложением руки и сердца. Это уже не деньги на приданое, это — единственное возможное для Вареньки спасение. «Тут он объявил мне, что ищет руки моей, что долгом своим почитает возвратить мне честь, что он богат, что он увезет меня после свадьбы в свою степную деревню, что он хочет там зайцев травить; что он более в Петербург никогда не приедет, потому что в Петербурге гадко, что у него есть здесь в Петербурге, как он сам выразился, негодный племянник, которого он присягнул лишить наследства, и собственно для этого случая, то есть желая иметь законных наследников, ищет руки моей, что это есть главная причина его сватовства».
Все страшней и страшней становится. Прежде всего, потому, что Быков так искренен, так упрям, так уверен в своей правоте.
Сначала — такие благородные мотивы: «...долгом своим почитает возвратить мне честь...» Только странно сразу после этого услышать о такой важной задаче господина Быкова: «...хочет там зайцев травить...» А потом выясняется, что личность Вареньки вовсе не имеет никакого значения, надо просто свести счеты с племянником. Дело житейское: задача — лишить наследства племянника — вполне понятна. Попутно можно облагодетельствовать нищую сироту, уже связанную молвой с именем Быкова, — вот будет и благородный поступок. Быков, вероятно, даже и любуется собой: у него ведь есть и другой вариант: «...жениться в Москве на купчихе, потому что, говорит он, я присягнул негодяя племянника лишить наследства».
Самое страшное как раз то, что не один Быков уверен в своей правоте, а большинство людей, окружающих Вареньку, будут считать его предложение благородным шагом. Всякий повторит ей слова верной служанки: «...своего счастия терять не нужно... что же в таком случае и называется счастием?» Да и сама Варенька понимает: «Если кто может избавить меня от моего позора, возвратить мне честное имя, отвратить от меня бедность, лишения и несчастия в будущем, так это единственно он».
Низменная житейская мораль говорит: да, нужно принять предложение Быкова. Вот он уже идет за ответом. Страх, ужас Вареньки вырываются на страницу письма: «Пришел Быков; я бросаю письмо неоконченным. Много еще я хотела сказать вам. Быков уже здесь!»
Что же отвечает Девушкин? Что может он ответить? «Я, маточка, спешу вам отвечать; я, маточка, спешу вам объявить, что я изумлен. Все это как-то не того ...Вчера мы похоронили Горшкова. Да, это так, Варенька, это так. Быков поступил благородно; только вот видите ли, родная моя, так вы и соглашаетесь...»
«Вчера мы похоронили Горшкова»! Вот ответ Девушкина, хотя он и сам не понимает, что именно здесь — его ответ. Да ведь расставаться с Варенькой — как похоронить себя. Дать Быкову увезти ее — как похоронить ее. И что можно сделать, что возразить? Ведь Девушкин видел Быкова: «Видный, видный мужчина; даоюе уж и очень видный мужчина».
Быков уже ворвался в жизнь Вареньки, и эта жизнь на наших глазах теряет всю свою духовность. Теперь Варенькины письма полны упоминания о Быкове: «...господин Быков сказал... господин Быков сердится... господин Быков торопится... господин Быков говорит... господин Быков заезжает каждое утро, все сердится...» И при этом — новые заботы, исходящие от господина Быкова, самые земные: «...как можно скорее приискать белошвеек», «недостает блонд и кружева». Девушкин должен бегать по магазинам и портнихам, сообщать мастерицам, что надо вышивать «тамбуром, а не гладью», «листики на пелерине шить возвышенно, усики и шипы кордонне, а потом обшить воротник кружевом или широкой фальбалой».
Никогда раньше Вареньку не интересовали все эти швейные проблемы, хотя сама она зарабатывала деньги вышиваньем, но упоминала о своей работе вскользь, в письмах ее к Девушкину была другая жизнь, были интересы возвышенные. Теперь все затмили эти приказчицкие слова, потому что «господин Быков говорит, что он не хочет, чтобы жена его как кухарка ходила, и что я непременно должна «утереть нос всем помещицам». Так он сам говорит».
Раньше в письмах Вареньки были мысли о книгах, она сердилась на Девушкина, читающего разную ерунду, она приучила его к Пушкину и старалась приучить к Гоголю, хотя это ей так и не удалось. Теперь даже и Девушкин заразился галантерейно-ювелирными интересами Быкова, перечисляет комиссии Вареньки, которые он исправно выполняет, докладывает и о шитье тамбуром, и о рассуждениях брильянтщика, и о фальбале... А господин Быков «все сердится», он уже не хочет больших трат, в письмах Вареньки виден трепет: «Я и отвечать ему ничего не смею, он горячий такой...»
И только в последнем своем письме, письме без даты, написанном неизвестно кому, потому что Варенька уехала, Де- вушкин осмеливается поднять бунт и против Быкова, и против его установок. «Да как же, с кем же вы теперь будете? Там вашему сердечку будет грустно, тошно и холодно. Тоска его высосет, грусть его пополам разорвет. Вы там умрете, вас там в сыру землю положат; об вас и поплакать будет некому там! Господин Быков будет все зайцев травить...»
Это — неумелый, беспомощный протест, он не принесет никакого результата, да и сам Девушкин знает: он может только просить, только умолять: «Я, маточка, на колени перед господином Быковым брошусь, я ему докажу, все докажу!»
Но читатель видит: вот теперь, в минуту высшего своего страдания, Девушкин поднимается до той духовной высоты, которую хотела видеть в нем Варенька. Его первые письма беспомощны, так полны канцелярских приниженных слов, так тусклы по языку... А в этом последнем письме он поднимается до поэзии, до высокого слога народных причитаний: «Тоска его высосет, грусть его пополам разорвет... вас там в сыру землю положат...» И, главное, он понимает, наконец, где главный враг, что погубило его бедное счастье: «Вы, может быть, оттого, что он вам фальбалу-то все закупает, вы, может быть, от этого! Да ведь что же фальбала? Ведь она, маточка, вздор! Тут речь идет о жизни человеческой, а ведь она, маточка, тряпка — фальбала; она, маточка, фальбала-то — тряпица».
Девушкин понял главное: с ним Вареньку связывало общее представление о жизни человеческой, Быков понятия не имеет об этой, душевной связи между людьми. Быкову важны тряпки, чтобы поразить соседних помещиц, для Быкова главное — фальбала! И Быков побеждает, потому что человеческое никому не важно, всем важно и нужно бездуховное: деньги, поместье, зайцев травить, а о душе человеческой заботятся одни чудаки, которым нет места в жестоком и пошлом мире.
Господин Быков — первый из героев Достоевского, олицетворяющих зло. При этом он ни на секунду не считает себя злодеем. Да и кто из людей, живущих одной моралью с Быковым, осудит его? Черные герои Достоевского редко бывают совсем черны, у каждого из них есть какое-то оправдание. Меня всегда поражал один характер, описанный в «Преступлении и наказании», — Свидригайлов. Он ведь вырос из господина Быкова, он ославил Дуню, сестру Раскольнико- ва, опорочил ее в глазах общества, он принес массу зла... и его невозможно осудить, потому что его жалко. Но сходство
Свидригайлова с Быковым — только внешнее. Свидригайлов способен и на злодейство, и на великодушие, он кончает собой, не в силах совладать с бурей бушующих в нем страстей... Быков — из другой галереи, к которой принадлежит и князь Валковский: людей, не задумывающихся, людей, уверенных в своем праве. Таких злодеев у Достоевского немного, — не заслуживающих никакого оправдания. Оправдать можно того, кто страдает, сомневается, испытывает угрызения совести. Рогожин в «Идиоте» — мрачный, чудовищный убийца, но читатель не думает об этом, потому что душевная казнь, на которую Рогожин сам себя обрек, непереносима и не может сравниться ни с каким людским наказанием. Верхо- венский в «Бесах» — тоже убийца, но он уверен в своем праве убивать, и этого не прощают ему ни Достоевский, ни читатель.
Нельзя быть уверенным в своем праве на зло — эта мысль, возникнув в первом романе Достоевского, пройдет через все его книги.
Глава III
НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ ИХМЕНЕВ
1. Управляющий князя Валковского
С отцом Наташи — Николаем Сергеевичем Ихменевым — мы, кажется, уже много раз встречались — на страницах книг прошлого века. Молодость его могла быть описана Пушкиным, Тургеневым, Толстым — такие молодые люди есть у каждого из этих писателей. «Лет двадцати от роду он распорядился поступить в гусары. Все шло хорошо; но на шестом году его службы случилось ему в один несчастный вечер проиграть все свое состояние».
То, что было дальше, напоминает «Пиковую даму»: «На следующий вечер он снова явился к карточному столу и поставил на карту свою лошадь — последнее, что у него осталось. Карта взяла, за ней другая, третья, и через полчаса он отыграл одну из деревень своих...»
Однако конец этой истории вовсе не пушкинский. Ихме- нев не отдался безумию игры, безумию денег — «он забастовал и на другой же день подал в отставку». На этом с бурной гусарской молодостью было покончено, и вся дальнейшая история Ихменева прямо противоположна легкомысленномуее началу. Перед нами — очень хороший, очень честный, очень скромный человек. Деревенька Ихменевка, которую он отыграл, никак не сделала его богатым. Тем не менее, женился он на «совершенной бесприданнице» — значит, по любви. «Хозяином сделался Николай Сергеич превосходным».
Рассказчик не боится высказать свое мнение о Николае Сергеиче заранее: позже, когда мы узнаем и полюбим стари* ка, мы разделим все чувства, какие питает к нему Иван Петрович. Пока мы знаем только, что Ихменев взял на воспитание чужого мальчика, сироту, «из жалости». Всех остальных его свойств мы еще не видели, но Иван Петрович предупреждает нас: Ихменев — «человек простой, прямой, бескорыстный, благородный...» Мы ведь помним добрую иронию, с которой Достоевский рассказал о его молодости: «...распорядился поступить в гусары...»
И вот в жизнь этого прямого, храброго и бескорыстного человека врывается князь Валковский с дружеской просьбой взять на себя управление его Васильевским.
«Князь был еще молодой человек, хотя и не первой молодости, имел немалый чин, значительные связи, был красив собою, имел состояние и, наконец, был вдовец...»
В этом описании только одно настораживает: чрезхмерная сухость. Как будто писатель не рассказывает о герое, а пишет его казенную биографию для департамента: ни одной человеческой черты — возраст, внешность, чин, связи, состояние, семейное положение...
В следующих строках уже начинает звучать негромкая, но вполне ясная ироническая интонация: «Одним словом, это был один из блестящих представителей высшего петербургского общества, которые редко появляются в губерниях и, появляясь, производят чрезвычайный эффект». Дальше рассказчик не скроет и прямой злости: «Князь, однако же, был не из любезных, особенно с теми, в ком не нуждался и кого считал хоть немного ниже себя. С своими соседями по имению он не заблагорассудил познакомиться, чем тотчас же нажил себе много врагов. И потому все чрезвычайно удивились, когда вдруг ему вздумалось сделать визит к Николаю Сергеичу».
Еще ничего всерьез дурного мы не узнали о князе. Но от этих мимоходом брошенных слов: «не заблагорассудил», «вздумалось» — становится неспокойно: человек, который совершает поступки, движимый только своим «вздумается — не вздумается», человек блестящий и, видимо, холодный может принести горе всем окружающим — это мы уже чувствуем. Но ничего страшного не происходит. Наоборот! Посетив Ихменевых, князь «тотчас же очаровал их обоих», держался просто, дружески. «Ихменевы не могли надивиться: как можно было про такого дорогого, милейшего человека говорить, что он гордый, спесивый, сухой эгоист, о чем в один голос кричали все соседи?»
Говоря о князе, Иван Петрович удерживается от прямых обвиняющих слов: он давно уже разгадал этого человека, ненавидит его, но читатель еще ничего не знает, ему предстоит сделать выводы самому. Описывая Ихменева, рассказчик позволяет себе грустную иронию: Николай Сергеич «был один из тех добрейших и наивно-романтических людей, которые так хороши у нас на Руси, что бы ни говорили о них, и которые, если уж полюбят кого (иногда бог знает за что), то отдаются ему всей душой, простирая иногда свою привязанность до комического».
Ирония рассказчика направлена не против Ихменева, а против мира, где нельзя полюбить человека так, чтобы отдаться ему всей душой, где нельзя позволить себе верить людям, где любовь и преданность бывают разрушены ложью и обманом. Ихменев прожил жизнь, не подозревая об этом. Он верил, он любил... Его прекрасный, «наивно-романтический», честный, прямой мир столкнулся с блестящим, лживым, жестоким, бесчеловечным, эгоистическим миром петербургских салонов, чинов, связей, состояний — всего, что несет в себе князь Валковский. Где было Николаю Сергеичу разгадать князя, как мог он усомниться в таком блестящем и очаровательном человеке, удостоившем его своей дружбой? «...Успехи князя, слухи об его удачах, о его возвышении он принимал к сердцу, как будто дело шло о родном его брате».
Конфликт между Ихменевым и князем был неизбежен. Иван Петрович приоткрывает его, но только приоткрывает — биография князя рассказана далеко не полностью, передано только то, что известно всем, о чем ходят слухи, — да и что же еще мог знать воспитанник Ихменева, начинающий литератор, для которого мир петербургских гостиных, мир князя — незнакомый, таинственный, чужой? И знал он о жизни князя скорее всего от Ихменева, — то есть князь представал перед ним уже заранее оправданным.
И все-таки даже из этого описания мы узнаем, что князь — человек, во многом противоположный Ихменеву.
В молодости Ихменев был, пожалуй, в более благополучном положении, чем князь: «...после родителей ему досталось полтораста душ хорошего имения». Князь же «от родителей своих не получил почти ничего». Мы уже знаем, как распорядился Ихменев своими полутораста душами: проиграл их все.
Князь Валковский тоже играл в карты — но не в ран« ней молодости, а когда уже достиг некоторого положения в обществе: «...несмотря на врожденную расчетливость, доходившую до скупости, проигрывал кому нужно в карты и не морщился даже от огромных проигрышей». Ихменев проигрался от безрассудности, нерасчетливости. Князь проиг-* рывал «кому нужно», — исходя из точного, дальновидного расчета.
Еще более резко видна разница между этими людьми в истории женитьбы каждого из них. Как мы уже знаем, Ихменев женился на «совершенной бесприданнице»; князь Валковский — «на деньгах». «Брак на перезрелой дочери какого- то купца-откупщика спас его. Откупщик, конечно, обманул его на приданом, но все-таки на деньги жены можно было выкупить родовое имение и подняться на ноги».
Если проигрыш Ихменева остался тяжелым воспоминанием в его душе, если всей дальнейшей жизнью он старался искупить эту ошибку, то князь начал жизнь с обмана, впрочем, взаимного: он «женился на деньгах», а отец жены «обманул его на приданом» — и вся дальнейшая жизнь князя, даже в самом приблизительном пересказе, построена исключительно на расчете. Жену он вскоре оставил, как и сына, а сам уехал в далекую губернию, «где выхлопотал... довольно видное место. Душа его жаждала отличий, возвышений, карьеры...» — и он принялся добиваться всего этого. О князе говорили, что «еще в первый год своего сожительства с женою он чуть не замучил ее своим грубым с ней обхождением. Этот слух всегда возмущал Николая Сергеича, и он с жаром стоял за князя, утверждая, что князь неспособен к неблагородному поступку».
Это вовсе не значит, что Николай Сергеич был глуп или так наивен, что совсем не умел разбираться в людях; это значит, что князь был так лжив, так изворотлив, что мог произвести, когда хотел, самое благородное впечатление.
Рассказывая о жизни князя, Достоевский не скрывает ни иронии, ни своего отвращения: «...умерла наконец княгиня, и овдовевший супруг немедленно переехал в Петербург... не развлечений он приехал искать в Петербурге: ему надо было окончательно стать на дорогу и упрочить свою карьеру. Он достиг этого».
Как достиг, чем, — остается неизвестным, рассказчик сообщает только, что князь получил «значительное место при одном из важных посольств» и уехал за границу. Остальное мы уже знаем: всех своих целей князь достиг, добился и денег, и чинов, и положения в обществе, а вернувшись на родину, затеял тяжбу с Ихменевым, обвинив его в нечестном распоряжении имением и доходами князя. Старик Ихменев попытался бороться, исходя из правил чести и благородства. Главное для него — даже не вернуть поместье, на которое «было наложено запрещение». Главное — дочь, Наташа, ее доброе имя оклеветано, и отец не может этого вынести, считает себя обязанным очистить дочь от позора, хотя сама Наташа ничего не знает: «...от нее тщательно скрывали всю историю».
Князь Валковский меньше всего думает о чести девушки, о добром имени своего бывшего управляющего. Князю важны другие цели: он хочет обогащаться, становиться все более значительным лицом в свете, а для этого хороши любые средства.
Так появляется один из первых страшных людей Достоевского. Князь Валковский — первый подробно показанный злодей, из всей вереницы черных героев Достоевского.
Злодеи Диккенса — открытые злодеи, будь то Урия Гипп («Дэвид Копперфильд»), или мистер Каркер («Домби и сын»), или старый Феджин из «Оливера Твиста». Мы сразу разгадываем их; автор не жалеет на них черной краски, они отвратительны с первого взгляда, и внешность их ужасна, вызывает омерзение; такова задача писателя — в его злодеях нет неожиданного, пожалуй, они даже слишком злодеи, почти сказочные, не совсем правдоподобные, злодейство их нарочито преувеличено, и в конце концов они всегда оказываются побеждены добром.
Злодеи Достоевского, как правило, побеждают или, во всяком случае, остаются безнаказанными. Они привлекательны — и этим еще более ужасны. В них есть обаяние зла, они хороши собой, к ним тянутся,люди, обманываясь их внешнимочарованием; они такие, какими бывают в жизни подлые люди, — не сразу их разгадаешь, не сразу поймешь. Вспомним: ведь и Быков — «очень видный мужчина». Таков и князь Валковский, таков Ставрогин из «Бесов» — самый страшный и самый непостижимый из страшных людей Достоевского.
2. Не княжеские дети
Романы Достоевского — как давно замечено исследователями — по принципу своего построения близки к искусству кино. Каждая- часть — иногда даже глава — представляет собой отдельный законченный эпизод; из цепи эпизодов складывается сложнейшее переплетение характеров и судеб. Если попытаться проследить это на «Униженных и оскорбленных», то первая глава даст материал для начальной серии многосерийного фильма, который сразу же увлечет зрителей. Но следующие главы, пожалуй, не уместятся в фильм; в них почти ничего не показано, многое только описано; нет четкости, воспоминания сбивчивы... Хорошо это или плохо?
Вероятно, было бы очень плохо, если бы всю литературу можно было сплошь превратить в фильмы. В литературе должно оставаться ее вернейшее оружие — слово: медленный голос автора, беседующего с читателем наедине и не торопясь.
Но ведь голос автора в книгах Достоевского — мы еще в самом начале заметили это! — голос автора не похож на литературный язык, каким пишутся книги. А речь почти всех персонажей сбивчива, как это бывает в разговоре.
Не просто разговорный, а именно корявый, изломанный, неприемлемый никакой грамматикой язык — одно из чудес Достоевского. Его странные, обделенные жизнью герои бывают лишены не только человеческого жилья, одежды, питания, но и родного языка. С трудом, как кирпичи ворочает, говорит Лебезятников в «Преступлении и наказании»; Достоевский прямо подчеркивает это, добавляя, что и никакого другого языка Лебезятников тоже не знал. В «Селе Степан- чикове» Фома Фомич провозглашает: «Каково же будет вам...
если собственная ваша мать, так сказать, виновница дней ваших, возьмет палочку и, опираясь на нее, дрожащими и иссохшими от голода руками начнет в самом деле испрашивать себе подаяния? Не чудовищно ли это, во-первых, при ее генеральском значении, а во-вторых, при ее добродетелях?» В «Братьях Карамазовых» Смердяков рассуждает: «Должен совершенно признаться, что тут есть один секрет у меня с Федором Павловичем. Они, как сами изволите знать (если только изволите это знать), уже несколько дней, как то есть ночь али даже вечер, так тотчас изнутри и запрутся». В каждом романе у Достоевского есть эти несчастные косноязычные люди, не владеющие родным языком. Но и сам он, от себя, от автора считает нужным говорить иногда нескладно, как в самом начале «Униженных и оскорбленных», как в «Братьях Карамазовых»: «Но главное, что раздражило наконец Ивана Федоровича окончательно и вселило в него такое отвращение, — была какая-то отвратительная и особая фамильярность, которую сильно стал высказывать к нему Смердяков, и чем дальше, тем больше. Не то чтоб позволял себе быть невежливым, напротив, говорил он всегда чрезвычайно почтительно, но так поставилось, однако ж, дело, что Смердяков видимо стал считать себя бог знает почему в чем-то наконец с Иваном Федоровичем как бы солидарным, говорил всегда в таком тоне, будто между ними вдвоем было уже что-то условленное и как бы секретное, что-то когда-то произнесенное с обеих сторон, лишь им обоим только известное, а другим около них копошившимся смертным так даже и непонятное». Секрет, загадка этой речи как раз в ее неправильности. Иной раз она заставляет жалеть пишущего, вызывает к нему сочувствие: ведь в романах Достоевского рассказчик — часто не сам автор, а один из героев. Иной раз неправильность речи, написанной уже от лица самого автора, характеризует людей, о которых рассказано. Много раз мы убеждаемся, что Достоевский может писать совсем иначе: прекрасным, богатым русским языком: другие страницы «Братьев Карамазовых», «Преступления и наказания», речи князя Мышкина в «Идиоте»...
65
Вот отрывок из главы XI «Униженных и оскорбленных». Иван Петрович описывает свою случайную встречу на улице с Николаем Сергеевичем Ихменевым, который после ухода Наташи из дома «сделался совершенным домоседом» — и вдруг темным, грязным вечером оказывается на Вознесенском
3 Предисловие к Достоевскомупроспекте «в глубокой задумчивости, наклонив голову». Спросить, куда он ходил, Иван Петрович не решается: старик «сделался чрезвычайно мнителен и иногда в самом простом вопросе или замечании видел обидный намек, оскорбление».
Мы видим: Достоевский умеет писать аккуратными русскими фразами. Но часто отступает от этого умения: с какой же целью? Вглядимся вместе с Иваном Петровичем в изменившийся за последние тяжелые полгода внешний облик старика: «Я оглядел его искоса: лицо у него было больное; в последнее время он очень похудел; борода его была с неделю небритая. Волосы, совсем, поседевшие, в беспорядке выбивались из-под скомканной шляпы и длинными космами лежали на воротнике его старого, изношенного пальто. Я еще прежде заметил, что в иные минуты он как будто забывался; забывал, например, что он не один в комнате, разговаривал сам с собою, жестикулировал руками. Тяжело было смотреть на него».
Это была бы нормальная речь интеллигентного человека, если бы не разговорный оборот: «борода его была... небритая». Оборот этот, конечно, не случаен: Достоевскому нужно создать как можно более сильное впечатление запущенности Наташиного отца. Этой же цели служат и «скомканная шляпа», и «длинные космы», и «старое, изношенное пальто». Читая все эти слова, мы, конечно, вспоминаем описание старика Смита и его одежды. А Достоевскому именно это и нужно: чтобы Ихменев напомнил читателю Смита, чтобы возникла параллель между двумя стариками.
Из всех щемящих душу страниц Достоевского самые сильные, самые трагические, — страницы, посвященные детям. Мы читали эти страницы и в «Бедных людях», там рассказывалось о детях нищего чиновника Горшкова. И в «Униженных и оскорбленных» перед той сценой, на которой мы остановились, в главе X рассказано о внучке Смита, явившейся искать своего дедушку. К этой главе мы еще вернемся, сейчас важно помнить, что она не случайно оказалась перед встречей Ивана Петровича с Ихменевым. Кажется, уже некуда страшней и грустнее, чем то, что мы видим: раздавленный несправедливостью, опустившийся старик, потерявший не только все имущество, но и единственную свою отраду — дочь. Рядом с ним — прославленный писатель, больной, полунищий, погибающий. Разговор об умершем в чахотке Белинском. Мучительная проблема, неизбежно встающая перед читателем: как же нужно жить в этом мире, где хорошие людипогибают и подвергаются унижению, а плохие счастливы... Но мало всего этого, мало, и Достоевский выводит на Исаакиев- скую площадь «ребенка, просившего милостыню. Это была маленькая, худенькая девочка, лет семи-восьми, не больше, одетая в грязные отрепья; маленькие ножки ее были обуты на босу ногу в дырявые башмаки. Она силилась прикрыть свое дрожащее от холоду тельце каким-то ветхим подобием крошечного капота, из которого она давно уже успела вырасти. Тощее, бледное и больное ее личико было обращено к нам; она робко и безмолвно смотрела на нас и с каким-то покорным страхом отказа протягивала нам свою дрожащую ручонку».
Кажется, мы уже видели нищету на страницах «Униженных и оскорбленных». Жалок и страшен был Смит. Еще более жалкой, вызывающей не только сочувствие, но какую-то судорогу жалости была его собака. Еще много, много грустнее было читать о внучке Смита и ее непонятном страхе перед любым человеком, проявившим к ней интерес. Но теперь перед нами — такая полная, такая безнадежная нищета, так безысходно загубленная жизнь!
Маленькая нищенка один раз только мелькнет перед нами и больше не появится на страницах романа. Но значение ее в книге огромно. Достоевский не боится самых точных и самых страшных слов, описывая ребенка: «грязные отрепья», «на босу ногу в дырявые башмаки», «дрожащее от холоду тельце», «ветхое подобие капота», «тощее, бледное и больное ее личико», и, наконец, «с каким-то покорным страхом отказа», — мы невольно вспоминаем Смита в кондитерской: старик и ребенок как бы объединяются в нашем сознании, у них одинаковое выражение лица; они одинаково несчастны, одинаково отвергнуты обществом, в котором живут.
3*
67
Что же должен был почувствовать старик Ихменев, еще не доведенный своей тяжбой до такой степени нищеты, какая была у Смита, когда увидел перед собой маленькую нищенку, — он, Ихменев, кто день и ночь думал о своей дочери, которая в возрасте этой девочки была и счастливой, и довольной, и, казалось, никогда ей не узнать такой меры унижения, отверженности, какую знает эта малютка! Старик нагибается к нищей девочке и дает ей «две или три серебряные монетки». Но ему показалось мало: он достал портмоне и, вынув из него рублевую бумажку — «все, что там было, — положил деньги в руку маленькой нищей». О чем он думает в этуминуту? Не о дочери ли, которая отвергнута всем миром, потому что она — не венчана с Алешей, отвергнута и отцом, не прощающим ей оскорбления, нанесенного ему ее бегством... Но и разлюбить ее он не может... О дочери он думает, и оскорбленная честь спорит в его душе с любовью, и страх за дочь заставляет его пожалеть чужую девочку, потому что — как ни ругает он людей великодушных, сам принадлежит к ним и не может пройти мимо чужого горя. А может быть, он думает: если его Наташа станет матерью, то его внучка, дитя его дочери, будет бродить с протянутой рукой по сырым и мокрым петербургским улицам, под тем же равнодушно-мрачным небом. Старик стесняется своего порыва. Заметив, что Иван Петрович видел, как он перекрестил ребенка, он «нахмурился и скорыми шагами пошел далее».
«— Это я, видишь, Ваня, смотреть не могу, — начал он после довольно продолжительного сердитого молчания, — как эти маленькие, невинные создания дрогнут от холоду на улице... из-за проклятых матерей и отцов. А впрочем, какая же мать и вышлет такого ребенка на такой ужас, если уж не самая несчастная!.. Должно быть, там в углу у ней еще сидят сироты, а это старшая; сама больная, старуха-то; и... гм! Не княжеские дети! Много, Ваня, их на свете... не княжеских детей! гм!»
Вот он и проговорился: сначала — «из-за проклятых матерей и отцов», но сразу же вспомнил свою Наташу, ведь и она может оказаться такой матерью — нет, не проклятые они, а, верно, «самые несчастные»! Самое враждебное слово для старика сейчас выскакивает из его уст: княжеский — вот откуда все зло мира. Хорошо только княжеским детям. Но «много... на свете... не княжеских детей!»
Конечно, это говорит старик Ихменев, для которого его Наташа прежде всего тем и несчастна, что «не княжеская дочь», а оскорблена князем, унижена своей любовью к княжескому сыну. Но бесконечно горькие эти слова принадлежат не только Николаю Сергеичу; их говорит Достоевский, и он вкладывает в них еще более глубокий, еще более трагический смысл, чем может вложить старик, думающий прежде всего о своей дочери; для Достоевского все дети, миллионы детей — не княжеских — составляют боль, непреходящую сердечную муку; о ней нельзя забыть ни на секунду, и главная забота честного человека: чем помочь не княжеским детям?
з. Труд
И забываю мир — ив сладкой тишине Я сладко усыплен моим воображеньем, И пробуждается поэзия во мне: Душа стесняется лирическим волненьем, Трепещет и звучит, и ищет, как во сне; Излиться наконец свободным проявленьем — И тут ко мне идет незримый рой гостей, Знакомцы давние, плоды мечты моей. И мысли в голове волнуются в отваге, И рифмы легкие навстречу им бегут, И пальцы просятся к перу, перо к бумаге, Минута — и стихи свободно потекут.
Об этом не писал Лермонтов. Не писал Толстой. Не писали Тургенев, Некрасов, даже Гоголь. Хотя многие, почти все русские поэты, писали о том, как они понимают долг поэта и значение поэзии в человеческой жизни. Но о том, как приходит вдохновенье, какое счастье приносит творчество, — об этом не писал никто. После Пушкина это осмелился сделать только Достоевский.
Занятия литературой — дело интимное, кричать о нем, рассказывать о своей работе мучительно (как в те далекие времена, так и теперь) — и самый неприятный для пишущего вопрос: «Над чем вы сейчас работаете?» Никто не спросит: «Кого вы сейчас любите?» — все понимают, что вопрос этот нескромен. А спрашивать, о чем пишет писатель, в тысячу раз более нескромно, но почему-то принято.
Счастье остаться наедине со своим трудом знает, вероятно, каждый художник, музыкант, писатель. Но говорить об этом неловко и, может быть, на самом деле не нужно: это право гения — и только гения. Достоевский использовал это право — он открыл читателям счастье творца; не каждый, может быть, и до сих пор умеет понять, представить себе это счастье; но мне все кажется: кто прочтет Достоевского — поймет.
В «Униженных и оскорбленных» Достоевский единственный раз в жизни подробно расскажет, как вышла его первая книга — именно «Бедные люди», как «поднялся шум и гам в литературном мире. Б. обрадовался, как ребенок, прочитав... рукопись».
писателя
Память о том, как принял его первую книгу Белинский, осталась с Достоевским навсегда. Прошло уже больше десятилет, прошли тягчайшие годы жизни Достоевского; он мог, наконец, вернуться к литературе — и сразу же, в первой книге, написанной после большого перерыва, он вспоминает сам и напоминает, какой счастливый подъем испытал, работая над «Бедными людьми». Главное его признание — о творчестве: «Нет! Если я был счастлив когда-нибудь, то это даже и не во время первых упоительных минут моего успеха, а тогда, когда еще я не читал и не показывал никому моей рукописи: в те долгие ночи, среди восторженных надежд и мечтаний и страстной любви к труду; когда я сжился с моей фантазией, с лицами, которых я создал, как с родными, как будто с действительно существующими: любил их, радовался и печалился с ними, а подчас даже и плакал самыми искренними слезами над незатейливым героем моим».
Почти никто из писателей не оставил такого открытого признания в любви к своей работе; нужно сделать над собой немалое усилие, чтобы так глубоко впустить в свою душу незнакомого и, может быть, вовсе не сочувствующего тебе, не стремящегося понять тебя читателя. Почти никто — но Пушкин!
Миг вожделенный настал: окончен мой труд многолетний. Что ж непонятная грусть тайно тревожит меня?
Или, свой подвиг свершив, я стою, как поденщик ненужный, Плату принявший свою, чуждый работе другой?
Или жаль мне труда, молчаливого спутника ночи, Друга Авроры златой, друга пенатов святых?
Эти длинные строки с паузами посреди каждой строки — такая пауза называется цезурой; эти прекрасные торжественные слова: «миг вожделенный», «подвиг»; эти сознательно переставленные слова: «труд многолетний», «Авроры златой», «пенатов святых» — читаешь и проникаешься уважением, робостью, преклонением перед подвигом творчества.
Труд писателя — мука, но он же и счастье, недоступное тому, кто хочет в свободное время быть свободен от своего труда. Писатель никогда не свободен, он не знает полного отдыха; писатель и счастлив и несчастлив своим трудом в минуту, когда, кажется, и не думает о нем. Смешно и глупо было бы обижаться на людей, не понимающих этого, как и на людей, считающих труд писателя пустым занятием. Но — все-таки обидно. И Достоевский в «Униженных и оскорбленных» рассказал о том, как самые близкие, любящие люди иногда ранят непониманием: «Наташа... таинственно отвела меня в сторону и со слезами умоляла подумать о моей судьбе... взяла с меня клятву, что я не сгублю себя как лентяй и праздношатайка».
Наташа не так виновата, как может показаться: Иван Петрович ведь скрывал от нее свою литературную работу, скрывал и от ее родителей: «...я же просто стыдился сказать им, чем занимаюсь. Ну, как, в самом деле, объявить прямо, что я не хочу служить, а хочу сочинять романы...»
Простые, скромные люди старики Ихменевы не могли понять, что занятия литературой — серьезное дело; им все хотелось бы, чтобы их Ваня где-нибудь служил, получал отличия, занимался более понятным и общепринятым делом, чем писание романов. «Сочинитель, поэт! Как-то странно... Когда же поэты быходили в люди, в чины? Народ-то все такой щелкопер, ненадежный!» — так думали старики, потому что и для них, прекрасных, честных людей, все-таки главное в жизни были чины и деньги, утешать их приходилось рассказами о почестях, которыми были награждены Ломоносов, Державин, Сумароков, а убедить их могли только деньги, полученные Иваном Петровичем за первую его книгу.
Обрадовавшись за своего воспитанника, бросившись читать статьи Белинского, поклоняться ему, хотя и мало что понимая в его творчестве, старик Ихменев возненавидел тех из литераторов, кто враждовал с Белинским (речь идет о газете Булгарина «Северная пчела», хотя называет ее Достоевский «Северным трутнем»), — одним словом, почувствовав и разделив славу, успех Ивана Петровича, старик все-таки беспокоится за него: «Послушай, Ваня, а ведь я все-таки рад, что твоя стряпня не стихами писана. Стихи, братец, вздор; уж ты не спорь, а мне поверь, старику; я добра желаю тебе; чистый вздор, праздное употребление времени!.. Положим, что Пушкин велик, кто об этом! А все-таки стишки, и ничего больше... Я, впрочем, его и читал-то мало... Проза другое дело! Тут сочинитель даже поучать может...»
Главное, о чем беспокоятся старики, — чтобы их Ваня добился успеха не на свой, а на и х л а д; и не верят-то они возможности такого успеха, и надеются на него... Но вот, наконец, Иван Петрович приносит книгу — начинается долгожданное чтение вслух.
Старики озадачены: Николай Сергеич «ожидал чего-то непостижимо высокого, такого, чего бы он, пожалуй, и сам не мог понять, только непременно высокого; а вместо того вдруг такие будни и все такое известное, все точь-в-точь как то самое, что обыкновенно кругом совершается... выставлен какой-то маленький, забитый и даже глуповатый чиновник, у которого и пуговицы на вицмундире обсыпались, и все это таким простым слогом написано, ни дать ни взять как мы сами говорим... Странно!»
Этот рассказ о «Бедных людях» чрезвычайно важен для Достоевского. Он уже не просто делится с читателем великой и чистой радостью, которую дает творчество; он спорит с той критикой, которая рассуждала почти как старик Ихменев: надо писать о возвышенном, о поучительном, не опускаться в темные углы несчастных, литература должна стоять выше действительной жизни, и язык литературы должен быть пусть даже и не совсем понятен, но возвышен. Если бы Достоевский приписал все эти рассуждения тем, кто действительно произносил подобные речи, — критикам враждебного ему направления, тогда бы он должен был отвечать своим литературным врагам с иронией, с ненавистью и злобой. Но когда рассуждает добрый и любящий старик Ихменев, вся вина которого только в том заключается, что он не знает, как надо писать, и от всей души желает Ивану Петровичу добра, в том смысле, как он понимает добро, — то есть успеха и денег, — как же может автор гневно спорить с таким противником? И он с доброй улыбкой рассказывает о сомнениях старика, тронутого повестью и растерянного несоответствием того, что он услышал, с тем, как представлял себе настоящую литературу.
«— Ну, брат Ваня, хорошо, хорошо! Утешил. Так утешил, что я даже и не ожидал. Не высокое, не великое, это видно... Но знаешь ли, Ваня, у тебя оно как-то проще, понятнее! Вот именно за то и люблю, что понятнее! Ровнее как-то оно; как будто со мной самим все это случилось. А что высокое-то? И сам бы не понимал...»
Так рассуждает старик Ихменев, непрерывно оговариваясь: вот в других книгах «оно с первой строки, братец, видно, что, так сказать, орлом воспарил человек... Слог бы я выправил: я ведь хвалю, а что ни говори, все-таки мало возвышенного...»
Жена Ихменева, Анна Андреевна, пока слушала книгу, «искренно плакала, от всей души», но потом так же искренне удивлялась: «Ах ты, господи, вот ведь за что теперь деньги стали давать!»
Но что бы ни говорили старики, Иван Петрович видел их волнение, их слезы, — видел то, о чем в одиночестве мечтал, когда придумывал своих героев, — и он был счастлив, слушая вовсе не понимающих его, но любящих стариков.
Самое же важное для него — отношение Ихменевых к святому для Ивана Петровича имени Белинского. Это имя возникает в романе несколько раз — всегда в минуты душевных потрясений: радости, горя. Впервые мы услышали о Белинском в радостное, счастливое для Ивана Петровича время: сам Б. прочел первый роман Ивана Петровича и «обрадовался, как ребенок». Тогда и старик Ихменев восхищался Белинским, принялся читать его статьи, верил, что отзыв Белинского — уже залог будущего литературного успеха, как бы свидетельство грядущих литературных достижений, справка о таланте.
Потом, в тот страшный вечер, когда Наташа ушла из дома, старик Ихменев расспрашивал Ивана Петровича, куда он пропал, почему давно не приходил, и, услышав, что писатель был нездоров, ответил:
«То-то нездоров! Говорил я тогда, предостерегал, — не послушался! Гм! Нет, брат Ваня: муза, видно, испокон веку сидела на чердаке голодная, да и будет сидеть. Так-то!»
Выходит, что старик был прав: «талант — это еще не деньги в ломбарде»; похвала Белинского не обеспечивает ни успеха, ни денег, и разговор этот кончается вопросом старика:
«— Ну, а что, как там у вас?.. Что Б., все еще критику пишет?
Да, пишет...
Эх, Ваня, Ваня! — заключил он, махнув рукой. — Что уж тут критика!»
В последнем восклицании старика — и жалость к Ивану Петровичу с его «голодной музой», и невысказанная, но томящая Ихменева горечь: ничем не может помочь даже самая лучшая критика человеку, у которого горе, — вот с дочерью беда, так что уж тут критика! И, наконец, третий разговор о Белинском будет, в сущности, разговором о судьбе таланта, о судьбе честной литературы.
Снова — в один из самых тяжких для Ивана Петровича дней — старик повторит свой вопрос: «А что Б.? все еще критику пишет?»
Возник этот вопрос не случайно. Он только что узнал о новой квартире Ивана Петровича, о том, что она «сыра и, может быть, еще хуже прежней, а стоит шесть рублей в месяц». Получается, что старик был прав, предрекая Ивану Петровичу гибель от литературы, он снова винит ее же: «...довела до чердака, доведет и до кладбища...» Тут мысль его естественно обращается к Белинскому, Иван же Петрович вынужден ответить: «Да ведь он уже умер, в чахотке...»
Все дальнейшие расспросы старика только доказывают его правоту:
«— Умер, гм... умер. Да так и следовало. Что ж, оставил что-нибудь жене и детям? Ведь ты говорил, что у него там жена, что ль, была... И на что эти люди женятся!
Нет, ничего не оставил...
Ну, так и есть! — вскричал он с таким увлечением, как будто это дело близко, родственно до него касалось и как будто умерший Б. был его брат родной. — Ничего! То-то ничего!.. Легко сказать: ничего не оставил! Гм... славу заслужил. Положим, может быть, и бессмертную славу, но ведь слава не накормит... Так умер Б.? Да и как не умереть!»
Да, старик оказывается прав в этом безумном, перевернутом мире, где у честного человека, обозвав его вором, отнимают последнее имение; где знаменитый писатель, сказавший своим читателям правду, которая перевернула сердца людей, вынужден ютиться на сыром чердаке; где любовь может принести не счастье, а позор и унижение, — в этом мире, конечно, блистательный, талантливый и, главное, благородный человек умирает от чахотки, оставляя семью в нищете. Иначе не может быть, и старик Ихменев хорошо понимает это: «Ты ведь говорил, Ваня, что он был человек хороший, великодушный, симпатичный, с чувством, с сердцем. Ну, так вот они все таковы, люди-то с сердцем, симпатичные-то твои. Только и умеют, что сирот размножать! Гм... да и умирать-то, я думаю, ему было весело!..»
Так устами старика Ихменева Достоевский выражает свою главную мысль: в мире зла, естественно, могут жить только злые, плохие люди. Честным, великодушным, людям «с сердцем» нет места в этом мире.
Но ведь и сам Николай Сергеевич Ихменев — «человек с чувством, с сердцем». Не случайно он говорит о Белинском «близко, родственно», «как будто умерший Б. был его брат родной». Петербург не для тех, кто умеет относиться к незнакомым людям, как к братьям. Мир торжествующего зла, фантастический мир, где все не так, как должно быть, все наоборот от естественного, от человеческого, этот мир не терпит честных людей. Они — все! — и даже самые яркие, талантливые, — и тем более талантливые! — обречены быть «униженными и оскорбленными».
Весь последний разговор происходит на Вознесенском проспекте. Мы видим «туманную перспективу улицы, освещенную слабо мерцающими в сырой мгле фонарями... грязные дома... угрюмых, сердитых и промокших прохожих...» — и, наконец, «черный, как будто залитый тушью, купол петербургского неба».
Перед нами Петербург XIX века, описанный совершенно точно, реалистически достоверно. Город этот, однако, не менее страшен, чем у Гоголя, потому что жизнь в нем не приспособлена для честных и чистых людей. И пушкинский Петербург тоже встает в памяти, когда читаешь следующие строки: «Мы выходили уже на площадь: перед нами во мраке вставал памятник, освещенный снизу газовыми рожками, и еще далее поднималась темная, огромная масса Исакия, неясно отделявшаяся от мрачного колорита неба».
Достоевский имеет в виду памятник Николаю I работы Клодта, поставленный на Исаакиевской площади после смерти царя, в 1859 году. Но ведь только что герои говорили о смерти Белинского — а он умер в 1848 году. Когда же происходит действие романа? И о каком памятнике идет речь? Запутавшийся читатель невольно переносится мыслями к другому памятнику — впереди, ближе к Неве. Николай I как бы догоняет скачущего впереди всадника, о котором уже сказала свое слово русская литература. Мы знаем: тот памятник имеет обыкновение сниматься с места и с грохотом преследовать униженного, оскорбленного человека, потерявшего по^ натиском стихии все самое дорогое, что он имел в жизни. Памятник громко скачет по улицам, и его «тяжелозвонкое скаканье» сводит с ума несчастных: не для них выстроен город, не их эта столица.
Так облик города подсказывает читателю и судьбу героя.
Мы уже не сомневаемся: судьба старика Ихменева не может оказаться благополучной. И, главное, неизбежные несчастья ждут его дочь, его Наташу, и верного ее друга Ивана Петровича. Какие же еще беды готовит им князь Валковский?
Отступление третье
О ДВАДЦАТИ МИНУТАХ ЖИЗНИ
«Этот человек был раз взведен, вместе с другими, на эшафот, и ему прочитан был приговор смертной казни расстрелянием за политическое преступление. Минут через двадцать прочтено былой помилование и назначена другая степень наказания; но, однако же, в промежутке между приговорами, двадцать минут или по крайней мере четверть часа, он прожил под несомненным убеждением, что через несколько минут он вдруг умрет. Он помнил все с необыкновенной ясностью и говорил, что никогда ничего из этих минут не забудет. Шагах в двадцати от эшафота, около которого стояли народ и солдаты, были врыты три столба, так как преступников было несколько человек. Троих первых повели к столбам, привязали, надели на них смертный костюм (белые длинные балахоны), а на глаза надвинули им белые колпаки, чтобы не видно было ружей; затем против каждого столба выстроилась команда из нескольких солдат... Выходило, что остается минут пять, не больше.' Он говорил, что эти пять минут казались ему бесконечным сроком, огромным богатством; ему казалось, что в эти пять минут он проживет столько жизней, что еще сейчас и нечего думать о последнем мгновении, так что он еще распоряжения разные сделал: рассчитал время, чтобы проститься с товарищами... чтобы подумать в последний раз про себя, а потом чтобы в последний раз кругом поглядеть... Он умирал двадцати семи лет, здоровый и сильный...
Невдалеке была церковь, и вершина собора с позолоченною крышей сверкала на ярком солнце. Он помнил, что ужасно упорно смотрел на эту крышу и на лучи, от. нее сверкавшие; оторваться не мог от лучей: ему казалось, что эти лучи его новая природа, что он через три минуты как-нибудь сольется с ними... Неизвестность и отвращение от этого нового, которое будет и сейчас наступит, были ужасны, но он говорит, что ничего не было для него в это время тяжелее, как беспрерывная мысль: «Что, если бы не умирать! Что, если бы воротить жизнь, — какая бесконечность! И все это было бы мое! Я бы тогда каждую минуту в целый век обратил, ничего бы не потерял, каждую бы минуту счетом отсчитывал, уж ничего бы даром не истратил!»
Это написано в 1868 году — в романе «Идиот». А было все это с Федором Михайловичем Достоевским 22 декабря 1849 года в Петербурге на Семеновском плацу — там, где теперь новое здание Театра юных зрителей, красивый сквер и памятник А. С. Грибоедову.
Считается, что он не любил вспоминать эти минуты и один только раз, в романе «Идиот», описал их, чтобы уже не возвращаться к этому воспоминанию. Но чуть ли не в каждом романе Достоевского есть упоминание о приговоренном к смертной казни. Мы уже видели это упоминание в «Униженных и оскорбленных» — когда Наташа ушла из отчего дома, Иван Петрович услышал в ее голосе «столько отчаяния, как будто она шла на смертную казнь».
«Так, верно, те, которых ведут на казнь, прилепливаются мыслями ко всем предметам, которые им встречаются на дороге», — эта мысль мелькает у Раскольникова, когда он подходит к дому старухи процентщицы с топором, висящим под пальто на заранее пришитой петле.
Да, вероятно, Достоевский не хотел вспоминать этих минут. Но не помнить о них он не мог, и эта память против его воли выступала на страницах его книг.
Что же привело молодого, так счастливого вошедшего в литературу писателя на эшафот?
15 января 1846 года вышел в свет «Петербургский сборник» Некрасова, где были напечатаны «Бедные люди». К Достоевскому пришла слава. Но ведь он написал только одну повесть, а слава накладывает обязательства. Нужно было писать еще и еще, утвердить свое имя в литературе. Достоевский пишет еще и еще: повести «Двойник», «Господин Про- харчин», «Хозяйка»... Теперь, когда мы знаем, что написал он потом, не трудно понять: все эти вещи были как бы черновиками, набросками — в них уже проглядываются будущие темы Достоевского: и тема Раскольникова, и мучительная раздвоенность женской любви, и главная мысль Достоевского — о совести, без которой нет человеческой души. Но после «Бедных людей» все это выглядело слабым. В начале 1847 года Достоевский расходится с Белинским, понимая, что не оправдал его надежд, мучительно размышляя над своим будущим литератора и человека. Весной этого же года Достоевский начал посещать собрания кружка Петрашевского, происходившие пр пятницам. Здесь обсуждались самые важные проблемы современности: необходимость реформы крепост-- ного права, суда, печати. Петрашевцы были сторонниками идей знаменитого утописта Фурье, и Достоевского увлекла идея бескровного переустройства общества, идея любви к человечеству и создания всеобщего счастья. В. И. Ленин назвал теорию сторонников Фурье «социализмом без борьбы». Вот этому-то социализму и готов был служить Достоевский своим талантом писателя. Он не был революционером — своим единственным оружием он считал слово, печатное и устное. В кружке Петрашевского он принимал участие в основном в прениях на литературные темы. Но приближался 1848 год, изменивший многое не только в жизни Достоевского, а в жизни всей Европы.
В этом году и в начале следующего Достоевский написал петербургскую повесть «Белые ночи» и начал роман, который ему не суждено было закончить: «Неточка Незванова». Обе эти вещи не имеют никакого отношения к революции, но обе они свидетельствуют о том, как вырос и окреп талант Достоевского, как он постепенно начал выходить на свой путь в литературе, — путь проникновения в глубины человеческой души.
Достоевский думал об одиноких, забытых в петербургских углах мечтателях, об ужасе их одиночества, о странных поворотах любви, о судьбах людей искусства, о детских изломанных жизнях, о трагической любви женщины, лишенной права на любовь, — обо всем том, о чем он еще напишет, но через много лет, пережив ужас смертного приговора, и каторгу, и солдатчину.
А тем временем во Франции назревала революция, пала Июльская монархия, была объявлена республика, и Николай I подписал приказ о мобилизации русской армии. Поднялась волна народных восстаний в Австрии, Пруссии, Венгрии, в итальянских герцогствах и королевствах. Николай I понял, что «дерзость угрожает в безумии и нашей богом вверенной России». Царскому правительству было уже не до того, чтобы усмирять революцию во Франции: следовало выявить и искоренить зародыши революционной борьбы в России.
Кружок Петрашевского, разумеется, был потрясен событиями в Европе. Теперь на пятницах велись не просто разговоры, кружок становился политическим клубом с программными докладами, с обсуждением самых острых проблем дня: политической экономии, религии, нового устройства общества. Достоевский участвовал в деятельности кружка то.лько как литератор: он прочел два доклада чисто литера-» турных и третий — «О личности и человеческом эгоизме». Его по-прежнему интересовал больше всего человек, его психология, и в докладе своем он предвещал будущие идеи Расколь- никова, Ивана Карамазова; худшее зло мира он видел в индивидуализме человека, который считает, что ему «все позволено».
Достоевский не принимал идеи восстания, убийства царской фамилии, он стремился к переустройству общества словом, но был готов создать тайное общество с тайной типографией, и такое отделение кружка Петрашевского уже было создано семью его членами, в числе которых был и Достоевский. Но судьба петрашевцев была уже решена. 15 апреля 1849 года состоялось заседание кружка, на котором Достоевский прочел вслух только что полученное из Москвы, но еще неизвестное в Петербурге письмо Белинского к Гоголю. Среди слушавших его людей был и агент правительства, который донес, что письмо «произвело общий восторг... Все общество было как бы наэлектризовано».
Через неделю, 22 апреля, утром Николай I наложил свою резолюцию на «записке» о деле Петрашевского: «Приступить к арестованию». Вечером была последняя пятница Петрашевского. Под утро Достоевский проснулся оттого, что в его комнате брякнула сабля. Тридцать четыре петрашевца были арестованы в эту ночь и препровождены в Петропавловскую крепость.
Достоевский провел девять месяцев заключения в «Секретном доме» Алексеевского равелина, где за двадцать четыре года до него томились декабристы.
В 1854 году Достоевский писал, что «вел себя перед судом честно, не сваливая своей вины на других, и даже жертвовал своими интересами, если видел возможность своим признанием выгородить других». Он называл имена тех, кого уже не было в живых, но кто оставался живым для него и остался для нас: Пушкин, Грибоедов, Фонвизин... Он говорил: «Я люблю литературу и не могу не интересоваться ею... Литература есть одно из выражений жизни народа, есть зеркало общества. Кто же формулировал новые идеи в такую форму, чтоб народ их понял, — кто же, как не литература!»
В крепости Достоевский «выдумал три повести и два романа» — еще в те месяцы, когда ему не разрешали ни читать, ни писать. Он всегда был писателем, а следствию непременно хотелось считать его инженером-топографом: Достоевскому предъявили план Петербурга, где были тушью отмечены места, предназначенные для баррикад, и нанесено расположение гвардейских частей. Достоевский не составлял этого плана. Он думал о литературе, он верил: литература — сильное оружие, и его нужно использовать в борьбе за «пришествие всеобщего счастья».
В тот день, когда он пережил смертный приговор, и ожидание расстрела, и новый приговор, он торопливо, в присутствии тюремщика, писал брату: «Боже мой! Сколько образов, выжитых, созданных мною вновь, погибнет, угаснет в моей голове или отравой в крови разольется! Да если нельзя будет писать, я погибну. Лучше пятнадцать лет заключения и перо в руках!»
Ночью 24 декабря 1849 года закованный в кандалы Достоевский был отправлен на каторгу в открытых санях, с жандармом. Это было его первое путешествие по России: через Петербургскую, Новгородскую, Ярославскую, Владимирскую, Нижегородскую, Казанскую, Вятскую, Пермскую и Тобольскую губернии. В Тобольске, на этапном дворе, к узникам пришли жены декабристов: Анненкова, Фонвизина, Муравьева. Им удалось устроить свидание с политическими на квартире смотрителя тюрьмы, накормить их обедом, подарить каждому теплые вещи и Евангелие. Достоевский берег эту книгу всю жизнь и последний раз раскрыл ее в день своей смерти.
Наталья Дмитриевна Фонвизина (пройдут годы, и, овдовев в Сибири, она станет женой декабриста Пущина — того самого, друга Пушкина) выехала из Тобольска прежде узников, чтобы проводить их по дороге в Омск.
Когда сани Фонвизиной остались позади, путь лежал в Омскую крепость — «Мертвый дом». О чем думал Достоевский на пути в Омский острог? Мы этого не знаем, но можем предположить.
Конечно, мысли его были заняты ближайшим будущим — годами, которые ему предстояло провести на каторге и затем — в солдатчине. Но не мог же он не вспоминать о том, что осталось позади. А там — еще совсем недавно — был кружок Петрашевского, молодые, горячие, споры, рассуждения о том, как построить иную, счастливую жизнь.
Теперь, пройдя через долгие месяцы тюрьмы и двадцать минут на эшафоте, Достоевский понимал, что молодые спорыпринесли слишком много горя. Но он не хотел отступить от своей цели — цель же была одна: добиться, чтобы народ был счастлив. Чем и как добиваться? Достоевский и раньше знал, что его единственное оружие — слово. И вот теперь, отправляясь на каторгу, он больше чем когда-нибудь верил в свое призвание писателя, в свое предназначение, в ту миссию, которую ему суждено выполнить. Мысль о долге писателя поддерживала и хранила его все страшные годы в «мертвом доме».
4. Появляется девочка
Мы не забыли таинственной истории, с которой Иван Петрович начал свой рассказ. Но на протяжении восьми глав рассказчик ни разу не вспомнил об умершем старике, в чью квартиру он переехал. Он и не мог вспомнить: в этих восьми главах рассказана предыстория — вражда между князем Валковским и стариком Ихменевым, любовь Ивана Петровича к Наташе, наконец, ее внезапная и безрассудная страсть к Алеше Валковскому — все это было уже давно. И вечер на набережной, когда Наташа ушла из дому, тоже был уже полгода назад. Что же, что с ней теперь? Обвенчались ли они с Алешей «послезавтра, наверное», как он обещал и собирался? Как сложилась их судьба?
Читатели уже хотят знать новости о влюбленных, так же захвачены их историей, как вначале были захвачены разгадкой истории Смита. Но мы опять останавливаемся на самом интересном месте, потому что настала пора вернуться в низкую комнату, где живет теперь Иван Петрович. Мы уже лучше понимаем состояние души рассказчика в тот мартовский морозный вечер, когда умер Смит. Недаром Ивану Петровичу так хотелось найти квартиру непременно отдельную от всех; тяжело было у него на душе, одиночество казалось спасением.
Что произошло за последние полгода, мы не знаем. Нам снова повторяют: «Дней через пять после смерти Смита я переехал на его квартиру». Мы знаем, когда умер Смит: двадцать второго марта. Но точные даты перестали интересовать Ивана Петровича, он не сообщает, какого именно числа переехал. Теперь важнее другое: состояние души. «Весь тот день мне было невыносимо грустно. Погода была ненастная и холодная; шел мокрый снег, пополам с дождем. Только к вечеру, на одно мгновенье, проглянуло солнце и какой-то заблудший луч, верно из любопытства, заглянул и в мою комнату. Я стал раскаиваться, что переехал сюда. Комната, впрочем, была большая, но такая низкая, закопченная, затхлая и так неприятно пустая...»
Мы в Петербурге — и снова помним, что мы именно в этом городе. Пока шел разговор о предыстории, мы словно забыли о городе: ведь рассказ переносил нас и в деревню Ихменевку, и в село Валковских Васильевское, и опять в Петербург, но только теперь мы окончательно ощутили себя на Вознесенском проспекте, на тех улицах, где норма — мокрый снег пополам с дождем, а исключение — проглянувшее солнце. Мельком Иван Петрович сообщает: «Я все еще писал тогда мой большой роман; но дело опять повалилось из рук; не тем была полна голова...»
Грустью веет от этого мимолетного сообщения. Мы уже понимаем: никакой свадьбы не было, ничего хорошего у Наташи не происходит, и грусть рассказчика имеет серьезные причины.
«Разные тяжелые мысли осаждали меня. Все казалось мне, что в Петербурге я, наконец, погибну. Приближалась весна; так бы и ожил, кажется, думал я, вырвавшись из этой скорлупы на свет божий, дохнув запахом свежих полей и лесов: а я так давно не видал их!..»
Рассказывая о прошлом, хотя и мучительном для него, но все-таки полном любовью к Наташе и заботой о ней, Иван Петрович не вспоминал о «скорлупе» городских стен. Прошлое было естественным, человеческим. Настоящее заперто в эти стены, в этот туманный, мистический город, где за каждым углом может ждать таинственное, непонятное и страшное.
Пустая полутемная комната, где еще недавно жил фантастический старик, пугала Ивана Петровича. Ему вдруг показалось, что каждую ночь он будет видеть старика: Смит «будет сидеть и неподвижно глядеть на меня, как в кондитерской на Адама Иваныча, а у его ног будет Азорка. И вот в это-то мгновение случилось со мной происшествие, которое сильно поразило меня».
Как и в первой главе, Иван Петрович заранее предупреждает нас о том, что произойдет странное, непонятное. Мы пугаемся и ждем фантастического. Между тем происходит совсем не странное событие. Опять мы видим: жизнь идет обыкновенно. Но душевное состояние Ивана Петровича таково, что ему могут представиться самые фантастические вещи. И особенно в Петербурге, которого он боится, от которго ждет любых неожиданностей.
Когда гоголевский цирюльник Иван Яковлевич обнаружил запеченный в хлебе нос майора Ковалева, он испугался вовсе не фантастичности, невозможности такого происшествия, а полиции, которая может обнаружить у него чужой нос, нос старшего по чину. Да и майор Ковалев очень огорчился, не обнаружив своего носа на месте, и возмутился, увидев его путешествующим в мундире по городу; но никакого мистического ужаса он не испытал, как ни чудовищно, невероятно было на самом деле такое происшествие. Мистический ужас почувствовал Акакий Акакиевич, когда вполне реальные грабители отняли у него шинель. В мире Гоголя реальность страшнее самых фантастических происшествий.
У Достоевского, в его Петербурге, может произойти все что угодно: мы бы нисколько не удивились вместе с Иваном Петровичем, если бы в его комнату, действительно, вошел мертвый Смит и засмеялся «долгим, беззубым и неслышным смехом». То, что происходит на самом деле, совершенно не страшно, однако вызывает у Ивана Петровича еще больший ужас, чем вызвало бы появление мертвеца: «...дверь действительно отворялась... сама собой; вдруг на пороге явилось какое-то странное существо; чьи-то глаза, сколько я мог различить в темноте, разглядывали меня пристально и упорно... К величайшему моему ужасу, я увидел, что это ребенок, девочка, и если б это был даже сам Смит, то и он бы, может быть, не так испугал меня, как это странное, неожиданное появление незнакомого ребенка в моей комнате в такой час и в такое время».
Почему же реальность оказывается страшнее самой невероятной фантастики? Ведь Иван Петрович, когда поселился в этой комнате, имел в виду, что кто-нибудь может прийти — справиться о Смите. Вот кого он увидел: «Это была девочка лет двенадцати или тринадцати, маленького роста, худая, бледная, как будто только что встала от жестокой болезни. Тем ярче сверкали ее большие черные глаза. Левой рукой она придерживала у груди старый, дырявый платок, которым прикрывала свою, еще дрожавшую от вечернего холода, грудь. Одежду на ней можно было вполне назвать рубищем; густые черные волосы были неприглажены и всклочены».
Иван Петрович — мы уже знаем — добрый и сострадательный человек. Больной, измученный ребенок, одетый в рубище, — разве не страшнее это зрелище любого мертвеца? От неожиданности, необъяснимости этого явления Иван Петрович, не приготовившись к вопросу девочки, где дедушка, прямо сказал, что дедушка умер, и тотчас раскаялся. Единственное, что сразу поняла девочка:
«— Азорка тоже умер?»
Вот эта уверенность, «что Азорка непременно должен был умереть вместе с стариком», конечно, еще раз показывает невероятность того мира, в котором живет Иван Петрович. Да, и Азорка умер. И девочка не может быть обыкновенной девочкой, она непременно должна быть окутана тайной, страшной и необъяснимой тайной. Найдя ее плачущую в темноте лестницы, Иван Петрович пытается утешить, успокоить:
«— Послушай, чего ж ты боишься?.. Я так испугал тебя; я виноват. Дедушка, когда умирал, говорил о тебе; это были последние его слова... У меня и книги остались; верно, твои. Как тебя зовут? где ты живешь? Он говорил, что в Шестой линии...»
Вот, оказывается, что страшнее всего: не то, что дедушка умер, и не то, что Азорка тоже умер. А чтобы чужой, посторонний узнал, где живет девочка. «Она вскрикнула в испуге, как будто оттого, что я знаю, где она живет, оттолкнула меня своей худенькой, костлявой рукой и бросилась вниз по лестнице».
И еще, и еще раз Достоевский показывает: нет, не может быть ничего страшнее и фантастичнее той реальной жизни, какою живут герои романа. Что может быть естественнее, чем спросить у ребенка: «Где ты живешь?», но этот вопрос оборачивается ужасом, потому что все в этом мире зла может принести человеку зло.
Так таинственно появившись на страницах романа и так испуганно исчезнув, девочка опять долго не появится перед нами; но безобразие и неестественность мира, окружающего Ивана Петровича, останутся.
5. Отец и дочь
Мы помним, какие планы были у Алеши полгода назад, когда он увез Наташу из родительского дома: венчаться завтра-послезавтра, зарабатывать деньги, продать дорогие безделушки, в самом крайнем случае — пойти служить, победить отца своим упорством и силой любви к Наташе.
Прошло полгода. Наташа живет без Алеши «на Фонтанке, у Семеновского моста, в грязном «капитальном» доме купца Колотушкина, в четвертом этаже». Фонтанка, Семеновский мост — это уже не княжеский Петербург, это Петербург Достоевского, район, где живут бедные люди. Как и Раскольников, как Иван Петрович, Наташа живет теперь на четвертом этаже, высоко, в грязном доме, и даже фамилия владельца дома — купца Колотушкина — наводит на грустные мысли.
Живут теперь влюбленные не радостно. Алеша в долгах, не понимает, что нельзя тратить большие деньги, работы он никакой не нашел, служить не стал. Первое время он делал Наташе дорогие подарки, радостно покупал их и огорчался, когда видел ее недовольство и даже слезы. Вдобавок Алеша «много проживал денег тихонько от Наташи; увлекался за товарищами, изменял ей...» Все это могло бы привести к полному разрыву (на это, видимо, и надеялся отец Алеши), но — нет. При всей своей наивной жестокости, безответственности и бесхарактерности, Алеша все равно любил Наташу, восхищался ею, понимал ее превосходство перед собой: «...он чувствовал себя перед нею ребенком, да и она всегда считала его за ребенка». Странная это любовь, но она была, — и, может быть, если бы никто не вмешивался, любовь победила бы все. Но князь Валковский издали следил за развитием событий. Денег не стало совсем, Наташа настояла на переезде в маленькую дешевую квартиру на Фонтанке, Алеша продал все, что мог продать, однако «ничем не поправил дела». Наташа тоже «продала даже свои платья и стала искать работы» — она уже поняла, что от Алеши ждать нечего: он будет отчаиваться и презирать себя, но жить без денег отца все-таки не умеет.
Кстати сказать, если уж смотреть на вещи с позиции морали того времени, то деньги князя принадлежали как раз Алеше. Мы ведь помним: князь женился «на деньгах». У него самого ничего не было, все его богатство, значение в свете, успехи по службе начались с того, что он прибрал к рукам состояние своей жены — матери Алеши. Сын, без сомнения, по любому закону, имеет право наследовать половину состояния матери. Но, во-первых, этого состояния давно уже нет — князь прокутил его. И, во-вторых, Алеше не придет в голову потребовать у отца денег. Не умеет он отстаивать свои права, и отец знает это. Расчет князя прост: денег не давать, чтобы сын не имел возможности жениться, а время тянуть — Наташа прискучит сыну, тогда можно будет познакомить его поближе с другой невестой, а она ему понравится. Князь учитывал и то, что эта другая — Катерина Федоровна Филимонова — «почти красавица, почти еще девочка, но с редким сердцем, с ясной, непорочной душой, весела, умна, нежна». Так описывает ее Иван Петрович — с чужих, правда, слов, сам он ее не видел, но, видимо, он верит этим чужим отзывам. Для князя все это никакого значения не имеет: ни молодость, ни красота. Князю важны миллионы, но он понимает, что Алеша может увлечься хорошей и красивой девушкой. Так и случилось, но «только отчасти». Оставлять Наташу сын не хотел, и князь «стал сомневаться, трусить». Мы ясно видим: в этот период Алеша мог бы настоять на своем, князю не удалось бы заставить его силой, но хитростью он легко проведет сына.
Полгода мы не видели Алешу и Наташу — эти полгода Иван Петрович описал на одной странице: были ссоры и примирения, счастье и беда, сначала богатство, потом почти нищета — но только теперь настало время острых, мучительных переживаний. Верный своему принципу — показывать героев в часы и дни самых сильных потрясений, — Достоевский приведет нас к Наташе в тягостный, страшный и поворотный для нее вечер.
Она была одна, и на окне была выставлена свеча: для Ивана Петровича, чтобы он знал, что Наташа ждет его, нуждается в нем. И в каждом слове Ивана Петровича видна его любовь к ней: он все видит, все замечает и всем любуется в Наташе. «Лицо ее было бледно, с болезненным выражением. В улыбке ее было что-то страдальческое, нежное, терпеливое. Голубые глаза ее стали как будто больше, чем прежде, волосы как будто гуще, — все это так казалось от худобы и болезни».
Страдающая, измученная, больная, она все равно для него прекрасна. Почему? Да ведь любит он в ней не красоту, а душу. Эти два человека понимают друг друга с полуслова, и стихи, которые Наташа теперь читала одна, в тоске, когда- то впервые они с Иваном Петровичем вместе читали. Он все в ней понимает, но мучительное страдание сделало Наташу мудрее, чем ее верный друг. Она понимает и то, чего ему самому не понять: возврата к родителям для нее нет. Отец не сможет забыть горе, какое она ему принесла. Иван Петрович рассказывает ей, что был у стариков, добавляя как бы между прочим: «Я никогда ничего не скрывал от нее». И снова — в который уже раз за эти полгода — начинает уговаривать Наташу вернуться к родителям: «Неужели ж ты до того горда, что не хочешь сделать первый шаг! Он за тобою; ты должна его первая сделать. Может быть, отец только того и ждет, чтоб простить тебя... Он отец; он обижен тобою! Уважь его гордость; она законна, она естественна! Ты должна это сделать. Попробуй, и он простит тебя без всяких условий».
Иван Петрович уверен, и Наташа готова ему поверить: отец ходил сегодня к ней, потому так и смутился, встретив Ивана Петровича на улице, потому и повторял, что ходил по делам. Все это она понимает. Но понимает и другое: «Безвозвратного не воротишь, и знаешь, чего именно тут воротить нельзя? Не воротишь этих детских, счастливых дней, которые я прожила... с ними. Если б отец и простил, то все-таки он бы не узнал меня теперь. Он любил еще девочку, большого ребенка. Он любовался моим детским простодушием... Повторяю тебе, он знал и любил девочку и не хотел и думать о том, что я когда-нибудь тоже стану женщиной... Ему это и в голову не приходило».
Здесь нет никаких противоречий между чувствами людей прошлого века и сегодняшней психологией любящего отца. Если даже жизнь дочери складывается вполне счастливо и благополучно, отцу тяжело, что его как бы устранили из жизни дочери, что она счастлива — без него. Если же ей плохо, и она молчит, таится, отец не может не страдать и не чувствовать себя оскорбленным. Наташа и это понимает: «...отеческая любовь тоже ревнива. Ему обидно, что без него все это началось и разрешилось с Алешей, а он не знал, проглядел... Я не пришла к нему с самого начала, я не каялась потом перед ним в каждом движении моего сердца... напротив, я затаила все в себе, я пряталась от него...»
Кто же прав — отец, ждавший от дочери полной откровенности и не прощающий ей молчания, скрытности, или дочь, таившая от всех свою беду и свое счастье? Нельзя здесь искать ни правого, ни виноватого.
Наташа знает свою правду: «...надо как-нибудь выстрадать наше будущее счастье: купить его какими-нибудь новыми муками. Страданием все очищается... Ох, Ваня, сколько в жизни боли!»
Человек, который никогда не мучился и не страдал, — неполноценный человек, и он может оказаться невероятно жесток: не зная страданий, он не может поверить в страдания другого человека, может принести ему боль, даже не задумываясь.
И — как ответ на мысль о страдании — Иван Петрович рассказывает, что роман ему не дается. «Я даже думаю бросить роман и придумать повесть поскорее, так, что-нибудь легонькое и грациозное и отнюдь без мрачного направления... Это уж отнюдь. Все должны веселиться и радоваться!..»
Неожиданные и нелепые эти слова Ивана Петровича только подтверждают мысль Наташи о страдании. Как же может он сейчас написать что-то «легонькое и грациозное»? Как может добиться, чтобы все веселились и радовались, когда ему самому не до веселья и радости! Наташа правильно понимает и эти слова Ивана Петровича: «Бедный ты труженик!» — говорит она. Действительно, что еще остается, как не пожалеть человека, сломленного тягчайшей трагедией и мечтающего уйти от своего горя в творчество, — когда творчество вернее всего отражает происходящее в душе человека. Не может сейчас Иван Петрович писать ничего «легонького», не этим занята его душа.
Наташа не продолжает этого разговора. Она так полна своей любовью, что не может говорить о другом, она снова — в который уже раз! — сообщает другу, что решила расстаться с Алешей.
В этом разговоре вся ее безумная, отчаянная, неудержимая любовь, и ревность, и отчаяние сочетаются с удивительным благородством. Вот что она думает: «...я ему первый враг, я гублю его будущность. Надо освободить его... Если я люблю его, то должна всем для него пожертвовать, должна доказать ему любовь мою, это долг! Не правда ли?»
Все это Наташа придумала и решила за страшные для нее пять дней, что Алеша к ней не показывался. Она решила это разумом, но сердце ее не может смириться, она как в бреду: уже посылала узнавать, где Алеша, и убедилась, что он у невесты; не может скрыть от Ивана Петровича мучений ревности, просит его познакомиться с Катериной Федоровной, наконец, решает: «Знаешь, Ваня, пойдем туда, проводи меня!»
Что остается Ивану Петровичу? Он честно сказал Наташе: «...ваша связь какая-то странная; между вами нет ничего общего». Наташа рассердилась на это, уже сказала зло, что он враг Алеши, не любит его (а почему бы Ивану Петровичу не быть врагом Алеши, за что и любить его?), но Иван Петрович продолжает говорить: «...в нем все в высшей степени ни с чем не сообразно, он хочет и на той жениться, и тебя любить. Он как-то может все это делать вместе».
Да почему может? Потому что в Алеше есть доброта, есть прямодушие, правдивость, но нет у него вообще никакой нравственности. Что-то слышал он о благородстве, порядочности — но слышанное никак не совпадало с тем, что он видел, и не осталось в его душе неколебимо; он понятия не имеет, что в жизни надо выбирать, какие бы страдания ни приносил выбор, что касается это не только любви, а каждый шаг человека есть выбор добра и зла. Ничего этого Алеша не знает и знать не хочет, он именно думает, что можно взять себе все радости разом, если ему так хочется.
И вот в ту самую минуту, когда Наташа умоляет Ивана Петровича поехать вместе с ней туда, к невесте, где сейчас Алеша, — «в прихожей раздался шум». Явился Алеша, оробевший, но твердо убежденный, что он ни в чем, «ей-богу», не виноват.
А в чем он, в самом-то деле, виноват? Ну, не был пять дней у любимой женщины. У женщины, на которой полгода назад собирался жениться «послезавтра». Так что здесь ужасного — не мог и не был, как только смог — прибежал. Одно, конечно, огорчительно: ей было тяжело его отсутствие, но он же привык, что ему все прощается, он даже выстроил для себя целую систему взглядов: Наташа — не такая, как все, она всегда все ему простит, тем она и прекрасна...
И, действительно, Наташа прощает. Ни слова упрека:
«— Ну что ж, ну... ничего!.. — отвечала она в ужасном смущении, как будто она же и была виновата. — Ты... хочешь чаю?»
Алеша хочет объясниться, доказать свою невиновность...
«— Да зачем же это? — прошептала Наташа, — нет, нет, не надо... лучше дай руку и... кончено... как всегда...»
Правильно она поступает? Ни гордости, ни оскорбленного самолюбия — одно только бесконечное терпение, одно самопожертвование... Из тысячи женщин, может быть, одна сумела бы проявить столько выдержки. Но зачем?
Наташа не хочет огорчить того, кого любит. Да, он-то ее огорчает, а она его — нет. Ей невероятно трудно, она на ногах еле держится. А ему — легко, и он уже давно знает, что всегда ему будет легко с Наташей, за то, может быть, он и любит ее, что она ему все прощает, берет на себя все тяжелое, чтобы ему-то всегда было легко...
Наташа и это понимает: боится, не хочет быть ему в тягость, знает: тем и удерживает его любовь, что не накладывает на него обязательства. Алеша к обязательствам не привык, они для него мучительно тяжелы.
Но сколько браков, сколько любовей и сегодня разваливаются оттого, что о б а не хотят забыть о своем самолюбии, оба наваливают все обязанности на другого, а себя оставляют свободными... Наташе невероятно трудно. Зачем она решилась жить так трудно? Потому что любит и борется за свою любовь. Не знаю, права ли она — в этой ее трагической и «ни с чем не сообразной» любви. Но каждый человек должен бороться за свою любовь — в этом я уверена. Бороться не упреками, не обвинениями, а терпением и способностью удержать себя от упреков. Это трудно, да. Но тот, кто живет легко, приносит боль тем, кого любит. Наташа не хочет, изо всех сил не хочет принести боль тому, кого любит. И она, казалось бы, одерживает победу в своей борьбе: Алеша посмотрел на нее, и «взгляд его сиял такой правдивостью, лицо его было так радостно, что не было возможности ему не поверить».
Так кончается первая часть книги — на полуслове: потому что Алеша все рвется рассказать, как он провел эти пять дней, сообщить какую-то важную новость, а ему не дают рта открыть. Но во второй части, с самого ее начала, мы узнаем, что произошло, чем он был так горд, что ему служит оправданием.
Отступление четвертое
«СЕЛО СТЕПАНЧИКОВО» И ДРУГИЕ
КНИГИ...
Достоевский провел четыре года в Омском каторжном остроге, о первых впечатлениях от которого он написал позднее: «...это был ад, тьма кромешная». Как ему удалось не только выжить в этом «мертвом доме», но и сохранить живую душу, доброе отношение к людям, к жизни? Достоевский ответил на эти вопросы сам, в своей книге «Записки из Мертвого дома». После каторги Достоевский был зачислен рядовым в Сибирский седьмой линейный батальон, куда был отправлен по этапу — в город Семипалатинск. Уже в семипалатинские годы он начал записывать свои каторжные впечатления, из которых сложилась впоследствии книга «Записки из Мертвого дома». Достоевский писал о каторге жестокую правду, описывал убийц и разбойников, среди которых провел почти полторы тысячи дней и ночей. Но среди этих людей были и светлые, добрые души, о них помнил Достоевский, когда писал свою книгу.
Самое же главное, самое тягостное — были те мысли, которые одолевали Достоевского на каторге и в ссылке. Он думал о кружке Петрашевского и его деятельности — ведь, в сущности, члены кружка больше разговаривали, чем действовали. Такая страшная кара постигла их всего только за разговоры и чтение. После двадцати минут на эшафоте Достоевский понял, что жизнь — бесценное благо и что его, Федора Достоевского, жизнь принадлежит не ему одному: он должен успеть за свою жизнь отдать долг русской литературе, написать те книги, о которых мечтал и в Петропавловской крепости, и на каторге, и в ссылке. Теперь, в Семипалатинске, при всей трудности ссыльных условий, в которые он попал, Достоевский обрел друзей, обрел любовь. В январе 1857 года он женился на Марии Дмитриевне Исаевой. Теперь у него была семья: Мария Дмитриевна и ее сын. Достоевский стремился работать, чтобы обеспечить свою семью. В семипалатинские годы он начал писать одновременно несколько повестей и статей, задумал «большой роман», рассчитывая на несколько лет работы.
Достоевский не отказался от идеалов своей молодости, от мечты о всеобщем счастье — обо всем этом говорили члены кружка Петрашевского. Но как добиться всеобщего счастья, как помочь людям? Революционный путь казался теперь недостижимым. Оставалось надеяться на проповедь добра и справедливости, на улучшение сознания людей. Такой путь и выбрал Достоевский: своими будущими книгами он хотел нести людям добро, улучшать их души. Поэтому первые после ссылки книги Достоевского направлены прежде всего против себялюбия и эгоизма, лучшие их герои умеют думать о других людях и печалиться их печалями.
Вернувшись в конце 50-х годов в Петербург, Достоевский привозит с собой две повести: «Дядюшкин сон» и «Село Сте- панчиково и его обитатели». Сам Федор Михайлович не любил эти свои работы, считая их недостаточно серьезными. Между тем в «Селе Степанчикове» отразились все его раздумья о вреде эгоизма и о зле, которое может принести другим людям человек, упоенный только самим собой.
Как всегда у Достоевского, «Село Степанчиково» написано очень увлекательно. Рассказчик — молодой выпускник Петербургского университета — приезжает в поместье к своему дяде Егору Ильичу Ростаневу.
Егор Ильич — добрейший и простодушный человек — как бы предшественник прекрасных людей Достоевского. Он так добр и простодушен, что боится обидеть выжившую из ума мать и ее приживальщика Фому Фомича Опискина, которые командуют всем и всеми в доме. Фома Фомич ежеминутно требует от Егора Ильича все новых и новых унижений: то хочет, чтобы его называли «высокопревосходительством», то принимается воспитывать крестьян: старика учит французскому языку и возмущается, если старая голова не может запомнить трудных французских слов, а к молодому привязался по другому поводу: зачем мальчик все время видит во сне белого быка?
Рассказчик постепенно начинает понимать невообразимую жизнь дома, куда он приехал. В семье живет также полубезумная богатая невеста Татьяна Ивановна, печальной судьбе которой Достоевский посвящает особый рассказ: перезрелая девушка провела всю жизнь в приживалках у богатых родственниц, испытала полную долю унижений — и вдруг получила богатое наследство. Егор Ильич Ростанев поселил ее у себя, чтобы уберечь Татьяну Ивановну от расчетливых претендентов на ее богатство, но и здесь он не может спасти бедную девушку, помешавшуюся на романах и романтических историях. Старуха-мать и Фома Фомич, который целыми днями проповедует нравственность и добро, на самом деле очень хорошо рассчитали жизнь Егора Ильича и выгоды, которые они могут получить от простоватого добряка. Фома Фомич рассудил женить Егора Ильича на Татьяне Ивановне. Мать, конечно, поддерживает этот план и вместе с Фомой Фомичом старается выжить из дома бедную гувернантку детей Роста- нева,# которая любит Егора Ильича и любима им. Казалось бы, ничто уже не может спасти влюбленных: Фома Фомич — властелин в доме, все делается по его желаниям. Но, к счастью, один из гостей, живущих в доме, решил воспользоваться романтическими бреднями, заполняющими полупомешанную голову Татьяны Ивановны, и увезти ее тайно, чтобы обвенчаться и прибрать к рукам ее богатство.
Так в небольшой книге Достоевский успевает и высмеять романтическую литературу, еще имевшую успех в годы, когда он вернулся к литературной деятельности, и обратить внимание читателя на страшное зло эгоизма.
Казалось бы, все кончается благополучно: Фому Фомича изгоняют, Ростанев женится на своей возлюбленной. Но все не так просто. Изгнанный из дома в страшную грозу, Фома Фомич испугался и одумался. Тем временем Егор Ильич тоже успел испугаться за судьбу Фомы: а вдруг его убьет молния? И Фому Фомича возвращают. Достаточно хитрый, когда речь идет о его собственных интересах, Фома Фомич понимает: любовь Ростанева к нищей гувернантке сильней, чем страх перед маменькой и преданность самому Фоме Фомичу. Значит, нужно осчастливить молодых, сделаться их благодетелем и после этого уж до конца дней оставаться в этом доме.
Фома Фомич так и делает: соединяет руки влюбленных, благословляет их — в результате даже те, кто был против Фомы и осмеливался говорить об этом вслух, теперь признают, что он прекрасный человек, и подчиняются всем последующим капризам «благодетеля».
Повесть кончается словами: «Роман окончен. Любовники соединились, и гений добра безусловно воцарился в доме, в лице Фомы Фомича». Но дальше рассказчик описывает свадьбу «осчастливленных», во время которой Фому Фомича «носили на руках. Но как-то случилось, что его один раз обнесли шампанским. Немедленно произошла история, сопровождаемая упреками, воплями, криками... Свадебный, пир походил на похороны. И ровно семь лет такого сожительства с благодетелем, Фомой Фомичом, достались в удел моему бедному дяде и бедненькой Настеньке. До самой смерти своей (Фома Фомич умер в прошлом году) он киснул, куксился, ломался, сердился, бранился, но благоговение к нему «осчастив- ленных» не только не уменьшалось, но даже каждодневно возрастало, пропорционально его капризам».
В «Селе Степанчикове» уже возникли мысли, которые позже составят основу многих книг Достоевского, начиная с «Униженных и оскорбленных». Добрый и честный помещик Ростанев напоминает старика Ихменева своей готовностью помочь любому, кто нуждается в его помощи, и своей бескорыстной верой в благородство князя Валковского. Валков- ский нимало не напоминает Фому Фомича, но жизненный принцип у них один: эгоистическая власть над людьми. Невольно возникает вопрос: зачем же доброму и хорошему человеку быть добрым и хорошим, если ему от этого — одни неприятности, а выиграет человек эгоистический и плохой? Так, в «Селе Степанчикове» побеждает в конце концов Фома Фомич, а в другой повести того же периода — «Дядюшкин сон» побеждает первая дама уездного города Мордасова Марья Александровна, обеспокоенная в течение всей повести одной заботой: повыгоднее продать свою красавицу-дочь.
Зачем хорошему человеку быть хорошим? — этот вопрос будет вставать на страницах многих романов Достоевского. Да, в жизни легче тем, у кого нет ни чести, ни совести, — к такому горькому выводу придет Достоевский. И нельзя даже сказать, чтобы они испытывали угрызения совести, поскольку совесть их молчит. Но если уж человек научился различать добро и зло, это обязывает его служить добру, потому что иначе совесть его замучает. Как это происходит в жизни, мы увидим, вернувшись к страницам «Униженных и оскорбленных». Мы остановились на сцене встречи Наташи с Алешей, который не приезжал к ней пять дней, и бедная девушка, измученная беспокойством и ревностью, старалась сдержаться, не упрекнуть ни в чем Алешу, чтобы не огорчить его.
Век девятнадцатый, железный, Воистину жестокий век! Тобою в мрак ночной, беззвездный Беспечный брошен человек!
А. Блок
Глава IV
АЛЕША ВАЛКОВСКИЙ
1. «Вечное несовершеннолетие»
«...Он был как в исступлении. Я придвинул ей кресла. Она села. Ноги ее подкашивались».
Так — очень характерно для Достоевского — кончается первая часть романа «Униженные и оскорбленные». Характерно, во-первых, для этого романа. И, во- вторых, для всего вообще творчества писателя. «Униженные и оскорбленные» печатались в журнале «Время», издавали его братья Достоевские: Федор и Михаил. В журнальном варианте распределение глав по частям было не такое, какое мы видим сейчас: Достоевский многое изменил в романе, когда готовил его для отдельного издания. Но первая часть и в журнале кончалась, как теперь, в тот же напряженный момент, как говорится, — «на самом интересном месте». Что такое хотел сообщить, «объяснить» Алеша? Как изменится, как повернется теперь судьба героев? Все это читатель должен узнать из следующего номера журнала. Достоевский уже хорошо понял законы журналистского дела — важно было заинтересовать читателя, заставить его запастись терпением и ждать.
Вторая часть начинается словами: «Через минуту мы все смеялись как полуумные». Чему смеялись? Что дало повод для смеха? Алешина «приготовленная важность от наивной гордости владеть такими новостями». Какие же такие новости привез Алеша?
Прежде всего, он делает важное признание: «...я тебя все время обманывал, Наташа, все это время, давным-давно уж обманывал...»
Вот уж что, действительно, неожиданно. Мы столько слышали об Алешином прямодушии, о его естественной, искреннейшей правдивости... Обманывал? Так что же он такое, этот веселый мальчик с чистыми глазами? Неужели даже Иван Петрович ошибся в нем? Наташа сразу разрушает наше недоумение. Алеша-то убежден, что утаил от нее месяц назад полученное суровое письмо отца, где «он прямо и просто — и заметьте себе, таким серьезным тоном, что я даже испугался», — наивно признается Алеша, — приказывал сыну выбросить из головы «все эти» вздоры (то есть любовь к Наташе) и приготовиться жениться на ком укажут. Алеша-то убежден. Но Наташа весело восклицает: «Совсем не утаил... Все рассказал!»
Хорошо это или плохо, что он не умеет, не может ничего скрыть от любимой женщины? А может быть, и надо бы кое- что скрыть: например, свой страх перед отцом. И не только от нее — от себя самого надо скрывать свой страх, только так и можно превратиться в мужчину, перестать быть «вечным несовершеннолетним», вечным подростком. Но Алеша и не знает, что страх перед отцом возможно скрыть и преодолеть. Один раз он уже признался: «...я даже испугался». Теперь снова повторяет: «...такой тон, что я и руки опустил. Никогда отец со мной так не говорил. То есть скорее Лиссабон провалится, чем не сбудется по его желанию; вот какой тон!»
Алеше не стыдно признаваться в страхе перед отцом. Не стыдно обнаруживать свою слабость, хотя он понимает, что должен был проявить твердость. Но — не умеет. И не стыдится этого. Стыд — очень важное для человека чувство, стыд сделать плохое иногда имеет большую силу, чем желание сделать хорошее. Такое желание у Алеши есть: «Я приготовился ему отвечать твердо, ясно, серьезно, да все никак не удавалось». Другому было бы совестно признаться в этом даже самому себе. Алеша признается всем, он такой бесхитростный! И тем не менее в этом его рассказе начинает проглядывать не просто легкомыслие: бесхитростная, нерасчет- *7ивая низость.
Конечно, князю Валковскому ничего не стоило перехитрить наивного мальчика. Но — не только перехитрить. Отец просто-напросто купил сына. Он не убеждал его больше: «...напротив, показывал такой вид, как будто уж все дело решено... Со мной же стал такой ласковый, такой милый. Я просто удивлялся». Вместо того чтобы насторожиться, приготовиться противостоять хитроумной тактике отца, — Алеша удивлялся.
А отец не особенно церемонился с ним, и этого Алеша не понял или не хотел понять. «Ангел мой! — восклицает Алеша. — Кончилась теперь наша бедность! Вот, смотри! Все, что уменьшил мне в наказание за эти полгода, все вчера додал; смотрите, сколько...»
Отец рассчитал правильно: взяв деньги, сын не осмелится «против него пойти». Действительно, это было бы безнравственно. Но еще безнравственнее было взять эти деньги. Единственный правильный, мужской выход из положения давным- давно упущен: обвенчаться с Наташей «назавтра» после того, как увез ее из дому, найти возможность зарабатывать деньги самому, чтобы не зависеть от отца, а там уж предоставить дело времени: опомнится отец, увидев, что ничего уже поделать нельзя, «простит» сына и будет помогать ему деньгами — хорошо, не опомнится — обойдемся сами.
На такой выход Алеша не способен. Но сколько может, он пытается остаться честным. Пойти против отца теперь — невозможно: «...будь он зол со мной, а не такой добрый, я бы и не думал ни о чем. Я прямо бы сказал ему, что не хочу, что я уж и сам вырос и стал человеком и теперь — кончено!.. А тут — что я ему скажу?»
Но все-таки он чувствует, что не может, не должен подчиниться отцу, хотя и взял его деньги. Чувствует, что есть долг перед Наташей, — и пытается как-то совместить несовместимые вещи: «...я тотчас же сказал себе: это мой долг; я должен все, все высказать отцу, и стал говорить, и он меня выслушал».
Наконец-то решился! — думаем мы. Наверное, уж решившись, он и в самом деле высказал «все». Но Наташа спрашивает «с беспокойством: Да что же, что именно ты высказал?» — и тут мы узнаем, что беспокоилась она не напрасно:
«— А то, что я не хочу никакой другой невесты, а что у меня есть своя, — это ты. То есть я прямо этого еще до сих пор не высказал, но я его приготовил к этому, а завтра ска- жу, так уж я решил».
В этих словах — весь Алешин характер. Он все понимает правильно, знает, как нужно поступить, даже непременно собирается так поступить, но — не находит в себе сил совершить то, что нужно. Он ведь и венчаться тоже собирался завтра непременно, а полгода прошло — и ничего не сдвинулось с места.
Необходимые поступки он заменяет словами и этим успокаивает свою совесть. Главное же: он сам был упоен своей речью: «...я говорил горячо, увлекательно. Я сам себе удивлялся».
Один из самых страшных людских пороков — умение убедить самого себя, что поступки, даже если они некрасивые, неблагородные, а может быть, и подлые — это еще ничего, главное: знать про себя, что я — хороший человек, все понимаю правильно. Этим умением Алеша наделен вполне. Более того, он готов и поступки совершать — только не те прямые, необходимые, которых от него требуют долг и честь, а другие поступки — приблизительные, на самом-то деле, неверные, но кажущиеся честными.
Единственного возможного, решительного шага он не совершил. Не осмелился пока заявить отцу, что непременно женится на Наташе. Но чувствовать себя мужчиной так хотелось... И он решился идти по пути, подсказанному отцом: поехать к богатым и знатным покровителям, добиться их расположения, а потом уж, — потом употребить это расположение совсем не так, как хочет отец, — с помощью влиятельных лиц добиться разрешения на свадьбу с Наташей.
Конечно, при этом он не мог не чувствовать в глубине души, что никто из людей, окружающих отца в свете, не станет ему помогать. Но постарался забыть об этом, думать только о ближайшей цели, а там.— что еще будет...
Потому отцу и легко обвести Алешу вокруг пальца, что ему нужно только самооправдание: я же сделал то, что мог... Есть большая разница между понятиями: сделать, что можно, и сделать, что нужно. Алеша старается не видеть этой разницы, обмануть себя, считать себя спокойным и честным, поскольку сделал все, что мог.
Что же он сделал? Поехал с отцом к влиятельному графу, который «и отца принял ужасно небрежно: так небрежно, так небрежно, что я даже не понимаю, как он туда ездит. Бедный отец должен перед ним чуть не спину гнуть; я понимаю, что все это для меня, да мне-то ничего не нужно. Я было котел потом высказать отцу все мои чувства, да удержался. Да и зачем? Убеждений его я не переменю, а только его раздосадую; а ему и без того тяжело».
Оказывается, ему может быть стыдно. Ведь стыдно же за отца, унижающегося перед графом. Но и отца он сразу старается оправдать: «все это для меня...» И себя попутно оправдывает: ничего не сказал, потому что отцу «и без того тяжело».
Князь, как всегда, добился своего: нужный князю человек — полуживая княгиня — пленилась Алешей: «...целует и крестит, — требует, чтоб каждый день я приезжал ее развлекать», а «граф мне руку жмет, глаза у него масленые; а отец, хоть он и добрейший человек... а чуть не плакал от радости, когда мы вдвоем домой приехали; обнимал меня, в откровенности пустился, в какие-то таинственные откровенности, насчет карьеры, связей, денег, браков...»
Еще бы князю Валковскому не радоваться! Еще бы не обнимать сына и не пускаться в откровенности! Ведь он уже наполовину выиграл битву за сына, уже оторвал его от Наташи светскими развлечениями, уже опутал обязательствами по отношению к этим выжившим из ума, но таким важным для положения в свете старикам!
Но то, что Алеша расскажет дальше, будет только подтверждать победу отца: ведь князь успел за последние две недели сблизить сына с девушкой, которую прочит Алеше в невесты. Со всей бесхитростностью, на какую способен, Алеша рассказывает: «...я в эти две недели... очень сошелся с Катей, но до самого сегодняшнего вечера мы ни слова не говорили с ней о будущем, то есть о браке и... ну, о любви».
Последние слова совсем уж поразительны: как можно быть способным на такую жестокость, — ну, сватают человеку невесту, человек этот несамостоятельный, безвольный, он любит другую женщину и связан с ней не только словом, честью своей связан, — рассказывать любимой женщине все, не думая о том, как ранит ее: о предполагаемом браке, это куда бы ни шло; но — о любви! Стало быть, он уже может говорить с невестой о любви! Стало быть, возникла уже и любовь?
Бывает так, чтобы, любя одну женщину, полюбить одновременно другую? Все может быть в человеческой жизни, но ведь облик-то человеческий терять нельзя! Как бы ни сложилось, одного нельзя: терзать, ранить попусту другого человека. Алеша не понимает, что он ранит Наташу. Ему главное: рассказать о своих делах и успехах. Впрочем, что-то он понимает: не случайно запнулся перед тем, как сказать эти слова: «...ну, о любви».
Запнулся, но сказал. Потому что самое главное — не Наташа, которая, конечно, все поймет и простит, а то, как это все интересно сложилось у него: раньше он Катю «не мог понимать, а потому и ничего не разглядел тогда в ней...»
«— Просто ты тогда любил меня больше, — прервала Наташа, — оттого и не разглядел, а теперь...»
Не сдержалась. При всем своем терпении не выдержала муки, причиняемой любимым человеком, выказала всю свою боль. Алеша совершенно ничего не заметил, он другим переполнен, он занят только собой, своими новыми чувствами и впечатлениями: «...ты совершенно 'ошибаешься и меня оскорбляешь»,— так он отбрасывает Наташины слова и скорей, скорей дальше — рассказать о том, что егосегодняволнует: «Ох, если б ты знала Катю! Если б ты знала, что это за нежная, ясная, голубиная душа! Но ты узнаешь; только дослушай меня до конца!..» Он знает, что сказать, что бы понравилось Наташе: Катя — «яркое исключение из всего круга».
Кажется, он уже поражен во всем; кажется, князь преуспел в своем намерении перехитрить сына: Алеша и в свете блистает, и невестой увлечен, ему теперь только и остается, что бросить Наташу и жениться на той, кого предназначил ему отец.
Как бы ни был Алеша наивен и ребячлив, у него остается добрая и честная душа, вот он и поступает совершенно неожиданно — и для нас, и даже для князя. Целый час он рассказывал всякую чепуху, но наконец добрался до главного своего поступка, и трудно теперь отказать ему в решительности: он, действительно, совершил поступок: «...я решился исполнить мое намерение и сегодня вечером исполнил его». Впервые в рассказах Алеши возникают глаголы в совершенном виде: решился, исполнил. Не собирался, намеревался, думал, мечтал, а сделал. «Это: рассказать все Кате, признаться ей во всем, склонить ее на нашу сторону и тогда разом покончить дело...» Вот сколько сразу глаголов в совершенном виде: что сделать? — рассказать, признаться, склонить и покончить...
Наташа страшно обеспокоена Алешиными словами: сама себе в этом не признаваясь, она не верит, что Алеша способен на решительный поступок, на совершенное действие. Но он «собрался с духом — и кончил!., положил воротиться... с решением и воротился с решением!»
Алеша убежден, что довел дело до конца. И в самом деле, он хорошо придумал и выполнил свое решение. Он только не знает, бедный мальчик, где живет и с кем имеет дело. Между прочим, в манере своей обычной болтовни, он сообщает: отец как раз перед тем, как везти сына к невесте, получил какое-то письмо. «Он до того был поражен этим письмом, что говорил сам с собою, восклицал что-то, вне себя ходил по комнате и наконец вдруг захохотал...»
Алеша не задумывается, что это за письмо, да и задумался бы — не понял; Наташа и Иван Петрович тоже не понимают, и тем более мы, читатели, не можем себе представить, какое это письмо так взволновало князя Валковского, поймем мы это не скоро, к концу романа. Но уже сейчас Иван Петрович, единственный из участников этой сцены, — обратил внимание на странное упоминание о письме, и снова вспомнит о нем, и нас заставит вспомнить: было какое-то письмо, поразившее князя. Алеша тем временем с упоением рассказывает, как он сообщил Кате все — «и представь себе, она совершенно ничего не знала из нашей истории, про нас с тобой, Наташа! Если б ты могла видеть, как она была тронута; сначала даже испугалась. Побледнела вся». Алеша все хорошо рассчитал: действительно, честная и не знающая жизни девочка могла, узнав всю правду, помочь ему. Но он другого не замечает: именно добрая, искренняя реакция Кати на его рассказ привлекла его к Кате с такой силой, о какой мог только мечтать князь Валковский. Вот и сейчас, рассказывая обо всем Наташе, он не переставая восхищается Катей: «Какие у ней глаза были в ту минуту! Кажется, вся душа ее перешла в ее взгляд. У ней совсем голубые глаза».
Алеша и другое увидел: «...она ведь тоже любит меня». Этот безответственный мальчик уже чувствует себя в ответе и перед Катей: он за одну-то женщину не может отвечать, долг перед одной не может выполнить, а теперь ему надо решать судьбу двух, выбирать, какую из них сделать счастливой... Он, конечно, не в состоянии сделать этот выбор: «...я бы свел вас обеих вместе, а сам бы стоял возле да любовался на вас».
Иван Петрович давно предвидел такой поворот Алешиных мыслей, когда говорил, что Алеша хотел бы и на той жениться, и эту любить — все вместе. Он как будто и не понимает, что так нельзя, невозможно. Он только одного хочет: чтобы всем было хорошо, все было спокойно, а главное, ему-то можно было бы считать себя честным человеком.
Одну вещь, однако, он говорит очень важную: Катя, оказывается, тоже не любит князя Валковского. Алеша защищал отца, но Катя ему не поверила. Она «говорит, что он хитрый и ищет денег». Выходит, действительно, Катя не только добрая, но честная и умная девушка. Алеша недаром в восторге от нее.
Что же должна понять из всей этой исповеди Наташа? Тем более, что Алеша и о том проболтался, что постоянно сравнивает обеих, иногда одна выходит лучше, иногда другая, но Катю ему тоже жалко, и лучше было бы, если «мы будем все трое любить друг друга...».
Как мог возникнуть этот безумный идеал: «все трое»? А очень просто. Алеша хотел, чтобы ему было легко жить. Единственное разрешение мучительного узла, в который он попал: ничего не разрешать, как-нибудь, не думая, всех свести вместе, чтобы ему-то было хорошо, а что обе женщины будут страдать — этого он не понимает.
«— А тогда и прощай! — проговорила тихо Наташа как будто про себя. Алеша с недоумением посмотрел на нее».
Нет, он ничего не может понять. Разговор зашел в тупик. Если бы он мог продолжиться, то, верно, кончился бы разрывом влюбленных. Но продолжиться он не мог: Достоевский еще и еще усложняет ситуацию, потому что в жизни нет конца сложностям: так и здесь. В эту самую минуту в Ната- шину квартиру внезапно, в двенадцатом часу ночи, является князь Валковский «своею собственной персоной». Никто из присутствующих не может ждать от него добра: «Наташа побледнела», Алеша смущен, но пытается вести себя как мужчина: «Наташа, не бойся, ты со мной!» — говорит он.
Слова — прекрасные. Но мы уже не верим Алеше — знаем: не умеет он выполнять то, что обещал. Неспокойно за Наташу — с чем явился князь? Почему так неожиданно, в поздний час? Не придумал ли какой-нибудь зловредной хитрости?
2. Отец и сын
Петр Александрович Валковский «окинул нас быстрым внимательным' взглядом. По этому взгляду еще никак нельзя было угадать, явился он врагом или другом. Но опишу подробно его наружность. В этот вечер он особенно поразил меня».
Так Иван Петрович вводит князя в свое повествование. Так Достоевский впервые показывает нам не поступки князя Валковского, а его самого. «Быстрый внимательный взгляд», «нельзя было угадать» — ул^е этих немногих слов довольно, чтобы мы увидели в князе то, о чем и раньше догадывались: наблюдательность и хитрость. Он увидел то, что хотел. В нем никто ничего не увидел, даже того, «явился он врагом или другом». Ничего нельзя было угадать по первому взгляду.
Достоевский опишет внешность князя подробно, и на этом описании нам имеет смысл остановиться. «Униженные и оскорбленные» были написаны в 1860 году — к этому времени русская литература была уже очень богата искусством описывать внешность человека так, чтобы в портрете угадывались и внутренние черты. Мы помним Печорина с его глазами, которые «не смеялись, когда он смеялся». Помним героев Гоголя, чье душевное уродство всегда подчеркивается их наружностью, а наружность эта непременно описана с почти невероятными преувеличениями: «У Ивана Ивановича большие выразительные глаза табашного цвета, и рот несколько похож на букву ижицу; у Ивана Никифоровича глаза маленькие, желтоватые, совершенно пропадающие между густых бровей и пухлых щек, и нос в виде спелой сливы» (курсив Гоголя). Гоголь описывает своих героев коротко, но так ярко, что их внешность запомнишь сразу и никак уж не спутаешь, к примеру, Ноздрева ни с кем другим: «Это был среднего роста очень недурно сложенный молодец с полными румяными щеками, с белыми как снег зубами и черными как смоль бакенбардами. Свеж он был, как кровь с молоком; здоровье, казалось, так и прыскало с лица его».
Гоголь хотел, чтобы мы увидели Ноздрева, запомнили так же, как Собакевича, похожего «на средней величины медведя», а вот Чичикову он не хотел дать никакой индивидуальной наружности и добился этого: Чичиков «не красавец, но и не дурной наружности, ни слишком толст, ни слишком тонок; нельзя сказать, чтобы стар, однако ж и не так, чтобы слишком молод». Чичиков навсегда останется в нашем сознании «никаким», мы запомним его фрак «брусничного цвета с искрою», его флюс, бричку, картуз; но ничего о его лице, глазах, улыбке — Чичиков будет для нас человеком без лица.
К I860 году русская литература знала уже подробные портреты у Гончарова, у Тургенева, и Лев Толстой уже описал старого доброго учителя Карла Ивановича так, что мы видим его: «...в пестром ваточном халате, подпоясанном поя-» сом из той же материи, в красной вязаной ермолке с кисточкой и в мягких козловых сапогах...» — «очки спускались ниже на большом орлином носу, голубые полузакрытые глаза смотрели с каким-то особенным выражением, а губы грустно ульь бались». Этот некрасивый старик остается для нас воплощением доброты — и сама его некрасивость вызывает в нас жалость и сочувствие.
Портрет у Достоевского будет играть огромную роль во всех его следующих книгах. Портрет этот всегда очень (иногда кажется — слишком) подробен, в нем непременно уже заключено авторское отношение к герою.
Итак, вот портрет князя Валковского: «Это был человек лет сорока пяти, не больше, с правильными и чрезвычайно красивыми чертами лица, которого выражение изменялось судя по обстоятельствам; но изменялось резко, вполне, с необыкновенною быстротою, переходя от самого приятного до самого угрюмого или недовольного, как будто внезапно была передернута какая-то пружинка. Правильный овал лица несколько смуглого, превосходные зубы, маленькие и довольно тонкие губы, красиво обрисованные, прямой, несколько продолговатый нос, высокий лоб, на котором еще не видно было ни малейшей морщинки, серые, довольно большие глаза — все это составляло почти красавца, а между тем лицо его не производило приятного впечатления».
Видите вы этого человека? Нет. Достоевский и не добивается того, чтоб вы увидели. Ведь он почти не описывает внешность князя: несколько раз подчеркивает красивые черты лица, правильный овал, превосходные зубы, красиво обрисованные губы — ведь все это невозможно себе представить. Всего несколько точных примет: серые глаза, тонкие губы, продолговатый нос — но лица из этих примет не складывается. Достоевский другого добивается: создать впечатление от человека. Чтоб мы не увидели, а почувствовали все эти быстрые изменения лица, «как будто внезапно была передернута какая-то пружинка»: само слово «передернута» вызывает неприязнь к князю, а уже «пружинка» — будто речь идет о машине! Достоевский описывает «почти красавца», а нам он все больше не нравится. Это создается и корявым, некрасивым языком, которым автор сознательно пользуется, описывая князя, и прямым признанием: «лицо его не производило приятного впечатления».
Портрет еще не кончен, дальше автор, совсем уже не скрываясь, выкажет свое отвращение к герою: «Это лицо именно отвращало от себя тем, что выражение его было как будто не свое, а всегда напускное, обдуманное, заимствованное, и какое-то слепое убеждение зарождалось в вас, что вы никогда и не добьетесь до настоящего его выражения. Вглядываясь пристальнее, вы начинали подозревать под всегдашней маской что-то злое, хитрое и в высочайшей степени эгоистическое».
В этих строчках — вообще ни одного слова о внешности князя Валковского, а все — о том впечатлении, какое он производил. Причем Иван Петрович (а точнее, Достоевский за него) пишет не о своем впечатлении, он как будто уверен, что и каждый, взглянувший на князя, почувствует то же, что и он сам; читатель привлекается как союзник, как человек, чувствующий одинаково с рассказчиком: «в вас», «вы», «вы начинали подозревать» — и, действительно, читателю начинает казаться, что это он сам смотрит на князя и делает выводы.
И дальше сохраняется это «вы», обращенное к читателю, уже, несомненно, разделяющему впечатления рассказчика: «Особенно останавливали ваше внимание его прекрасные с виду глаза, серые, открытые. Они одни как будто не могли подчиняться его воле. Он бы и хотел смотреть мягко и ласково, но лучи его взглядов как будто раздваивались и между мягкими, ласковыми лучами мелькали жесткие, недоверчивые, пытливые, злые...»
В конце этого длинного портрета вдруг возникают вполне конкретные черты внешности: «Он был довольно высокого роста, сложен изящно, несколько худощаво и казался несравненно моложе своих лет. Темно-русые мягкие велосы его почти еще и не начинали седеть. Уши, руки, оконечности ног его были удивительно хороши. Это была вполне породистая красивость. Одет он был с утонченною изящностию и свежестию, но с некоторыми замашками молодого человека, что, впрочем, к нему шло. Он казался старшим братом Алеши. По крайней мере его никак нельзя было принять за отца такого взрослого сына».
Внешние черты князя описаны настолько формально, что теряются рядом с наблюдениями, сделанными рассказчиком. Мы запоминаем из этого портрета выражение лица, резко менявшееся, всегда напускное, обдуманное; запоминаем маску, под которой скрыто «что-то злое, хитрое и в высочайшей степени эгоистическое», взгляды то ласковые, то «жесткие, недоверчивые, пытливые, злые...»
Когда же мы читаем о действительно внешних чертах князя, то бросается в глаза многократно подчеркнутое слово «красивый»: овал лица — правильный, губы — красиво обрисованные, весь облик — «почти красавца», глаза — «прекрасные с виду», уши, руки, ноги — «удивительно хороши» и, наконец: «...это была вполне породистая красивость».
Оказывается, красивость может быть неприятной, враждебной. Может быть, именно поэтому Достоевский не употребляет слова «красота»: ведь есть огромная разница между красотой и красивостью. В слове «красивость» заключено что-то неестественное, фальшивое.
Портрет князя занимает почти целую страницу и оставляет впечатление фальши, неестественности во всем. То же впечатление создается от первых же его слов: «Он подошел прямо к Наташе и сказал ей, твердо смотря на нее:
— Мой приход к вам в такой час и без доклада — странен и вне принятых правил; но я надеюсь, вы поверите, что, по крайней мере, я в состоянии сознать всю эксцентричность моего поступка. Я знаю тоже, с кем имею дело; знаю, что вы проницательны и великодушны. Подарите мне только десять минут, и я надеюсь, вы сами меня поймете и оправдаете.
Он выговорил все это вежливо, но с силой и с какой-то настойчивостью».
С первых же слов князя поражает его манера говорить. Мы слышали речь старика Ихменева, Ивана Петровича, Алеши, Наташи — все они говорили по-своему, иногда в минуты волнения, горечи, обиды, — но каждый из них говорил естественно, речь их не вызывала удивления. Вспомним, например, как говорил Николай Сергеич Ихменев: «Ну, брат Ваня, хорошо, хорошо! Утешил! Так утешил, что я даже не ожидал. Не высокое, не великое, это видно... Но, знаешь ли, Ваня, у тебя оно как-то проще, понятнее. Вот именно за то и люблю, что понятнее!.. Знаешь, Ваня?., это хоть не служба, зато все- iaicu карьера. Прочтут и высокие лица...»
Старик многого не понимает, но говорит искренне, ничего из себя не изображая, и весь он — в этой сбивчивой речи, в постоянном: «знаешь, Ваня», в заботе о карьере, об успехе, как он его представляет себе.
А вот как разговаривает его жена Анна Андреевна, взволнованная, измученная тревогой за дочь, испуганная своим стариком: «А я так и обмерла, как он вышел. Больной ведь он, в такую погоду, на ночь глядя; ну думаю, за чем-нибудь важным; а чему ж и быть-то важнее известного вам дела? Думаю это про себя, а спросить-то и не смею. Ведь я теперь его ни о чем не смею расспрашивать. Господи боже, ведь я так и обомлела и за него и за нее...»
Добрая старушка вся как на ладони в этих немногих словах — и материнская боль, и страх перед мужем, и вечное беспокойство за него, и ни мысли о себе.
Наташа говорит не так, как ее отец и мать: она образованнее стариков и умнее их, она понимает то, чего они оба понять не могут: «...отеческая любовь тоже ревнива. Ему обидно, что без него все это началось и разрешилось с Алешей, а он не знал, проглядел... Положим, он встретил бы меня теперь, как отец, горячо и ласково, но семя вражды останется. На второй, на третий день начнутся огорчения, недоумения, попреки... Он потребует от меня невозможного вознаграждения: он потребует, чтоб я прокляла мое прошлое, прокляла Алешу и раскаялась в моей любви к нему...»
Как ни тяжело, как ни мучительно Наташе думать об отце и его страданиях, его оскорблении, она додумывает все до конца, не скрывает ничего ни от себя, ни от своего друга Ивана Петровича, — что думает, то и говорит. С ее рассуждениями трудно спорить: они выстраданы, логичны — Ивану Петровичу нечего возражать, как бы ни был он настроен против Алеши.
Да и Алеша говорит, хотя быстро, сбивчиво, перескакивая от одной мысли к другой, но совсем не так, как его отец. Алеша всегда искренен, выкладывает любую свою мысль: «А наконец (почему же не сказать откровенно!) вот что,
Наташа, да и вы тоже, Иван Петрович, я, может быть, действительно иногда очень нерассудителен; ну да положим даже (ведь иногда и это бывало) просто глуп. Но тут, уверяю вас, я выказал много хитрости... ну... и, наконец, даже ума...»
Князь Валковский говорит так гладко, будто читает по книге. Из его слов, так же как из его внешности, ничего нельзя узнать о нем как о человеке: друг он или враг, добрый или злой, что, наконец, думает. Гладкие слова — и только. Слишком гладкие слова: «в такой час и без доклада», «вне принятых правил», «надеюсь, вы поверите», «эксцентричность моего поступка» — за всем этим совершенно исчезает человек.
Между тем, если внимательно вчитаться в его длинную гладкую речь, можно, пожалуй, понять, что заставило князя и приехать «в такой час», и решиться на «эксцентричность поступка». Ведь он не присутствовал при объяснении Алеши с Катей и не знал о нем. Разумеется, его поразило то, что Алеша «уехал, не дождавшись меня и даже не простясь с нами». Князь воспринял этот отъезд, как бунт, — да это и был бунт! Но вдобавок, рассказывает князь, «Катерина Федоровна вдруг вошла к нам сама, расстроенная и в сильном волнении. Она сказала нам прямо, что не может быть твоей женой. Она сказала еще, что пойдет в монастырь, что ты просил 'ее помощи и сам признался ей, что любишь Наталью Николаевну... Такое невероятное признание от Катерины Федоровны и, наконец, в такую минуту, разумеется, было вызвано чрезвычайной странностию твоего объяснения с нею. Она была почти вне себя. Ты понимаешь, как я был поражен и испуган...»
Князь говорит все так же гладко, ровно — и все-таки мы видим: он, кажется, в самом деле поражен и испуган. Да неужели он говорит искренне? Эта мысль приходит в голову Ивану Петровичу, Наташе тоже — поэтому, отвечая князю обычными вежливыми словами, она говорит, «запинаясь», — видимо, и у нее мелькнула надежда на искренность князя.
Вот к чему сводится его длинная речь: признает, что был виноват перед Наташей: «Я мнителен и сознаюсь в том. Я склонен подозревать дурное прежде хорошего — черта несчастная, свойственная сухому сердцу». Более того, он с самого начала признает свою вину перед Наташиным отцом: «...йгожет быть, я более виноват перед ним, чем сколько полагал до сих пор...»
Как может Наташа не поверить этому признанию, когда оно так важно для нее, когда оно сулит ей примирение с отцом, — ведь если князь виноват, то он и отцу скажет об этом, оправдает отца.
Между тем он продолжает говорить как будто совершенно искренне: признает, что был против брака Алеши с Наташей, хотя уже и понял, что она не только не интриганка, но сама никогда бы не согласилась выйти замуж за Алешу без согласия его отца; понял, что она хорошо влияет на его сына. «Оправдывать себя не стану, но причин моих от вас не скрою. Вот они: вы не знатны и не богаты. Я хоть и имею состояние, по нам надо больше. Наша фамилия в упадке. Нам нужно связей и денег».
Трудно не поверить, когда человек так прямо и открыто говорит правду, — все присутствующие хорошо знают, что все это правда. Князь даже говорит о сыне — хотя и вскользь, будто между прочим, что «никогда бы не простил ему брака» с Наташей, — но это все уже в прошлом: так получается из слов князя. Наконец, он прямо признает, что «наводил сына, из корысти и из предрассудков, на дурной поступок; потому что бросить великодушную девушку, пожертвовавшую ему всем и перед которой он виноват, — это дурной поступок. Но не оправдываю себя».
Более того, князь так же откровенно объясняет, почему он хотел, чтобы сын женился на Катерине Федоровне: девушка не только «очень богата», но и «в высшей степени достойна любви и уважения. Она хороша собой, прекрасно воспитана, с превосходным характером и очень умна...»
Мы уже знаем: к сожалению, все это — правда. Да, к сожалению, — ведь если бы невеста, навязанная отцом, была Алеше неприятна, он все-таки нашел бы в себе силы отказаться от нее. Ну, зачем же было бы ему отказываться от Наташи ради неприятной ему женщины? Ведь он ребенок, эгоистический ребенок, который не отдаст любимую игрушку, если ему будут навязывать другую, неинтересную. Но если новая игрушка не хуже прежней, тогда хочется сохранить обе.
Князь, кажется, и в самом деле побежден любовью сына?! И, кажется, он, действительно, понял благородный характер Наташи, сообразил даже, что Наташа «ни словом, ни советом» не участвовала в Алешином решении открыть всю правду Кате, искать поддержки у нее. Убедительно звучит и признание князя, что Алеша своим неожиданным, решительным объяснением с Катей разрушил сватовство, которое теперь «восстановиться не может», так что получается — вроде и нет другого выхода, как разрешить ему жениться на Наташе. И опять князь повторяет правду — мы знаем, что это чистая правда: «...я очень люблю карьеры, деньги, знатность, даже чины...» Когда человек говорит так правдиво, невозможно не поверить и следующему его признанию: он, оказывается, учел «и другие соображения», которые заставили его понять, «что Алеша не должен разлучаться с вами, потому что без вас он погибнет».
Что должна почувствовать Наташа, услышав эти слова? Как может она не поверить человеку, произносящему со старомодной (и для того времени — старомодной) торжественностью: «Я пришел, чтоб исполнить мой долг перед вами и — торжественно, со всем беспредельным моим к вам уважением, прошу вас осчастливить моего сына и отдать ему вашу руку». Могла ли Наташа, отвергнутая всем миром, опозорившая себя, — так понимали ее уход из дома решительно все, даже родной отец, — Наташа, пожертвовавшая ради своей любви родителями, любящим ее Иваном Петровичем, своим добрым именем, отчаявшаяся, ни на что уже не надеявшаяся, — могла ли она не поверить такому внезапному счастью, такому чуду справедливости: враг ее огца, унизивший и оскорбивший старика, является к ней, признавая свою вину и перед ней, и перед стариком, самым официальным образом и при свидетеле предлагает ей выйти замуж за его сына, да еще просит позволения стать ее другом — «заслужить право» стать ее другом!
«Почтительно наклонясь перед Наташей, он ждал ее ответа... Последние слова он проговорил так одушевленно, с та- ким чувством, с таким видом самого искреннего уважения к Наташе, что победил нас всех», — рассказывает Иван Петрович. Конечно, все поверили князю.
Но здесь же, сразу Иван Петрович рассказывает, что он «пристально наблюдал» князя во время его длинной речи. Потом, позже он сообразил многое: речь была произнесена «холодно... а в иных местах даже с некоторою небрежностью. Тон всей его речи даже иногда не соответствовал порыву, привлекшему его к нам в такой неурочный час... Некоторые выражения его были приметно выделаны...»
Интересно, что, изложив речь князя, Иван Петрович сначала рассказывает о своих сомнениях в искренности князя, возникших у него позже, может быть через несколько дней, а уже потом — о впечатлении, произведенном словами князя на всех, кого он «победил». Поэтому сердце читателя сжимается: мы-то уже не верим, нам уже страшно за поверивших князю героев книги. «Благородное сердце Наташи было побеждено совершенно... Алеша был вне себя от восторга.
— Что я говорил тебе, Наташа! — вскричал он. — Ты не верила мне! Ты не верила, что это благороднейший человек в мире! Видишь, видишь сама!..»
Алеша, Наташа и даже Иван Петрович — все готовы броситься князю на шею. Разумеется, только Алеша осмелился сделать это на самом деле. Но князь «поспешил сократить чувствительную сцену», он торопился.
И вот здесь — в разгар восторга, охватившего всех слушателей князя, — снова возникает странная, тревожная нота. Князь, продолжая восхищаться Наташей и рассказывать о своем желании «свидеться» с ней «как можно скорее», сообщает: «Можете ли вы представить, как я несчастлив! Ведь завтра я не могу быть у вас, ни завтра, ни послезавтра. Сегодня вечером я получил письмо, до того для меня важное (требующее немедленного моего участия в одном деле), что никаким образом я не могу избежать его. Завтра утром я уезжаю из Петербурга».
Опять это письмо! О нем уже упоминал Алеша и говорил тогда, что отец «был поражен этим письмом», «был так рад чему-то, так рад...» Мало ли какие могут быть дела у князя, мало ли что могло его обрадовать. Но упоминание о письме тревожило и в рассказе Алеши, а теперь, когда о нем говорит сам князь, — особенно беспокоит. Не верится, что князь обрадовался доброму известию. Уж не связано ли это письмо с его неожиданной добротой к сыну? Не таится ли за внезапным благородством князя его обычное коварство?
Обо всем этом думаем мы — читатели. Иван Петрович еще не мог успеть задуматься, однако когда князь обратился к нему, Иван Петрович отвечает вежливо, но холодно. А князю, видно, очень зачем-то нужно покорить Ивана Петровича. Вот как он его обольщает: «не могу уйти, чтоб не пожать вашу руку», «не могу выйти отсюда, не выразив, как мне приятно было возобновить с вами знакомство», «я давно знаю, что вы настоящий, искренний друг Натальи Николаевны и моего сына. Я надеюсь быть между вами троими четвертым», «я встречал много поклонников вашего таланта», «мне вы дадите ваш адрес! Где вы живете? Я буду иметь удовольствие...»
На все это Иван Петрович отвечает очень сдержанно: «Мы с вами встречались, это правда, но, виноват, не помню, чтоб мы с вами знакомились», «мне очень лестно, хотя теперь я имею мало знакомств», «я не принимаю у себя, князь, по крайней мере в настоящее время...»
Наташа в восторге, что «князь не забыл подойти» к ее другу. Но Иван Петрович — то ли он что-то предчувствует, то ли просто не может еще до конца поверить князю. Во всяком случае, его подозрения очень быстро охватывают и нас. Князь настаивает — Иван Петрович дает свой адрес: «Я живу в — переулке, в доме Клугена.
В доме Клугена! — вскричал он, как будто чем-то пораженный. — Как! Вы... давно там живете?
Нет, недавно, — отвечал я, невольно в него всматриваясь. — Моя квартира сорок четвертый номер.
В сорок четвертом? Вы живете... один?»
Эти вопросы князя, его удивление странны, подозрительны для нас. Кажется, больше всего поражает его номер квартиры, где живет Иван Петрович. Что он знает об этой квартире? Почему спрашивает, давно ли Иван Петрович живет в доме Клугена? Бывал ли он там? Ведь в сорок четвертой квартире до недавнего времени жил Смит. Что могло быть общего между князем Валковским и одиноким нищим стариком? Или мы ошибаемся, он вовсе не о том спрашивает? Мы остаемся в недоумении, а князь и сам подтверждает: «Я потому... что, кажется, знаю этот дом. Тем лучше... Я непременно буду у вас, непременно! Мне о многом нужно переговорить с вами, и я многого ожидаю от вас...»
Совсем уж непонятно: почему — «тем лучше»? И что — лучше: что он знает дом или что Иван Петрович там живет? О чем ему говорить с Иваном Петровичем, что у них общего? И чего он может ждать от писателя? Какие у них могут быть дела?
Ничего не объяснив и оставив всех в недоумении, князь уходит, «не пригласив Алешу следовать за собой». Наташа, Иван Петрович и Алеша «остались в большом смущении». Они-то не обратили внимания на разговор об адресе Ивана Петровича, не до того им было, их другое волновало: «чувствовали, что в один миг все изменилось и начинается что-то новое, неведомое».
Что же начинается? Наташа первая, сама о том не подозревая, принимается осуществлять тайный замысел князя:
«— Голубчик Алеша, поезжай завтра же к Катерине Федоровне, — проговорила наконец она.
Я сам это думал, — отвечал он, — непременно поеду».
Почему плохому человеку легко рассчитать душевные движения и поступки хорошего человека? Потому что хороший человек исходит из благородных, честных и добрых мыслей: их нетрудно предвидеть, заранее понять. После всего что произошло, Наташа должна испытывать два чувства к Катерине Федоровне: благодарность за помощь и бесконечную жалость. Катя уже не враг, не соперница, она — страдающая женщина, благородно отказавшаяся от жениха, которого уже начинала любить. Наташе должно быть жалко Катю, оказавшуюся в том положении, в каком только что была сама Наташа: она ведь тоже заставляла себя решиться, хотела из чувства долга отказаться от Алеши — чтобы ему было лучше. Она собиралась, а Катя сделала это, как же теперь Наташе не понять, не пожалеть Катю? Тем более, что она-то знает Алешу: он и «сам это думал», ведь теперь уж можно ездить к Кате — свадьба не угрожает, почему же нельзя просто поговорить с ней, наконец, утешить ее?
Князь, во-первых, освободил Алешу от угрызений совести: никакой вины перед Наташей больше нет, наоборот, он искупил все свои грехи, он официальный жених ее. Вина теперь осталась перед Катей, которая пожертвовала своим счастьем ради Алешиного: теперь ее надо жалеть и утешать.
Во-вторых, князь вернул себе Алешино восхищение, обожание. Ведь сын уже начинал осуждать отца, осуждение это подогревали и поддерживали обе женщины — и Наташа, и Катя; теперь Наташа, по крайней мере, не сможет ничего сказать против князя, а сын его будет любой поступок отца рассматривать как следствие благородства его души. Так и происходит. Алеша говорит об отце:
«— И какой он деликатный. Видел, какая у тебя бедная квартира, и ни слова...
О чем?
Ну... чтоб переехать на другую... или что-нибудь, — прибавил он, закрасневшись.
Полно, Алеша, с какой же бы стати!
То-то я и говорю, что он такой деликатный...»
Наташе не до того, чтобы подозревать в чем бы то пи было князя. Она была бы совсем счастлива, если бы не мысль об отце: как он-то примет случившееся? «Что, неужели ж он в самом деле проклянет меня за этот брак?» Но естественная логика мысли хорошего человека диктует: если князь так честен и благороден по отношению к Наташе, если он признал вину перед ней и говорил ведь о вине перед ее отцом, тогда он должен и со стариком помириться! Так и торопится ответить на вопрос Наташи Иван Петрович: «Все должен уладить князь...» И все-таки Иван Петрович чувствует: Наташа неспокойна. Ему хочется утешить ее, внести покой в ее душу, хотя сам он вовсе не спокоен. Пусть ненадолго, но она будет счастлива. Поэтому Иван Петрович говорит:
«— Не беспокойся, Наташа, все уладится. На то идет.
Она пристально поглядела на меня.
Ваня! Что ты думаешь о князе?
Если он говорил искренно, то, по-моему, он человек вполне благородный.
Если он говорил искренно? Что это значит? Да разве он мог говорить неискренно?» — так восклицает Наташа в ответ на сомнение Ивана Петровича. Да, он хотел утешить ее и нашел слова для утешения, но на прямой вопрос не мог, не хотел солгать. Да, есть такое сомнение: «если он говорил искренно...»
Почему хорошему человеку так трудно постичь логику побуждений и поступков плохого человека? Потому что никогда не известно, какими побуждениями эти поступки диктуются. По логике Наташи — «да разве он мог говорить неискренно?» Иван Петрович отвечает: «И мне тоже кажется...» — но думает он при этом: «Стало быть, у ней мелькнула какая-то мысль... Странно!»
Что же странного, если у нее мелькнула какая-то мысль? А то странно, что такая же мысль мелькнула и у него. Оба еще не смеют даже друг другу (Алеша уже убежал к отцу, счастливый и ни в чем не сомневающийся), — не смеют признаться, что это за мысль. Иван Петрович говорит только, что князь ему показался «немного странен», а Наташа — по логике хороших людей — торопится обвинить в своих сомнениях прежде всего себя: «А какая, однако ж, я дурная, мнительная и какая тщеславная! Не смейся; я ведь перед тобой ничего не скрываю».
Чем же она «дурная, мнительная и тщеславная»? Только тем, что в глубине души не верит князю, не может ему верить и боится в этом признаться даже самой себе. И все-таки признание прорывается, хотя и не в прямых словах: «Ах, Ваня, друг ты мой дорогой! Вот если я буду опять несчастна, если опять горе придет, ведь уж ты, верно, будешь здесь подле меня; один, может быть, и будешь!»
Странные мысли для девушки, которой сегодня вечером так торжественно сделали предложение. Но мы не можем осудить ее за эти мысли, — мы и сами не уверены в искренности князя. После этих слов Наташи, после ее неожиданного и горького восклицания: «Не проклинай меня никогда, Ваня!» — Иван Петрович ничего не говорит. Как он простился с Наташей, как шел домой, — мы не знаем. Только знаем, что в комнате его — бывшей комнате Смита — «было сыро и темно, как в погребе». Может быть, Иван Петрович так горько настроен, потому что Наташа уж точно теперь выходит замуж, он теряет ее? Вряд ли — ведь он давным-давно, в тот вечер, когда Наташа ушла из дому, понял, что кончилось его счастье. Теперь он не думает о себе, не за себя страдает. «Много разных мыслей и ощущений бродило во мне, и я еще долго не мог заснуть», — признается Иван Петрович, не сообщая, однако, о чем он думал, что чувствовал. И надеялся, вероятно, и хотел верить, что все уладится», и не мог верить, потому что пристально разглядывал князя и почувствовал в нем фальшь... Так это было в тот вечер.
Но кончается глава ощущением не того вечера, а гораздо более поздним. Ведь пишет Иван Петрович почти ч-ерез год после событий, когда он уже не предчувствует, а знает. Все время Иван Петрович старался не забегать вперед, не торопить событий, не подсказывать читателю, говорить ему только о том, что он сам уже тогда чувствовал или подозревал. Но концовка главы о предложении, сделанном князем Валковским, написана как исключение из принятой рассказчиком манеры повествования. Это голос человека, уже не сомневающегося: «Но как, должно быть, смеялся в эту минуту один человек, засыпая в комфортной своей постели, — если, впрочем, он еще удостоил усмехнуться над нами! Должно быть, не удостоил!»
Так мы, несомненно, узнаем, что все странное поведение князя Валковского было ложью. Но зачем ему эта ложь?
Отступление пятое
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ»
Зачем князю эта ложь? — такой вопрос мы задаем себе. Чтобы ответить правильно, понять, нужно, вероятно, вспомнить страницы из более поздней книги зрелого Достоевского.
«— Извините, что я, может быть, прерываю, но дело довольно важное-с, — заметил Петр Петрович как-то вообще и не обращаясь ни к кому в особенности, — я даже и рад публике. Амалия Ивановна, прошу вас покорнейше, в качестве хозяйки квартиры, обратить внимание на мой последующий разговор с Софьей Ивановной. Софья Ивановна, — продолжал он, обращаясь прямо к чрезвычайно удивленной и уже испуганной Соне, — со стола моего, в комнате друга моего, Андрея Семеновича Лебезятникова, тотчас же вслед за посещением вашим, исчез принадлежавший мне государственный кредитный билет сторублевого достоинства. Если каким бы то ни было образом вы знаете и укажете нам, где он теперь находится, то уверяю вас честным словом и беру всех в свидетели, что дело только тем и кончится. В противном же случае принужден буду обратиться к мерам весьма серьезным, тогда... пеняйте уже на себя-с!»
Говорит все это Петр Петрович Лужин, еще вчера считавшийся женихом сестры Раскольникова и вчера же выгнанный Раскольниковым из комнат, занимаемых его сестрой и матерью. Речь эта произнесена на поминках по отцу Сони Мармеладовой: то есть при всех гостях, в день похорон отца, Лужин обвиняет Соню в том, что она украла у него сто рублей.
«— Я не знаю... Я ничего не знаю... — слабым голосом проговорила наконец Соня».
После этого Лужин произносит своим нестерпимо канцелярским стилем длинную речь о том, как он пересчитывал и записывал деньги, как он уверен, что сто рублей взяла Соня.
Речь Лужина занимает больше страницы. Соня в ужасе снова отвечает, что ничего не брала у него. Но уже разгорелся скандал. Кричит хозяйка квартиры, сразу поверившая, что Соня украла, кричит мачеха Сони Катерина Ивановна, защищая Соню и требуя, чтобы ее обыскали и убедились: не брала она никаких ста рублей. При этом Катерина
Ивановна принимается сама выворачивать Сонины карманы — и вдруг на пол падает сторублевая бумажка. Соня в отчаянии.
«— Нет, это не я! Я не брала! Я не знаю! — закричала она, раздирающим сердце воплем, и бросилась к Катерине Ивановне».
Но все кругом уже поверили. Хозяйка квартиры кричит о полиции и о Сибири, многие вскрикнули, увидев деньги. Один Раскольников молчит. Он верит Соне, предчувствует какую- то гнусную хитрость со стороны Лужина, но что он может сказать? Ведь фактов у него нет!
«— Как это низко! — раздался вдруг громкий голос в дверях. Петр Петрович быстро оглянулся.
Какая низость! — повторил Лебезятников, пристально смотря ему в глаза.
Петр Петрович даже как будто вздрогнул... Лебезятников шагнул в комнату.
И вы осмелились меня в свидетели поставить? — сказал он, подходя к Петру Петровичу».
Лужин растерян. А Лебезятников уже прямо называет его «клеветником» и «мошенником». Наконец он рассказывает: «В дверях, прощаясь с нею, когда она повернулась и когда вы ей жали одной рукой руку, другою, левой, вы и подложили ей в карман тихонько бумажку. Я видел! Видел!» Длинные объяснения Лебезятникова сводятся к одному: он подумал, что Лужин хочет «благодеяние ей сделать». Речь Лебезятникова трудна ему: мы уже говорили, он из тех героев Достоевского, кто «и по-русски-то не умел объясняться порядочно... Тем не менее речь его произвела чрезвычайный эффект», хотя никто так и не понимает, зачем Лужину понадобилось совершать эту подлость. Объяснение дает Раскольников: доказав, что Соня — воровка, Лужин мог поссорить Раскольникова с матерью и сестрой, а следовательно, надеялся восстановить свое сватовство.
Итак, совершен поступок низкий, подлый, мерзостный — для чего? Всего только для того, чтобы не потерять давно присмотренную невесту, которую уже начал, было, подчинять себе.
Казалось бы, что общего между Лужиным из «Преступления и наказания» и князем Валковским из «Униженных и оскорбленных»? Гораздо больше общего, чем может показаться на первый взгляд. Оба эти человека ни перед чем не остановятся, чтобы достигнуть своей цели, чтобы им было удобно, или, как часто говорит Достоевский, «комфортно».
Приведенная сцена из «Преступления и наказания» дает очень многое для понимания этой книги. Ведь характер Сони Мармеладовой — один из главных, наиболее важных характеров романа. Мы много раз видим Соню в ее обычном, забитом и униженном состоянии, когда она жертвует своим добрым именем, гордостью, честью ради спасения семьи.
Она — безответная, в ее кротости и смирении заложен глубокий смысл, и перед ней Раскольников чувствует себя больше виноватым, чем даже перед своей совестью. Несколько дней назад он и не слыхивал ни о какой Соне, но несколько дней назад он и не был еще убийцей. События развернулись со стремительной быстротой. Теперь он день и ночь думает об одном: действительно ли он имел право убить никому не нужную, зловредную старушонку-процентщицу — для своей идеи, для высшей цели? Но ведь он совсем уж ни за что вынужден был убить и сестру старухи Лизавету. Был ли он прав, когда придумал свою теорию, разрешающую «перешагнуть хотя бы и через труп, через кровь?»
Из всех людей, окружающих Раскольникова, он выбрал Соню, чтобы ей рассказать о том, что он совершил. Ни матери, ни сестре, ни своему доброму товарищу Разумихипу он не хочет и не может ничего рассказать. Но Соне решается открыть правду: «Я тебя давно выбрал, чтоб это сказать тебе, еще тогда, когда отец про тебя говорил и когда Лизавета была жива, я это подумал», — так он сказал Соне вчера. На сегодня он сам себе назначил решающий разговор и свое признание в убийстве. И в этот-то день состоялись поминки по Мармеладову, на которых Лужин осуществил свое подлое намерение оклеветать Соню.
Клевета Лужина оказывается серьезным оружием в том непрерывном внутреннем споре, который Раскольников ведет с Соней. Теперь он может объяснить Соне свою идею, опираясь на поступок Лужина. Раскольников начинает разговор с этого поступка. «Ну, а если б он (Лужин. — Я. Д.) захотел или как-нибудь в расчеты входило, ведь он бы упрятал вас в острог-то, не случись тут меня да Лебезятникова! А?.. А ведь я действительно мог не случиться! А Лебезятни- ков, тот уже совсем случайно подвернулся». Объяснив Соне таким образом, как страшен и подл поступок Лужина, Раскольников добавляет, что он мог привести к гибели всей семьи: если бы Соня попала в острог, Катерина Ивановна, больная чахоткой, ничем не могла бы прокормить детей, кроме как нищенством, и все они погибли бы. «Ну-с; так вот: если б вдруг все это теперь на наше решение отдали: тому или тем жить на свете, то есть Лужину ли жить и делать мерзости, или умирать Катерине Ивановне? То как бы вы решили: кому из них умереть? Я вас спрашиваю». Если бы Соня ответила, что лучше жить Катерине Ивановне с детьми, чем Лужину, то Раскольников тем самым был бы ею оправдан: вышло бы, что он имел право убить процентщицу.
Но вопрос этот непонятен и мучителен для Сони, у нее один ответ: «И к чему вы спрашиваете, чего нельзя спрашивать? К чему такие пустые вопросы? Как может случиться, чтоб это от моего решения зависело? И кто тут меня судьей поставил: кому жить, кому не жить?»
Раскольников признается ей в своем преступлении, призывая Соню представить себе, что на его месте «случился Наполеон», и задает все тот же вопрос: решился бы Наполеон на убийство никому не нужной старушонки, если бы никаким другим способом не мог достигнуть своей цели, или не решился бы. Весь этот длинный разговор мучает Соню, она полна сострадания к Раскольникову и думает только о том, как тяжело ему жить, испытывая мучения совести. «Экое страдание! — вырвался мучительный вопль у Сони... — Что делать! — воскликнула она, вдруг вскочив с места... — Встань!.. Поди сейчас, сию же минуту, стань на перекрестке... а потом поклонись всему свету на все четыре стороны и скажи всем вслух: «Я убил!»... Пойдешь?..
Это ты про каторгу, что ли, Соня? Донести, что ль, на себя надо? — спросил он мрачно.
Страдание принять и искупить себя им, вот что надо».
Убежденность Сони поражает Раскольникова. А она не
может мыслить иначе, ее нравственность неколебима, для нее нет ни вопросов, ни сомнений, и пример Лужина не произвел на нее никакого впечатления, потому что не может же она решать «кому жить, кому не жить».
Так случайная, казалось бы, история клеветы Лужина оказывается тесно связанной с главной проблемой романа: имеет ли право человек решать, кому жить, кому не жить. Все, что говорит Раскольников о Лужине, — чистая правда: если бы это входило в расчеты Лужина, он действительно не остановился бы перед тем, чтобы засадить Соню в острог.
Но Раскольников не убедил этой правдой Соню; у нее своя правда — смиряться перед ударами судьбы и надеяться на лучшее. В истории с Лужиным (пусть Раскольников прав: совершенно случайно) Сонина правда победила. Уже не случайно победит она в конце романа, когда Соня поедет за Раскольниковым на каторгу и там станет всеобщей любимицей, так что даже и отношение к Раскольникову из враждебного поначалу станет добрым — из-за Сони. А главное, ему самому откроется возможность любить ее и быть счастливым своей любовью.
3. Репетилов и другие
Вторая часть романа началась появлением князя Валковского у Наташи, его предложением и обещанием через четыре дня вернуться из Москвы, куда зовут его срочные дела, и провести у Наташи весь вечер. И вся вторая часть занята томительным ожиданием субботы, когда собирался приехать князь, его визита, обещанного им откровенного разговора. За эти четыре дня происходит еще множество событий, о которых мы будем говорить позже. Для Ивана Петровича эти четыре дня наполнены до отказа, ему некогда томиться, скучать, он еле успевает поспеть по самым необходимым делам. К тому же он чувствует, что болен, и, превозмогая болезнь, тащит весь груз чужих дел, которые уже взвалил на себя.
Наташа все эти дни — одна, в мучительном ожидании. Иван Петрович рассказывает: «Даже и теперь, когда я вспоминаю о ней, я не иначе представляю ее, как всегда одну, в бедной комнатке, задумчивую, оставленную, ожидающую, с сложенными руками, с опущенными вниз глазами, расхаживающую бесцельно взад и вперед».
Как сюда попало слово «оставленную»? Ведь Наташе сделано официальное предложение стать княгиней, выйти замуж за княжеского сына? Иван Петрович все четыре дня недоумевает: почему Наташа грустна, задумчива, когда ей следует быть оживленной и счастливой?
Наташа ничего не объясняет ему, но признается, что князь Валковский ей «решительно не нравился»... Этот разговор двух людей, понимающих друг друга с полуслова, людей, близких душевно и в то же время не все говорящих вслух, запоминается потому, что слова Наташи говорят одно, а голос, интонации — совсем другое. Иван Петрович и не верит словам, а прислушивается к молчаливому разговору, неслышно идущему между ним и Наташей.
Да, князь не нравится ей, но она тут же старается разубедить и себя, и своего друга: «...если сначала человек не понравился, то уж это почти признак, что он непременно понравится потом».
Достоевский растянул четыре дня, когда Наташа ждала князя Валковского, на шестьдесят пять страниц. Каждый час этих четырех дней известен читателям романа: мы знаем, что происходило с Наташей, Иваном Петровичем, внучкой Смита, отцом и матерью Наташи. Только одного человека мы не видели на протяжении этих длинных четырех дней, хотя и разыскивали его вместе с Иваном Петровичем, — Алешу, официального жениха.
Где же он был? — вопрос, который волнует уже не только Наташу и Ивана Петровича, но и нас. И вот мы дождались: в Наташину комнату, где уже ждут Иван Петрович и князь Валковский, приехавший, как и обещал, в субботу, где Наташа уже решилась сказать князю всю горькую правду, помятую ею за мучительные четыре дня, в эту комнату «влетел Алеша». Глагол этот повторяется в следующей главе: «Он именно влетел с каким-то сияющим липом, радостный, веселый. Видно было, что он весело и счастливо провел эти четыре дня».
Какой резкий контраст между мрачной, измученной Наташей, изболевшимся за нее Иваном Петровичем — и ничего не ведающим счастливцем! Чем же все-таки он так счастлив?
Оказывается, и Алеша прожил эти четыре дня не впустую; для него они тоже чрезвычайно важны: «Вообще я весь переменился в эти четыре дня, совершенно, совершенно переменился и все вам расскажу. Но это впереди...» — торопится Алеша.
Иван Петрович, как и Наташа, видит, что он ни в чем не виноват. «Да и когда, как этот невинный мог бы сделаться виноватым?» — восклицает Иван Петрович (курсив Достоевского). Алеша не только нежен и ласков с Наташей, не только наглядеться на нее не может, он даже замечает: «Как будто ты похудела немножко, бледненькая стала какая...»
То, что он говорит, — ужасно. Достоевский заставляет Ивана Петровича не замечать этого. Между тем, кто же сделал жизнь Наташи за эти четыре дня такой, что она и похудела, и побледнела?
Любящая женщина оправдывает Алешу, но чем он сам может оправдаться?
Оказывается, он уже и с Катей спорил, утверждая, что Наташа его простит, и «приехал сюда, разумеется, зная, что... выиграл в споре. Разве такой ангел... может не простить?» Невинный Алеша очень хорошо умеет жить так, как удобней и приятнее ему: ведь его непременно простят, ведь Наташа — ангел, а если бы она не была ангелом, то за что ее и любить?
Он со своим прямодушием даже не думает скрывать: все эти четыре дня он провел у Кати. Хотел было «залететь к Наташе», но «и тут неудача: Катя немедленно потребовала к себе по важнейшим делам... У нас ведь теперь целые дни скороходы с записками из дома в дом бегают».
Как должна слушать все это Наташа — и о скороходах, которые целыми днями бегают от Алеши к Кате и обратно, и о самой Кате: «это такое совершенство!.. Мы с ней уж теперь на ты... так как мы совершенно сошлись в какие-нибудь пять-шесть часов разговора, то кончили тем, что поклялись друг другу в вечной дружбе и в том, что всю жизнь нашу будем действовать вместе...»
Слушая эти восторженные речи, всякий посторонний человек поймет, что Алеша теперь влюбился в Катю. Наташа понимает это, конечно. Но она слишком знает Алешу и слишком любит его, чтобы поверить, что он ее разлюбил. И действительно, не разлюбил: этот мальчик, привыкший получать все лучшие игрушки сразу, хочет как-то устроить, чтобы ему можно было любить обеих женщин.
Но все-таки — что же такое с ним случилось за эти четыре дня? «Ах, друзья мои! Что я видел, что делал, каких людей узнал!» — восклицает Алеша, и даже Иван Петрович, старающийся не осуждать его, признается: «В самом деле, он был немного смешон: он торопился; слова вылетали у него быстро, часто, без порядка, какой-то стукотней». Вот это последнее слово Достоевского очень важно: когда слова не произносятся, а «вылетают», когда они звучат «стукотней», это опасно.
Несколько лет назад десятиклассники, повторяя классическую литературу, писали сочинение: «Кто самый опасный враг Чацкого?» Почти все считали таким Молчалина, кое- кто — Фамусова, Скалозуба. И только один мальчик написал, что считает опаснейшим, злейшим врагом не только Чацкого, но и всего дела декабристов, — Репетилова. Может быть, и Грибоедов придавал немалое значение этому характеру, который он открыл впервые в русской литературе: казалось бы, пустой болтун — и фамилия-то его в переводе на русский язык звучала бы как Повторялов, — кому он может быть вреден? Однако Репетилов вошел в русскую литературу как один из самых зловещих характеров. Репетилов стремится выглядеть как соратник Чацкого; но все те слова, которые для Чацкого — святыня, для Репетилова — только слова. Он говорит то же самое, что Чацкий, но если Чацкому нестерпимо жить в мире Фамусова и его гостей, то Репетилову очень удобно жить в этом мире и слегка обличать его — на словах, и только. Позднее этот же характер мы увидим у Тургенева — в «Отцах и детях» Базаров столкнется с «нигилистами» Кукшиной и Ситниковым: ведь внешне они как будто такие же, как Базаров, а на самом деле — пародия на него.
Почему я сейчас заговорила о Репетилове и о тех литературных героях, которые продолжили репетиловскую линию? Понять это нетрудно: в «Униженных и оскорбленных» Достоевский впервые коснулся этой проблемы, занявшей впоследствии немалое место в его творчестве; подлинная жизнь и игра в жизнь — один из главных конфликтов романа, и не случайно именно Алеша Валковский приносит с собой репети- ловское начало, именно он — легкомысленный, наивный мальчик принимает на веру пустые слова современных ему Репетиловых.
Вспомним, наконец, как появляется Репетилов у Грибое* дова. Вечер у Фамусова кончился, большинство гостей уже разъехалось. Чацкий ждет свою карету и с горечью признается:
Чего я ждал? что думал здесь найти?
Где прелесть эта встреч? участье в ком живое?
Крик! радость! обнялись! — Пустое...
В эту грустную для Чацкого минуту Репетилов «вбегает с крыльца, при самом входе падает со всех ног и поспешно оправляется».
Тут читателю кажется, что Чацкий наконец дождался друга, нашел в нем «участье... живое». Вот начало монолога Репетилова:
Тьфу! оплошал. — Ах, мой создатель!
Дай протереть глаза; откудова? приятель!..
Сердечный друг! Любезный друг! Mon cher!
Это написано задолго до того, как Достоевский нашел формулу: «слова вылетали у него... какой-то стукотней». Но с первого слова Репетилова мы слышим именно пустую «стукотню», после «Тьфу! оплошал» мы уже не верим восклицаниям: «Сердечный друг! Любезный друг!» — слова эти пусты, за ними ничего нет, никакого подлинного чувства.
Весь разговор Чацкого с Репетиловым напоминает появление Алеши и его россказни о четырех днях, которые совершенно изменили его жизнь. Без сомнения, Достоевский сознательно напомнил читателям сцену из «Горя от ума», он хотел, чтобы Алеша оказался похожим на Репетилова и людей/знакомством с которыми он хвалится. Рассмотрим оба разговора параллельно.
Репетилов как будто гордится своим ничтожеством: «Мне не под силу, брат, я чувствую, что глуп...» Алеша тоже ругает себя и тоже с гордостью: «А кстати, припоминаю, каким я был глупцом перед тобой... О глупец! Глупец! Ведь ей-богу же, мне хотелось порисоваться, похвастаться...»
Репетилов: «Поздравь меня, теперь с людьми я знаюсь С умнейшими!!!»
Алеша: «Что я видел, что делал, каких людей узнал!»
Репетилов: «С какими я тебя сведу Людьми!!!., уж на меня нисколько не похожи, Что за люди, mon cher! Сок умной молодежи!»
129
Репетилов перечисляет Чацкому членов «секретнейшего союза» и восторгается ими, но обнаруживается, что ему нечего сказать о каждом из этих людей: князь Григорий — «чудак единственный! нас со смеху морит!»; «другой — Ворку- лов Евдоким; ты не слыхал, как он поет? о! диво!» И этих
5 Предисловие к Достоевскому
людей он определил как «сок умной молодежи!» Но вот, наконец:
Еще у нас два брата,
Левон и Боринька, чудесные ребята!
Об них не знаешь, что сказать...
Достоевский, в свою очередь, знакомит Алешу не с Чацким и даже не с Репетиловым: «...у Кати есть два дальние родственника, какие-то кузены, Ле-венька и Боренька, один студент, а другой просто молодой человек» — вот они-то и' есть та «молодежь свежая», что перевернула Алешину душу. Конечно, сходство имен с героями «Горя от ума» не случайно, Достоевский нарочно назвал так кузенов Кати. Кроме них есть еще «Безмыгин — это знакомый Левеньки и Бореньки и, между нами, голова, и действительно гениальная голова!»
И здесь сразу вспоминается Грибоедов:
Но если гения прикажете назвать:
Удушьев Ипполит Маркелыч!!!
Ты сочинения его
Читал ли что-нибудь? хоть мелочь?
Прочти, братец, да он не пишет ничего...
Вернемся к Безмыгину. Это одна из тех фамилий, какие удавалось придумывать только Достоевскому; сразу вспоминается целая плеяда диких людей Достоевского: Фердыщенко, Свидригайлов, Лебезятников, Смердяков, капитан Лебяд- кин... Но ведь и Грибоедов придумал фамилию Удушьева — русская классическая литература и до романов Достоевского изобиловала как будто и не значащими, но характеризующими их носителей фамилиями. У Гоголя были Акакий Акакиевич Башмачкин в «Шинели» и Авксентий Иванович Поп- рищин в «Записках сумасшедшего», и еще раньше — Иван Федорович Шпонька, и позже — действующие лица «Ревизора» и «Женитьбы», еще позже — Собакевич и Коробочка, не говоря уже о Чичикове, — гоголевские фамилии всегда смешны, но, разобравшись, мы не станем смеяться над Баш- мачкиным или Поприщиным, а загрустим над ними.
Фамилии Достоевского не смешны, в них слышится ужас перед людьми, их носящими. Вот и Безмыгин — соседство с Левенькой и Боренькой сразу настораживает, а затем, когда мы узнаем, что все новые знакомые Алеши «под руководством Безмыгина, дали себе слово действовать честно и прямо всю жизнь», — не очень как-то верится тому, что проповедует Безмыгин, как бы красиво ни звучали его призывы.
Князь Валковский слушал сына «молча и с какой-то торжествующей иронической улыбкой... Точно он рад был, что сын выказывает себя с такой легкомысленной и даже смешной точки зрения».
Вот, пожалуй, то главное, что сближает Алешу Валков- ского с Репетиловым: оба они в глубине души знают, что не заслуживают ничьего уважения, что им и самим не за что себя уважать. Между тем очень хочется если не быть, то хотя бы выглядеть достойным человеком, занятым полезной деятельностью. Вот они оба и ищут людей, рядом с которыми можно выглядеть, а не быть.
В «Горе от ума» изображено начало двадцатых годов прошлого века — эпоха возникновения декабризма. Как и всякое значительное явление общественной жизни, декабризм имел своих героев, своих деятелей, своих теоретиков — и свою пену: болтунов, изучивших декабристские слова и повторяющих эти слова без всякого смысла. Таков Репетилов.
Алеша Валковский представляет сознательно смешанную Достоевским эпоху не то конца сороковых, не то начала шестидесятых годов. Сороковые и шестидесятые годы — совсем разные периоды, но оба они вошли в русскую историю как эпохи яркого расцвета общественной мысли. И в эти периоды, оказывается, существуют свои Репетиловы — с ними познакомился Алеша и ужасно себя зауважал, — нет, он не признается, что не понимает разговоров «умных людей», он, наоборот, гордится собой и говорит отцу: «Но теперь уж я не тот, каким ты знал меня несколько дней тому назад. Я другой! Я смело смотрю в глаза всему и всем на свете...
— Ого! — сказал князь насмешливо».
Разумеется, князь посмеялся бы и над более серьезным сторонником новых идей, чем его сын. Но уж сына-то своего он знает хорошо: каким там совсем другим человеком мог стать его Алеша за четыре дня!
5*
131
Так что же получается: неужели можно найти нечто общее между насмешками Чацкого над Репетиловым и насмешками князя Валковского над сыном? Конечно, нет. Чацкий смеется над тем, что Репетилов умеет только повторять не свои слова, князь смеется над самими идеями, провозглашенными Алешей: «Это все молодежь свежая; все они с пламенной любовью ко всему человечеству... Как они обращаются между собой, как они благородны! Я не видал еще до сихпор таких! Где я бывал до сих пор? Что я видал? На чем я вырос?»
Слушая Алешу, можно поверить, что он встретился, в самом деле, с лучшими молодыми людьми своего времени. Ведь эти люди были: мы знаем имена мальчиков сороковых годов и мальчиков шестидесятых, вошедшие в историю русской общественной и революционной мысли; над ними может смеяться князь Валковский, но они действительно достойны того уважения, которое сразу выказывает Алеша. Как же нам отличить среди нового поколения Репетилова от Чацкого, как не спутать истинное с поддельным?
Для того Достоевский и называет Алешиных новых знакомых именами из «Горя от ума», чтобы мы не ошиблись, не приняли этих пустых болтунов за серьезных людей. Чтобы мы помнили: все они — не Чацкие, но Репетиловы. Репети- ловы мешают Чацким, они враждебны им, потому что опошляют их идею, разбалтывают ее любому и каждому, готовы хвалиться своей прогрессивностью, но не готовы пожертвовать ничем ради тех принципов, о которых они умеют только болтать.
Между тем в маленькой комнате Наташи Ихменевой Алеша продолжает хвалиться своими новыми знакомствами и сообщает еще одну интереснейшую новость: Катя, которую еще вчера прочили ему в невесты, говорит, «что когда она войдет в права над своим состоянием, то непременно тотчас же пожертвует миллион на общественную пользу».
Вот этих слов князь Валковский испугался. Мы же знаем: у него были свои планы насчет Катиных миллионов. Князь спрашивает спокойно, как будто и не насмешливо, но смысл его слов — убийственный:
«— И распорядителями этого миллиона, верно, будут Ле- венька и Боренька и их вся компания?»
Алеша понимает злобу, спрятанную в вопросе отца: «Неправда, неправда; стыдно, отец, так говорить!» — кричит Алеша, но не может не признаться, что вопрос, куда употребить миллион, действительно обсуждался и решили потратить его на общественное просвещение.
Странная компания: нищие студенты, живущие «в пятом этаже, под крышами» — и Катя с ее миллионами. Судя по рассказу Алеши, эта Катя свято верит Левеньке и Бореньке, а в особенности Безмыгину: «Она хочет быть полезна отечеств ву и всем и принесть на общую пользу свою лепту...»
Алеша восторгается Катей, а нам — сквозь его восторги — видна наивная девочка, обладающая огромным богатством, и только этим отличающаяся от всякой другой наивной девочки. Дикие мысли, должно быть, бродят в голове у Ивана Петровича; вот перед ним сидит Наташа, которая тоже была еще недавно наивной девочкой: любовь к Алеше и страдания, принесенные этой любовью, сделали ее мудрее, опытнее, но ведь Катя не виновата, что миллионы ограждают ее от страданий. А в то же время Наташе еще недавно было нечего есть, а Катя планирует пожертвовать миллион на общественное просвещение... Дома у Ивана Петровича лежит больная Елена — Нелли, которая совсем недавно просила милостыню на улицах, чтобы накормить деда; случай спас ее от гибели в доме Бубновой. Невозможно понять глубину социальных противоречий мира, где одна не знает, куда девать миллион, а другая повторяет, как заклятье, что хочет быть бедной, будет всегда бедной, пойдет работать к любому мужику... Чем отличается Катя от Нелли? Да только тем, что ей никогда не приходилось и не придется задумываться о куске хлеба. И за всеми этими судьбами возвышается страшная, бесчеловечная фигура князя Валковского, которому ничего не стоит растоптать Наташу или осчастливить ее, — но нет, вряд ли он выполнит свое обещание осчастливить...
Еще одно сходство возникает между сценой из «Униженных и оскорбленных» и, казалось бы, смешным появлением Репетилова в конце «Горя от ума». Чацкий язвительно издевается над Репетиловым, но, не дослушав его речи о Левоне и Бориньке, скрывается в швейцарскую. А Репетилову, оказывается, все равно, с кем откровенничать: с лестницы спускается Скалозуб. Репетилов и его приглашает немедленно ехать к князю Григорию, пока не замечает, что «Загорецкий заступил место Скалозуба, который покудова уехал». О Заго- рецком мы знаем, что он «переносить горазд», и действительно, услышав вольные речи Репетилова, он с интересом прислушивается.
Если у кого-нибудь и осталось впечатление после разговора Репетилова с Чацким, что Репетилов — просто безвредный болтун, а после разговора со Скалозубом — что Репетилов глуп, но не опасен, то бессмысленная его болтовня при Загорецком снимает все сомнения: доверять Репетилову опасно, ведь он может сказать что угодно кому угодно, он бы и Загорецкому рассказал про «тайные собранья», если бы только что не рассказывал о них Чацкому. Эти люди опасны именно своей бездумностью, безответственностью, желанием выглядеть либералами.
Но что делает Алеша Валковский? Проведя четыре дня в обществе Левеньки и Бореньки, проникнувшись их идеями, которые он никак не может внятно изложить, он сейчас же пытается приобщить к этим идеям... своего отца, князя Вал- ковского, и начинает разговор об этом в тот самый момент, когда князь обеспокоился его рассказами о Безмыгиие и прочих:
«— Что за галиматья! — вскричал князь с беспокойством, — и кто этот Безмыгин? Нет, это так оставить нельзя...
— Чего нельзя оставить? — подхватил Алеша, — слушай, отец, почему я говорю все это теперь, при тебе? Потому что хочу и надеюсь ввести тебя в наш круг. Я дал уже там и за тебя слово...»
Алеша дал слово за отца, что само по себе плохо, и делать этого нельзя, но ведь главное — он, не успев познакомиться с людьми, которые представляются ему благороднейшими и честнейшими, тут же выбалтывает о них человеку из другого лагеря, человеку, который только что сказал: «Нет, это так оставить нельзя...»
Достоевский был приговорен к смертной казни и пережил страшные минуты на эшафоте. Он провел восемь лет на каторге и в солдатчине. А обвинение, предъявленное Достоевскому, было построено на том, что он читал вслух на собрании молодежного кружка письмо Белинского к Гоголю. Он и его друзья были неосторожны, доверились провокатору — и поплатились страхом неминуемой смерти и годами каторги.
В «Униженных и оскорбленных» Алеша из самых лучших побуждений выбалтывает отцу все, что знает о людях, чьими «высокими идеями» он восторгается. Мы уже понимаем, что эти люди — не революционеры, высокие их идеи — только болтовня, но ведь Алеша этого не знает! Он верит отцу, он переполнен наивной мыслью: «А главное, я хочу употребить все средства, чтобы спасти тебя от гибели в твоем обществе, к которому ты так прилепился, и от твоих убеждений».
К счастью, князь Валковский достаточно умен, чтобы понять несерьезность разговоров Левеньки и Бореньки. К тому же ему не выгодно вступать в конфликт с Катей. Если бы не это, он мог бы учесть признания сына и -сообщить куда следует о его новых знакомых. Пережив все, что послала ему судьба, Достоевский не мог не думать о других юношах, судьба которых могла повернуться так же — и при этом бессмысленно, не за что-нибудь серьезное могли они пострадать, а вот так, как Алеша Валковский: от беспечной болтовни, безвредной для правительства и никакой решительно пользы не приносящей ни «отечеству», ни «всем».
Князь Валковский почел за благо высмеять сына и не принять всерьез его восторгов. И вот здесь Алеша поворачивается совсем другой стороной: мы начинаем понимать, за что этого мальчика любит Наташа. Да, он смешон, наивен, легкомыслен, он только что на наших глазах едва не погубил своих кумиров, но при этом в нем есть благородство и честность. Услышав смех отца, Алеша обращается к нему с грустью и с «каким-то строгим достоинством»: «Если, по твоему мнению, я говорю глупости, вразуми меня, а не смейся надо мною... Ну, пусть я заблуждаюсь, пусть это все неверно, ошибочно, пусть я дурачок, как ты несколько раз называл меня; но если я заблуждаюсь, то искренно, честно; я не потерял своего благородства... Я ведь сказал тебе, что ты и все ваши ничего еще не сказали мне такого же, что направило бы меня, увлекло бы за собой. Опровергни их, скажи мне что-нибудь лучше ихнего, и я пойду за тобой, но не смейся надо мной, потому что это очень огорчает меня».
Алеша — и жертва своего отца и его произведение; добившись полного подчинения сына своей воле, князь может позволить себе смеяться над ним, но он и побаивается сына: увидев Алешин протест, князь «тотчас же переменил тон».
Так что же хотел Достоевский сказать читателям, рассказывая им об Алеше Валковском, вызывающем не только презрение, но и жалость? Прежде всего Федор Михайлович предостерегал от легкомыслия, эгоизма, и бездумности. Логический конец таких, как Алеша, описан в романе «Бесы»: прикрываясь одним из самых страшных лозунгов, какие существовали в истории человечества — «цель оправдывает средства»,— такие одураченные словами мальчики послушно идут вслед за Петром Верховенским на убийство невинного; они думают, что убивают во имя великой цели, на самом же деле — из гнусных и мелких эгоистических интересов Верховенского.
Мы уже говорили: в «Униженных и оскорбленных» заключены как бы наброски, ростки всех будущих книг Достоевского. Вот и мысли об Алеше Валковском привели в конце концов к решению все того же важнейшего из вопросов: имеет ли право человек распоряжаться чужой жизнью?
Отступление шестое
О ЖИЗНИ ДОСТОЕВСКОГО
Достоевский вернулся в Петербург и снова вошел в литературу, но жизнь по-прежнему не баловала его. Брак его с Марией Дмитриевной нельзя было назвать счастливым. Тяжело больная, измученная пережитыми несчастьями и нищетой, жена не могла стать ему ни другом, ни помощницей. А Достоевский взваливал на себя все больше дел. Вместе с братом Михаилом Михайловичем он редактирует журнал «Время», привлекает к нему самых ярких писателей той эпохи: Островского, Некрасова, Салтыкова-Щедрина, Помяловского, Куроч- кина...
Но Достоевский решительно не умел ни разбогатеть, став издателем журнала, ни даже сколько-нибудь прилично обеспечить свою семью.
Журнал «Время» просуществовал недолго и был закрыт за помещение неугодной царскому правительству статьи.
Через год брат Достоевского добился разрешения издавать другой журнал — «Эпоха». Но все это не могло наладить материальных дел братьев. Достоевский работает без сна и отдыха, соглашается на самые невыгодные условия, чтобы только получить немного денег.
Похожая ситуация описана в эпилоге «Униженных и оскорбленных», где совсем уже больной, уставший до изнеможения Иван Петрович в двое суток кончает большую работу и едет к своему издателю, чтобы получить хоть пятьдесят рублей.
Так и Достоевскому приходилось подписывать договоры на самых кабальных условиях, и он никак не мог избавиться от долгов.
В 1864 году Достоевский пережил две тяжелые потери за полгода: умерла его жена Мария Дмитриевна, и умер брат Михаил Михайлович, связанный с Достоевским общей журналистской работой и бывший для него самым близким человеком в течение всей жизни.
Федор Михайлович остается кормильцем огромной разросшейся семьи. С ним остался сын Марии Дмитриевны, жена и дети брата.
Нужно было работать быстро, семье не хватало тех небольших денег, которые периодически получал Достоевский за свой труд.
А ведь в 60-е годы он уже становился тем зрелым Достоевским, которого мы и теперь читаем с трепетом. В 1866 году он приступил к «Преступлению и наказанию». Этот большой, огромный философский роман потребовал напряжения всех сил, мыслей, чувств.
Работа уже шла к концу, оставалось написать только последнюю часть, когда Достоевский остановился в недоумении. Он был опутан, как цепями, «драконовским» контрактом с издателем Стелловским. По этому контракту писатель должен был через месяц сдать Стелловскому другой роман, новый, в двенадцать печатных листов (по нашему счету, 300 страниц на машинке). Если бы он не успел кончить работу в срок, то Стелловский имел право в течение девяти лет издавать все написанное Ф. М. Достоевским, не выплачивая ему ни копейки.
Положение казалось безвыходным: новый роман еще не был даже начат, хотя Достоевский уже полностью придумал его. Об этом он рассказал друзьям, а те посоветовали нанять стенографистку и продиктовать роман — так можно было надеяться, что работа уложится в месяц. Достоевский нервничал, не верил, что такая работа у него получится.
Но все-таки он согласился попробовать, и 4 октября 1866 юда к нему пришла молодая стенографистка Анна Григорьевна Сниткина.
Она вспоминала потом об этой встрече: «Он мне показался рассеянным, тяжко озабоченным, беспомощным, раздраженным, почти больным».
Однако встреча эта перевернула всю жизнь Федора Михайловича и Анны Григорьевны тоже. Работа со стенографисткой удалась. Роман «Игрок» был написан за двадцать шесть дней, и Достоевский попросил Анну Григорьевну помочь ему в работе над окончанием «Преступления и наказания». Достоевский, которому было уже сорок пять лет, не решался предложить двадцатилетней Анне Григорьевне выйти за него замуж. Поэтому он рассказал ей как будто замысел своего нового романа, где герой его возраста влюблен в молодую девушку и уверен, что она ответит отказом на его любовь.
В воспоминаниях Анны Григорьевны сохранился этот разговор. «Представьте себя на минуту на ее месте», — сказал Достоевский.
Она без колебаний отозвалась:
«— Я бы ответила, что вас люблю и буду любить всю жизнь».
Через три месяца Анна Григорьевна стала женой Достоевского, и брак этот был счастливым. Анна Григорьевна вникла во все дела мужа, стала его секретарем, помощницей, бухгалтером, делопроизводителем... Она стремилась помочь ему освободиться от долгов, но это было трудно: бесконечные просьбы родственников сыпались на Достоевского, а отказать он никому не умел. Однажды, еще до свадьбы, он явился к Анне Григорьевне в лютый мороз в легком пальто, потому что шубу заложил в ломбард его пасынок.
Анна Григорьевна поняла, что есть один выход: уехать за границу. Но на какие средства? Она решилась пожертвовать своим приданым, чтобы увезти Федора Михайловича в другие условия, где он сможет работать.
Позже она вспоминала: «Мы уезжали за границу на три месяца, а вернулись в Россию через четыре с лишком года... Но там началась для нас с Федором Михайловичем новая счастливая жизнь, которая прекратилась только с его смертью».
Быть женой писателя вообще трудно, потому что пишущий человек в те дни и часы, когда он пишет, требует особого, исключительного внимания, которое не каждой женщине удается дать: приходится стушевываться, исчезать, не требовать и не просить заботы ни о себе, ни о детях. Еще труднее часы и дни, когда писатель не пишет. Кажется: наконец- то он свободен, можно теперь ждать от него того внимания, которое недодано в часы творчества. Так нет— в эти дни он опять погружен в себя, или обдумывает новую работу, или мучается тем, что она от него ускользает, не удается; ему кажется, что никогда уже он не сможет написать ничего настоящего...
Но быть женой великого писателя — это подвиг.
Первые поездки Федора Михайловича за границу были еще до знакомства с Анной Григорьевной. Тогда он побывал в Италии, во Франции, в Германии и, наконец, в Швейцарии — везде его интересовали прежде всего шедевры живописи и архитектуры, везде он подолгу ходил по музеям.
Но из-за границы он привез и еще одну страсть: увлекся рулеткой, стал азартным игроком. Отправившись вторично за границу с молодой женой, Достоевский всецело предался этой страсти, которая стала просто трагической при очень скромных деньгах, бывших в распоряжении Достоевских.
Но никогда Анна Григорьевна не упрекала мужа. Когда он проигрывался до последней монетки и горько каялся перед женой, она закладывала свои дорогие вещи, которые никогда к ней не возвращались, потому что рулетка съедала все.
Азарт, захвативший Федора Михайловича, был не случаен. Всю свою жизнь Достоевский нуждался в деньгах — не просто нуждался, бедствовал. Ему казалось: рулетка может спасти, вытащить его из безденежья. Нужно только хорошо рассчитать, и он отыграется, выиграет большие деньги, обеспечит жизнь семьи. Почти десять лет он находился во власти игры, но в 1871 году написал жене: «Надо мной великое дело свершилось, исчезла гнусная фантазия, мучившая меня почти 10 лет. Десять лет (или, лучше, с смерти брата, когда я был вдруг подавлен долгами) я все мечтал выиграть. Мечтал серьезно, страстно. Теперь же все кончено! Это был вполне последний раз!..» (Курсив Достоевского).
Но и помимо игры в рулетку Анне Григорьевне приходилось многое терпеть, со многим смиряться. Федор Михайлович был тяжело болен неизлечимой болезнью — эпилепсией, страшные припадки которой он не раз описал в своих произведениях. Анна Григорьевна быстро научилась владеть собой в случае припадков мужа, помогать ему. Она была действительно другом и помощницей Достоевского — и она имела право уже в глубокой старости, через тридцать пять лет после смерти Достоевского, написать в альбоме начинавшего тогда свою деятельность композитора С. С. Прокофьева: «Солнце моей жизни — Федор Достоевский. Анна Достоевская».
Заграничное путешествие началось с уже знакомых Достоевскому мест: прежде всего, Дрезден с его знаменитой Дрезденской галереей, затем Баден-Баден, потом Швейцария...
Достоевский был счастлив, показывая жене те картины, которые запомнились ему еще с первого заграничного путешествия.
Из Швейцарии они переехали в Италию, где жили долго — в разных городах: Милане, Флоренции, Венеции... Достоевский в эти заграничные годы обдумывал планы своей будущей работы, приготавливался к созданию своих последних романов, мечтал о том, что в России будет издавать свои публицистические статьи, придумал название книги статей: «Дневник писателя».
За границей родилась у Достоевских первая их дочь Соня. Достоевский нежно полюбил ребенка, но девочка прожила только три месяца. Писатель мучительно пережил смерть дочери. Анна Григорьевна вспоминала: «Такого бурного отчаяния я никогда более не видела». Сам же Федор Михайлович писал поэту Майкову: «Это маленькое трехмесячное создание, такое бедное, такое крошечное — для меня было уже лицо и характер». В отчаянии от своей потери, Достоевский рассказал Анне Григорьевне всю свою жизнь: печальную юность, еще более печальные годы каторги и ссылки... Ему казалось, что судьба посылает ему удар за ударом. Только новая работа могла поддержать Достоевского. Такой работой оказался роман «Идиот». Уже после окончания романа у Достоевских родилась вторая дочь — Любовь. Но ни она, ни другие дети, родившиеся позлее, не могли заставить родителей забыть об их первой, так недолго прожившей дочке.
Все-таки Достоевский вернулся в Россию не одиноким, не измученным человеком. У него была теперь семья, была верная подруга, готовая взять на себя часть его дел и хлопот.
Достоевские должны были теперь начать совсем новую жизнь, основать семейный дом. Лето 1872 года они провели в Старой Руссе, и Федору Михайловичу очень понравился этот маленький городок, где с этих пор они стали жить подолгу. Старая Русса описана в «Братьях Карамазовых» под названием Скотопригоньевска, и до сих пор некоторые дома там не перестроены, хранят память о Достоевском и бережно оберегаются жителями города.
Достоевскому оставалось жить меньше десяти лет. Но эти годы были очень значительными в его творчестве. В Старой Руссе он написал роман «Подросток», впереди были «Бесы» и «Братья Карамазовы». Теперь он был уверенным в себе писателем и общественным деятелем. Анна Григорьевна избавила его от денежных неурядиц, от торопливой работы, он мог спокойно
писать.
ЧАСТЬ I I I
...От высшей гармонии совершенно отказываюсь. Не стоит она слезинки хотя бы одного только... замученного ребенка...
Ф. М. Достоевский
1. Елена у Бубновой
Все, что мы узнали об Алеше Валков- ском, выяснилось уже в третьей части романа. Но мы ведь пропустили вторую часть — с многочисленными делами и заботами Ивана Петровича. Настала пора вернуться к этим делам.
Мы помним, что внучка Смита приходила искать своего дедушку и была огорчена и испугана, обнаружив в комнате деда чужого человека. Помним, как она убежала от Ивана Петровича, испугавшись его вопроса, где она живет.
Глава V
ВНУЧКА СМИТА
На следующее утро после знаменательного визита князя к Наташе и его официального предложения Иван Петрович встретил у себя на лестнице внучку Смита и «ей очень обрадовался». Обрадовался — сам не зная почему, но мы уже понимаем: в этом человеке кроме доброты есть еще и чувство ответственности за всех, кого он встречает на своем пути. Смит, умерший на руках Ивана Петровича, как бы завещал ему девочку. Предсмертные слова старика никаких обязательств на Ивана Петровича не накладывают: никто ничего не видел и не слышал, никто не мог бы ждать от Ивана Петровича заботы о чужой ему девочке. Никто — кроме совести
Ивана Петровича, которая заставляет его беспокоиться об одиноком ребенке.
Достоевский — устами Ивана Петровича — описывает внешность девочки. Портрет этот и похож, и не похож на то, как был обрисован князь Валковский. Описывая князя, Достоевский не заботился о том, чтобы мы могли увидеть, зрительно представить себе этого человека. Он стремился передать впечатление Ивана Петровича, чувства, вызванные у него князем. Рисуя девочку, Достоевский тоже не скрывает чувств Ивана Петровича, его наблюдений: «...трудно было встретить более странное, более оригинальное существо, по крайней мере, по наружности... она могла остановить внимание даже всякого прохожего на улице. Особенно поражал ее взгляд: в нем сверкал ум, а вместе с тем и какая-то инквизиторская недоверчивость и даже подозрительность... Мне казалось, что она больна в какой-нибудь медленной, упорной и постоянной болезни, постепенно, но неумолимо разрушающей ее организм...» — все это видит Иван Петрович.
Но девочку видим и мы. Достоевский заботится о том, чтобы мы ее увидели: «Маленькая, с сверкающими черными, какими-то нерусскими глазами, с густейшими черными всклокоченными волосами и с загадочным, немым и упорным взглядом... Ветхое и грязное ее платьице при дневном свете еще больше вчерашнего походило на рубище... Бледное и худое лицо ее имело какой-то ненатуральный, смугло-желтый, желчный оттенок. Но вообще, несмотря на все безобразие нищеты и болезни, она была даже недурна собою. Брови ее были резкие, тонкие и красивые; особенно был хорош ее широкий лоб, немного низкий, и губы, прекрасно обрисованные, с какой-то гордой смелой складкой, но бледные, чуть-чуть только окрашенные».
В этом описании видна и внешность девочки, виден и ее характер. Мы можем зрительно представить себе внучку Смита с ее всклокоченными черными волосами, с горящими глазами, и в то же время мы понимаем: перед нами — характер яркий, необыкновенный, человек, ЛИЧНОСТЬ — гордая складка у губ, загадочный взгляд — и притом личность глубоко несчастная, озлобленная, недоверчивая; нетрудно догадаться: не от радости ее подозрительность, а от беды.
Сначала ее поведение даже вызвало у Ивана Петровича мысль о безумии: «Ну, каков дедушка, такова и внучка... Уж не сумасшедшая ли она?»
Но нет, девочка вполне разумна — только очень запугана. Прежде чем сказать хотя бы слово, она долго молчит, «опустив глаза в землю». Первые ее слова сказаны шепотом: «За книжками!»
Зачем теперь ей эти книжки — ведь дедушка умер, некому больше учить ее. Но на расспросы Ивана Петровича девочка почти не отвечает, мелькнувший на ее лице «позыв улыбки» сменяется «прежним суровым и загадочным выражением».
Иван Петрович старается расположить ребенка к себе, говорит с девочкой ласково, рассказывает о последних словах старика: «Верно, он тебя любил, когда в последнюю минуту о тебе поминал...»
«— Нет, — прошептала она как бы невольно, — не любил».
Все, что говорит и делает этот ребенок, загадочно. Дедушка не любил ее, но она опять пришла в его квартиру, пришла за книжками, которые теперь могут быть ей нужны только как память о не любившем ее дедушке. Внезапно, как и все, что она говорит, девочка спрашивает:
«— А где забор?
Какой забор?
Под которым он умер».
Это — не детский вопрос: детям смерть непонятна и неприятна, они инстинктивно стараются отвлечься от мыслей о смерти, не знать ее подробностей. Горький опыт взрослого может подсказать такой вопрос — неужели девочка уже накопила этот горький опыт?
Так же внезапно она доверяется Ивану Петровичу:
«Елена, — вдруг прошептала она неожиданно и чрезвычайно тихо».
Но ни лаской, ни спокойным доверительным тоном Иван Петрович не может добиться ничего, кроме имени девочки: ни где она живет, ни кого так боится. Вот что она отвечает на все вопросы:
«— Я так сама хочу.
Пускай умру.
Я никого не боюсь.
Пусть бьет! — отвечала она, и глаза ее засверкали. — Пусть бьет! Пусть бьет!»
Роман Достоевского называется «Униженные и оскорбленные». Эти два слова не синонимы, у них разный смысл.
Человека можно унизить, растоптать, покорить обстоятельствам — таким бесконечно униженным был несчастный старик Смит в кондитерской, когда суетливо поднялся, чтобы уйти с места, откуда его гнали. Старик знал горьким опытом, что ему нельзя занимать место, которое он облюбовал, что ему нельзя занимать никакого места не только в кондитерской, вообще в жизни.
Но герои зрелого Достоевского не только унижены; они чувствуют оскорбление и презирают своих оскорбителей. Так чувствуют многие герои и особенно героини Достоевского: и Настасья Филипповна, и Грушенька, и Раскольников...
Такова и несчастная, одинокая девочка Елена из «Униженных и оскорбленных». Да, она запугана и забита, знает, что ее будут бить, и боится кого-то, кто может мучить и оскорблять ее. Но девочка не смирилась с оскорблением, не хочет чувствовать себя униженной. Она ходит зимой без чулок — назло своим мучителям, она преодолевает свой страх («Я никого не боюсь!»), она уходит из дома, хотя и знает, что за это ее будут бить.
Вполне понятен интерес, который странная девочка вызвала у Ивана Петровича. Почему она так не хочет, чтобы это г проявивший к ней участие человек узнал, где она живет? Почему «в страшном беспокойстве» умоляет его не ходить за ней? Боится людей, у которых живет, или не хочет, чтобы Иван Петрович увидел, как ее унижают?
Естественно, Иван Петрович «непременно хотел узнать тот дом, в который она войдет, на всякий случай». Он чувствовал, что Елене может понадобиться его помощь. И в то же время его тянуло любопытство — очень уж необычный, яркий и гордый характер обнаруживался перед ним в этом маленьком существе, заброшенном всеми и борющемся в одиночку против всего зла мира, которое так знакомо взрослому Ивану Петровичу.
В следующей главе это зло мира обретает лицо и предстает перед нами. На сцене появляется одна из самых страшных фигур Достоевского — женщина, у которой живет Елена, мещанка Бубнова.
Уже описание дома, принадлежащего Бубновой, вызывает отвращение и ужас. «Дом был небольшой, но каменный, старый двухэтажный, окрашенный грязно-желтою краской. В одном из окон нижнего этажа, которых было всего три, торчал маленький красный гробик, — вывеска незначительного гробовщика. Окна верхнего этажа были чрезвычайно малые и совершенно квадратные, с тусклыми, зелеными и надтреснувшими стеклами, сквозь которые просвечивали розовые коленкоровые занавески».
Надпись над воротами: «Дом мещанки Бубновой» — обозначала принадлежность хозяйки к мещанскому сословию. Но описание дома показывает и вкус хозяйки, мещанский в юм смысле, в каком употребляем это слово мы.
А вот и сама хозяйка — «толстая баба, одетая, как мещанка, в головке и в зеленой шали». Достоевский не находит для Бубновой другого слова, чем «баба», и одежда этой бабы подчеркивает ее мещанский вкус. «Лицо ее было отвратительно-багрового цвета; маленькие, заплывшие и налитые кровью глаза сверкали от злости. Видно было, что она нетрезвая...»
Описывая князя Валковского, которого он ненавидит, как и рассказчик, Достоевский признавал его красивость, породистость, обманчивую привлекательность внешности. Описывая Бубнову, он подчеркивает и внешнюю отвратительность этой женщины: лицо, глаза — все вызывает не только отвращение, но и ужас, потому что рядом с Бубновой мы видим Елену, судьба которой зависит от этой страшной женщины.
Разумеется, такое существо, как Бубнова, не может нормально говорить: «...она визжала на бедную Елену», и еще раз подчеркнуто: «...визжала баба, залпом выпуская из себя все накопившиеся ругательства...»
Крик Бубновой окончательно дорисовывает ее портрет, это крик необразованной и властной фурии, которая может себе позволить издеваться над несчастным ребенком как ей вздумается, потому что знает: никто не имеет права остановить ее, ведь она — в собственном доме, она ограждена дворником, в любую секунду готовым запереть ворота и выставить за них любого, кто попытается защитить девочку. Да и жильцы ее дома настолько зависят от власти хозяйки, что не посмеют пойти наперекор ей. .
Самое же гнусное в воплях Бубновой то, что она искренне считает Елену виноватой, а себя правой, считает себя благодетельницей осиротевшей девочки, а девочку — неблагодарной, обязанной подчиняться.
Ругательства Бубновой чрезвычайно многообразны. Можно даже сказать, что в этой страшной бабе живет талант яркого слова; но нет, яркое слово — обязательно доброе, а здесь богатства русского языка направлены только на то, чтобы оскорбить и унизить несчастную Елену. «Ах ты, проклятая, ах ты, кровопивица, гнида ты этакая... лохматая... идол проклятый, лупоглазая гадина, ял... гниль болотная... пиявка! Змей гремучий! Упорная сатана, фря ты этакая, об- лизьяна зеленая... изверг, черная ты шпага французская... семя крапивное... цыганка, маска привозная!» — вот неполный набор слов, которыми Бубнова встречает Елену. Но страшны не ругательства и, может быть, не так страшны побои («Елена упорно молчала... даже и под побоями»); страшнее всего унижения, которым Бубнова подвергает свою жертву: «Мать издохла у нее! Сами знаете, добрые люди: одна, ведь осталась как шиш на свете... Да я ее поганке-матери четырнадцать целковых долгу простила, на свой счет похоронила, чертенка ее на воспитание взяла...»
Только теперь становится понятным упорное молчание девочки, ее недоверие к добрым словам Ивана Петровича. Ведь за все, что сделала для нее и ее матери Бубнова, Елена ежедневно платила жестоким унижением, ее попрекали за все: и за болезнь матери, и за похороны, ей вспоминали каждую мелочь. Если бы даже Бубнова действительно из жалости «взяла сироту», то и тогда ее «жалость» обернулась бы мукой унижения для девочки. Но, как она ни мала, Елена понимает, что Бубнова взяла ее к себе из каких-то своих соображений, хочет извлечь из девочки выгоду, просто на жалость она не способна.
Психология мещанина открывается в словах Бубновой со всей полнотой: главное для нее — собственное «я», главное — подчинять себе, властвовать самой: «Не хочу, чтобы против меня шли! Не делай своего хорошего, а делай мое дурное — вот я какова!» — откровенно кричит Бубнова, в полной уверенности, что слушатели не могут не сочувствовать ей.
Елена, вероятно, не понимает, к чему готовит ее Бубнова. Но она помнит унижения и попреки, которым подвергали в этом доме ее умирающую мать, и не верит Бубновой. Девочка знает одно: она не может противостоять оскорблениям и побоям, но унижать себя не позволит. Борется она с унижениями по-своему: рвет платья, купленные Бубновой, убегает из дому, молчит, когда ее бьют. Елена не хочет покориться, а Бубнова стремится покорить ее во что бы то ни стало.
Страшно даже представить себе, чем кончилась бы эта неравная борьба между обезумевшей от злости и самолюбия пьяной бабой и гордой девочкой, если бы не вмешался Иван Петрович. Елена бы не покорилась, но и Бубнова не смирилась бы с гордостью девочки.
Но вмешательство Ивана Петровича тоже не могло принести никакого результата. Он не сдержался, хотя и понимал, что может только ухудшить положение Елены: увидев, как Бубнова бьет Елену, Иван Петрович, «не помня себя от негодования», бросился на двор и схватил Бубнову за руку. Это ничуть ее не испугало. Наоборот, «пьяная фурия», как называет ее Иван Петрович, на него же и ополчилась: «В чужой дом буянить пришел? Караул!» — закричала она, и дворник, хотя и лениво, но выполнил свою обязанность — выставлять посторонних за ворота. Ивану Петровичу пришлось удалиться, оставив девочку в руках Бубновой, да еще в припадке падучей болезни (эпилепсии).
Самое печальное то, что вся эта чудовищная сцена, происходящая во дворе Бубновой, не вызывает никакого протеста ни у одного из ее свидетелей, а их немало: кроме дворника во дворе были еще две женщины — когда Елена упала на землю в припадке, эти женщины поспешили помочь ей; пока же Бубнова на глазах у всех избивала девочку, никому и в голову не приходило вмешаться. Видимо, все здесь разделяют мнение дворника: «Двоим любо, третий не суйся» — и, значит, Бубнова действительно полновластная хозяйка в своем доме.
Интонация обыденности, естественности происходящего действует на читателя сильнее, чем если бы автор заставил рассказчика восклицать и ужасаться, бурно выражать возмущение происходящим на его глазах.
Уже изгнанный из дома Бубновой, Иван Петрович в раздумье идет по улице, сознавая свое бессилие: «Сделать я ничего не мог...» Это сознание бессилия, невозможности помочь — одно из самых мучительных ощущений, когда читаешь Достоевского.
По законам доброй литературы, по законам Диккенса, несчастным может и должно помочь чудо. В книгах Диккенса действительно чудеса выручают героев: неожиданное богатство спасает семью Дорритов; Дэвида Копперфильда берет под свое покровительство богатая тетка его отца; юный Уолтер Гэй чудом не погибает при кораблекрушении, и Флоренс Домби находит свое счастье, став его женой; Оливер Твист встречает добрых покровителей... Все несчастные дети в конце концов обретают родителей или родственников, бо-< гатство и счастье.
Только в одном романе Диккенса — «Лавка древностей» — маленькая девочка, помогающая своему несчастному деду, умирает, так и не дождавшись своего спасителя, внезапно и чудом вернувшегося из дальних стран родственника. Эту книгу считают очень похожей на «Униженных и оскорбленных», находят сходство между героиней «Лавки древностей» и Еленой, между старым Смитом и дедушкой героини «Лавки древностей». Но, во-первых, все остальные герои книги Диккенса, попавшие в беду, чудом спасаются, а главный злодей гибнет страшной гибелью, и, во-вторых, герои Диккенса — или совсем черные, или совсем уж прекрасные, они не похожи на живых людей, а похожи на персона^ жей из сказки. Герои же Достоевского — все из жизни, несчастья их происходят не по вине злобного сказочного карлика; несчастными их делают обыкновенные люди. Страшная правда «Униженных и оскорбленных» в том, что ни Бубнова, ни князь Валковский не чрезмерные злодеи, они такие люди, каких много в окружающем мире, они обыкновен- н ы для своей среды, не совершают ничего особенного — их злодейства никого не удивляют, и бороться с ними во сто крат труднее, чем со сказочными злодеями.
У Достоевского тоже случаются чудеса — иногда. Но чудеса эти не всевластны. В «Преступлении и наказании» страшный человек Свидригайлов никем не наказан, он сам решает покончить собой и перед смертью помогает осиротевшим детям чиновника Мармеладова; но никто не может помочь Раскольникому — никто и ничто, кроме любви к нему Сони и собственной его совести. Князь Мышкин в «Идиоте» получает огромное наследство и оказывается миллионером, но это не спасает Настасью Филипповну от гибели, а самого Мышкина — от безумия. В «Братьях Карамазовых» не происходит чуда и не виновный в смерти отца Дмитрий Карамазов отправляется на каторгу; чудо могло бы произойти, спасти Митю Карамазова могли его брат и бывшая невеста — они не произносят спасительных слов; то чудо, которое было бы даже не чудом, а просто естественным поступком, не совершается, и никто уже не может помочь.
В книгах Достоевского жизнь жестока так, как она была в самом деле жестока в России эпохи Достоевского, и если в ней происходят случайные встречи, случайные радости, онине оборачиваются чудесами: они могут помочь героям, но ненадолго — жизнь остается беспощадной, несмотря на случайности.
Именно в ту минуту, когда Иван Петрович печально, «потупив голову», бредет от дома Бубновой, где осталась избитая, больная Елена, и не знает, как вырвать девочку из ужасного дома, он встречает на улице своего «прежнего школьного товарища, еще не губернской гимназии», Маслобоева,
2. Школьный товарищ
Школьные товарищи встречаются в книгах Достоевского нередко. В этом нет ничего удивительного: связи между людьми настолько слабы, люди настолько разрознены, что знакомство «со школы», «с детства» связывает многих героев Достоевского. Это не высокая дружба с детских лет, не крепкая духовная связь, это просто общие воспоминания детства, но и они дороги человеку, в одиночку сражающемуся с городом-спрутом, где никто никому не друг и не брат.
Единственное, что теперь связывает Ивана Петровича и Маслобоева, — детские воспоминания. Эти воспоминания — большое богатство для одиноких людей, хотя они вовсе друг другу теперь «не пара», как выражается хмельной хЧасло- боев, но он и другое напоминает: «...ты был славный мальчуган. А помнишь, тебя за меня высекли? Ты смолчал, а меня не выдал, а я, вместо благодарности, над тобой же неделю трунил. Безгрешная ты душа!»
Мы узнаем, что Иван Петрович и в детстве был честный и добрый человек. Сам же Маслобоев и тогда был нехорош, и теперь связан с какими-то подозрительными личностями, да и о деле своем говорит так туманно и неприятно, что Иван Петрович спрашивает: «Да ты уж не сыщик ли какой-нибудь?.»
И действительно, Маслобоев признается: «...не то, чтобы сыщик, а делами некоторыми занимаюсь, отчасти и официально, отчасти и по собственному призванию». Если Иван Петрович никак не может — при всем своем таланте — прижиться в Петербурге, не может чувствовать себя в столицесвоим, то Маслобоев — несомненно свой в темных, подозрительных углах этого города. Единственное светлое, что осталось в его жизни, — память о школьных годах. Вот что он сам говорит: «Черного кобеля не отмоешь добела. Одно скажу: если б во мне не откликался еще человек, не подошел бы я сегодня к тебе, Ваня...»
Одно из признаний все больше хмелеющего Маслобоева чрезвычайно важно: «Ну, душа, читал! Читал, ведь и я прочел! Я, дружище, про твоего первенца говорю. Как прочел — я, брат, чуть порядочным человеком не сделался! Чуть было; да только пораздумал и предпочел лучше остаться непорядочным человеком. Так-то...»
Слово писателя — великая сила, оно может повернуть всю жизнь человека; вот и Маслобоев «чуть порядочным человеком не сделался!» Но только — чуть не сделался, потому что в мире, где они оба живут, удобнее и выгоднее быть непорядочным человеком. И Маслобоев это сегодня же докажет: там, где Иван Петрович со своей честностью, совестью, добротой бессилен, Маслобоев со своими отвратительными знакомыми имеет большую силу: в тот же день вечером он поможет Ивану Петровичу увезти Елену от Бубновой. Ивана Петровича можно выставить при помощи ленивого дворника; для Маслобоева открыты все двери, его Бубнова боится.
Маслобоев поражает Ивана Петровича (и читателей тоже) совсем уж немыслимым в мире, где он живет, предложением: «Послушай же откровенно и прямо, по-братски (не то на десять лет обидишь и унизишь меня), — не надо ли денег? Есть. Да ты не гримасничай. Деньги возьми, расплатись с антрепренерами, скинь хомут, потом обеспечь себе целый год жизни и садись за любимую мысль, пиши великое произведение! А? Что скажешь?»
Предложение Маслобоева спасительно для Ивана Петровича; если бы он мог расплатиться с издателями, которым успел задолжать немалую сумму, и спокойно сесть за новую книгу! И Маслобоев, видимо, искренен. Но принять эту помощь было бы не в принципах Ивана Петровича, и он отказывается, деликатно, чтобы не обидеть товарища. Но в ответ на душевный порыв Маслобоева Иван Петрович рассказывает ему историю внучки Смита — и прекрасно делает, потому что именно Маслобоев может помочь вызволить Елену от Бубновой. Впрочем, он ничего твердо не обещает, но, оказывается, и о делах Бубновой, и о смерти старика в кондитерской Маслобоев знает. Иван Петрович никогда бы не мог ни узнать, ни услышать обо всем этом, не окажись он свидетелем и смерти старика, и зверства Бубновой. Для Маслобоева знать такие вещи — профессия, он тем и живет, что знает всю грязь, происходящую вокруг него. И тут неожиданно Маслобоев сообщает нечто чрезвычайно важное: «Разыскивал я недавно одно дельце, для одного князя, так я тебе скажу — такое дельце, что от этого князя и ожидать нельзя было...
А как фамилия того князя? — перебил я его, предчувствуя что-то.
А тебе на что? Изволь: Валковский.
Петр?
Он...»
Ивана Петровича он этим сообщением «ужасно заинтересовал», но ведь Маслобоев — деловой человек, больше он ничего не скажет: «Сказки я умею рассказывать, но ведь до известных пределов, — понимаешь? Не то кредит и честь потеряешь, деловую, то есть, ну и так далее».
Понятие чести оказывается не однозначным. Может быть, человеческая честь как раз требует, чтобы Маслобоев обнародовал, раскрыл «дельце» князя, но есть еще деловая честь — сыщицкая, и она велит держать в секрете все, что узнаешь о своих богатых клиентах. Иван Петрович не спорит, сн понимает: Маслобоев зависит от князя, потому что князь платит за услуги тайного сыщика.
3. Сложный душевный мир
Мы не забыли: должно пройти четыре дня, пока князь снова явится к Наташе. Елена пришла в первый день, и для Ивана Петровича день этот тянется бесконечно долго: с утра — неожиданное появление Елены и первое знакомство с ней. Затем поездка с ней на Васильевский и сцена у Бубновой, встреча с Мас- лобоевым, его обещание выручить Елену и, главное, таинственный намек на какое-то грязное и страшное «дельце» князя; от Маслобоева — к старикам Ихмене- вым, от них — к Наташе... И все это в полубольном, тяжеломсостоянии, в полубреду... Но даже и вечером Иван Петрович не едет домой, не ложится в постель, а торопится к Масло- боеву — как оказалось, не зря: Маслобоев сдержал свое слово, увез Елену от Бубновой. Наконец-то Иван Петрович возвращается в свою комнату, но уже не может отдохнуть: с ни& Елена, она больна, в жару и бреду. Иван Петрович уступает девочке свою кровать, а сам засыпает «уже поздно, в первом часу ночи... подле нее на полу». Так кончается для него первый день.
Второй день начинается «очень рано», потому что какой же сон на полу, около больной девочки, о которой беспокоишься! К утру Елена заснула крепко, но Иван Петрович не мог тоже заснуть: он должен был бежать за доктором, пока девочка спит, чтобы, проснувшись в чужом месте, она не испугалась.
Всякий ребенок, далее и не переживший таких страданий, какие выпали на долю Елены, даже вполне благополучный и и совсем еще маленький, — всякий ребенок — это сложный душевный мир, с которым нужно уметь обращаться. Елена же представляла собой загадку, которую и не могла, и не хотела разгадать Бубнова и которую пытается понять Иван Петрович.
Вот что он замечает в своей гостье: «И вчера и третьего дня, как приходила ко мне, она на иные мои вопросы не проговаривала ни слова, а только начинала вдруг смотреть мне в глаза своим длинным, упорным взглядом, в котором вместе с недоумением и диким любопытством была еще какая-то странная гордость».
Доктору она тоже «не отвечала ни слова, но все время только пристально смотрела на огромный Станислав, качавшийся у него на шее». Станислав — это орден, и Елена, может быть, знает, что орден. Она любопытна, как всякий ребенок, вероятно, хочет знать, за что наградили доктора, но жизнь приучила ее не задавать вопросов, приучила молчать, чтобы как-нибудь ненароком не унизить себя.
Ивану Петровичу никогда еще не приходилось иметь дела с детьми. Но у него есть свойство, необходимое каждому, кто берется воспитывать: он хорошо помнит свое детство. Это помогает ему понять Елену, не сердиться на нее, например, когда она вырвала руку у доктора, хотевшего пощупать ее пульс, и отказалась показать ему язык. Старичка доктора, давно забывшего свое детство, Елена поразила: он никак не мог понять дикого, тяжелого взгляда девочки, ничем не может объяснить ее упрямства. Иван же Петрович легко представляет себя на месте этой девочки — себя не сегодняшнего, взрослого, а в детстве — это помогает ему понять странное поведение Елены. Доброта рождает в нем душевную деликатность: он не хочет лишний раз расспрашивать девочку, чтобы не напомнить ей страшного прошлого; он решает как можно реже оставлять ее одну — и потому не едет ни к Наташе, ни к ее матери, он еще не знает, как поступить с Еленой, оставить ли у себя или поместить в какую-нибудь хорошую, добрую семью (да ведь такую семью еще надо найти!), но он уже взял на себя ответственность за ее будущее.
Вот этого-то его свойства и не понимает Елена: не видела она в людях доброты. Иван Петрович еще не представляет себе, сколько неожиданных трудностей предстоит ему одолеть из-за того, что Елена не может поверить, чтобы человек был просто добр и ничего за это не требовал.
Итак, день Ивана Петровича заполнен с самого утра: сходил к доктору, приготовил чай, потом пришел доктор и осмотрел Елену, следом явился Маслобоев. От него мы, наконец, узнаем, как видят посторонние глаза ту квартиру, что показалась Ивану Петровичу вполне для него подходящей: «Ведь это сундук, а не квартира».
«Ведь это сундук, а не квартира»! — одна фраза, но за ней все бедственное положение Ивана Петровича, к которому сам он уже притерпелся, как бы и не чувствует его, и считает возможным поселить у себя в комнате еще одного человека, а на свежий взгляд Маслобоева, положение — хуже некуда. Маслобоев понимает и то, что «все эти посторонние хлопоты отвлекают от работы».
Действительно, пока мы слышим одного только Ивана Петровича, мы не представляли себе, до какой степени заботы о чужой внучке и о семействе Ихменевых отрывают его от дела, — сам Иван Петрович никогда не говорил об этом: единственное, на что он жаловался изредка, что работа не идет, но ведь это может зависеть не от обстоятельств, а от самого человека. Теперь, глядя глазами Маслобоева, мы увидели: как же, в самом деле, он думает работать, имея на руках больного ребенка, которого нужно кормить?
Маслобоев, как человек практический, задумался об этом, он понял и то, что у Ивана Петровича денег совсем нет, и пришел к заключению: «...за тебя надо серьезно приняться. Эдак жить нельзя». Он тут же снова предлагает Ивану Петровичу денег — постепенно мы начинаем понимать, что Маслобоев гораздо лучше, чем показался с первого взгляда: он и добрый, и готов помочь... Этот человек еще не раз заставит нас задуматься, добро и зло так сплетены в нем, что ни он, ни его школьный товарищ, ни сам автор не могли бы сказать, хороший он или плохой. Да ведь таково большинство людей: их можно увидеть по-разному, глядя с разных точек зрения. Во всяком случае, к Ивану Петровичу Маслобоев оборачивается лучшей своей стороной.
Как практический человек, Маслобоев прямо ставит вопрос о Елене: «...что, ты ее поместишь куда-нибудь или у себя держать хочешь?» Но Иван Петрович еще не решил и спрашивает Маслобоева: «Ну, на каком, например, основании я буду ее у себя держать?
— Э, что тут, да хоть в виде служанки...»
Маслобоев-то понимает, что никому нет дела до Елены, никому и в голову не придет доискиваться, куда она делась, а взять в служанки девочку такого возраста — вполне естественное дело. Но Ивана Петровича пугает его предложение: «Прошу тебя только, говори тише. Она хоть и больна, но совершенно в памяти...» Он боится, как бы девочку не испугало появление Маслобоева, которого она видела вчера вечером у Бубновой, и еще больше не испугало бы предложение взять ее в виде служанки — словом, он и сам не знает твердо, чего боится, но не хочет ничем травмировать Елену.
И, действительно, как только Маслобоев ушел, Елена стала спрашивать Ивана Петровича, кто это был и не придет ли за ней Бубнова. Выслушав успокоительный ответ и взяв Ивана Петровича за руку, она «тотчас же отбросила ее, как будто опомнившись». И снова Иван Петрович не рассердился за это на девочку, а задумался: «...просто бедняжка видела столько горя, что уж не доверяет никому на свете».
Характер Елены чрезвычайно интересует Достоевского: читая о ее выходках, мы начинаем понимать психологию униженного и оскорбленного, но не покорившегося подростка. У девочки трудный, мучительный характер — и при этом яркий; немудрено, что Иван Петрович не решается оставить Елену одну, чтобы пойти к Наташе. Но душа его неспокойна — ему кажется, что он нужен Наташе, а его-то и нет...
Неожиданно Елена сама помогла ему: «...она попробовала улыбнуться и как-то странно взглянула на меня, как будто борясь с каким-то добрым чувством, отозвавшимся в ее сердце». Елена уже поняла, что не по своим делам Иван Петрович спешит из дому. Она уже и не скрывает, что никуда от него уходить не хочет. Но долго еще ему придется завоевывать ее гордое сердце...
От Наташи Иван Петрович возвращается грустный. Но все его размышления прерываются, едва он вошел в комнату: прежде, когда он жил один, Иван Петрович мог хоть всю ночь размышлять о Наташе. Сейчас у него нет времени думать ни о Наташе, ни о своей любви; Елена приготовила ему новый сюрприз: она хочет вернуться к Бубновой: «Пусть погубит, пусть мучает... Я бедная и хочу быть бедная. Всю жизнь буду бедная: так мне и мать велела, когда умирала. Я работать буду... Я в работницы наймусь...»
Иван Петрович уже понял: «...с этой девочкой... будет много хлопот». Одного еще он не может рассудить: в том, что Елена плачет при нем, рыдает и не может успокоиться, позволяет ему утешать себя, — в этом уже видно ее громадное доверие. Ведь там, у Бубновой, она молча сносила все обиды и даже побои, никому не показывала своих слез, своего горя... Ему она уже верит и — боится поверить, что кто-то может быть к ней добр, боится расстаться с выстраданным убеждением: у нее есть только один путь — жить гордо и одиноко, ни перед кем не раскрывать своей души и ничего не получать даром^ все зарабатывать своим трудом.
Все эти дела и заботы совершенно измучили Ивана Петровича. Он признается: «...я редко был в таком тяжелом расположении духа, как засыпая в эту несчастную ночь».
Но присутствие Елены, ее слезы и порывы уйти к Бубновой все-таки хоть немного отвлекли его от Наташиных дел. Сама же Наташа — и он представляет себе это — все бродит в одиночестве по комнате и все обдумывает то, что произошло в ее жизни. Нет, не на радость ей явился князь с предложением — Иван Петрович окончательно понял это, потому и засыпает в таком «тяжелом расположении духа».
Третий день ему приносит не меньше забот. Едва проснувшись, он услышал «какие-то звуки, как будто кто-то шуршал по полу веником», и, встав, обнаружил Елену с веником в руках. «Дрова, приготовленные в печку, были сложены в уголку; со стола стерто, чайник вычищен; одним словом, Елена хозяйничала».
Конечно, ничего нет дурного в том, что девочка — уже не маленькая и многое умеющая — прибирает комнату. Но девочка вчера еще была в жару; она больна, и, главное, Иван Петрович понимает: не из доброго чувства взялась она хозяйничать: «...мне именно казалось, что ей как будто тяжело было мое гостеприимство и что она всячески хотела доказать мне, что живет у меня не даром».
Следующая сцена — одна из наиболее странных в романе и наиболее точно в ней виден весь характер, даже можно сказать, нрав Елены. В ответ на совершенно невинные слова Ивана Петровича: «Вот и платьице хорошенькое запачкала веником» — Елена с самым хладнокровным видом разорвала свое кисейное платье сверху донизу, а затем в ярости «изорвала... чуть не в клочки». При этом она смотрела «каким- то вызывающим взглядом» и, вероятно, ждала, что Иван Петрович будет ругать ее.
Но мы уже знаем, что Иван Петрович не станет ругать девочку, у него — другое оружие. «На это дикое, ожесточенное существо нужно было действовать добротой», — пишет Иван Петрович, и он тут же отправляется на поиски срочной работы и денег, а добыв их, — на Толкучий рынок, где покупает Елене платье.
Он думал еще, что надо бы купить «какую-нибудь шубейку», белье, но не решился: «Елена такая обидчивая, гордая. Господь знает, как она примет и это платье, несмотря на то, что я нарочно выбирал как можно проще и неказистее, самое буднишнее...»
Вот чем Иван Петрович победит Елену — не платьем, а тем, что признает в ней личность, право на обидчивость, на гордость. Одевала ведь ее и Бубнова, даже роскошно одевала, но эти ее наряды были ненавистны Елене.
Теперь же, увидев купленное Иваном Петровичем скромное платье, «она вспыхнула... была чрезвычайно удивлена и вместе с тем... ей было чего-то ужасно стыдно... и что-то мягкое, нежное засветилось в глазах ее».
Видя, что Иван Петрович опять собрался уходить (он вновь беспокоился о Наташе), Елена говорит: «Вы, когда уходите, не запирайте меня... Я от вас никуда не уйду» — и опять добавляет, что будет работать: стирать Ивану Петровичу белье, готовить кушанье... Она, без сомнения, не имелав виду заплатить своим трудом за платье, а просто хотела сделать для него что-нибудь хорошее, ответить заботой на заботу. Но Иван Петрович на этот раз не понял ее и даже упрекнул: «...тебе тяжело от меня самый простой подарок принять. Ты тотчас же хочешь за него заплатить, заработать, как будто я Бубнова и тебя попрекаю. Если так, то это стыдно, Елена».
Девочка могла бы ответить, что она совсем другое имела в виду, но промолчала. Не может она за три дня изменить свой характер — такому забитому, измученному существу нужно время, чтобы понять доброту. Единственное ее оружие — молчание, и она пользуется этим оружием, боясь раскрыть то человеческое, что уже проснулось в ней в ответ на заботу Ивана Петровича. Но и она кое-чего добилась: Иван Петрович, уходя, оставил ей ключ и просил запереться изнутри. Теперь уже и он начал доверять Елене.
Этот третий день тянулся невыносимо долго. Иван Петрович не мог не забежать к Наташе, а вернувшись от нее, застал у себя старика Ихменева, немало удивленного присутствием Елены.
Был совсем измучен, едва перемогал болезнь, но превозмочь ее был уже не в силах: проводив старика, Иван Петрович упал в нервном припадке — и, если бы не Елена, мог заболеть надолго.
4. Не Елена — Нелли...
Девочка всю ночь дежурила возле больного, заботилась о нем: он проспал до полудня и проснулся освеженный, бодрый. Наступил последний, четвертый день.
Все предыдущие дни Ивана Петровича были переполнены множеством мелких и крупных дел. Долгожданный четвертый день, когда все сомнения должны были разрешиться, Иван Петрович проводит дома, он еще болен, лежит — и весь этот день он почти не успевает думать о Наташе, потому что все его внимание занимает Елена.
В ее жизни тоже многое изменилось за эти четыре дня. В первый из них она еще была у Бубновой, только позавчера вечером Иван Петрович с помощью Маслобоева увез ее от-< туда, но, благодаря умному и доброму подходу к ней Ивана Петровича, она уже доверилась ему. Можно подумать: что-то уж очень быстро, однако, удалось ему завоевать Елену, хотя мы и видели, как много душевных сил было положено на это. Но нет, Елена вовсе не завоевана, и даже в разговоре четвертого дня мы увидим, что Иван Петрович еще очень мало знает о ней и очень многого не может понять.
Оказывается, вчера Елена внимательно слушала весь разговор Ивана Петровича с Ихменевым и сделала из этого раз^ говора свои выводы: «Он дурной старик». Иван Петрович возражает: «...он очень добрый человек». Но у Елены свои представления — и достаточно твердые: «Нет, нет; он злой...»
Роман Достоевского построен так, что каждая человеческая история в нем как бы повторяется. Мы еще убедимся в этом, но уже и сейчас видим, что история Наташи очень напоминает историю матери Елены. Девочка твердо знает, как ей понимать старика Ихменева: он кажется ей повторяющим ее дедушку — старого Смита. Мы уже догадываемся: сходство действительно есть, и девочка больше знает об этом сходстве, чем Иван Петрович. Поэтому она так решительно осуждает Ихменева: «Он свою дочь не хочет простить» и знает, как должна поступить Наташа: «Теперь, как простит, дочь и не шла бы к нему».
Видимо, у Елены давно создалась своя, выношенная мечта о мщении, которого не удалось осуществить ее несчастной матери, и теперь Елена мечтает, чтобы Наташа отомстила своему отцу — как бы и за себя, и за мать Елены: «...он не стоит, чтобы дочь его любила... Пусть она уйдет от него на-! всегда и лучше пусть милостыню просит, а он пусть видит, что дочь просит милостыню, да мучается». Иван Петрович догадывается: «Верно, она неспроста так говорит», но еще не знает, насколько схожа история дочери Смита с На- ташиной историей.
И снова Елена повторяет свою излюбленную мечту: «...в служанки наймусь... Выдержу. Меня будут бранить, а я нарочно буду молчать. Меня будут бить, а я все буду молчать, все молчать, пусть бьют...»
Слова как будто те же, что мы не раз уже слышали от Елены, но в ее сердце уже произошла немалая душевная ра-«
бота — прежде всего, в девочке изменилось главное: ведь несчастья, озлобленность плохи не только тем, что они портят человеку жизнь, делают его несчастливым; когда человек ниоткуда не видит добра, он перестает думать о других людях, замыкается в своих бедах; так и Елена — кроме своего старого дедушки, она ни о ком не привыкла думать, никого не умеет жалеть. Все люди, с кем она сталкивается, вызывают у нее или ненависть и злобу, или гордое недоверие. Но за четыре дня у Ивана Петровича она все-таки поняла, что теперь связана с хорошим человеком. Елена понимает даже, что обижает Ивана Петровича своей гордыней. Пока ему было очень плохо и он лежал в тяжелом нервном припадке, Елена не стеснялась заботиться о нем. Теперь, когда Ивану Петровичу лучше, она решается заговорить о его делах, расспросить о его работе — ей важно понять, богат он или беден, она уже поняла, что небогат, и уже придумала, что будет помогать ему. Вероятно, ей даже приятно узнать, что Иван Петрович беден: решив работать и помогать Ивану Петровичу, она не нарушает обещания, данного матери.
Иван Петрович не сразу понял ее: он подумал, что девочка опять из гордости, самолюбия говорит о работе, но теперь Елена уже не стесняется объяснить ему: «...я не гордая... Нет, нет, я не такая... я вас люблю. Вы только один меня любите...»
Читая «Униженных и оскорбленных», невольно думаешь, что в книге слишком много слез, рыданий и нервных припадков, горячки, истерик. Но в книге изображена такая мучительная жизнь, что в этом обилии слез нет ничего удивительного. Конечно, столько пережившая девочка не может быть спокойной, поверив, наконец, что нашелся человек, которому она не безразлична, который уже не может не волноваться за нее, не заботиться о ней. Поняв, что Иван Петрович любит ее, она, конечно, «рыдала до того, что с ней сделалась истерика». Когда, наконец, Ивану Петровичу удалось успокоить ее, Елена вдруг говорит ему, что зовут ее не Леночкой, а Нелли — так звала ее мать.
6*
163
Да, Иван Петрович добился доверия этой гордой, несломленной души. И только теперь он решается расспросить девочку о ее прошлом — ведь до сих пор он почти ничего не знал. Душевная чуткость Ивана Петровича проявилась прежде всего в том, что он понимал, как тяжело будет девочке рассказывать ему свою горестную историю.
Достоевский не передает нам ее рассказа. Мы узнаем немногое: что дедушка после смерти мамаши «стал совсем забываться» и девочка приносила ему еду на деньги, которые выпрашивала на мосту как милостыню. И узнаем главное: «Он был злой и не прощал, как вчерашний злой старик...»
Ивана Петровича поражает эта фраза — не только как человека, но уже и как писателя. «Я вздрогнул. Завязка целого романа так и блеснула в моем воображении. Эта бедная женщина, умирающая в подвале у гробовщика, сиротка, дочь ее, навещавшая изредка дедушку, проклявшего ее мать; обезумевший чудак старик, умирающий в кондитерской после смерти своей собаки!..»
Вот теперь Иван Петрович тоже понял, как близка трагическая история дочери Смита к жизни Наташи. Очень осторожно он начинает расспрашивать девочку и постепенно понимает, какие чувства должен был вызвать у нее старик Ихменев: ведь он так же, так же, как дедушка, не хотел простить свою дочь, продолжая любить ее. Елена рассказывает, что «Азорка-то был прежде маменькин... Дедушка очень любил прежде маменьку, и когда мамаша ушла от него, у него остался мамашин Азорка. Оттого-то он и любил так Азорку...»
Когда в первой главе романа мы увидели худую, старую собаку, показавшуюся Ивану Петровичу сначала «гадкой» и вызвавшую затем его жалость, мы никак не предполагали, что Азорка, умерший в первой главе, не раз еще появится на страницах книги, мы не забудем о нем до конца, и старик Смит казался нам только несчастным, униженным существом, а оказывается, он был и жесток, и тоже умел унижать — если бы он простил дочь, может быть, вся жизнь и ее, и девочки, и его самого пошла бы иначе, может быть, он и сам прожил бы дольше, и дочь его не умерла в страшной нищете, и девочка не попала к Бубновой. Но он не простил, и все сложилось так, как сложилось, а теперь девочка не может простить старика: «Мамашу не простил, а когда собака умерла, так и сам умер...»
Из осторожных расспросов Ивана Петровича мы узнаем, что дед «был прежде богатый», что «мамаша, еще прежде, чем я родилась, ушла от дедушки», что родилась Нелли за границей, где «мамаша жила одна со мной. У ней был друг, добрый, как вы... он ее еще здесь знал... Но он там умер, мамаша и воротилась...»
Иван Петрович предполагает, что это и был отец девочки, но Нелли знает правду: «Мамаша ушла с другим от дедушки, а тот ее и оставил...»
Иван Петрович не признается на этот раз, что он вздрогнул. Но ведь теперь история дочери Смита уже совсем совпадает с историей Наташи — и этот друг, «добрый, как вы», который «ее еще здесь знал», — даже девочке напоминает Ивана Петровича; обе истории развиваются параллельно, и ужас за Наташу не может не охватить Ивана Петровича: ведь идет четвертый день, на сегодня назначено решающее свидание с князем, неужели Наташа будет так же оставлена, покинута тем, кого она любит, и отец так же не простит ее, никого у нее не останется, кроме верного Ивана Петровича?
Так бегло, коротко мы узнаем историю дочери Смита. Нелли не говорит только одного: «с кем ушла ее мамаша и кто, вероятно, был и ее отец». Не говорит, хотя, видимо, знает. Но рассказ девочки длился несколько часов, а мы знаем только начало этого рассказа.
Достоевский сознательно не сообщает нам всех подробностей — он оставляет их до того времени, когда Нелли придется повторить свою историю. Еще долго мы не будем знать о ее мучительном единоборстве с обнищавшим, страстно любящим дочь стариком, ни за что не желающим смирить свою гордыню, о страшной нищете, в которой жила мать Нелли, о ее смерти — без прощения отца, и о странном переплетении всех этих событий в сознании девочки.
Пока кончается четвертый день: Ивану Петровичу, больному или здоровому, надо торопиться к Наташе, и он решился объяснить это Нелли и отправился к Наташе.
Глава VI
НАТАША
1. Муки ожидания
Все эти долгие четыре дня, когда Иван Петрович был занят хлопотами о Елене, Наташа ходила одна взад и впе^ ред по своей комнате и ждала... Иван Петрович вырывался к ней хоть ненадолго каждый день, но только в первый день Наташа разговаривала с ним дружески. Все следующие дни она, казалось, толь-» ко и ждала, чтобы он ушел, даже однажды не выдержала и прямо сказала ему, чтобы он уходил... Иван Петрович недоумевал: чем объяснить такой приступ неприязни?
В первый день Наташа делилась с ним своими сомнениями: вправду ли, серьезно ли князь предложил ей стать женой своего сына? Понимая, что Наташа ждет от него утешения, Иван Петрович, как бы не слыша ее сомнений, ответил: «Князь, может быть, и иезуитничает, но соглашается на ваш брак вправду и серьезно».
Наташа на это восклицает: «Да как же бы он мог в таком случае начать хитрить и...» (курсив Достоевского). Она тут же возвращается к этой мысли: «Нельзя даже предлога приискать к какой-нибудь хитрости. И, наконец, что ж я такое вглазах его, чтоб до такой степени смеяться надо мной? Неужели человек может быть способен на такую обиду?»
Иван Петрович и с этим соглашается, но про себя думает: «Ты, верно, об этом только и думаешь, теперь, ходя по комнате, моя бедняжка, и, может, еще больше сомневаешься, чем я».
И снова мы видим: хороший человек слабее и уязвимее плохого. Плохому и в ум не придет обвинять в том непонятном и неприятном, что происходит в его жизни, в первую очередь себя. У плохого человека всегда и во всем виноваты другие. Наташа же терзает себя сомнениями: как она вела себя с князем? «Не слишком ли выразила перед ним свою радость? Не была ли слишком обидчива? Или, наоборот, уж слишком снисходительна? Не подумал ли он чего-нибудь?..»
Стремясь утешить и успокоить Наташу, Иван Петрович уже не может уследить за каждым своим словом, у него вырывается:
«— Неужели можно так волноваться из-за того только, что дурной человек что-нибудь подумает! — сказал я.
— Почему же он дурной? — спросила она».
Как видим, теперь роли переменились. Иван Петрович осмелился сказать вслух то, что оба думали про себя, и Наташа сразу бросается защищать князя. Иван Петрович понимает, что заставило Наташу забыть все свои подозрения и броситься отстаивать князя: таково уж свойство ее характера — «захвалить человека, упорно считать его лучше, чем он в самом деле, сгоряча преувеличивать в нем доброе... Тяжело таким людям потом разочаровываться; еще тяжелее, когда чувствуешь, что сам виноват».
Достоевский постепенно, начиная с поведения князя в торжественный миг, когда он явился с предложением, и дальше, нагнетая у читателя подозрения, уже подготовил нас к мысли, что князь не был искренен, когда явился к Наташе, что предложение, сделанное им так торжественно, — только хитрый шаг. Это мы понимаем, уже ненавидим и даже боимся князя — особенно после слов, сорвавшихся о нем у Маслобоева. Какое такое «дельце» можно было «разыскивать» для князя, что даже Маслобоев удивился? Не грозит ли это «дельце» новыми неприятностями и обидами Наташе?
Да, мы уже твердо поняли: от князя нечего ждать, кроме обиды и горя, но вот чего мы не можем понять: зачем же он устроил весь этот спектакль с красивыми словами, с разговором о браке? Какая у него цель? Чего он добивается?
В том-то и особенность книг Достоевского, что главное в них — не развитие действия, не смена событий, но всегда — психология героев. Читателю важно понять характеры действующих лиц, постичь, почему они действуют так, а не иначе, как приходят к тем или иным поступкам и решениям, что происходит в человеческой душе. Поэтому, уже понимая подлую сущность поступков князя, мы хотим проникнуть в душевный смысл этих поступков: как может быть человек столь подл, столь беспринципен?
Может быть, Наташа первая начала подозревать, чего добивается князь, но ей так не хотелось верить его коварству, что подозрения свои Наташа держит при себе и не хочет признаваться в них даже Ивану Петровичу. Однако увидев, что ее друг собрался уходить, Наташа заговаривает с ним о главном, что ее волнует: об Алеше. Сегодня утром он был у нее недолго, «влетел таким мотыльком, таким фатом, все перед зеркалом вертелся. Уж очень он как-то без церемонии теперь...»
Вот она и высказала свои опасения: если раньше Алеша чувствовал хоть какую-то ответственность за ее судьбу, был вынужден относиться серьезно к своим отношениям с ней, то теперь, когда его отец сам явился к Наташе и сделал предложение за сына, Алеша почувствовал себя вправе освободиться от ноши ответственности.
И тут же Наташа принимается обвинять во всем происходящем себя: «Ах, какие мы все требовательные, Ваня, какие капризные деспоты!..»
Обвинив себя, она утешается: раз виновата во всем она сама, то это еще можно исправить: можно послать за Алешей, она будет с ним весела и приветлива, а тогда, может быть, все будет хорошо.
В глубине души она знает, что хорошо уже не будет, что подозрения ее справедливы, она правильно поняла тактику князя. Но так хочется поверить тому, чему хочется верить... На этом Наташа прощается с Иваном Петровичем — и опять остается одна со своими мыслями.
На второй день Наташа опять одна. Ивана Петровича она встречает сухо, расспрашивает его о Елене, но на вопросы об Алеше старается не отвечать и почти не скрывает, что хочет остаться одна.
Иван Петрович не может объективно понять Наташу, потому что любит ее. Достоевский сам за Ивана Петровича подсказывает нам выводы. Во вчерашней сцене мы видели, как Наташа хотела, жаждала обмануть себя, разрушить собственные подозрения, заставив себя поверить, что все идет хорошо, когда все идет плохо. Сегодняшнее ее поведение тоже раскрывает психологию любящего человека: «У нее опять горе», — подумал Иван Петрович и был прав. Но чем сильнее это еще не известное нам горе, тем больше хочется Наташе скрыть его от своего единственного друга, и она явно почувствовала облегчение, когда Иван Петрович стал прощаться.
Понимая все это, Иван Петрович идет домой грустный и озабоченный. О его психологии мы задумывались мало, а ведь это — тоже сложная и трудная психология любящего человека. Он любит, как редко кому удается любить, не позволяя себе ревности, по известной пушкинской формуле: «Я вас любил так искренно, так нежно, как дай вам бог любимой быть другим». Самое большое его огорчение — то, что не видит он в Алеше той истинной любви, какой желал бы Наташе, какой сам он ее любит, — любви-самопожертвования, отказа от своего счастья ради счастья любимой.
Наташа обмолвилась, что и сегодня Алеша был у нее, но недолго. Конечно, Иван Петрович поверил ей, но эти быстрые, короткие визиты смущают его: так ли вел бы себя он сам в положении Алеши? И почему Наташа явно не хочет с ним разговаривать?
То, что узнал Иван Петрович у Наташи на третий день, поразило его, «как будто ударило в самое сердце». Встретила она его «недовольным, жестким взглядом», а на его вопросы отвечала: «Знаешь что, Ваня... будь добр, уйди от меня, ты мне очень мешаешь...»
Ничего не понимая, Иван Петрович вышел — и от служанки Мавры узнал правду: Алеша не был ни вчера, ни сегодня, «с третьего дня глаз не кажет»; и если вчера Наташа говорила, что он был, то это только из гордости, «больно ее заело».
Каждый из четырех дней, пока ждут князя, труден по- своему и для Наташи, ее дни идут мучительно медленно, без событий, в раздумьях, и для Ивана Петровича: каждый следующий его день еще больше насыщен событиями и беготней, чем предыдущий. Вот и в третий день — пятницу — у него возникает множество дел и множество беготни. С утра — за деньгами к издателю, потом на рынок, затем домой —трудный разговор с Еленой, от нее к Наташе — и, узнав неве« роятную новость о том, что Алеша не приходил, «прямо к Алеше», которого, конечно, не было дома, — Иван Петрович мог только оставить ему записку.
Иван Петрович решительно не может ничего понять: раз Алеши нет ни у Наташи, ни дома, значит, он у Катерины Федоровны, что уж и по любым меркам странно: собираясь жениться на одной женщине, забросить ее и проводить все время у другой. Иван Петрович недоумевает, но есть человек, который давно все понял, и, когда Иван Петрович, совсем уже больной, «едва дошел домой», этот человек давно ждет его, с трудом уговорив Елену открыть дверь и пустить его в квартиру. Человек этот — отец Наташи, старик Ихменев.
2. Дуэль?
Старика удивляет присутствие Елены, огорчает больной вид Ивана Петров вича, но все это отступает перед тем решением, с которым он пришел сюда. Николай Сергеич слишком занят болью за дочь — он не может ни говорить, ни думать ни о чем другом. Не сразу он решился сказать, зачем пришел, но «рассердился на себя за свою ненаходчи- бость» — и решился:
«Ну, да что тут еще объяснять! Сам понимаешь. Просто- напросто я вызываю князя на дуэль, а тебя прошу устроить это дело и быть моим секундантом».
Этот разговор Ивана Петровича с отцом Наташи еще раз показывает безысходность положения униженных и оскорбленных — ведь и последнее средство, на которое решился растоптанный князем старик, невозможно: оно не может принести ничего, кроме новых оскорблений. Сначала Иван Петрович вообще не может понять Николая Сергеича: «Какой же предлог, какая цель? И наконец, как это можно?»
Но решение старика, видимо, продумано уже давно. Он объясняет, что тяжба его кончилась, князь уже выиграл дело и теперь не может обвинить Ихменева, что он затеял дуэль,чтобы не платить ему денег... Вопрос решен: Ихменевка будет по суду передана князю, «следовательно, нет никаких затруднений, и потому не угодно ли к барьеру».
Иван Петрович чувствует: решение вызвать на дуэль пришло именно теперь, когда князь согласился на брак своего сына с Наташей, — значит, Николай Сергеич хочет любой ценой не допустить этого брака — почему же? На первый взгляд, его поведение нелогично, противоречиво: ведь он сам не простил дочери именно того, что она покрыла себя позором, уйдя из дома к любимому человеку, не дождавшись брака с ним. Ведь отец «вырвал ее из... сердца, вырвал раз и навсегда», а теперь, когда возникла надежда на то, что Наташа восстановит в глазах света свою честь, выйдя замуж за молодого князя, — отец ее не только не хочет согласиться на этот брак, но стремится помешать ему.
Оскорбленная гордость заставляет старика Ихменева смотреть на многое иначе, чем он смотрел еще несколько месяцев назад. Теперь ему кажется: самое страшное для Наташи — быть связанной с князьями Валковскими. Раньше он считался с мнением общества, страдал от мысли, что ;его дочь осуждена светом. Теперь он говорит совсем другое:
«— А плевать на все светские мнения, вот как она должна думать! Она должна сознать, что главнейший позор заключается для нее в этом браке, именно в связи с этими подлыми людьми, с этим жалким светом. Благородная гордость — вот ответ ее свету».
Казалось бы, Николай Сергеич наконец рассуждает разумно. Но нет — он не простил дочь, в нем все еще говорит прежде всего оскорбленная гордость. Он по-прежнему ставит условия: пусть Наташа сама откажется от брака с Алешей, тогда он согласен простить и защитить ее от любого, кому вздумается ее обижать.
До чувств дочери старику нет дела, он думает только о своей любви к ней.
Как всегда бывает в таких случаях, отец не прав там, где отдается отцовскому чувству ревности и обиды за дочь, но он прав, когда думает о будущем дочери, — Иван Петрович поневоле соглашается с ним. Но выход, придуманный стариком, — никак не годится. «Неужели вы могли хоть одну минуту думать, что князь примет ваш вызов?» — спрашивает Иван Петрович.
Об этом ослепленный старик не подумал.
«— Как не примет? Что ты, опомнись!» — восклицает он. Иван Петрович убедительно доказывает ему, что князь «найдет отговорку, совершенно достаточную; сделает все это с педантской важностью» и только осмеет Ихменева.
Его аргументы сразили старика: все это непонятно ему с его старинным кодексом чести, с его представлениями о благородстве. Николай Сергеич растерянно восклицает:
«— Да как это он не примет? Нет, Ваня, ты просто какой-то поэт; именно настоящий поэт! Да что ж, по-твоему, неприлично, что ли, со мной драться? Я не хуже его. Я старик, оскорбленный отец; ты — русский литератор и потому лицо тоже почетное, можешь быть секундантом и... и...»
Неужели для князя Валковского могут иметь хоть какое- то значение эти понятия: оскорбленный отец, русский литератор... Он ведь сам открыто говорил Наташе, что любит деньги и положение в свете — какое может быть положение у нищего литератора и помещика, потерявшего последнее поместье? Не снизойдет князь до этих людей — Иван Петрович прав, и старик постепенно понимает это. Единственное, что ему остается теперь, когда рухнула последняя его надежда спасти дочь, подставив себя под пистолет, — это вручить Ивану Петровичу «сто пятьдесят рублей, на первый случай» — «слишком ясно», какой первый случай он имеет в виду: Наташа останется брошенная, униженная, без денег, ей понадобится его помощь...
3- Наташа и князь
Проходит долгий третий день, который Наташа опять проводит в ожидании, и вот наступает четвертый — день, когда все должно объясниться, когда приедет, наконец, князь. Что еще может автор сообщить нам о князе Валковском? На протяжении второй части романа мы так много узнали о его подлости и коварстве, что, кажется, ничем нас уже не удивишь. Но тем не менее вся третья часть будет посвящена князю — и мы опять узнаем о нем немало нового. В конце третьей части князь исчезнет со страниц романа, только ещеодин раз он мелькнет перед нами совсем ненадолго — но в третьей части он раскроется сполна. Нужно ли, оправдано ли такое пристальное внимание писателя к этой внешне привлекательной, но внутренне столь отвратительной личности?
У Достоевского не так много вполне плохих людей: мы испытываем ко многим из них если не жалость, то хотя бы понимание причин, сделавших этих людей злыми и безнравственными. Смердякова в «Братьях Карамазовых» сделала злодеем несправедливость судьбы; Свидригайлов в «Преступлении и наказании» искупает свое злодейство самоубийством, Ганя Иволгин в «Идиоте» мелок и гадок, но пытается сохранить человеческое достоинство; в князе Валковском нет ничего не только доброго или честного, но хоть сколько-нибудь оправдывающего его страшную жизнь.
Достоевский, стремясь объяснить психологию князя, обращает внимание читателя прежде всего на лицемерие, постоянную лживость этого человека. Поэтому такое важное значение имеет встреча Ивана Петровича с князем на темной и грязной лестнице дома, где живет Наташа. Иван Петрович был готов к тому, чтобы встретить князя: он видел его коляску, он знал, что сегодня князь обещал быть у Наташи, — и все-таки не поверил, что впереди него по темной лестнице взбирается князь: «Незнакомец, взбираясь наверх, ворчал и проклинал дорогу и все сильнее и энергичнее, чем выше он поднимался. Конечно, лестница была узкая, грязная, крутая, никогда не освещенная; но таких ругательств, какие начались в третьем этаоюе, я бы никак не мог приписать князю: взбиравшийся господин ругался, как извозчик», — признается Иван Петрович. Но главное впереди — убедившись, наконец, при свете фонаря, что перед ним действительно князь Валковский, Иван Петрович увидел, как неприятно было князю заметить, что следом за ним шел друг Наташи, «но вдруг все лицо его преобразилось. Первый злобный и ненавистный взгляд его... сделался вдруг приветливым и веселым, и он с какой-то необыкновенной радостью протянул мне обе руки...»
Иван Петрович видит лицемерие князя, понимает его природный дар перевоплощения, способность владеть своим лицом, интонацией, голосом, не верит его «простодушнейшему хохоту» — и все-таки не скоро еще поверит в полную, неизменную лживость князя.
К Наташе князь входит, уже вполне овладев собой, «дружески и весело» приветствует ее, изумляется, что Алеши еще нет, — Иван Петрович не может не понимать неправдивости поведения князя, — и в то же время он пугается, увидев что Наташа пришла к выводу: «Виноват всему он» (курсив Достоевского) и, видимо, решилась на какой-то резкий шаг.
За эти четыре дня, что она металась в отчаянии по своей комнате и ждала Алешу, а его не было, Наташа тоже научилась — если не хитрить, то по крайней мере владеть со-< бой. Она «вышла к князю с светлым лицом, заговорила с ним» с самым простодушным видом — и, может быть, даже успела обмануть князя — но ненадолго.
Начинается борьба правды и лжи, честности и лицеме-< рия. Наташа старается сохранить вежливость — и только. Князь любезно лжет, Наташа любезно же дает ему понять, что разгадала его ложь. Но Иван Петрович все еще не верит князю: «...он говорил так прямо, так натурально. Казалось, не было возможности в чем-нибудь подозревать его».
Речь князя сводится к тому, что он только что встретил Алешу и сам послал его с поручением, потому что он ведь теперь все время сидит у Наташи и «забыл все на свете».
На это Наташа спрашивает «тихим и спокойным голосом:
— И вы вправду не знали, что он у меня все эти дни ни разу не был?»
Изумление князя кажется неподдельным, но, пожалуй, оно слишком уж неподдельно, слишком сильно, он даже де^ лает вид, что не совсем верит Наташе. И тут она открывает все свои карты: «...я так думала, что вы не только не станете удивляться, но даже заранее знали, что так и будет».
Князь, видимо, не ожидал, что эта неопытная девочка разгадает его планы, поймет всю подноготную его поступков. Он раздражен и пробует говорить с Наташей, как оскорбленный отец: «...вы как будто и меня в чем-то обвиняете, тогда как меня даже здесь и не было... вы, по некоторой мнительности, которую я замечаю в вашем характере, уже успели изменить обо мне мнение...»
Увидев, что очаровать Наташу не удалось, он надеется теперь испугать ее. Как ни велик его опыт обманов, князь еще не понимает, что эта девочка, выросшая в уединенном поместье, привыкшая к обожанию родителей, никогда не сталкивавшаяся со злом, накопила за последние полгода такой опыт страданий, что может поспорить со всеми его хитроумными, тонкостями. Сила ее любви к Алеше такова, что она теперь умеет и думать, и делать выводы, и угадывать своим страдающим сердцем то, чего не угадал бы и опытный делец. Князь рассчитывал обмануть ее без труда — и он делает ошибку в той борьбе, какую неожиданно для него начала Наташа. «Не уезжал бы я — вы бы меня узнали лучше, да и Алеша не ветреничал бы под моим надзором. Сегодня же вы услышите, что я наговорю ему», — с самым доброжелательным видом произносит князь. Но Наташа уже решилась сражаться единственным доступным ей оружием: полной честностью.
«— То есть вы сделаете, что он мною начнет тяготиться?» — отвечает Наташа.
Князю приходится переменить тон. На обман не поддалась, на испуг не поддалась, теперь он пробует обидеться. Но и здесь Наташа не поддается: «Обижать я вас не хочу, да незачем, хоть уж потому только, что вы моими словами не обидитесь, что бы я вам ни сказала. В этом я совершенно уверена, потому что совершенно понимаю наши взаимные отношения: ведь вы на них не можете смотреть серьезно, не правда ли?»
Князь отвечал на всю суровую, хотя по форме и шутливую, речь Наташи тоже шутливым тоном. Но Ивану Петровичу послышался в его ответе «какой-то уж слишком легкий, даже небрежный тон». Наташа обращается к князю: если он действительно хочет доказать свою прямоту и искренность, то она просит одного: «Ни одним словом, ни одним намеком обо мне не беспокоить Алешу ни сегодня, ни завтра. Ни одного упрека за то, что он забыл меня...»
Князь обещает выполнить эту просьбу, собирается еще что-то сказать, но тут появляется Алеша.
Мы хорошо помним, как он «влетел с каким-то сияющим лицом» и радостно, весело рассказал о Левеньке и Бореньке, а главное — о Кате и о миллионе, который она готова пожертвовать во имя иде,й Левеньки и Бореньки. Этого мало — он и отца решил привлечь к своим новым знакомым, оторвав его от светского круга... «Но как только Алеша кончил, князь вдруг разразился смехом». Алеша огорчился — и здесь в нем проснулось подлинное достоинство. Он отвечал отцу спокойно и откровенно: «Ты согласился на мой брак с Наташей; ты дал нам это счастье и для этого победил себя самого... Но почему же ты теперь с какой-то радостью беспрерывно намекаешь мне, что я еще смешной мальчик и вовсе не гожусь быть мужем; мало того, ты как будто хочешь осмеять, унизить, даже как будто очернить меня в глазах Наташи...»
Как ни наивен казался Алеша, когда рассказывал о своих новых знакомых и их высоких идеях, теперь мы начинаем понимать, что и в наивности его виноват князь. Алеша вовсе не глуп, он многое видит, замечает. В эти четыре дня, когда он, на первый взгляд, только и делал, что болтал с Катей и выслушивал умствования Безмыгина, Алеша тоже вспоминал вечер, проведенный его отцом у Наташи, думал о поведении отца, перебирал в памяти странные слова, сказанные ему отцом о Наташе «как-то легко, как-то без любви, без такого уважения к ней...»
Видимо, князь даже и такой приветливости не ожидал от сына. Поэтому, старательно лицемеря здесь, перед Наташей и Иваном Петровичем, он не выбирал выражений при Алеше — и теперь «князь смутился».
Второй уже раз за один субботний вечер ему пришлось быстро менять рассчитанную позицию: сначала он понял, что его раскусила Наташа; теперь оказалось, что и сына любовь к Наташе сделала зорким, и сын уже начинает понимать неискренность отца, хотя все еще хочет ему верить и надеется, что отец сохранит в его душе тот ореол благородства, в каком был всегда.
Князю нужно быстро искать оборонительную позицию. И он находит ее, изменив слову, данному Наташе. Он обрушивается на сына с упреками за то, что тот поселил Наташу в такой плохой квартире, не заботился о ней и, наконец, прямо выговаривает ему: как мог Алеша четыре дня не показываться к той, которой предстоит сделаться его женой, а вместо того «увлекся всем, что благородно, прекрасно, честно...» Все, что говорит князь, совершенно справедливо, но мы ведь видели, как Наташа специально просила его не говорить Алеше ничего подобного и объяснила причину своей просьбы: она не хочет, чтобы Алеша ездил к ней по обязанности, чтобы стал тяготиться ею...
Теперь, когда князь говорит все это, мы, конечно, уже понимаем: именно для того и говорит, чтобы разрушить "предложенную им же свадьбу. Но он опять просчитался: забыл о
Наташе. Ему было важно сейчас совладать с бунтом сына, и он упустил главную опасность: он все надеялся, что Наташа или не решится прямо выступить против него, или выступит так, что Алеша рассердится на нее за это... А Наташа решилась — и заговорила с той мерой откровенности и честности, какой не может не понять даже Алеша, хотя он, конечно, испытал «наивный страх и томительное ожидание», когда Наташа начала говорить.
За эти мучительные четыре дня Наташа поняла все истинные цели князя, и так как он настаивает: «...не благоволите ли вы объясниться?» — Наташа, «сверкая глазами от гнева», решается высказать «все, все!»
Наташин отец хотел вызвать князя на дуэль; преданный Иван Петрович отговорил его, да и вправду князь не позволил бы стрелять в себя. Но дуэль состоялась на наших глазах — словесная дуэль, на которой с князем сражается одна Наташа. Ни в ком она не находит поддержки; Наташа произносит свою выстраданную речь стоя, «не замечая того от волнения», а князю только того и надо: раз Наташа поняла все его хитрости, пускай теперь она порвет помолвку, возьмет на себя вину за разрыв и, главное, останется виноватой в глазах Алеши.
Длинная речь Наташи занимает почти целую страницу: она обвиняет князя в том, что его сватовство было шуткой, тонким расчетом с целью разлучить сына с Наташей: «Вам надо было успокоить вашего сына, усыпить его угрызения, чтоб он свободнее и спокойнее отдался весь Кате; без этого он бы все вспохминал обо мне, не поддавался бы вам, а вам наскучило дожидаться. Что, разве это неправда?»
Ни Иван Петрович, ни Алеша не могут поддержать, защитить Наташу, потому что оба они все еще верят князю. Даже Иван Петрович старается перебить ее речь: «...подумай, что ты говоришь!» — кричит он. Алеша же «сидел убитый горем и смотрел, почти ничего не понимая».
Князь с самого начала чувствует себя победителем в этой дуэли, потому что его оружие: ложь и хитрость — гораздо сильнее Наташиного: честности и правды. Князь может позволить себе поиздеваться «вполголоса, как будто про себя»:
«— Романы, романы... уединение, мечтательность и чтение романов!»
Князь и не думает отвечать Наташе на ее речь; он делает вид, что оскорблен ее подозрениями. Что думает Наташа, ему совершенно безразлично, его цель — убедить Алешу, что не он, а Наташа разрушила помолвку, на которую он благородно согласился; не он оскорбил Наташу, а она его. Бедный Алеша не может этого выдержать и бросается на защиту отца: «...верю, что ты не мог оскорбить, да и не могу я поверить, чтобы можно было так оскорблять!»
Князь добился того, чего хотел. Ему удалось представить Наташу «исступленной», подозрительной женщиной, которая своим поведением и слепой ревностью к Кате заставила его, князя, пересмотреть свое отношение к предполагаемому браку. Теперь князь уже признается: «...мы поторопились, действительно поторопились».
Что могло остаться Наташе, которая одна понимает всю его хитрую политику и знает, что через минуту князь объявит: это он расторгает помолвку? Торопясь предупредить его отказ женить сына, Наташа кричит: «...я сама, еще два дня тому, здесь, одна, решилась освободить его от слова, а теперь подтверждаю при всех. Я отказываюсь!»
Князь не показывает своего торжества: ведь ему надо продолжать обманывать Алешу. Напротив, он делает вид, что все эти страшные слова для Наташи — только игра, он обещает еще увидеться с Наташей и обо всем поговорить, упоминает свои будто бы планы насчет Наташиных родственников — словом, старается оставить Наташу и Ивана Петровича в недоумении и неясности. И снова, как четыре дня назад, напрашивается в гости к Ивану Петровичу.
Зачем ему так нужно это знакомство? И почему теперь Иван Петрович тоже чувствует, что уже не может «избежать его знакомства»? Одно князь заставил всех почувствовать: его воля сильнее, чем воля каждого из участников этой сцены в отдельности, и сильнее, чем все они вместе. Раз ему заблагорассудилось или почему-то нужно поговорить отдельно с Иваном Петровичем, значит, он добьется этого. «На днях я буду у вас; вы позволите?» — с этими словами князь покидает Наташину комнату.
После ухода князя все остаются угнетенные и встрево^ женные. Ивану Петровичу все кажется, что Наташа наговорила лишнего, что все могло бы обернуться иначе. Когда же он узнает, что Наташа приготовила и закуску, и вино, что у нее тоже оставалась какая-то надежда на этот вечер, Иван Петрович совсем уж огорчается.
Но еще больше огорчен Алеша. Он ведь уже так настрой ился, что все будет хорошо. И вдобавок — правильно угадала Наташа — князь своим предложением очистил Алешину совесть: раз свадьба решена, раз Наташа уж непременно будет его женой, теперь он мог не думать о ней, а целиком предаться новому чувству — к Кате. И вдруг все рухнуло! Алеше так хочется вернуть вчерашний день, когда было так хорошо и весело, такие умные разговоры вел Безмыгин, так интересно было с Катей...
Наташа своим исстрадавшимся сердцем понимает все, что происходит в душе ее возлюбленного. Она знает: «эта ехидна князь» полностью овладел простодушным сердцем сына. Знает и другое: ей нужно немедленно расстаться с Алешей навсегда, не дожидаясь, пока их заставят расстаться силой. Но она не может преодолеть себя, свою мучительную любовь; не находит сил, чтобы прогнать Алешу. Только Ивану Петровичу она признается: «Все кончено! Все пропало!» И остается ждать приговора своей злой судьбы, которой управляет уже не она.
Глава VII
КНЯЗЬ ПЕТР ВАЛКОВСКИЙ
1. Переплетение судеб
Следующие главы сообщают читателю много нового, и, главное, они все теснее переплетают историю князей Вал- ковских с историей старика Смита и его внучки. Мы еще не знаем, как тесно переплетутся судьба Наташи и судьба Нелли, но уже понимаем, что и в жизни маленькой нищей девочки князь Валковский играет какую-то зловещую роль. Помогает нам выяснить эту роль все тот же школьный приятель Ивана Петровича Маслобоев; он хитрит, ничего не рассказывает, но обнаруживает необыкновенную заинтересованность в судьбе девочки.
А Нелли, в свою очередь, удивляет Ивана Петровича. Оказывается, девочка, оставаясь одна, читала книгу Ивана Петровича. То, о чем она спрашивает, характерно для детского восприятия литературы. Нелли хочется, чтобы в книге все кончалось хорошо, как в сказке. Узнав, что «девушка и старичок» так и останутся «бедные» и не будут счастливы, она, казалось, даже рассердилась на автора повести: «Ну, вот... Вот! Вот как это! У, какие!.. Я и читать теперь не хочу!»
Иван Петрович ничем не может утешить девочку, кроме как сказать ей, что «это все неправда, что написано, — выдумка». Но ведь для детского восприятия литература — всегда правда, и литературные герои — всегда живые. Расстроившись и огорчившись судьбой Вареньки Доброселовой и Девушкина, Нелли одновременно и плачет, и жалеет... не героев книги, а самого Ивана Петровича.
«Наконец кончилась эта чувствительная сцена», — заключает Достоевский. Выходит, ему нужно подчеркнуть, обратить внимание читателя на чувствительность сцены, когда Нелли и смеется, и плачет, и не может скрыть нежности к Ивану Петровичу.
Когда же после разговора с Нелли Иван Петрович направляется к Маслобоеву и сталкивается там с князем, который, увидев его, «как будто смешался», подозрения охватывают Ивана Петровича с новой силой.
Князь был явно недоволен этой встречей, торопился по своим делам, но подтвердил, что скоро сам явится к Ивану Петровичу.
Что же узнал Иван Петрович от Маслобоева? Таинственную историю князя, которая происходила давно. Захмелевший Маслобоев сохраняет, однако, скрытность, и от этого рассказ его звучит еще более угрожающим и роковым. Все попытки Ивана Петровича узнать время и место действия, фамилии действующих лиц — Маслобоев старательно пресекает. И было это «ровно девяносто девять лет тому назад и три месяца», и фамилия одного из действующих лиц — то Феферкухен, то Фрауенмильх, то, наконец, Брудершафт, и происходили события «в городе Санта-фе-де Богота, а может, и в Кракове, но вернее всего, что в фюрстентум Нассау...»
Нетрудно себе представить, с каким интересом выслушал Иван Петрович рассказ Маслобоева, о том, что князь в давние годы соблазнил дочь какого-то богатого заводчика и увез ее с собой в Париж. «Старик же любил дочь без памяти, до того, что замуж ее отдавать не хотел... чудак какой-то, англичанин...» — проговаривается Маслобоев.
«— Англичанин? Да где же все это происходило?» — волнуется Иван Петрович. Мы понимаем его волнение: англичанин был Смит. Но Маслобоев тут же отказывается от своих слов: «Я только так сказал: англичанин, для сравнения...»
Несмотря на все оговорки Маслобоева, читателю, как и Ивану Петровичу, сразу представляется, что речь идет о судьбе матери Нелли. Иван Петрович ведь уже знает, что у ее матери был за границей добрый друг, который о ней заботился, а потом умер. Маслобоев тоже рассказывает, что следом за князем и увезенной им девушкой отправился ее поклонник — «идеальный человек, братец Шиллеру». Еще подробности, до сих пор незнакомые Ивану Петровичу: «девушка была чистая, благородная, возвышенная», но князь обманом и уговорами убедил ее увезти какие-то документы отца. И снова Маслобоев проговаривается: когда в Париже князь бросил молодую женщину, «она родила дочь... то есть не дочь, а сына, именно сынишку, Володькой и окрестили».
В дальнейшем рассказе Маслобоев уже не путается и все время говорит о Володьке. Но может ли верить ему Иван Петрович, может ли не думать о девочке, которая ждет в его комнате? Между тем история осложняется тем, что у покинутой женщины осталось на руках формальное обязательство князя жениться.
«— Я подозреваю, что ты у него по этому делу хлопочешь, Маслобоев», — не выдерживает Иван Петрович. А Маслобоев и не думает скрывать: да, именно, князю ведь нужно узнать, действительно ли умерла и она, и обокраденный им старик, «и о птенце...» Хотя он переносит действие этой истории то в Мадрид, то в Краков, Иван Петрович уже не верит его хитростям: как бы ни было, Маслобоев не скрывает, что рассказывает именно о князе Валковском. Еще одно любопытно в его рассказе: Маслобоев с легким презрением говорит о поэтах, мечтателях, называет идеального поклонника «братцем. Шиллеру» и снова вспоминает Шиллера, рассказывая о непрактичности молодой женщины и влюбленного в нее человека: «А она хоть и плюнула ему (князю. — Н. Д.) в его подлое лицо, да ведь у ней Володька на руках остался: умри она, что с ним будет? Но об этом не рас- суждалось... Шиллера читали».
Маслобоев делает из всей этой истории прямой и точный вывод: «Вообще эдаким подлецам превосходно иметь дело с так называемыми возвышенными существами. Они так благородны, что их весьма легко обмануть, а во-вторых, они всегда отделываются возвышенным и благородным презрением вместо практического применения к делу закона, если только можно его применить».
Речь идет о давней истории с участием князя Валковско- го, но читатель все время видит за этой давней историей дела сегодняшние: судьбу Наташи. Ведь и про нее с Иваном Петровичем практичный человек мог сказать, что вместо «применения к делу закона» они «Шиллера читали».
Если в начале романа «Униженные и оскорбленные» Шиллер напоминал о пьяном немецком ремесленнике, изображенном Гоголем, то теперь уже речь идет о немецком поэте- романтике, и Шиллер — великий поэт — символизирует возвышенное, благородное и... совершенно оторванное от практической жизни представление о человеческих отношениях.
Стремясь соблюсти свою профессиональную, сыщицкую честность, Маслобоев скрывает факты, сроки, имена; он повторяет одну только фразу: «...берегись ты этого князя. Это Иуда-предатель и даже хуже того». Услышав от Ивана Петровича историю Наташи и тяжбы старика Ихменева с князем, Маслобоев восторгается умом Наташи, которая «с первого шага узнала, с кем имеет дело, и прервала все сношения». У Маслобоева не возникает ни малейших сомнений в том, что «князь настоит на своем, и Алеша бросит ее»... Но с наибольшим жаром воспринимает Маслобоев рассказ о тяжбе старика Ихменева: «Да кто у него по делу-то ходил, кто хлопотал? Небось сам! Э-эх! То-то все эти горячие и благородные! Никуда не годится народ! С князем не так надо было действовать. Я бы такого адвокатика достал Ихме- неву — э-эх!»
Да, Наташа поняла подлость и коварство князя Валков- ского, но бороться с ним она не умеет. Ей остается поступить так, как женщина, о которой рассказывает Маслобоев: плюнуть князю «в его подлое лицо». Не может, не умеет она защитить ни себя, ни своего ограбленного отца: сила на стороне князя, и мы скоро об этом узнаем. Униженные и оскорбленные не могут ничего изменить в окружающем их мире, где подлецы всегда торжествуют.
В произведениях Достоевского всегда поражает, как много происходит в жизни героев за один только день. Вот и в этот день, описанный вслед за субботой, когда князь приезжал к Наташе, в жизни Ивана Петровича произошло невероятно много событий: он весь день на ногах, бежит пешком из одного конца города в другой, и непонятно даже, как он всюду поспевает.
2. Князь открывается
Попробуем проследить его путь в одно только это воскресенье. Встал Иван Петрович рано и с утра имел длинный разговор с Нелли о своей книге. Это было у них дома, неподалеку от Вознесенского проспекта. Потом Иван Петрович поспешил на Васильевский остров к старикам Ихменевым. От них ровно к двенадцати часам поспел к Маслобоеву — там же, на Васильевском острове. От Маслобоева направился к Наташе — на Фонтанку, возле Гороховой улицы. Часа в три он вернулся домой, а ровно в семь уже был опять у Маслобоева. Может быть, конечно, какой-то из этих неблизких петербургских концов он проехал на извозчике, но мы знаем, что денег у Ивана Петровича немного: скорее всего большую часть пути он проделал пешком.
От Маслобоева он ушел около девяти часов и опять направился домой, на Вознесенский проспект. Здесь уже Иван Петрович прямо сообщает: «..я шел и торопился домой: слова Маслобоева слишком меня поразили». Но этому длинному дню все еще предстояло длиться. Едва Ивам Петрович вошел в ворота, к нему «бросилась какая-то странная фигура... какое-то живое существо, испуганное, дрожащее, полусумасшедшее...» Легко понять ужас, охвативший Ивана Петровича: «Это была Нелли!»
Из ее сбивчивых объяснений ничего нельзя было понять: «...там, наверху... он сидит... у нас», — повторяла Нелли и отказывалась идти домой, пока не уйдет таинственный посетитель. Им оказался князь Валковский.
Князь, разумеется, не пешком пришел к Ивану Петровичу — «у ворот дожидалась его коляска». Уговаривая Ивана Петровича поехать с ним к графине, мачехе Кати, князь был необыкновенно ласков и любезен, говорил, «что туда не надо никаких гардеробов, никаких туалетов», но явно испытал облегчение, увидев, что у Ивана Петровича есть фрак.
Ивану Петровичу «было о чем задуматься» во время короткого пути к графине. Он, впрочем, не говорит, что ехать было близко, находит другое слово: «...ехать было недолго» — и читателю невольно приходит на ум, что пешком проделать еще и этот путь Ивану Петровичу было бы тяжело. Л в коляске ехали недолго и за этот короткий путь успели переговорить об очень важном. Мы приближаемся к раскрытию всей тайны характера князя: он затем и стремился поближе познакомиться с Иваном Петровичем, чтобы раскрыться перед ним, испугать его... Вот и сейчас, в карете, он самым дружеским образом начинает советоваться с Иваном Петровичем, как ему лучше отдать старику Ихменеву десять тысяч, которые князь у него отсудил. Разговор этот с самого начала раскрывает оба характера: мы видим, что князь хитрит, когда спрашивает у Ивана Петровича совета, да и сам Иван Петрович понимает, что неспроста князь решил с ним советоваться по поводу этих денег. Смысл вопроса: нельзя ли заплатить старику Ихменеву за дочь, непременно ли он откажется от этих денег — а вдруг возьмет? Осознав этот смысл, Иван Петрович «так и вспыхнул и даже вздрогнул от негодования».
Все-таки Иван Петрович пытается растолковать, что честным выходом из этого запутавшегося дела было бы женить Алешу на Наташе... князь не слушает. Иван Петрович оскорблен не только вопросом, который князь посмел ему задать, его оскорбила «грубая великосветская манера, с которой он, не отвечая на мой вопрос и как будто не заметив его, перебил его другим... Я до ненависти не любил этого великосветского маневра и всеми силами еще прежде отучал от него Алешу».
Если раньше Иван Петрович мог надеяться, что ему удастся что-то объяснить, что-то доказать князю, то уже теперь он может быть совершенно уверен: слушать его князь не станет. Он для того и хотел встретиться с Иваном Петровичем, чтобы высказать ему свою позицию, заставить Ивана Петровича выслушать себя — больше ему ничего не нужно. Но дорога к графине длилась недолго, и князь успел только задать Ивану Петровичу свой чудовищный вопрос да подтвердить: «Если вы продолжаете быть привязанным к Наталье Николаевне, то не можете отказаться от объяснений со мною, как бы мало ни чувствовали ко мне симпатии». В этом заявлении скрыта угроза Наташе. Но времени, чтобы понять эту угрозу, уже нет — приехали. И разговор поневоле откладывается.
Жилище графини описано общими словами. Это первое описание богатого дома, какое мы встречаем у Достоевского.
Позже, в романе «Идиот», Достоевский приведет нас в кварч тиру генерала Епанчина, и в гостиную Настасьи Филипповны, и на дачу Епанчиных — нигде он не станет подробно останавливаться на обстановке комнат, но сумеет заставить нас увидеть камин, куда Настасья Филипповна бросила пачку денег, и кресла, в которых расположились гости, и туалеты присутствующих дам, и мантилью, в которую ку-< талась Настасья Филипповна.
Подробного описания нигде не будет, но будут отдельные, казалось бы, случайные детали, которые и создадут обстановку. В своем романе Достоевский или еще не умеет или не хочет создать в нашем воображении явственное представление о квартире графини.
«Графиня жила прекрасно. Комнаты были убраны комфортно и со вкусом, хотя вовсе и не пышно». Как — прекрасно? Этого мы не узнаем. Что значит «комфортно и со вкусом, хотя... и не пышно»? Представить себе это невозможно, да и не нужно. Достоевскому не важно, как жила графиня, и даже как жила Катя, ему нужно только противопоставить эти условия жизни тесной комнатке Наташи, скромному жилищу ее родителей на Васильевском, а главное, «сундуку», где живет Иван Петрович. Эту задачу он легко выполняет, пользуясь маловыразительными словами, единственная цель которых — подчеркнуть роскошь обстановки: «прекрасно», «комфортно», «со вкусом»...
Единственная подробность, подчеркнутая Иваном Петровичем: «прекрасный серебряный самовар», из которого графиня сама разливала чай. Все остальные подробности касаются планов графини и людей, которых она собрала в своей квартире. Жилье графини, хотя и убранное «комфортно», «носило на себе характер временного пребывания», потому что «носился слух, что графиня на лето едет в свое имение (разоренное и перезаложенное)...» Единственный гость графини — «какой-то очень великосветский господин пожилых лет и со звездой, несколько накрахмаленный, с дипломатическими приемами». Описание этого господина столь же поверхностно, как и описание квартиры. В нем важно два слова — «очень великосветский». Дальше мы узнаем, что господин этот «говорил спокойно и величаво», то есть опять- таки на светский манер.
Главное, что важно подчеркнуть Достоевскому: после мира униженных и оскорбленных, мира жертв светского человека князя Валковского, мы попадаем вместе с Иваном Пет* ровичем в мир, привычный князю: имение разорено и пере-* заложено, а квартира прекрасная, самовар серебряный, жизнь тем более роскошная, чем меньше есть на нее денег, жизнь фантастическая, непонятная трудовому человеку.
Еще одно обстоятельство подчеркивает Иван Петрович: кроме накрахмаленного господина, других гостей не было, «и никто не являлся во весь вечер». Эту странность Иван Петрович объясняет тем, что графиня в эту зиму не успела «завести в Петербурге больших связей и основать свое положение». Теперь нам становится понятно, зачем ей понадобился Иван Петрович: именем известного писателя можно было заманить в свою гостиную нужных людей.
Иван Петрович не говорит об этом; видно, и он понял тайную цель графини — но ведь не ради нее он приехал в этот дом. Выполняя просьбу Наташи, он должен познакомиться с Катей, рассмотреть ее поближе.
И вот в гостиной появляется Катя в сопровождении Алеши. О Кате мы будем говорить отдельно. Сейчас нам важен Алеша, а он, конечно, не умеет скрыть ничего и сразу обнаруживает все, чем «начинил» его за один день отец.
Рассказывая Ивану Петровичу, что отец «хочет отказаться от денег, которые выиграл по процессу с Ихменева», Алеша восторгается: «Как благородно он это делает». Вдобавок он проговаривается: «Наташа ревнива и хоть очень любит меня, но в любви ее много эгоизма, потому что она ничем не хочет для меня пожертвовать».
И Катя, и Иван Петрович не верят своим ушам. Катя сразу догадывается: «Нет, это неспроста!.. Признавайся, Алеша, признавайся сейчас, это все наговорил тебе отец? Сегодня наговорил?»
Да, она права, и Алеша признается, что отец говорил все это «так по-дружески», невозможно было ему не поверить, да к тому же Наташа «его так оскорбила, а он ее же так хвалит».
Из длинного рассуждения Алеши, произнесенного «жалобным голосом», становится ясно, что именно внушил ему отец: что Наташа «до того уж слишком меня любит, до того сильно, что уж это выходит просто эгоизм, так что мне и ей тяжело, а впоследствии и еще тяжелее будет».
Князь правильно рассчитал: теперь, когда Алеша больше тянется к Кате, чем к Наташе, можно объяснить Наташину любовь эгоистичной, потому что Алеше она не так уж нужна,как прежде; можно даже сказать, что Наташа ничем не хочет жертвовать ради того, кого любит. Мы-то знаем, что все не так, что Наташа пожертвовала родителями, которых любила, пожертвовала своим добрым именем — всем пожертвовала во имя любви к'Алеше и только одного ждала от него: чтобы он отвечал на ее любовь. Но прошло время — и он уже не может отвечать ей такой же любовью, и его уже тяготит эта любовь, ее можно объявить нестерпимым грузом, который нелегко вынести.
Расчет князя строится на понимании эгоистической натуры Алеши. Князю было бы легко убедить сына в своей правоте и восстановить его против Наташи, но Катя, от которой князь, видимо, никак этого не ожидал, оказалась умным его врагом. Она легко разгадала все его хитрости.
С какой целью князь оставил Ивана Петровича наедине с Катей? Цель ясна: чтобы Иван Петрович понял, какова девушка, предназначенная в жены Алеше. Князь, возможно, даже догадывается, что все свои впечатления Иван Петрович перескажет Наташе.
Иван Петрович и князь выходят вместе, садятся в коляску князя — тот неожиданно приглашает Ивана Петровича отужинать с ним, настойчиво подчеркивает: «Я вас приглашаю».
Трудно не догадаться, что это значит: «Я заплачу». Иван Петрович решился ехать, но в ресторане платит за себя сам.
3. Планы и угрозы
Разговор Ивана Петровича с князем в ресторане — самое острое, напряженное место в романе «Униженные и оскорбленные». Такие мучительные и напряженные, и раскрывающие психологию героев разговоры характерны для Достоевского. В какой-то степени все знаменитые разговоры героев Достоевского — князя Мышкина с Рогожиным в «Идиоте», Раскольникова со Свидригайловым в «Преступлении и наказании», братьев Карамазовых друг с другом и, наконец, разговор Ивана с чертом в «Братьях Карамазовых» — все они выросли из разговора Ивана Петровича с князем Валковским. В «Униженных и оскорбленных» перед нами как бы черновик, набросок чудес Достоевского.
Разговор в коляске по дороге к графине был как бы предисловием к основному разговору в ресторане. Теперь князь разыгрывает обиду: «...тут замешались чуть ли не сословные интересы» — так объясняет он отказ Ивана Петровича от ужина. Но, убедившись в твердости решения своего спутника, принимается говорить с ним «вполне дружелюбно», то есть, попросту говоря, издеваться над скромной жизнью писателя вдали от света, который «нужно знать» литератору. Впрочем, оговаривается князь, литературу теперь не интересует светская жизнь, «у вас там теперь все нищета, потерянные шинели, ревизоры, задорные офицеры, чиновники, старые годы и раскольничий быт, знаю, знаю».
Пренебрежительно отозвавшись о литературе, князь уже этим оскорбляет Ивана Петровича, но дальше он совсем уж перестает стесняться. «Его тон вдруг изменился и все больше переходил в нагло фамильярный и насмешливый».
Иван Петрович между тем не может отвечать тем же «не из боязни, а из проклятой моей слабости и деликатности. Ну как в самом деле сказать человеку грубость прямо в глаза, хотя он и стоит того и хотя я именно и хотел сказать ему грубость?»
Вот уж о чем не задумывается князь Валковский: его не останавливает ни слабость, ни деликатность — чем дальше идет разговор, тем больше он пьянеет и тем смелее говорит Ивану Петровичу в глаза все, что вздумается. Издевательским тоном он обращается к своему собеседнику, называя его то «мой друг», то «мой поэт». С первых же слов перечеркивает и тот, сам по себе достаточно подлый разговор, который был у них в коляске: «Давеча я с вами заговорил об этих деньгах и об этом колпаке-отце, шестидесятилетнем младенце... Я ведь это так говорил!» (Курсив Достоевского), Теперь он уже оставил великосветский ложно-дружеский тон. Слышал бы старик Ихменев, как князь, вдобавок ко всем оскорблениям, еще называет его колпаком!
Но самое невыносимое для Ивана Петровича — ведь и о Наташе князь теперь позволяет себе говорить без малейшего уважения: «Хоть мой Алексей дурак, но я ему отчасти уже простил — за хороший вкус. Короче мне эти девицы нравятся...»
Иван Петрович гневно просит его переменить разговор, князь в ответ на это прямо спрашивает: «...очень вы ее уважаете?» и следом: «Ну, ну и любите?»
Что может ответить на это Иван Петрович? Князь уже понял, что его выслушают, — ради Наташи. Теперь он намерен высказать все, что хочет, — развлечься на славу. Иван Петрович «вскричал»: «Вы забываетесь!», но не ушел и не уйдет. Он должен понять, чем может князь угрожать Наташе, какими еще подлыми способами оскорбить и унизить ее.
Князь и смеется, и подмигивает, и непрерывно предлагает Ивану Петровичу выпить то вина, то шампанского — его страшно веселит эта ситуация, когда он может безнаказанно издеваться над лучшими чувствами человека, а тот не имеет никакой возможности ему ответить.
Самое удивительное в этой безобразной сцене: Иван Петрович решился все терпеть, и все-таки он одной фразой останавливает князя, когда тот слишком уж разошелся. Иван Петрович восклицает: «Я не хочу, чтоб вы говорили теперь о Наталье Николаевне... то есть говорили в таком тоне. Я... я не позволю вам этого!»
С самого начала разговора князь знает, что он хочет и даже — по его понятиям — должен сказать Ивану Петровичу. Но — боится. И поэтому подходит к главному разговору осторожно, нащупывая почву, будто шагая по топкому болоту. Иван Петрович замечает: «Не лучше ли говорить о деле»; князь сразу поправляет: «То есть о нашем деле, хотите вы сказать» (курсив Достоевского).
^ Чтобы подойти к деликатной теме, которой намерен коснуться князь, нужно начать разговор «из дружбы»: поверит Иван Петрович или не поверит — неважно. И князь начинает сокрушаться, что Иван Петрович губит себя тем, что живет так бедно и никогда не может распутаться с долгами... Мы уже слышали, как о том же говорил Маслобоев, но тот от всего сердца предложил Ивану Петровичу денег, чтобы выйти из бедственного положения, — и то Иван Петрович отказался. Князь денег, конечно, не предлагает — пока... Но вот он осмеливается вести разговор прямо: «Что за охота вам играть роль второго лица?» И еще точнее: «...ведь Алеша отбил у вас невесту, я ведь это знаю, а вы, как какой-нибудь Шиллер, за них же распинаетесь, им же прислуживаете и чуть ли у них не на побегушках...»
Короче говоря, князь хочет предложить Ивану Петрович чу жениться на Наташе, чтобы тем покончить Алешину связь с ней, и, вероятно, он бы предложил ему и деньги за это, если б Иван Петрович не ответил: «Я скажу вам, что вы... сошли с ума» — и если бы князь не понял, что его собеседник в исступлении: «Да вы чуть ли не бить меня собираетесь?»
Что ж, по светским понятиям, ничего предосудительного в предложении князя не было. Молодой барин совратил девушку; его отец платит за развлечения сына и выдает девушку замуж, дает, пожалуй, за ней приданое — таких браков совершалось немало, и свет не видел в них ничего выходящего за рамки приличия и благопристойности. Иван Петрович знал это, но знал и другое: что князь понимает, как чудовищно предлагать подобную сделку человеку с другой, не светской моралью. «Он производил на меня впечатление какого-то гада, какого-то огромного паука, которого мне ужасно хотелось раздавить».
Паук у Достоевского — всегда символ какой-то отвратительной жестокости, всегда вызывает мистический ужас. А князь между тем достиг своей цели: попробовал предложить «мирный» выход, Иван Петрович с ужасом отверг его; теперь другое: нужно пустить в ход угрозы.
Сняв маску и показав свое истинное лицо, князь — не без некоторой цели — рассказывает Ивану Петровичу самые отвратительные подробности из своей жизни. И снова, и снова он пускается в самые грязные, самые циничные откровенности и воспоминания — зачем? А для того, чтобы Иван Петрович окончательно понял, с кем имеет дело, испугался за судьбу Наташи и убедил бы ее молча вынести разрыв с Алешей, потому что — подними она хоть какой-нибудь шум — князь жестоко отомстит. В этом после всех его рассказов уж никак не приходится сомневаться.
В течение всего этого разговора князь все больше пьет и все больше пьянеет; ему уже хочется теоретически порассуждать о жизни, и он выкладывает Ивану Петровичу свое понимание добродетели: «Я наверное знаю, что в основании всех человеческих добродетелей лежит глубочайший эгоизм. И чем добродетельнее дело — тем более тут эгоизма. Люби самого себя — вот одно правило, которое я признаю».
Вся русская литература XIX века размышляла об эгоизме. Еще Пушкин в «Евгении Онегине», излагая общую точку зрения обывателей, писал: «Любите самого себя, Достопочтенный мой читатель. Предмет достойный. Ничего Любезней, верно, нет его». Печорин у Лермонтова — эгоист в самом точном значении этого слова, но он несчастен от своего эгоизма и потому вызывает сочувствие читателя. Эгоисты Достоевского счастливы своим эгоизмом и потому вызывают отвращение, как князь Валковский.
Иван Петрович понимает, что князь по-своему прав, но правота его отвратительна, несправедлива, так не должно быть, но в том мире, где они оба живут, действительно, счастливы те, кто любит самого себя.
Потребовав третью бутылку, князь принимается рассказывать о девушке, которую он «любил почти искренно» и которая многим для него пожертвовала. Иван Петрович перебивает его:
«— Это та, которую вы обокрали?»
Князь признает, что ограбил любившую его девушку, но тут же объясняет: это были его деньги, потому что она их ему подарила. А главное, князь во всех своих рассказах обвиняет тех, кто был его жертвами, в эгоизме и поясняет: ненавидя его, они были счастливы — вот и получается, что он чуть ли не осчастливил тех людей, с которыми поступал подло, которых разорял, уничтожал.
Планы его относительно Алеши и Кати тоже очень просты: их он намерен ограбить, как уже поступил с многими другими. «У ней три миллиона, и эти три миллиона мне очень пригодятся. Алеша и Катя — совершенная пара: оба дураки в последней степени: мне того и надо», — открыто заявляет князь Ивану Петровичу. И только после этого переходит к главной цели своего разговора с Иваном Петровичем: «Предуведомьте Наталью Николаевну, чтоб не было пасторалей, чтоб не было шиллеровщины, чтоб против меня не восставали. Я мстителен и зол, я за свое постою».
В сущности, он мог бы только это и сказать Ивану Петровичу, а не распинаться перед ним столько времени и не рассказывать о своих гнусностях: Иван Петрович и без того бы понял, с кем имеет дело. Но, оказывается, князю «хотелось поплевать немножко на это дело» именно в глазах Ивана Петровича. Но ведь поступки князя еще страшнее его слов; в ресторане он только назвал своими именами то, что уже не раз делал на наших глазах, позволил Ивану Петровичу увидеть в себе то, что скрыто от постороннего глаза, то, чего никогда «не увидит его сын.
Достоевский, как никто, умеет видеть в человеке то самое дурное, что обычно скрывается за внешними приличиями. Из чудовищных откровенностей князя Валковского вырастут впоследствии разговоры Раскольникова с Порфирием Петровичем: нет, там не будет таких откровенностей, но будет то непостижимое мучительство, какое испытал на себе Иван Петрович. Умение князя оправдать себя и свои поступки тем, что его жертвы полны будто бы самого отвратительного эгоизма, — это умение много раз еще встретится на страницах романов Достоевского. Зачем это нужно Достоевскому? Неужели он хочет показать, что в каждом человеке есть безобразное зло? Можег быть, да. Именно это, может быть, и хочет показать Достоевский — как предупреждение, что человек обязан бороться со злом в своей душе. Из рассуждений князя Валковского самыми страшными мне представляются его речи о том, что в каждом честном и добродетельном человеке скрыт эгоизм. Ведь таким образом можно оправдать любое зло, любое предательство: оправдываясь тем, что жертва с удовольствием принимает свалившиеся на нее несчастья, ибо злоба дает человеку наслаждение.
Разговор в ресторане кончается репликой князя: «Прощайте, мой поэт. Надеюсь, вы меня поняли...»
На улице они разошлись: князь сел в коляску с помощью лакея, а Иван Петрович пошел пешком. «Был третий час утра. Шел дождь, ночь была темная...» — этими словами кончается третья часть романа «Униженные и оскорбленные». В сущности, уже кончилась история Наташи и Алеши — князь не оставил ни малейшего сомнения в том, что их отношения будут разорваны, Алеша женится на Кате. Но нам предстоит еще узнать, как это все сложится, как удастся князю справиться с Алешей, и, главное, мы должны еще узнать о судьбе и характере Нелли. На протяжении третьей части девочка была как бы в тени, наше внимание было поглощено сватовством князя и последующими странными событиями.
193
С тех пор, как мы увидели князя Валковского, прошло меньше недели. Достоевский показал его с такой точностью и подробностью, что, кажется, мы ничего уже больше не можем узнать о князе. Но в последней, четвертой части князь еще появится на страницах книги, чтобы еще раз произвести впечатление «какого-то гада, огромного паука» и принести свою долю ужаса героям и читателям книги.
7 Предисловие к Достоевскому
Отступление седьмое
О РОМАНЕ «ИДИОТ»
У всякого свой любимый роман Достоевского. Я, конечно, не посмею оспаривать то мнение, что вершиной творчества Достоевского нужно считать его последний роман «Братья Карамазовы». Но зато каждый имеет право выделить для себя тот роман, который он больше других любит перечитывать, хотя уж и знает почти наизусть, а все возвращается к любимым страницам. Такой роман для меня — «Идиот». Может быть, потому, что в нем Достоевский хотел изобразить идеального человека, каких вокруг него не было; человека, о каком автор, может быть, только мечтал — и, представив его читателям, не мог нарушить правду жизни и сделать героя счастливым. Казалось бы, все возможности для этого нашлись: герой нежданно-негаданно получил большое наследство, его любят две красивейшие женщины — но счастья нет, и горести, свалившиеся на князя Мышкина, возвращают его в то болезненное состояние, в котором он провел свою молодость.
С первых страниц, с первого описания князя Мышкина в сыром вагоне, подъезжавшем к Петербургу, меня привлекает его легкий плащ, его узелок с убогими пожитками, его внешность: «...молодой человек... лет двадцати шести или двадцати семи, роста немного повыше среднего, очень белокур, густоволос, со впалыми щеками и с легонькою, востренькою, почти совершенно белою бородкой. Глаза его были большие, голубые и пристальные... Лицо молодого человека было... тонкое и сухое, но бесцветное, а теперь даже досиня иззябшее».
Познакомившись в вагоне с сыном богатого купца Рогожина, едущим получать наследство в миллион с лишним, князь Мышкин и не обратил внимания на сообщение о миллионе. Зато сам он совершенно искренне и открыто отвечал на все расспросы соседа. «Готовность... отвечать на все вопросы... была удивительная и без всякого подозрения совершенной небрежности, неуместности и праздности иных вопросов».
Портрет князя дан в несвойственной Достоевскому манере: безо всяких комментариев автора. Своих впечатлений о герое автор не сообщает, зато мы очень скоро видим, как воспринимают князя все сталкивающиеся с ним люди. Рогожин, человек недобрый и очень нервный, с негодованием отталкивает вьющегося вокруг него чиновника Лебедева, а Мышкину говорит: «Князь, неизвестно мне, за что я тебя полюбил. Может, оттого, что в такую минуту встретил, да вот ведь и его встретил (он указал на Лебедева), а ведь не полюбил же его. Приходи ко мне, князь...»
Ответ князя поражает смесью достоинства и простодушия:
«— С величайшим удовольствием приду и очень вас благодарю за то, что вы меня полюбили... Потому, я вам скажу откровенно, вы мне сами очень понравились...»
Следующий человек, с кем встречается князь Мышкин, — лакей генерала Епанчина, к которому князь направился, чтобы познакомиться на том основании, что генеральша — тоже из князей Мышкиных, хотя и не родственница. Князь разговаривает с лакеем так же простодушно и откровенно, как с Рогожиным, этим-то он и поражает опытного прислужника. «Хотя князь был и дурачок, — лакей уж это решил, — но все-таки генеральскому камердинеру показалось наконец неприличным продолжать долее разговор от себя с посетителем, несмотря на то, что князь ему почему-то нравился, в своем роде, конечно».
Примерно так же воспринимает князя и генерал Епанчин: торопится уверить, что никаких родственных связей между ними быть не может, заявляет, что очень занят... Князь прекрасно понимает, что его не хотят принимать — и уже готов уйти, но генерал расспрашивает, и князь опять рассказывает историю, которую мы уже слышали от него в вагоне: о том, как он был тяжело болен, «частые припадки его болезни сделали из него почти идиота (князь так и сказал «идиота»)», как лечился в Швейцарии — и между прочим упомянул, что может красиво писать. Генерал сразу решил проверить его и обнаружил, что князь талантливый каллиграф и можно его определить куда-нибудь на службу. Так генерал Епанчин, нисколько не собиравшийся поддерживать знакомство с этим нищим и к тому же больным человеком, сам того не замечая, вызвался ему помочь.
Семья генерала, жена и три дочери, были предупреждены, что князь — «идиот», и даже им приказано было его «проэкзаменовать». «Экзамен» этот вылился в долгий разговор, во время которго генеральша сначала обнаружила, что князь Мышкин — «добрейший молодой человек», а потом стала с вниманием слушать его рассказ о жизни в Швейцарии. Среди многих очень тонких и умных наблюдений князя (в их числе было уже известное нам рассуждение о последних минутах приговоренного к казни) было и такое замечание: «Ребенку можно все говорить, — все; меня всегда поражала мысль, как плохо знают большие детей, отцы и матери даже своих детей. От детей ничего не надо утаивать под предлогом, что они маленькие и что им рано знать. Какая грустная и несчастная мысль! И как хорошо сами дети подмечают, что отцы считают их слишком маленькими и ничего не понимающими, тогда как они все понимают. Большие не знают, что ребенок даже в самом трудном деле может дать чрезвычайно важный совет». Эта мысль, дорогая Достоевскому, не раз мелькнет на страницах его публицистической книги «Дневник писателя» и много раз откроется в его романах. Достоевский уважал детей, любил их общество и сам многому у детей учился. Князю Мышкину — идеальному своему герою — он дарит любовь и привязанность к детям. Вот что еще говорит князь: «Но одно только правда, я и в самом деле не люблю быть со взрослыми, с людьми, с большими,— и это я давно заметил, — не люблю, потому что не умею. Что бы они ни говорили со мной, как бы добры ко мне ни были, все-таки с ними мне всегда тяжело почему-то, и я ужасно рад, когда могу уйти поскорее к товарищам, а товарищи мои всегда были дети, но не потому, что я сам был ребенок, а потому что меня просто тянуло к детям».
Мы помним, как уже в «Униженных и оскорбленных» пер« вый прекрасный человек Достоевского — Иван Петрович — напряженно, с трудом строил свои отношения с тринадцатилетней девочкой и умел относиться к ней серьезно, как к взрослой, и уважал ее сложный характер, и понимал его. В «Братьях Карамазовых» мы увидим, как Алеша — последний из прекрасных людей Достоевского — случайно вмешался в уличную драку мальчиков и сколько добра из этого вышло.
Князь Мышкин, едва войдя в дом Гани Иволгина, где ему предстоит жить, сближается с тринадцатилетним братом Гани Колей Иволгиным. Этот мальчик, гимназист, умеет себя так поставить со взрослыми, что почти все называют его по имени и отчеству: Николай Ардалионович, а князю он сразу становится верным другом.
Позже, в конце романа, Достоевский вдруг приоткроет нам все свое глубокое понимание мальчишеской души. Этот самый Коля, который на наших глазах несет ответственность за своего почти всегда пьяного отца, который живет жизнью взрослого человека, внезапно является к Епанчиным с... ежом и с топором. «Коля объяснил, что еж не его, а что он идет теперь вместе с товарищем, другим гимназистом, Костей Лебедевым, который остался на улице и стыдится войти, потому что несет топор; что и ежа и топор они купили сейчас у встречного мужика. Ежа мужик продавал и взял за него пятьдесят копеек, а топор они уже сами уговорили его продать, потому что кстати, да и очень уж хороший топор».
В этом рассказе Коля Иволгин напоминает Колю Красот- кина, о котором Достоевский рассказал в «Братьях Карамазовых»: это странное сочетание взрослости и ребячливости, кажется, не удалось с тех пор открыть ни одному писателю.
Но пока что князь еще не знает Коли, а сидит в гостиной Епанчиных. Кончая «экзамен», генеральша ахнула: «Вот и проэкзаменовали! Что, милостивые государыни, вы думали, что будете его протежировать, как бедненького, а он вас сам едва избрать удостоил, да еще с оговоркой, что приходить будет только изредка. Вот мы и в дурах, и я рада...»
Действительно, в князе Мышкине поражает то чувство внутреннего достоинства, с каким он умеет держать себя при любых обстоятельствах. Когда Рогожин звал его к себе, обещая купить и шубу, и одежду, князь со спокойным достоинством принял это предложение и так же спокойно сообщил, что у него пока что нет ни копейки. Гораздо поз^ же, когда Ганя Иволгин, у которого князь снял комнату, все время подозревает Мышкина в том, что он разболтал его секреты, и не удерживается при этом от ругательств, князь Мышкин совершенно неожиданно произносит спокойную, выдержанную речь: «Я должен вам заметить, Гаврила Ардалионович... что я прежде действительно был так нездоров, что в самом деле был почти идиот; но теперь я давно уже выздоровел, и потому мне несколько неприятно, когда меня называют идиотом в глаза. Хотя вас и можно извинить, взяв во внимание ваши неудачи, но вы в досаде вашей даже раза два меня выбранили...» Самое удивительное: бепредель- ная вежливость князя в ответ на крики Иволгина, и в то же время он твердо объясняет: «...не лучше ли нам разойтись: вы пойдете направо к себе, а я налево».
Но главное в князе Мышкине открывается сразу, с первых же страниц — это его великая любовь-жалость, любовь- сострадание к Настасье Филипповне. Впервые он услышал о ней еще в вагоне от Рогожина. Рогожин рассказывает историю о том, как он растратил отцовские деньги на бриллиантовые подвески для Настасьи Филипповны, а отец «поехал седой к Настасье Филипповне, земно ей кланялся, умолял и плакал; вынесла она ему наконец коробку, шваркнула: «Вот, говорит, тебе, старая борода, твои серьги, а они мне теперь в десять раз дороже ценой, коли из-под такой грозы их Парфен добывал».
Князь Мыпжин выслушал эту историю очень внимательно и, когда объяснял Рогожину, чем тот мог понравиться, прямо сказал: «...вы мне сами очень понравились, и особенно когда про подвески бриллиантовые рассказывали».
Не успев войти в кабинет генерала Епанчина, князь снова слышит о Настасье Филипповне и видит ее портрет. Настасья Филипповна, казалось бы, описана очень сдержанно, без малейшей попытки внести в описание авторские впечатления: «На портрете была изображена действительно необыкновенной красоты женщина. Она была сфотографирована в черном шелковом платье, чрезвычайно простого и изящного фасона; волосы, по-видимому темно-русые, были убраны просто, по-домашнему; глаза темные, глубокие, лоб задумчивый; выражение лица страстное и как бы высокомерное. Она была несколько худа лицом, может быть, и бледна...»
Видим мы эту .женщину? Нет, не видим. Но верим — «действительно необыкновенной красоты». Достоевский не раз еще упомянет о необыкновенном лице Настасьи Филипповны, о ее фантастической, страшной красоте — и ни разу он не опишет ее так, чтобы мы увидели, — это не входит в его задачу. В «Преступлении и наказании» мы видели Соню, видели яркую красоту Дуни — сестры Раскольникова, в «Братьях Карамазовых» увидим Грушеньку, но в «Идиоте» Настасья Филипповна, в сущности, не описана: мы видим платье «чрезвычайно простого и изящного фасона», прическу и глаза, но и о глазах мы узнаем только, что они темные, глубокие. Все эпитеты, выбранные Достоевским, не показывают человека, а рассказывают о нем, автору потому и не нужны пояснения о впечатлении, произведенном на него, потому что он уже передал нам эти впечатления в самой краткой форме.
Когда Иволгин спрашивает князя, нравится ли ему такая женщина, князь отвечает: «Удивительное лицо!» — и нам остается только поверить ему на слово. Но князь и еще добавляет: «...и я уверен, что судьба ее не из обыкновенных. Лицо веселое, а она ведь ужасно страдала, а?»
Во второй раз князь увидел портрет Настасьи Филипповны через несколько часов, после завтрака и долгого разговора у генеральши Епанчиной, когда его послали взять у Ивол- гина портрет и показать его дамам. Направляясь к ним в гостиную с портретом, князь «вдруг остановился, как будто вспомнил о чем, осмотрелся кругом, подошел к окну, ближе к свету, и стал глядеть на портрет Настасьи Филипповны... Это необыкновенное по своей красоте и еще по чему-то лицо сильнее еще поразило теперь. Как будто необъятная гордость и презрение, почти ненависть были в этом лице, и в то же самое время что-то доверчивое, что-то удивительно простодушное; эти два контраста возбуждали как будто даже какое-то сострадание при взгляде на эти черты. Эта ослепляющая красота была даже невыносима, красота бледного лица, чуть не впалых щек и горевших глаз; странная красота!»
Самое удивительное в этом портрете то, что, совершенно не видя Настасьи Филипповны, мы в то же время будто и видим ее в этих настойчиво повторяющихся определениях: необыкновенное лицо, ослепляющая красота... странная красота... На прямой вопрос, за что ценит князь именно такую красоту, он отвечает: «В этом лице... страдания много...» — то есть опять-таки мы не узнаем, в сущности, ничего о Настасье Филипповне, зато много узнаем о самом князе Мышки- не: огромное впечатление, произведенное на него лицом этой женщины, основывалось прежде всего на сострадании, на жалости к ней. Эти же чувства овладевают князем, когда он видит живую Настасью Филипповну. Случай распорядился, чтобы князь открыл ей дверь, и она приняла его за лакея. Ей пришлось долго ждать, пока наконец дверь открылась, поэтому князь увидел только, что «глаза ее сверкнули взрывом досады», и она «гневливо» обратилась к нему. Тем не менее, проводив ее в гостиную Иволгиных, князь все с тем же состраданием смотрел на нее в продолжение всей издевательской сцены, которую Настасья Филипповна приехала устроить в доме своего почти официально объявленного жениха Гаврилы Ардалионовича Иволгина.
В одном из черновых набросков к роману «Идиот» написано:
«Чем сделать лицо князя симпатичным Читателю?
Если Дон-Кихот и Пиквик, как добродетельные лица симпатичны читателю и удались так это тем что они смешны.
Герой романа князь, если он не смешон, так имеет другую симпатичную черту — он! НЕВИНЕН!» (все знаки Достоевского). В этом сила его привлекательности.
Еще в гостиной Епанчиных князь признавался: «...я ведь сам знаю, что меньше других жил и меньше всех понимаю в жизни», так же невинен и простодушен он у Иволгиных, когда Настасья Филипповна явилась к ним совершенно неожиданно и, усевшись без приглашения на диванчик в углу, принялась бесцеремонно расспрашивать мать Гани о том, выгодно ли «держать жильцов», и ужасаться тесноте, в которой живет Ганя. Объясняя Настасье Филипповне, кто такой князь, Ганя чуть ли не вслух сказал, что он «идиот». Но князь, со всей своей предельной откровенностью отвечая на вопрос, где он мог видеть Настасью Филипповну, сказал: «Может быть, во сне...» — и этот ответ оказался лучше любых комплиментов, какие могли выдумать все остальные.
В доме Иволгиных разгорелся скандал, спровоцированный Настасьей Филипповной. Сестра Гани Иволгина не выдержала и назвала Настасью Филипповну бесстыжей. «У Гани в глазах помутилось, и он, совсем забывшись, изо всей силы замахнулся на сестру. Удар пришелся бы ей непременно в лицо. Но вдруг другая рука остановила на лету Ганину руку. Между ним и сестрой стоял князь».
Разъяренный Ганя, «в последней степени бешенства, со всего размаха дал князю пощечину».
Никто бы не поступил так, как князь Мышкин. Еще твердо держалось убеждение, что смыть пощечину можно только кровью. Князь обязан — по кодексу чести своего времени — немедленно вызвать Гаврилу Ардалионовича Иволгина на дуэль. Но князь не знает кодекса чести и поступает так, как подсказывает ему совесть.
«— Ну, это пусть мне... а ее... все-таки не дам!.. — тихо проговорил он наконец: но вдруг не выдержал, бросил Ганю, закрыл руками лицо, отошел в угол, стал лицом к стене и прерывающимся голосом проговорил:
— О, как вы будете стыдиться своего поступка!
Ганя действительно стоял как уничтоженный...
— Ничего, ничего! — бормотал князь на все стороны с тою же неподходящею улыбкой».
Все свидетели этой сцены — на стороне князя. Рогожин кричит: «Князь, душа моя, брось их; плюнь им, поедем! Узнаешь, как любит Рогожин!» Даже Настасья Филипповна как будто взволнована. Но князь поворачивается к ней:
«— А вам и не стыдно! Разве вы такая, какою теперь представлялись! Да может ли это быть! — воскликнул вдруг князь с глубоким сердечным укором».
Вот с этой минуты женщина, поразившая князя страданием, написанным на ее прекрасном лице, на свое горе полюбила его. Но далеко еще до ее гибели. Всякому другому писателю — не Достоевскому — хватило бы для целого романа тех событий, которые уместились у Достоевского лишь в первой части.
В ответ на упрек князя Настасья Филипповна целует руку матери Иволгина и «быстро, горячо, вся вдруг вспыхнув и закрасневшись», шепчет: «Я ведь и в самом деле не такая, он угадал».
Она ушла — со смятением в душе, а князь остался — тоже со смятением в душе. Он заперся в своей комнате, но, когда к нему зашел Коля Иволгин, тринадцатилетний мальчик, князь не прогнал его, не погрузился в свои мысли, а выслушал и выразил желание познакомиться с товарищем Коли. Иначе князь просто не умеет жить: каждый человек имеет право на его уважение и доверие, в особенности если это не взрослый, а ребенок.
Разговор с Колей Иволгиным происходит в середине длинного-длинного и мучительного дня, когда рано утром князь Мышкин вернулся на родину после пятилетнего пребывания в Швейцарии. Уже бесконечно долго тянется этот день, на голову князя сыплются все новые неожиданности, он устал — сейчас бы самое время отдохнуть. Но доверительный разговор с мальчиком кажется ему настолько важным, что князь и не думает расставаться с Колей. Пройдет еще несколько часов, в течение которых князь безуспешно будет пытаться найти дом, где живет Настасья Филипповна, и напроситься в гости на день рождения — он снова встретит Колю, который не только укажет ему дом Настасьи Филипповны, но и сделает предложение: «...я скоро достану себе занятий и бу* ду кое-что добывать: давайте жить, я, вы и Ипполит, все трое вместе, найдемте квартиру...»
Доверие такого мальчика, как Коля, не просто было завоевать — князь получил его сразу, не прилагая к этому усилий, естественно. Вероятно, именно потому Коля и почтил его своим доверием, что князь был простодушен и открыт.
Но главная победа князя происходит на дне рождения у Настасьи Филипповны. Его сразу принимают радушно, не слушая его извинений (а извинения тоже в характере князя: «Мне так захотелось к вам прийти... я... простите...»). Когда речь дошла до решения вопроса, выходить ли Настасье Филипповне замуж за Гаврилу Иволгина, она внезапно обратилась к князю: «Скажите мне, как вы думаете: выходить замуж иль нет? Как скажете, так и сделаю».
Несмотря на изумление присутствующих: ведь сегодня она впервые в жизни увидела князя, серьезно ли это — ставить в зависимость от его ответа свою судьбу? — Настасья Филипповна, выслушав невнятный шепот князя: «...ннет... не выходите», объявляет всем, что вопрос решен.
Но ведь то, что сказал князь, и представляет собой единственно правильное решение, по справедливости. Ничего не пытаясь узнать, князь невольно узнал и услышал за этот длинный день достаточно, чтобы понимать: Иволгин собирается жениться не на Настасье Филипповне, а на деньгах, которые дает за ней в приданое ее бывший покровитель; потом он замучает ее попреками за эти же деньги. Князь прав — и все понимают это, хотя и протестуют против такого решения. Причина протеста одна: «Почему тут князь? И что такое, наконец, князь?» На этот вопрос Настасья Филипповна отвечает не колеблясь:
«— А князь для меня то, что я в него в первого, во всю мою жизнь, как в истинно преданного человека поверила. Он в меня с первого взгляда поверил, и я ему верю».
Но в этот момент внезапно появляется Рогожин с пьяной компанией с пачкой денег в сто тысяч — он намерен купить Настасью Филипповну. Пересказывать все происходящее — кощунство, это надо читать так, как написано у Достоевского. Одно я осмелюсь напомнить: ведь Настасья Филипповна делает прямой выговор Гане Иволгину: «Да неужели ты меня в свою семью ввести хотел? Меня-то, рогожинскую!.. Это он торговал меня: начал с восемнадцати тысяч, потом вдруг скакнул на сорок, а потом вот и эти сто...»
И тогда-то князь открывается во всей своей душевной красоте. Он заявляет, что возьмет Настасью Филипповну замуж, «как есть, без ничего!» Она потрясена: «Чем жить-то будешь, коли уж так влюблен, что рогожинскую берешь за себя-то, за князя-то?»
«— Я вас честную беру, Настасья Филипповна, а не рогожинскую, — сказал князь... — Я ничего не знаю, Настасья Филипповна, я ничего не видел, вы правы, но я... я сочту, что вы мне, а не я сделаю честь. Я ничто, а вы страдали и из такого ада чистая вышли, а это много... Я вас, Настасья Филипповна... люблю. Я умру за вас, Настасья Филипповна... Я никому не позволю про вас слова сказать, Настасья Филипповна... Если мы будем бедны, я работать буду, Настасья Филипповна...»
И наконец ему удается рассказать то, о чем он весь день пытался рассказать, но его прерывали: о письме, которое он получил еще в Швейцарии, где сказано, что ему полагается получить большое наследство.
Вот на этом месте у другого писателя и кончился бы роман. Герой получает миллион, героиня выходит замуж за миллионера — все счастливы. Но нет. На одну минуту Настасья Филипповна поверила: «Значит, в самом деле княгиня!.. Развязка неожиданная... я... не так ожидала... Нет, генерал! Я теперь и сама княгиня, слышали, — князь меня в обиду не даст!.. Полтора миллиона, да еще князь, да еще, говорят, идиот в придачу, чего лучше? Только теперь и начнется новая жизнь! Опоздал, Рогожин! Убирай свою пачку, я за князя замуж выхожу и сама богаче тебя!»
Но Достоевский знал, что человеческие поступки всегда сложнее, чем о них привыкли думать, что в человеческом сердце всегда происходит мучительная борьба, и часто в нем побеждают не те чувства, каких ожидаешь. Поэтому роман «Идиот» вовсе не кончается на той странице, где Настасья Филипповна решилась выйти замуж за князя, — через несколько минут она опомнилась: князь такой невинный человек, что она не может и не хочет омрачать собою его жизнь. Она уехала с Рогожиным, она обещала выйти за него замуж и несколько раз убегала от него, потому что любила- то она князя! И в жизни князя возникла любовь к другой женщине — Аглае Епанчиной, и этой любви не суждено было стать счастливой, потому что сострадание к Настасье Филипповне было сильнее любви... Пересказывать роман я не буду: кому важно, сам прочтет. Только одно скажу: я не люблю Аглаю, она мне представляется забалованной вздорной девчонкой, мне всегда жалко, что не удалось счастье князя с Настасьей Филипповной.
Роман «Идиот» не был забыт с годами. Много раз его снова и снова ставили на сценах театров, снимали в кино. Героев романа рассматривали по-разному, но князь Мышкин всегда оставался символом добра и чистоты. И Настасья Филипповна всегда воплощала безвинное страдание, кто бы ее ни играл, в каком бы театре ни ставилась пьеса по роману «Идиот». И вот сейчас, в наши дни в Польше известный режиссер Анджей Вайда снова обратился к роману. Он поставил спектакль «Настасья Филипповна», где действуют всего два человека: Лев Николаевич Мышкин и Парфен Рогожин. Это не инсценировка — спектакль начинается тогда, когда книга кончается. Князь Мышкин и Рогожин сидят вдвоем в мрачном кабинете Рогожина. Все уже позади — Настасья Филипповна убита; тело ее лежит здесь же, за занавеской. Достоевский в конце романа очень коротко рассказал о разговоре, происходившем в ту страшную ночь между убийцей Настасьи Филипповны Рогожиным и князем Мыш- киным, который вчера еще ждал несчастную женщину в церкви, чтобы обвенчаться с ней. Отправляясь в церковь в роскошном подвенечном наряде, Настасья Филипповна увидела в толпе Рогожина и убежала с ним. Свадьба не состоялась. Рогожин увез любимую женщину к себе домой — он убил ее, потому что не мог вытерпеть и ее, и своих страданий.
В спектакле Вайды два мужчины, любившие Настасью Филипповну, говорят о ней, вспоминают ее, и зал не может перевести дыхание — замысел Достоевского живет на сегодняшней сцене и волнует сегодняшних зрителей. Я думаю, что так будет длиться еще долгие годы, потому что люди не перестанут любить и страдать, потому что всегда будет жива идея сострадания, сила страсти и сила добра. И всегда будут живы мысли Достоевского и созданные им характеры.
1. В гостиной графини
Вернемся в «комфортную» гостиную мачехи Кати, где Иван Петрович чувствовал себя неуютно. И вот наконец перед ним Катя. Иван Петрович признается: «Я с нетерпеливым вниманием в нее вглядывался: это была нежная блондинка, одетая в белое платье, невысокого роста, с тихим и спокойным выражением лица, с совершенно голубыми глазами, как говорил Алеша, с красотой юности и только». Портрет Кати занимает целый абзац, но это не столько описание ее лица, сколько рассказ о впечатлении Ивана Петровича, — мы уже видели этот прием в портретах князя и Нелли. Вот впечатления Ивана Петровича: «Я ожидал встретить совершенство красоты, но красоты не было... при встрече с ней где-нибудь я бы прошел мимо нее, не обратив на нее никакого особенного внимания... Уже одно то, как она подала мне руку... поразило меня своею странностию, и я отчего-то невольно улыбнулся ей. Видно, я тотчас же почувствовал перед собой существо, чистое сердцем...»
Глава VIII
КАТЯ
Если бы Катя оказалась черствой, бездушной девочкой,которая интересовалась бы только своим собственным благополучием, Ивану Петровичу было бы легче. Но Катя, действительно, от всей души печется о Наташиных интересах — и еще в одном смысле она солидарна с Иваном Петровичем: отцу Алеши она не верит, считает его способным на любую хитрость и даже подлость.
Алеша между тем сразу же подтверждает подозрения Кати.
К Наташе он не торопится: «...я только на минуточку к Левеньке, а там тотчас и к ней». Кроме того, он уже говорит те самые слова, которых боялась и стремилась избегнуть Наташа: «И зачем вы все навязываете мне эти условия, упрекаете меня, следите за мной, — точно я у вас под надзором!»
Но вот, наконец, Алешу удается отослать — удается даже убедить его, что нужно ехать не к Левеньке, а прямо к Наташе.
Длинный разговор Ивана Петровича с Катей, после того как они отправили Алешу и остались вдвоем, — это один из будущих беспредельно откровенных разговоров героев Достоевского, когда люди выворачивают друг другу всю душу — и часто все же не могут понять друг друга, договориться о том, о чем мечтают договориться.
Сразу же, с самого начала оба единодушно соглашаются, что считают князя очень нехорошим человеком. Другой вопрос решить труднее: будут ли Алеша и Наташа вместе счастливы. Иван Петрович не решается судить об этом, «сказать наверное», но в конце концов приходит к выводу, что не будут счастливы, потому что «они не пара».
Почему Кате все это так важно? Почему она добивается, как же Наташа «могла полюбить Алешу, такого мальчика?» Потому что и она сама хотя и очень еще наивна, но гораздо взрослее и разумнее Алеши, а тоже его полюбила... Кате кажется, что главное — это ей встретиться с Наташей, поговорить — и тогда они вместе все решат.
Как все это будет мучительно для Наташи, Катя не задумывается. Она понимает, что Наташа мучается оттого, что Алеша «совсем ее перестал любить», но она не может себе представить, что ее вмешательство будет еще большим мучением, для Наташи. В своем детском стремлении к справедливости она не замечает, как больно может ранить другого человека.
Долгий этот разговор показывает нам Катю в самом лучшем свете, но только одно в ней прорывается незаметно для нее самой: Кате кажется, что она может справиться со всеми трудностями, какие возникнут в жизни. Ей не страшно коснуться чужой боли, она слишком уверена в себе. Ивану Петровичу очень понравилась честная и добрая Катя, и он тоже не подумал: а каково будет Наташе, если действитель-, но ей удастся увидеться с Катей, «чтоб ей знать, кому она передает Алешу».
Страшно читать про эти сборы и приготовления к свиданию. Страшно не потому, что мы боимся за одну из женщин в «Униженных и оскорбленных» — нет, ни Наташе, ни Кате ничто не грозит: обе они раскроются на этом свидании как мягкие, благородные натуры, не способные причинить друг другу зло.
Просто мы знаем других женщин Достоевского, встретившихся для того, чтобы решить судьбу общего возлюбленного, и знаем, что из этого вышло.
2. «Обе вместе»
Так называется одна из глав последнего романа Достоевского «Братья Карамазовы». В этой главе младший Карамазов, Алеша, идет с поручением от брата Дмитрия к его невесте — теперь уж бывшей невесте — Катерине Ивановне. Брат несколько раз повторил, чтобы Алеша «именно... передал это слово: «кланяться». Просил раза три, чтоб... не забыл передать».
Дмитрий Кар амазов полюбил гордую, красивую Катерину Ивановну, которая решилась одна поздним вечером прийти к нему, известному дебоширу и пьянице, просить денег на спасение жизни и чести отца. Тогда — полгода назад — душа его была перевернута поступком девушки, он дал ей деньги, отец ее был спасен, а Дмитрий Карамазов приехал просить руки , и сердца. Теперь, когда он официально признанный жених, на пути его встала другая женщина — Гру-шенька. Безумная страсть к Грушеньке овладела им. Митя чувствует себя подлецом и все-таки посылает брата сказать, что просит Катерине Ивановне кланяться и больше никогда уж к ней не вернется.
Явившись с этим поручением, Алеша застает у Катерины Ивановны Грушеньку.
Конечно, ее «свежая, еще юношеская красота» произвела на Алешу Карамазова впечатление. Но его «поразило всего более в этом лице его детское, простодушное выражение. Она глядела, как дитя, радовалась чему-то как дитя, она именно подошла к столу, «радуясь» и как бы сейчас чего-то ожидая с самым детским нетерпеливым и доверчивым любопытством».
Сколько слышал Алеша об этой женщине! Еще полчаса назад брат Иван сказал о ней, что она «зверь»... Алеша ожидал увидеть хищницу, а перед ним «добрая, милая женщина, положим красивая, но так похожая на всех других красивых, но «обыкновенных» женщин». Глядя на нее, Алеша «с неприятным каким-то ощущением и как бы жалея, спрашивал себя: зачем это она так тянет слова и не может говорить натурально?»
Катерина Ивановна не видит и не слышит в Грушеньке ничего дурного, она в восторге, «она точно была влюблена в нее...»
Что же происходит? Разве Катерина Ивановна не знает, что она оставлена, забыта — ради этой жещины? Разве Катерина Ивановна не знает, что Митя растратил деньги, доверенные ему Катериной Ивановной? Растратил на гульбу с Грушенькой.
«— Мы в первый раз видимся, Алексей Федорович... я захотела узнать ее, увидать ее... Я так и знала, что мы с ней все решим, все! Так сердце предчувствовало...» — вот что говорит Катерина Ивановна, уверенная, что все на свете должно происходить так, как она захочет.
Позднее Дмитрий Карамазов так объяснит поведение своей бывшей невесты: «Все, дескать, могу победить, все мне подвластно; захочу, и Грушеньку околдую» — и ведь сама себе верила, сама над собой форсила, кто ж виноват?»
Вот после этих слов начинаешь понимать, что Катерина Ивановна напоминает Катю из «Униженных и оскорбленных». Встреча Кати с Наташей ничем, казалось бы, не напоминает сцену Катерины Ивановны с Грушенькой, в «Униженных и оскорбленных» вся сцена гораздо примитивнее и слащавее, чем на вершине творчества Достоевского — в «Братьях Карамазовых». Но это — как бы набросок будущей сцены. Катя приезжает к Наташе рано утром в сопровождении француженки, которую уговорили подождать внизу полчаса. Итак, времени на это важное свидание совсем мало. У Наташи уже сидит Алеша, весь в слезах, и Наташа тоже плачет.
Казалось бы, о чем плакать Алеше? Ведь Наташа убедила его, что через полтора месяца он вернется, и они обвенчаются. Видно, он все-таки подсознательно понимает, что предполагаемое венчанье, — просто сказка, выдумка для его утешения, а он искренне горюет, предчувствуя разлуку с Наташей навеки.
Иван Петрович вместе с Катей поднимается по лестнице, и она спрашивает: «...как вы думаете, не будет сердиться на меня Наташа?»
Вопрос вполне естественный, только о нем неплохо было бы задуматься не на лестнице, а много раньше. Ведь если грубо, в общих чертах обрисовать положение, то Катя идет к женщине, которая имеет все права на Алешу и у которой она Алешу отнимает.
Катя «вошла робко, как виноватая», но чего же ей было бояться? Наташа «тотчас же улыбнулась ей». В первом романе Достоевского еще нет тех бурных страстей, которые возникнут в его последующем творчестве, здесь Катя и Наташа— обе ведут себя сдержанно и пытаются всерьез обсудить судьбу Алеши.
Встретясь с Наташей, Катя прежде всего пристально вглядывается и любуется своей соперницей; Наташа, в свою очередь, восклицает: «Какая ты хорошенькая!»
Катерина Ивановна, встретясь с Грушенькой, тоже все умилялась ее красотой, и Грушенька попервоначалу допускала эти умиленные похвалы своей соперницы. Но там, в «Братьях Карамазовых», совсем другая сцена. Попытки Катерины Ивановны договориться с Грушенькой, ее умиление перед женщиной, которую уже предпочли ей, настолько неестественны, что не могут кончиться добром, — сцена эта и кончается полным разрывом.
В «Униженных и оскорбленных» Катя робеет перед Наташей, потому что начала, кажется, понимать, что ворвалась в ее жизнь и отняла ее счастье. Разговор обеих женщин происходит так, будто он заранее поставлен и отрепетирован князем Валковским. Катя начинает с вопроса, который ей не следовало бы задавать: «...я вас просто спрошу: очень вы любите Алешу?» — и, когда Наташа отвечает так же просто: «Да, очень», — Катя «робко и шепотом» произносит слова, которыми сам князь был бы доволен: «А если так... если вы очень любите Алешу... то... вы должны любить и его счастье...»
Исходя из этой фразы, можно дальше произнести целую речь о том, что Алешино счастье — в браке с Катей, и не надо мешать этому счастью. Но Катя — совестливая девушка, и у нее возникает совсем другой вопрос: «...составлю ли я его счастье?.. Если вам кажется и мы решим теперь, что с вами он будет счастливее, то... то...»
Наташа отвечает спокойно: «Это уже решено, милая Катя, ведь вы же сами видите, что все решено...»
В этом разговоре с первых слов видно, насколько Наташа взрослее и добрее Кати, добрее не потому, чтобы Катя была злая или жестокая, а потому, что она наносит боль, не понимая. Она рассуждает о любви, а на самом деле она и не знает, что это такое. Ей все кажется, что разговорами можно чего-то добиться, что-то изменить, сделать так, чтобы никто не был несчастлив... Полгода назад, может быть, и Наташа стала бы рассуждать, договариваться... Но за эти полгода она прожила целую жизнь, и теперь ей «было, видимо, тяжело продолжать разговор». Она уже знает, что не разговорами решаются человеческие судьбы, а особенно ее судьба, которую решил князь Валковский.
«Катя приготовилась, кажется, на длинное объяснение на тему: кто лучше составит счастье Алеши и кому из них. придется уступить? Но после ответа Наташи тотчас же поняла, что все уже давно решено и говорить больше не о чем». Такой вывод сделал из первых же слов Кати и Наташи Иван Петрович.
Для чего же тогда Катя так настаивала на этом свидании, да и Наташа хотела его? Обеим казалось, что, увидев друг друга, они смогут облегчить — одна свое горе, другая — угрызения совести.
Разговор их предельно, неправдоподобно откровенен: «...вы его очень любите?» — спрашивает Наташа. Катя в от-* вет: «...за что именно вы его любите?» И обе могут ответить одно: «...мне его все как будто жалко».
В этом разговоре много слез и объятий. Когда входит Алеша, который «не в силах был переждать эти полчаса», он застает «их обеих в объятиях друг у друга и плакавших».
В следующих романах Достоевского вовсе нету столь сентиментальных, слезливых сцен. Они только в этом, первом его романе. Многие читатели раздражаются, читая эти описания слишком горячих чувств, и считают этот роман Достоевского нестерпимо чувствительным. Это неверно. Да, мы знаем, что и сам автор, работая над отдельным изданием романа, стремился сделать его более сдержанным, убирал сцены слез и рыданий.
Но то, что он оставил, было ему в ту пору необходимо: он еще не умел показывать накал человеческих чувств иначе, не слезами и объятиями, а действиями.
Совсем иначе разворачивается сцена свидания соперниц в «Братьях Карамазовых». Катерина Ивановна тоже непрерывно целует и обнимает Грушеньку, расхваливает ее: «...знайте, Алексей Федорович, что мы фантастическая головка, что мы своевольное, но гордое-прегордое сердечко! Мы благородны, Алексей Федорович, мы великодушны, знаете ли вы это?» Грушенька выслушивает все эти похвалы и вдруг заявляет:
«— Очень уж вы защищаете меня, милая барышня, очень уж вы во всем поспешаете...»
Катерина Ивановна, уверенная в своей победе над Гру- шенькой, в том, что она успела очаровать соперницу и убедить ее «спасти» Дмитрия Федоровича, отказавшись от брака с ним, продолжает объяснять Алеше, что Грушенька любит другого, что она уже дала слово выйти за этого другого замуж...
«— Ах, нет, ангел-барышня, ничего я вам не обещала, — тихо и ровно все с тем же веселым и невинным выражением перебила Грушенька. — Вот и видно сейчас, достойная барышня, какая я перед вами скверная и самовластная. Мне что захочетсяя так и поступлю. Давеча, я, может, вам и пообещала что, а вот сейчас опять думаю: вдруг он опять мне понравится, Митя-то...»
Все это произносится тем же растянутым, слащавым голосом, в глазах Грушеньки «все то же простодушное, доверчивое выражение», она предлагает «барышне поцеловать ручку» — «чтобы сквитаться».
Алеша весь дрожит при этом разговоре: он чувствует, что предстоит какое-то неслыханное оскорбление и унижение для Катерины Ивановны. И правда: поднеся к губам руку соперницы, Грушенька вдруг как бы задумалась/
«— А знаете что, ангел-барышня, — вдруг протянула она совсем уж нежным и слащавейшим голоском, — знаете что, возьму я да вашу ручку и не поцелую. — И она засмеялась маленьким развеселым смешком».
Дальше Грушенька уже не церемонится: «А так и оставайтесь с тем на память, что вы-то у меня ручку целовали, а я у вас нет... Так я Мите сейчас перескажу, как вы у меня целовали ручку, а я-то у вас совсем нет. А уж он как будет смеяться!»
Что остается Катерине Ивановне? Она кричит: «Наглая!», «Мерзавка, вон!», «Вон, продажная тварь!» — и вызывает этим только поток оскорблений, сказанных тем же слащавым тоном. Вдобавок Грушенька и к Алеше обращается: «Милый, Алешенька, проводи!.. Я это для тебя сцену проделала. Проводи, голубчик, после понравится...»
Разъяренная Катерина Ивановна уже не в силах сдержать себя. Она не кричит, а вопит: «Это тигр!., я бы избила ее, избила!.. Ее нужно плетью, на эшафоте, чрез палача, при народе!..»
Вот чем кончилась попытка Катерины Ивановны «околдовать» Грушеньку, вот чем кончилось ее желание решить разговорами все создавшиеся между двумя соперницами проблемы и главную из них: с которой из них будет лучше их общему возлюбленному. Катерина Ивановна хотела действовать красивыми словами и слезами — из этого ничего не вышло. В «Униженных и оскорбленных» та же сцена вышла, но ей не очень веришь: обе женщины слишком уж хороши.
В «Братьях Карамазовых» та же сцена достигает вершины психологической глубины, понимания души человека. Обе женщины: и Катерина Ивановна, и Грушенька — понятны, их поведение — единственно возможное в создавшихся обстоятельствах, и трудно представить себе, чтобы другой писатель — не Достоевский — смог бы так понять и показать точность человеческой психологии.
А в «Униженных и оскорбленных» — первая попытка, набросок, эскиз.
3. Катя и Алеша
Что же случилось дальше? После этого свидания Наташа расхваливала Катю: «Послушай, Ваня... какая это прелесть Катя!» Ивану Петровичу «показалось, что она сама нарочно растравляет свою рану», но Наташа продолжала: «Катя, мне кажется, может его сделать счастливым...» Наташе хочется себя уговорить, что все сложилось правильно, к лучшему для ее драгоценного Алеши. Назавтра он приехал прощаться — и, если бы Иван Петрович не провожал его до самого экипажа, он «непременно бы воротился и никогда бы не сошел с лестницы».
Вот этим словам уже как-то вовсе не веришь. Да, мы видели, как Алеша был влюблен в Наташу, как он твердо — для себя твердо — пытался вести себя по отношению к отцу. Но мы видели и другое: с какой легкостью поддался он хитроумному замыслу князя познакомить его поближе с Катей и как быстро влюбился в нее. Главное для него — освободить свою совесть, чем бы то ни было облегчить ее. Как ни виним мы князя Валковского в эгоизме и легкомыслии Алеши, но ведь и сам Алеша — уже не ребенок: если он чувствует в себе возможность любить женщину, то неизбежно должен нести полную ответственность за свои отношения с этой женщиной. Этого-то Алеша не чувствует, его и к Кате привязало то, что теперь она будет нести за него ответственность — и так он проживет жизнь, почитая себя порядочным человеком и не обладая ни одним из свойств порядочного человека: ни чувством долга, ни ответственностью, ни чистой совестью.
Достоевский стремится все-таки оправдать Алешу: в эпилоге мы узнаем о его письмах из Катиного имения, когда он понял, что проект вернуться обратно в Петербург не может состояться. Видимо, Катя, которую он называл в одном из писем «своим провидением», продолжала придумывать для него утешительные сказки: то он «спешил известить, что приезжает... на днях, чтобы поскорей обвенчаться с Наташей, что это решено и никакими силами не может быть остановлено», то он был в отчаянии, то, наконец, в третьем письме «признавался, что он преступник перед Наташей», пытался даже восстать против князя, «с упорством, со злобою опровергал доводы отца, проклинал себя за малодушие и — прощался на веки!»
Но — все это нисколько не оправдывает Алешу в наших глазах. Мы видим и доказательства его отчаяния, слез, мучений: кроме его писем пришло письмо от Кати, которая подтвердила, что Алеша «действительно очень грустит, много плачет и как будто в отчаянии, даже болен немного, но что она с ним и что он будет счастлив». (Курсив Достоевского.)
Вот это слово — она, выделенное Достоевским, очень важно. В нем не только осуждение, но некоторая даже брезгливость к Кате, о которой устами Ивана Петровича было сказано столько хороших слов. Если Алеша — как мы это уже ясно видим, — несмотря на все свои страдания и зависимость от отца, все равно остается легкомысленным эгоистом, приносящим горе Наташе, которую он любил, то ведь и Катя не менее эгоистична. Рассудив, что Алеше будет с ней лучше, чем с Наташей, она так в это уверовала, что уже нисколько не задумывается, как больно Наташе получать эти заверения, что она с ним и он будет счастлив. Оба эти ребенка, ставшие взрослыми, но не повзрослевшие, виноваты перед Наташей, оба они вступают в жизнь, сделав несчастным другого человека, — на каком основании? Только потому, что у Кати есть миллионы, которых у Наташи нет.
Достоевский прямо не осуждает ни Катю, ни Алешу. Он даже как будто винит в Алешином эгоизхме его отца — князя Валковского. Но в то же время из всего творчества Достоевского мы делаем непреложный вывод: человек должен нести за себя ответственность сам.
Богатство князя Валковского и тем более богатство Кати испортило и ее, и Алешу, освободило их от всех забот, которые знакомы не только Наташе, но тринадцатилетней Нелли.
В эпилоге Достоевский очень коротко рассказывает о письмах Алеши и Кати — мы довольно видели обоих, мы должны были уже их понять: для обоих все-таки главное в жизни — чтобы им было хорошо, и ради своего счастья они могут переступить через другого человека, при этом найдя множество оправданий, чтобы не помешать своему душевному комфорту.
Недаром и в «Братьях Карамазовых» Катерина Ивановна своим выступлением на суде не только не помогла Мите Карамазову, а способствовала тому, чтобы его признали виновным и осудили на двадцать лет каторги как убийцу отца, которого он не убивал.
Пока на Митю не пало чудовищное подозрение, Катерина Ивановна хотела быть ему вернейшим другом и спасительницей. Когда же пришла беда, вернейшим другом оказалась Грушенька — мы видели, какую злую хищницу она разыгрывала прежде, когда Мите не грозила никакая, опасность. Оказалось, что Катерина Ивановна умеет бороться за себя, за свои интересы, а Грушенька умеет пожертвовать всем из любви к Мите.
Это и есть главный критерий человеческого, которому учит нас Достоевский во всех книгах, и в «Униженных и оскорбленных» мы невольно обвиняем и Катю, и Алешу, которые заняты только собой и не умеют ничем пожертвовать ради счастья другого.
ЧАСТЬ I V
Знайте же, что ничего нет выше, и сильнее, и здоровее, и полезнее впредь для жизни, как хорошее какое-нибудь воспоминание, и особенно вынесенное еще из детства...
Ф. М. Достоевский
Отступление восьмое
О РОМАНЕ «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ»
Что бы еще мог написать Пушкин, если бы прожил восемьдесят лет, как Толстой? Много раз я задумывалась над этим вопросом... ответа на него нет. Что бы еще написал Лермонтов, погибший двадцати семи лет? Никто этого не знает и никогда не узнает.
Но мы знаем, что написал бы Достоевский, если бы смерть не застигла его шестидесятилетним, в разгар творческих замыслов. Знаем потому, что его жена Анна Григорьевна рассказала о его планах, которыми, к счастью для нас, Федор Михайлович всегда с ней делился. Достоевский написал бы еще один роман о братьях Карамазовых, об их дальнейшей судьбе. Не случайно возникла эта странная фамилия: Карамазовы. Всякий ленинградец, едва научившись складывать буквы в слова, запоминает фамилию, начертанную золотом на мраморной доске, прикрепленной к решетке Летнего сада: Каракозов. Надпись на решетке сообщает, что на этом месте Дмитрий Каракозов стрелял в царя Александра II.
Достоевский не дожил нескольких недель до взрыва 1 марта 1881 года, когда Александр II был убит народовольцами. Но в последние годы жизни Достоевского на царя покушались много раз. После выстрела Каракозова прошли годы. Взрывался поезд, в котором царь ехал из Ливадии в Москву и потом в Петербург. Взрывалась столовая в Зимнем дворце. По Дворцовой площади бежал царь, петляя как заяц и уворачиваясь от пуль, посылаемых в него народовольцем Соловьевым.
Достоевский не понимал стрелявших и взрывавших, но уже понял, что эти люди уверены в свой правде и не отступятся. Он много думал об этих людях, не жалевших своих молодых жизней ради того, что они считали главным: изба-^ вить Россию от царя. Фамилия Каракозова, повешенного в 1866 году, сразу после покушения, жила в памяти Достоевского и подсказала ему фамилию героев его главной книги: Карамазовы.
В первом, написанном романе «Братья Карамазовы» труд-^ но выделить главного героя — все три брата в равной степени главные. Во втором романе, которого Достоевский не успел написать, один из братьев должен был пройти суровые испытания и кончить жизнь на виселице, как Каракозов. Никто не может сказать с уверенностью, как решил бы судьбы своих героев Достоевский. Но второй роман остался ненаписанным, его нет. Зато первый роман о братьях Карамазовых остался нам — и трудно назвать писателя, который нашел бы в себе мужество сказать о самом мучительном для души человеческой, о тех бесчисленных и неразрешимых проблемах, какие волнуют эту душу от молодости до зрелых лет. Достоевский сделал это, написал. Читать его последнюю книгу тяжело — душа надрывается.
«Братья Карамазовы», как и все романы Достоевского, — прежде всего книга увлекательная. В ней разворачиваются события, которые непременно должны — и это сразу чувствует читатель — привести к трагедии, к убийству. Убийство происходит, и читатель долгое время остается перед загадкой: кто убил старика Карамазова? Все улики налицо, кажется недвусмысленно ясным: убил старший сын Дмитрий. Но читатель уже успел полюбить Дмитрия Карамазова и поверить ему.
А Дмитрий повторяет, что в крови отца своего не виновен... Накануне суда над Митей читатель узнает, что убил не он. Читатель узнает, но теперь уже ему важно, чтобы и суд узнал об этом. А суд не верит и приговаривает Дмитрия к двадцати годам каторжных работ. Таков детективный сюжет романа. Но сколько ни думаешь над его содержанием, все глубже понимаешь, что не в детективном сюжете здесь дело. Это роман о жизни человеческой, о том, как нестерпимо трудно бывает прожить эту жизнь, о человеческих страстях и о борьбе с этими страстями.
Роман «Братья Карамазовы» длинный — он занимает два тома в полном собрании сочинений Достоевского. И каждый том кончается историей, казалось бы, очень мало связанной с семьей Карамазовых. Герои этой истории — дети, мальчики-гимназисты. Последняя, десятая часть первого тома так и называется — «Мальчики». Второй же том кончается речью Алеши Карамазова, которую он произносит перед теми же мальчиками в день похорон их товарища Илюши Снегирева. То, что говорит Алеша Карамазов мальчикам, было чрезвычайно важно для Достоевского. Устами Алеши он сам произносит те слова и мысли, которые были для него как бы обращением к следующему поколению.
Мы знаем: для Достоевского главной задачей литературы оставалось всегда одно: учить людей добру и справедливости. Эту задачу он выполнял во всех своих романах: и в «Преступлении и наказании», и в «Идиоте», и в «Подростке», и, конечно, в «Братьях Карамазовых». В этом последнем романе он со всем своим мастерством, с непревзойденной психологической глубиной изобразил целую группу ребятишек. Знакомство их с Алешей Карамазовым произошло при таинственных и даже драматических обстоятельствах.
Однажды Алеша, идя по городу, заметил стайку мальчишек, бросавших камнями в одного-единственного мальчика, тоже бросавшего камни в своих многочисленных противников. Алеша вмешался, начал расспрашивать школьников, за что они так жестоко поступают со своим товарищем. Но тот уже целился не в школьников. Стало ясно, что он хочет непременно попасть камнем именно в Алешу Карамазова. Когда же Алеша подошел к нему, мальчик больно укусил его — и явно ждал, что Алеша рассердится, ударит его или еще как-нибудь проявит свой гнев. Но Алеша сохранял терпение и только все пытался узнать, что он такого сделал, за что мальчик так на него рассердился. Кончилась эта история тем, что мальчик заплакал и, громко плача, побрел домой, а Алеша отправился по своим делам, так ничего и не поняв.
Эта странная история вскоре прояснилась для Алеши. Мальчика, который укусил его палец, звали Илюша Снегирев. У него был отец, штабс-капитан Снегирев, которого унизил и оскорбил Дмитрий Карамазов: встретив в трактире, вывел его на улицу за бороду, называя ее при этом мочалкой. Всю эту сцену видел Илюша Снегирев. Он молил обидчика, чтобы тот не бил его отца; он был потрясен унижением, которому подвергся его отец. Теперь он укусил Алешу только за то, что он тоже Карамазов.
Вся эта история мальчика Илюши и его товарищей легла в основу пьесы Виктора Розова «Брат Алеша» и идет во многих театрах нашей страны. В Москве в театре на Малой Бронной штабс-капитана Снегирева играет Лев Дуров — кто увидит его, уже никогда не забудет несчастного штабс-капитана, которого после истории с Митей начали дразнить мочалкой, не забудет достоинства, с которым он говорит с Алешей Карамазовым. Этот человек проходит через все творчество Достоевского — он унижен и оскорблен, но не задавлен: его черты были в Макаре Девушкине, потом в старике
Ихменеве, в чиновнике Мармеладове; это, может быть, главный герой Достоевского, чья непокорившаяся душа волновала писателя всю его жизнь.
Рядом с ним — товарищи Илюши по школе, мальчики. О характере Илюши Снегирева рассказывает самый яркий из описанных Достоевским мальчиков Коля Красоткин: весной Илюша поступил в приготовительный класс. «Ну, известно, наш приготовительный класс: мальчишки, детвора. Илюшу тотчас же начали задирать... Вижу, мальчик маленький, слабенький, но не подчиняется, даже с ними дерется, гордый, глазенки горят. Я люблю этаких. А они его пуще... Унижают. Нет, уж это я не люблю, тотчас заступился...»
Конечно, если бы Коля продолжал заступаться за Илюшу, не было бы никакой драки камнями. На беду, Илюша познакомился в то время с мерзким, гнусным человеком Смердяковым, и тот научил его «взять кусок хлеба, мякишу, воткнуть в него булавку и бросить какой-нибудь дворовой собаке». Так они и сделали, но Илюша был так потрясен визгом и лаем собаки, что совесть его замучила. Он рассказал всю эту историю Коле Красоткину, а тот, желая его «про- школить», объявил, что поступок этот подлый, и он прерывает с Илюшей всякие отношения. Так остался Илюша без поддержки в тот самый момент, когда Дмитрий Карамазов унизил его отца и когда Илюше необходимо было человеческое участие.
Несчастный ребенок в ярости велел передать Красоткину, что он теперь будет всем собакам «куски с булавками кидать, всем, всем!» В отчаянии он бросился на Колю Кра- соткина с перочинным ножом и ткнул мальчика в ногу, а в тот же день была и драка камнями, в которую затесался Алеша Карамазов, и его Илюша укусил — как бы желая всем отомстить и за свое унижение, и за унижение отца.
Так началась эта грустная история — кончилась она смертельной болезнью и смертью Илюшечки. Снова мы встречаем Илюшу в конце первого тома, когда он лежит в своей нищей комнате и все его бывшие враги, постепенно приведенные сюда Алешей Карамазовым, навещают его. Нет одного Коли Красоткина. Достоевский описывает тот самый день, когда Красоткин приходит наконец к Илюшечке,
В характере Коли Красоткина собрались все многолетние мысли писателя о детях. Это удивительный мальчик, и в то же время это такой мальчик, каких и сейчас много в любой школе: он гордый, справедливый, храбрый, и в то же время он беспрерывно сомневается в себе, хочет утвердить свое «я», хочет быть лучше всех и сомневается, не хуже ли он всех, не смеются ли над ним.
Достоевский подробно рассказывает о Коле Красоткине, посвящая ему целую главу. «Был он смелый мальчишка... был ловок, характера упорного, духа дерзкого и предприимчивого». Слава его утвердилась окончательно после того как он заключил пари с более старшими ребятами, «что он, ночью, когда придет одиннадцатичасовой поезд, ляжет между рельсами ничком и пролежит недвижимо, пока поезд пронесется над ним на всех парах», — и выдержал, и пролежал на шпалах, пока поезд промчался над ним.
Характер Коли Красоткина складывается на наших глазах. Эпизод с поездом оставил в его душе не только гордость — «из самолюбия или из беспардонной отваги», но выдержал испытание.
Была и оборотная сторона медали: слухи о поезде дошли до матери, которая «чуть не сошла с ума от ужаса». Увидев, что делается с матерью, Коля «расплакался, как шестилетний мальчик», поклялся памятью отца, что этого больше не повторится, и «стал молчаливее, скромнее, строже, задумчивее».
Другой урок он вынес из своего запоздалого появления у постели больного Илюшечки. На улице он приказал себя ждать мальчику Смурову, с которым Коля разговаривал, как мудрый старец с юношей: «Я отрицаю медицину. Бесполезное учреждение», «Удивляет меня во всем этом роль Алексея Карамазова: брата его завтра или послезавтра судят за такое преступление, а у него столько времени на сентиментальничанье с мальчиками!», «...я в иных случаях люблю быть гордым», — все эти важные слова поражают одиннадцатилетнего Смурова, заставляют его благоговеть перед Колей. Но ведь и Коля — всего только мальчик, которому очень хочется выглядеть взрослым, поэтому иногда он невольно говорит смешные вещи, хотя его собеседник, конечно же, не замечает ничего смешного.
В дом к Илюше Коля сразу не входит, посылает Сму- рова вызвать на улицу Алешу Карамазова, заметив: «Надо предварительно обнюхаться».
Как только появляется Алеша, мы понимаем, что Коля очень боится ему не понравиться. Перед Алешей он так же фанфаронит, как перед Смуровым, старается выглядеть старше своих лет и выглядит из-за этого смешным: «...я ненавижу, когда меня спрашивают про мои года, более чем ненавижу... и наконец... про меня, например, есть клевета, что я на прошлой неделе с приготовительными в разбойники играл. То, что я играл, это действительно, но что я для себя играл, для доставления себе самому удовольствия, то это решительно клевета».
К удивлению Коли, Алеша принимает этот его рассказ вполне серьезно и даже сравнивает детские игры с театром, куда ездят взрослые люди и где играют взрослые люди. «Коля был чрезвычайно доволен Алешей. Его поразило то, что с ним он в высшей степени на ровной ноге...» Но впереди Колю ждет горький урок — и не от Алеши Карамазова, а от собственной совести.
Все мальчики и даже Алеша Карамазов — все не понимали, почему Коля так долго не приходит к Илюшечке. Алеша даже посылал к Коле Смурова, но Коля ответил, «что он сам знает, как поступать, что советов ни от кого не просит и что если пойдет к больному, то сам знает, когда пойти». И вот теперь Коля со всеми своими «сам знает» подошел к кровати и увидел Илюшу: «...он и вообразить не мог, что увидит такое похудевшее и побледневшее личико, такие горящие в лихорадочном жару и как будто ужасно увеличившиеся глаза, такие худенькие ручки... Он шагнул к нему, подал руку и, почти совсем потерявшись, проговорил:
— Ну что, старик... как поживаешь?
Но голос его прервался, развязности не хватило, лицо как-то вдруг передернулось, и что-то задрожало около его губ».
Возле Илюши лежит щенок — мальчик так тосковал о пропавшей собаке Жучке, которую он накормил пресловутой булавкой, что отец принес ему щенка, но и щенок не мог заставить Илюшу забыть о Жучке. Коля же, как назло, заговорил о Жучке и жестоко объявил Илюше, что она вовсе пропала. И Алеша, и штабс-капитан Снегирев, чувствуя, как это тяжело больному мальчику, старались остановить Колю,но он не видел и не слышал их. Он ждал минуты своего тор< жества. И эта минута настала: в комнату влетел Колин Перезвон, в котором Илюша сразу же узнал пропавшую Жучку.
Достоевский охлаждает обрадованного читателя: «...если бы только знал не подозревавший ничего Красоткин, как мучительно и убийственно могла влиять такая минута на здоровье больного мальчика, то ни за что бы не решился выкинуть такую штуку, какую выкинул. Но в комнате понимал это, может быть, лишь один Алеша».
«— И неужели, неужели вы из-за того только, чтоб обучить собаку, все время не приходили! — воскликнул с невольным укором Алеша.
— Именно для того, — прокричал простодушнейшим образом Коля. — Я хотел показать его во всем блеске!»
Как и многие подростки, Коля еще не умеет думать о других. Он занят прежде всего одной мыслью: как бы ему самому блеснуть перед всеми. В этом смысле его приход к Илюше удался как нельзя лучше. И Жучку он нашел, да еще обучил ее всяким штукам, и пушечку принес Илюше. Все мальчики, как всегда, в восторге от Красоткина. Со всех сторон слышатся похвалы, и Коля уж из последних сил старается показаться Карамазову как можно лучше. Но все Ко- лино фанфаронство внезапно прервалось приездом знаменитого врача, которого направила к Илюшечке Катерина Ивановна.
225
Все то время, пока важный столичный врач проводит у больного, Коля беседует с Алешей Карамазовым. Глава, посвященная этой беседе, называется «Раннее развитие». Уже из этого мы понимаем, как оценивал Достоевский своего героя. Ведь Коле всего тринадцать лет (сам он, впрочем, все время сообщает, что через две недели исполнится четырнадцать), но несмотря на свой возраст, он действительно уже постоянно думает о вовсе не детских вопросах. Думает — да, это очень хорошо. Плохо другое: что он все время хочет показаться взрослее и опытнее, чем есть на самом деле. Это — общая беда всех рано повзрослевших мальчиков, и еще одна беда у них, к сожалению, общая — сосредоточенность на своей персоне, на том, как они выглядят со стороны, как к ним относятся взрослые. У хороших мальчиков — именно хороших, хотя вовсе не обязательно послушных, — такое самолюбование, самоуглубление проходит по мере того, как они взрослеют. В Коле Красоткине этот процесс уже
8 Предисловие к Достоевскомуначался, и при всем его бесконечном самоутверждении мы видим, как он постепенно начинает понимать, что жизнь его младшего друга много важнее, чем самоутверждение Николая Красоткин а.
О чем же он рассуждает с Алешей Карамазовым — взрос^ лым, которому ему так небходимо понравиться? Конечно, о боге, поскольку он знает, что Алеша был в монастыре, причем он цитирует Вольтера, хотя в самом-то деле не читал его.
Потом заявляет, что он «неисправимый социалист», рассуждает о Белинском, которого тоже «не совсем читал», наконец, о Татьяне и Онегине, про которых «еще не читал, но хочу прочесть».
Этот гордый и самоуверенный мальчик не стесняется быть откровенным t Алешей: сначала все на ту же тему — о себе и своих достоинствах: «Скажите, Карамазов, вы ужасно меня презираете? — отрезал вдруг Коля...
— Презираю вас? — с удивлением посмотрел на него Алеша...»
И вот тут Алеша рассказывает Коле восхитительную историю: «отзыв одного заграничного немца... об нашей теперешней учащейся молодежи»: «Покажите вы — он пишет — русскому школьнику карту звездного неба,, о которой он до тех пор не имел никакого понятия, и он назавтра же возвратит вам эту карту исправленною». Никаких знаний и беззаветное самомнение — вот что хотел сказать немец про русского школьника».
Эти слова очень точно характеризуют самого Колю, но в нем уже проснулось и новое чувство, в котором он не боится признаться Алеше: «О, как я жалею и браню всего себя, что не приходил раньше! — с горьким чувством воскликнул Коля».
Ведь только что, у постели больного Илюшечки, он простодушно признавался, что для того и не приходил, чтобы явиться в полном блеске! Только что он хвастал, самоутверждался, изображал из себя самого умного, самого храброго, самого ловкого, самого-пресамого... Но он увидел больного мальчика — и перечувствовал то, что он перечувствовал, — и совершил победу над собой; он не только понял, что был неправ, он нашел в себе мужество признаться в этом Алеше: «...мне поделом: я не приходил из самолюбия, из\ эгоистического самолюбия и подлого самовластия, от которого всю жизнь не могу избавиться, хотя всю жизнь ломаю себя. Я теперь это вижу, я во многом подлец, Карамазов!»
Конечно, это «всю жизнь» звучит смешно — из чего состоит «вся жизнь» тринадцатилетнего мальчика! Но мы видим, что он и в самом деле «ломает себя», стараясь избавиться от «эгоистического самолюбия», — этим Коля привлекает нас, очаровывает. Он признается Алеше, что иногда ему кажется, -будто все над ним смеются, и тогда он мучает всех окружающих, «особенно мать». Вот это свойство подростков из-за недовольства собой мучить всех, а особенно мать, удивительно точно замеченное и понятое Достоевским, увы, живо и сегодня.
Не все матери, к несчастью, понимают, что это вовсе не означает, будто сыновья их не любят, что это возрастное непременно пройдет, что мальчики в этом возрасте просто не умеют, не могут допустить открытого изъявления чувств, им нужно повзрослеть, чтобы научиться открыто показывать свою любовь к матери.
Откровенный разговор с Алешей привел к тому, что обоим стало как-то неудобно, даже немножко стыдно своей откровенности. Ведь Алеша тоже еще очень молод — ему двадцать лет, и он мало что видел в жизни. Но думал он о людях много и понимает их, как мудрый взрослый человек. Поэтому и может предсказать Коле, что он будет «очень несчастный человек в жизни», но все-таки благословит жизнь, будет радоваться ей. И Коля соглашается с ним, потому что уже понял свое основное чувство: не может он мириться с несправедливостью, всегда будет воевать против нее.
А тут как раз представляется случай сделать это. Из дома выходит самодовольный, важный врач и на все мольбы спешащего за ним отца Илюшечки небрежно отвечает: «Что делать! Я не бог!» Коля понимает, что приговор произнесен, что больного ждет смерть. Но врач говорит и еще слова, которые могут быть восприняты только как оскорбление: Илюшу нужно отправить в Сиракузы; его мать и сестру — на Кавказ, а потом в Париж... Несчастный штабс-капитан Снегирев в отчаянии указывает на голые стены своего жилища, на бедность и нищету, которых нельзя не заметить. «А, это уж не мое дело, — усмехнулся доктор».
8*
227
Вот чего Коля Красоткин вынести не мог. Он устроил самое дерзкое издевательство над врачом, причем называл егоне иначе, как «лекарь». Он громко сообщил, «побледнев и сверкнув глазами:
— А знаете, лекарь, ведь Перезвон-то у меня пожалуй что и кусается!»
Алеша Карамазов впервые на всем протяжении романа «властно крикнул» на Колю — он всегда ведь ровен, спокоен, а здесь из последних сил старается остановить затеянный Колей скандал, и это ему удается: никого бы Коля не послушался, а его послушался. Мы, читатели, пожалуй, рады, что скандал не состоялся: это было бы нестерпимо и для Снегирева, и для больного мальчика. Но в то же время мы и рады, что Коля вывел высокомерного врача из его пошлого и подлого спокойствия. Может быть, впервые в жизни Коля затеял скандал не ради того, чтобы утвердить себя, а от боли, обиды за товарища. И еще один урок он получил в этот день: прощаясь с Илюшей до вечера, он крепился, чтобы не заплакать при людях. Но в сенях он опять проклинал себя, «что не приходил раньше, — плача и уже не конфузясь, что плачет...»
Кончается роман «Братья Карамазовы» речью, которую говорит Алеша Карамазов, возвращаясь с похорон Илюшечки, говорит мальчикам, школьникам, и Колю Красоткина уже не удивляет, откуда у Алеши берется время «сентиментальничать с мальчиками»; он, может быть, понял, что для взрослого человека разговоры с мальчиками могут быть самым важным занятием в жизни. День этот, когда хоронили Илюшу, был трудным и переломным не только для школьников.
О чем же говорит с ними Алеша Карамазов у большого камня, к которому любил ходить Илюша со своим отцом? О расставании — и, может быть, о расставании на долгие годы. «Согласимся же здесь, у Илюшина камушка, что не будем никогда забывать — во-первых, Илюшечку, а во-вторых, друг об друге».
Читая эти простые слова, невольно вспоминаешь, что и в первом романе Достоевского Ивана Петровича и Маслобоева связывали воспоминания детства, школьных лет. Эта мысль — о чистоте детства, которую непременно нужно сохранить в душе, кем бы ты ни вырос, — очень важна для Достоевского. Мы видели, что все до единого мальчики плакали — вот эту-то минуту чистого.горя Алеша просит каждого запомнить, сохранить в душе память о том, как сегодня он был «добр и хорош», потому что «именно это воспоминание одно... от великого зла удержит...»
Алеша не заискивает перед мальчиками и не боится самому Коле Красоткину заметить его оплошность: «Я слово вам даю от себя, господа, что я ни одного из вас не забуду: каждое лицо, которое на меня теперь, сейчас, смотрит, припомню, хотя бы и через тридцать лет. Давеча вот Коля сказал Карташеву, что мы будто бы не хотим знать, «есть он или нет на свете?» Да разве я могу забыть, что Карташев есть на свете...»
В ко!Гце своей речи Алеша восклицает: «Как хороша жизнь, когда что-нибудь сделаешь хорошее и правдивое!»
Последний роман Достоевского кончается светло — несмотря на то, что невиновный осужден на каторгу, несмотря на то, что погиб прекрасный, храбрый и благородный мальчик, последняя нота в книге — светлая, потому что она звенит голосом детства.
Глава IX
НЕЛЛИ
1. Капризы
На протяжении всего романа «Униженные и оскорбленные» Достоевский чрезвычайно свободно обращается с временем. В начале романа он обозначил точную дату, с которой начались странные приключения рассказчика, но вскоре мы поняли, что эта дата — не сегодняшний и даже не вчерашний день; события, описанные в романе, происходили за год до того, как Иван Петрович, потеряв всех людей, которые год назад были ему близки и дороги, лежит в больнице и готов умереть; в этом печальном состоянии он- вспоминает и записывает то, что пережил и чему был свидетелем: знакомство с Нелли, любовь к Наташе, печальную историю Наташи и Алеши, тяжбу старика Ихменева с безжалостным и всевластным князем Валковским... Взявшись описывать события, рассказчик говорил о них по порядку: с того дня, как он столкнулся с умирающим Смитом, и до самого объяснения с князем Валковским в ресторане все шло, кажется, в хронологической последовательности. Но — нет. В четвертой части оказывается, что рассказчик изменил принципу хронологии: вся третья часть была посвящена Наташе и ее любви, в этой части только изредка появлялась Нелли, а с ней в эти самые дни, пока Наташа ждала князя, происходили странные и непонятные вещи, о которых мы узнаем только теперь.
Странности начинаются с первой же главы. Поздно ночью, «в три часа утра», Иван Петрович возвращается домой после разговора с князем. Пока он шел домой пешком, а «дождь мочил» его, Иван Петрович не вспоминал ни о Нелли, ни о том впечатлении, которое произвел на нее визит князя. Иван Петрович думает о другом и сам признается: «...черная тоска все больше и больше сосала мне сердце: я боялся за Наташу». После прямых угроз князя вполне понятно, что мысли Ивана Петровича были заняты тем, как ему облегчить страдания Наташи, как избавить ее от мстительной злобы князя.
Но, войдя в квартиру, он вынужден обратить внимание на вид, в каком встречает его Нелли: «...глаза горели, как в горячке, и смотрели как-то дико... слова ее были бессвязны и странны... она была в бреду». Укладываясь спать одетый, на стульях, чтобы быть поближе к девочке, если она его позовет, Иван Петрович сделал свои выводы: «Это ее князь напугал! — подумал я с содроганием и вспомнил рассказ его о женщине, бросившей ему в лицо свои деньги». Так кончается первая — очень короткая — глава, и внимание читателя невольно задерживается на этих словах. Ведь, в сущности, Достоевский уже давно не скрывает от читателей, что Нелли как-то связана с князем. Невнятный рассказ Маслобоева, путающего якобы родившегося сына князя с девочкой, слишком напоминает те отрывки рассказов Нелли, какие нам сообщил Иван Петрович, и мы давно уже подозреваем, что «женщина, бросившая ему в лицо свои деньги», может оказаться матерью Нелли. Теперь, когда мы видели, как Нелли испугалась князя, мы еще больше склонны подозревать какое-то гнусное участие князя в истории Нелли, и даже Иван Петрович уже начинает об этом догадываться.
В четвертой части время поворачивается вспять. Иван Петрович сообщает о состоянии Нелли в те трудные дни, когда Наташа ждала князя. Вся четвертая часть романа полна такими возвращениями: «...в этот-то день я был у Наташи весь вечер» — а дома, оказывается, тоже происходили вещи странные и необъяснимые.
Теперь, «на больничной койке, один, оставленный всеми», кого так сильно любил, Иван Петрович может распоряжаться своими воспоминаниями, и он выделяет Нелли — она в его памяти живет отдельно от всех — не так, как было на самом деле, когда все события перемешивались и ему приходилось оставлять больную девочку одну, чтобы мчаться по Наташиным делам.
Уже в начале второй главы мы узнаем самое страшное: доктор — все тот же старый доктор, чей орден так занимал Нелли, — сообщил Ивану Петровичу, что «она теперь выздоровеет, но потом она весьма скоро умрет».
Иван Петрович ошеломлен этим приговором, у него остался единственный вопрос: «И неужели ж нельзя никак спасти ее?»
Но девочка обречена. Доктор пытается оставить Ивану Петровичу надежду: «...при удалении неблагоприятных обстоятельств, при спокойной и тихой жизни, когда будет более удовольствий, пациентка еще может быть отдалена от смерти... но радикально спасена — никогда». Иван Петрович, конечно, понимает, что и «спокойной, тихой жизни» ему не удастся устроить для Нелли; как бы он ни старался — конец предрешен.
Пока же Нелли поправляется и начинает выказывать свой характер. То глубокое понимание характера подростка, которое много раз проявлялось Достоевским в его книгах, выступает и в «Униженных и оскорбленных» — в главах, рисующих Нелли. Вот Иван Петрович пытается дать ей лекарство, но «она пихнула ложку, как будто нечаянно, и все пролилось». Попытка дать другой порошок ни к чему не привела: девочка вырвала всю коробку «и ударила ее об пол, а потом залилась слезами».
Старый доктор не сердится на Нелли; выслушав рассказ Ивана Петровича, он ставит свой диагноз: «Гм! ирритация. Прежние большие несчастия...» И вот начинается знаменитая сцена борьбы доктора и упрямой девочки — сцена, в которой упрямству и даже злобе Нелли противопоставляется терпеливая доброта доктора.
В первый раз Нелли «по-видимому, совершенно нечаянным движением руки, задела ложку, и все лекарство пролилось опять на пол».
Во втором случае, уговорившись предварительно с доктором, что он возьмет ее замуж, когда она вырастет, Нелли «даже и не схитрила, а просто снизу вверх подтолкнула рукой ложку, и все лекарство выплеснулось прямо на манишку и на лицо бедному старичку». Нужно очень хорошо понимать детскую психологию — и особенно психологию того возраста, когда человек уже не ребенок и еще не взрослый, тяготится этим, утверждает свое «я»; нужно очень хорошо понимать подростка, чтобы самому себе объяснить эту, казалось бы, необъяснимую сцену.
Каждый человек проходит период, когда ему кажется, что взрослые мучают его своими заботами, что главная его цель — освободиться от влияния взрослых, взбунтоваться против него и посмотреть, что выйдет. Такие подростковые бунты случаются даже у самых благополучных, выросших в хороших семьях, в добре и ласке детей, а уж Нелли — с ее трагическим прошлым, с ее упорным бунтом против Бубновой, против побоев и издевательств — Нелли непременно должна теперь так же взбунтоваться и против доброты старичка* а что из этого выйдет? А как на меня будут сердиться?
Эксперимент, который с таким упорством производила Нелли, опять не удался. Ее «ужасно поразило» терпение доктора. Люди сделали ей столько зла, что она невольно все время хочет на свой лад отомстить им, раздражить, вывести из себя. Может, ей было бы легче, будь доктор жесток, или горячего нрава, или нетерпелив... Кротость старика — единственное оружие, к какому она не привыкла, и это оружие побеждает девочку. Она даже пыталась попросить у старика прощенья. «Вы... сердитесь... что я злая», — начала она говорить, но не докончила и спряталась под одеяло.
Начиная с этой сцены с доктором Нелли все время плачет — вот и теперь, под одеялом она «истерически зарыдала». Мы помним, как Бубнова никакими побоями не могла вырвать у нее ни слез, ни стонов, — а теперь чуть ли не каждый день девочка засыпает в слезах, и никто не может объяснить, что с ней происходит.
В дни своего выздоровления Нелли опять изменилась, стала угрюма, грустна, неохотно разговаривала с Иваном Петровичем — он с огорчением чувствовал это и в то же время знал, что Нелли по-прежнему привязана к нему, изредка она позволяет себе взглянуть на него ласково, с любовью. Иван Петрович никак не может понять этих изменений в характере Нелли, особенно после одного внезапного разговора с ней. Неожиданно, после четырех дней молчания,
Нелли стала расспрашивать его о Наташе, чего обычно старалась не делать. Мы видели, как отвечал Иван Петрович на расспросы князя, — да и любому, спросившему его, очень ли он любит Наташу, Иван Петрович ответил бы резко и сухо. Но когда об этом спрашивает Нелли, он отвечает всю правду: «Да, Нелли, очень люблю».
В ответ на это выясняется, что девочка уже придумала себе новую жизнь, которую она намерена построить: идти жить к Наташе и «служить ей», быть у нее кухаркой, прачкой, служанкой. Удивленный Иван Петрович объясняет ей, что Наташа если возьмет ее, «то как свою ровную, как младшую сестру свою».
Но нет, в плане, придуманном девочкой, не умещается такой вариант: жить с Наташей как с ровной. «Так я не хочу...» — настаивает Нелли. Видимо, она уже все продумала — и гораздо серьезнее, чем это представлялось Ивану Петровичу: «Ведь уговариваете же вы меня, чтоб я пошла жить к ее отцу; а я не хочу идти».
Действительно, Иван Петрович предлагал Нелли переехать к старикам Ихменевым, где ей явно было бы лучше, чем у него, и добрые старики заботились бы о ней. Но в ее план вовсе не входит беспечная жизнь у стариков: она хочет к Наташе — и не просто жить, а именно «служить» ей. Иван Петрович с удивлением обнаруживает, что Нелли знает и понимает гораздо больше, чем он сам ей рассказывал. Девочка внезапно спрашивает: «Ведь тот, кого она теперь любит, уедет от нее и ее одну бросит?» — и тут настает пора удивляться Ивану Петровичу: откуда Нелли все это знает? А она не только знает, но уже и продумала целый план: «Ведь вы ее любите же очень... А коли любите, стало быть, замуж ее возьмете, когда этот уедет...»
Мы помним, как оскорбило Ивана Петровича подобное предположение князя, который хотел заплатить ему деньги за унижение, нанесенное Наташе его сыном. Нелли выдвигает свое предположение настолько наивно и искренне, что оно не обижает, ей Иван Петрович терпеливо объясняет, что «не будет этого». Девочка огорчена: «А я бы вам обоим служила, как служанка ваша, а вы бы жили и радовались, — проговорила она чуть не шепотом...» И все еще Иван Петрович не понимает, откуда возник этот странный план, почему Нелли мечтает «служить» ему и Наташе»
2. Снова об эгоизме
Вернувшись в один из вечеров от Наташи пораньше, «чтоб взять Нелли и идти с нею гулять», Иван Петрович не застал девочки на месте: на столе лежала от нее записка, что она ушла и больше никогда к нему не придет. «Но я вас очень люблю», — было добавлено в записке.
Оказалось, что, уйдя от Ивана Петровича, Нелли бросилась к доктору и просила его взять ее к себе — все с той же идеей не быть лишним ртом, с обещаниями «манишки ему стирать и гладить». Старик, вне себя от изумления, категорически отказался брать ее к себе, и Нелли бросилась от него к Маслобоеву. Там она тоже просила взять ее не из жалости, а с тем, что она будет «белье стирать». На расспросы о том, почему она не хочет остаться у Ивана Петровича, Нелли ответила более связно, чем доктору: «...я такая с ним все злая, а он добрый... а у вас я не буду злая, я буду работать...» — больше от нее ничего не могли добиться.
Но все-таки из этих слов уже можно что-то понять. Девочка прожила всю жизнь — во всяком случае, сколько она себя помнит, — в нищете и попытках заработать самой какие-то копейки на жизнь. Гордость не позволяет ей принимать заботы доброго Ивана Петровича и ничем за них не отплачивать. Поэтому она так и цепляется за стирку белья: это единственное, чем она надеется оплатить съеденный хлеб.
И вот в то самое время, когда ее водворили обратно к Ивану Петровичу, гордость ее уязвлена, — в это самое время является старик Ихменев и прямо спрашивает Нелли, хочет ли она перейти к нему жить вместо дочери.
Речь старика Ихменева производит и на Нелли, и на читателей одинаково неприятное впечатление: ни одному слову из того, что он говорит, невозможно поверить: «У меня была дочь, я ее любил больше самого себя... но теперь ее нет со мной. Она умерла. Хочешь ли ты заступить ее место в моем доме и... в моем сердце?» — так говорит Николай Сергеич, а мы вместе с Нелли знаем: дочь не умерла, место ее в сердцестарика никем не может быть занято; если он зовет на это место другую девочку, то делает это не из добрых побуждений, а чтобы забыть дочь, окончательно вычеркнуть ее из своей жизни. Нелли восстает против такого мотива, толкнувшего старика искать заместительницу дочери.
«— Не хочу, потому что вы злой... Я сама злая, и злее всех, но вы еще злее меня!.. Да, злее меня, потому что вы не хотите простить свою дочь...» — такую отповедь дает она старику и вдобавок восклицает:
«— И к чему, зачем обо мне все так беспокоятся? Я не хочу, не хочу!., я милостыню пойду просить!» Захлебываясь слезами, она рассказывает, как мать, умирая, велела ей быть бедной, потому что «милостыню не стыдно просить: я не у одного человека прошу, я у всех прошу... ведь я маленькая, мне негде взять».
Иван Петрович очень многое понимает про Нелли — вот и теперь, когда она, доказывая, что она «злее всех», бросила об пол чашку и разбила ее, Иван Петрович знает: она «как будто сама ощущала наслаждение в этом бешенстве, как будто сама сознавала, что это и стыдно и нехорошо, и в то же время как будто поджигала себя на дальнейшие выходки». И все-таки далеко не все понимает Иван Петрович: когда Нелли совсем уж доконала старика Ихменева своими упреками и он отправился домой, страшно расстроенный, Иван Петрович резко высказал девочке свое негодование и едва успел заметить ее лицо, «страшно побледневшее».
Иван Петрович бросился вслед за стариком, а когда вернулся домой, Нелли опять не было.
Мы уже понимаем: Иван Петрович сейчас для Нелли — самый близкий и самый любимый человек. Вынести его упреков она не может. Поэтому и убегает от него, что чувствует себя плохой, злой, недостойной доброты Ивана Петровича. Увидев комнату снова пустой, он в отчаянии бросается на поиски: побежал к Маслобоеву, к доктору, даже к Бубновой — Нелли нигде нет. Уже потеряв надежду, Иван Петрович внезапно увидел девочку на мосту: она просила милостыню.
Раздумывая все мучительнее над поведением Нелли, Иван Петрович находит слова: «...точно она наслаждалась своей болью, своим эгоизмом страдания» (курсив Достоевского). Потому его так больно ранило поведение Нелли, что оно не было вынужденным: когда девочка прдсила милостыню потому, что ее заставлял обезумевший дед, это было понятно Ивану Петровичу, в этом была необходимость. Но теперь?! И даже когда выяснилось, что собирала она деньги на разбитую утром чашку и купила очень похожую чашку, чтобы вернуть ее Ивану Петровичу, это ничего не изменило для него: он знал, что в ее положении просить милостыню стыдно; что нет, не существует таких причин, которые могли бы заставить Нелли идти на это унижение. Следовательно, она, стоя с протянутой рукой, думает про себя, что этим она мстит кому-то, — может быть, именно ему.
Окрикнув Нелли, Иван Петрович испугал ее — новая чашка выпала из ее рук и разбилась. Но девочка уже сломлена, и на справедливые упреки Ивана Петровича: «...разве я попрекал тебя, разве я бранил тебя за эту чашку?.. Неужели тебе не стыдно?» — она только и может со слезами ответить: «Стыдно...»
Тайну ее разгадала Наташа. Выслушав от Ивана Петровича всю историю с побегами и чашкой, Наташа предположила: «...мне кажется, она тебя любит... это начало любви, женской любви». Иван Петрович удивлен:
«— Да что ты, Наташа, полно! Ведь она ребенок!»
И все-таки он понимает, что Наташа права. Действительно, сердце Нелли раскрылось навстречу человеку, который спас ее.
Нелли взрослее своего возраста, она уже многое видела в жизни, она уже могла научиться не только страданиям, но и главному страданию, какое приносит человеку жизнь, — любви. Все это вовсе не значит, что она уже взрослая женщина. Ей тринадцать лет, она и любит так, как можно полюбить в тринадцать лет: и стыдится своей привязанности к Ивану Петровичу, и ревнует его к Наташе, и хочет быть им обоим полезной, — в ее страданиях есть и та радость, от которой никогда не откажется ни один любящий человек, потому что любовь никогда не бывает только страданием.
Было над чем задуматься Ивану Петровичу после разговора с Наташей о Нелли. Но ведь и в жизни Наташи, как мы уже знаем, в эти дни происходило много горького: она расставалась с Алешей навсегда и знала, что навсегда, и придумывала для него утешительные сказки, чтобы все горе оставалось ей, а ему было бы полегче. В эти дни было и тягостное для нее свидание с Катей, и в то же время произошла беда с отцом Наташи Николаем Сергеичем. Оказывается, за неделю до Алешнного отъезда старик Ихменев стал «на себя непохож», в «лихорадке, во сне бредит, а наяву как полуумный», — рассказывает Ивану Петровичу старушка Ихменева. Мы догадываемся: старик ведь следит за Наташины- ми делами и, видимо, знает, что Алеша вот-вот ее покинет. Мать решилась посмотреть, что такое пишет муж у себя в кабинете, — и нашла неоконченное письмо к Наташе. Старик все еще не в силах преодолеть свою гордость — начал он письмо «горячо и нежно», но вскоре вспомнил, как дочь его оскорбила, и перешел к упрекам. Письмо это осталось неоконченным: видно, несчастный старик так и не нашел в себе сил на что-нибудь определенное: ни простить дочь он не может, ни отвергнуть ее окончательно.
Тем не менее, Иван Петрович уже надеялся, что примирение Наташи с родителями может состояться каждый день, как вдруг произошли новые события.
Князь Валковский передал Ихменеву через чиновника, который занимался его делами, что он решил «вследствие некоторых обстоятельств» выдать старику десять тысяч. Конечно, князь понимал, как страшно оскорбит старика эта прямо предложенная плата за дочь. Но ведь князь и не собирался щадить чувства старика, он хотел оскорбить его и добился своей цели. Ихменев тут же бросился к Ивану Петровичу, просить его быть секундантом на дуэли с князем. Иван Петрович не успел отговорить его, даже успокоить, потому что старик от него побежал к князю, не застал его дома и оставил записку с вызовом на дуэль.
Мы достаточно знаем о князе, чтобы представить себе поведение его в ответ на такую записку. Князь тут же послал старику угрожающее письмо, где было среди других угроз сказано, «что предупрежденная полиция, наверно, в состоянии принять надлежащие меры к обеспечению порядка и спокойствия». Ихменев, не побоявшись угроз, бросился разыскивать князя, нашел его у знатного старика, графа. Конечно, его не впустили в дом — Ихменев в бешенстве ударил графского швейцара палкой. «Тотчас же его схватили, вытащили на крыльцо и передали полицейским, которые препроводили его в часть». После этого князь и его покровитель граф решили помиловать старика, учитывая, что он отец Наташи, и окончательно доконали этим помилованием несчастного Ихменева. Проведя в части три дня, он «воротился домой, как безумный» и объявил жене, что проклинает Наташу навеки.
Оказывается, все это было еще до прихода Ихменева к Ивану Петровичу и до его разговора с Нелли. Когда же, встав с постели, где он лежал больной, старик отправился к Ивану Петровичу и пригласил Нелли к себе жить вместо дочери, а она, как мы знаем, назвала его злым и жестоким, Ихменев вернулся домой и слег окончательно. Нелли думала, что она восстанавливает справедливость, когда обрушивает на старика град обвинений. Если бы Нелли знала всю правду, она, вероятно, пожалела бы старика. Но это частая ошибка: в юности человеку кажется, что он сам, один, не разбираясь в тех обстоятельствах, которые окружают человека, может судить и вершить расправу. И нередко эта кажущаяся очевидной справедливость приносит больше горя, чем жестокость. Так произошло и с Нелли. Старик после разговора с ней совсем разболелся. «Воротясь домой, он слег в постель».
Но и на этом не кончаются несчастья, которые способен принести князь Валковский. Подчинившись его воле, Алеша уехал. Оставшись одна, Наташа в гневе и ярости выгоняет Ивана Петровича из дому; она кричит ему: «А! Это ты! Ты!.. Только ты один теперь остался. Ты его ненавидел! Ты никогда ему не мог простить, что я его полюбила... Теперь ты опять при мне!..»
Иван Петрович и внимания не обратил на ее крики и проклятья, он знал Наташу и знал, что она раскается, когда опомнится. Так и случилось: увидев его сидящим на лестнице, Наташа со стыдом бросилась к нему, проклиная себя за то, что она могла его выгнать. Конечно, увиденная любящими глазами Ивана Петровича, Наташа представляется читателю прекрасной в горе своем, как она была прекрасна в счастье. У нее нет ни единой дурной, злобной мысли, она одна из тех прекрасных страдающих женщин Достоевского, которых так много в его творчестве и которые, вероятно, возникали под его пером, когда он вспоминал свою страдалицу-мать. Но ведь и в жизни таких женщин было немало. Они не кажутся выдуманными Достоевским, ему веришь, потому что каждый читатель знает наяву таких женщин, жертвующих собой ради того, кого они любят.
Но даже Иван Петрович, обеспокоенный состоянием Наташи, волнующийся, как бы она серьезно не заболела от горя, не может предвидеть того, что еще может случиться. Иван Петрович поспешил к доктору, чтобы привезти его к
Наташе. А тем временем, пока он бегал за доктором, к Наташе явился князь Валковский. Он пришел как бы с соболезнованием, со словами утешения, назвал поведение Наташи «великодушным подвигом» и тут же начал предлагать ей познакомиться со стариком графом, который «много делал для Алеши», «человек, сочувствующий всему прекрасному, щедрый, почтенный старичок»... Если бы подобным образом графа расхваливали Кате, она, вероятно, приняла бы все эти слова за чистую монету и могла бы согласиться на знакомство с графом. Но Наташа уже не та девочка, какой она ушла от родителей. Наташа поняла, что скрывалось за красивыми словами князя: он хотел продать ее старому графу, чтобы уж наверняка знать, что Алеша никогда не вернется к оставленной им девушке. Он не постыдился даже сказать, что граф может быть полезен отцу Наташи. Наконец, он предложил ей все те же десять тысяч, которыми уже успел оскорбить ее отца. Наташа резко отвергла деньги — тогда князь решился на последнее средство, заявил: «...уже давно мог бы я посадить вас в смирительный дом, как отец развращаемого вами молодого человека, которого вы обирали...»
Чем это могло кончиться, трудно себе представить. Но на этих словах вошли Иван Петрович и доктор.
Здесь мы впервые видим, что Иван Петрович может потерять терпение и броситься на обидчика: «Я плюнул ему в лицо и изо всей силы ударил его по щеке». Казалось бы, оскорбленный князь не простит пощечины, не простит плевка в лицо. «Он хотел было броситься на меня...» — могла бы начаться примитивная драка, «...но, увидав, что нас двое, пустился бежать, схватив со стола свою пачку с деньгами. Да, он сделал это; я сам видел». Так постыдно князь исчезает со страниц романа: о нем еще будут говорить, но сам он уже не появится перед нами. Его наглой храбрости хватило бы на одного Ивана Петровича, в победе над которым он уверен. Но старик доктор... князь не знает его. Последний штрих — пачка с деньгами. Потому он и таскает ее повсюду с собой, потому и предлагает то отцу Наташи, то ей самой, что знает: эти люди не возьмут денег, их можно только оскорбить предложением пачки, а лишаться десяти тысяч в самом деле князь вовсе не собирается. Иван Петрович в таком исступлении, что «бросил ему вдогонку скалкой, которую схватил в кухне, на столе».
Оставшись вдвоем с доктором около Наташи, которая «была как в горячечном бреду», Иван Петрович уже не помнит о князе.
И вот здесь, в эти мучительные для него минуты, а потом часы он совершает поступок, которого нельзя понять. Доктор еще не договорил своих слов, еще не назвал Ната- шину болезнь, а Ивана Петровича уже «осенила другая мысль». Он побежал за Нелли. Ему пришло в голову, что одна Нелли может теперь спасти Наташу. Ведь он знал, что Нелли тяжело, смертельно больна, что для нее губительны волнения, а особенно воспоминания о страданиях и смерти матери. Тем не менее он прибегает домой с вопросом: «Хочешь ли спасти нас всех?»
Нелли сначала не понимает, о чем он говорит. Но Иван Петрович рассказывает — даже очень связно для человека, который только что дал князю пощечину и бросил ему вслед скалку. Коротко, но очень четко он объясняет девочке, чего от нее ждет. Нелли отвечает ему тоже кратко: «Знаю», «Понимаю», «Слышу», «Верю». Все эти слова она произносит еле слышным шепотом; ей уже невыносимо тяжело, но Иван Петрович не замечает этого. Он уверен: если старик Ихме- нев услышит всю историю Нелли, он простит Наташу, он сам бросится к ней на помощь. Но о девочке Иван Петрович в это время не думает, его интересует только спасение Наташи. Он просит девочку: «Расскажи им, Нелли, все так, как ты мне рассказывала. Все, все расскажи, просто и ничего не утаивая... И как расскажешь все это, то старик почувствует все это в своем сердце... Нелли! спаси Наташу! Хочешь ли ехать?
— Да, — отвечала она, тяжело переводя дух и каким-то странным взглядом, пристально и долго, посмотрев на меня: что-то похожее на укор было в этом взгляде, и я почувствовал это в моем сердце».
Сколько ни перечитываю «Униженных и оскорбленных», не могу понять, как тот Иван Петрович, какого я уже узнала, уже полюбила на страницах романа за его доброе сердце, умеющее понимать чужую боль и откликаться на нее, как он решился на этот жестокий, эгоистический поступок — заставить больную девочку растравить свою рану, привезти ее к старикам Ихменевым не потому, что там ей будет лучше, а потому, что она может помочь Наташе, растопив ожесточенное сердце ее отца. Конечно, во взгляде девочки было что-то «похожее на укор». Все то, что Иван Петрович до сих пор говорил об Алеше и его эгоизме, говорил совершенно справедливо, теперь оказывается обращенным против него самого: как же можно было не опомниться, не остановиться, не пожалеть ребенка!
Две следующие главы посвящены рассказу Нелли. Старики Ихменевы погружены в свое горе: они, конечно, уже знают, что Алеша уехал, а дочь их «оставлена, брошена и, может быть, уже оскорблена». Они думают только о ней, хотя и не говорят об этом вслух. Появление Нелли в эту минуту вовсе нежеланно для них. Николай Сергеич чувствует какую-то тайную цель Ивана Петровича, Анна Андреевна скоро «опомнилась и догадалась: она так и кинулась к Нелли». Одна девочка твердо понимает, 470 с ней поступают жестоко: «Нелли дрожала, крепко сжимая своей рукой мою, смотрела в землю и изредка только бросала кругом себя пугливый взгляд, как пойманный зверек». Иван Петрович видит все это: и дрожь, и пугливый взгляд, и то, что Нелли крепко сжимает его руку, — ему одному она доверилась, он теперь ее единственный друг, спаситель, и он-то поступает с ней бессердечно. Ему так нужна сейчас исповедь Нелли, что он решил воспользоваться ее любовью; ведь мы уже достаточно знаем Нелли, чтобы понять: ничем другим, ни мольбами, ни угрозами — только обращением к ее любви мог Иван Петрович добиться от нее согласия рассказать чужим людям все самое мучительное и жестокое, что хранит ее память.
Но рассказывать ей трудно, старикам приходится самим начать расспросы. Вернее сказать, спрашивает Анна Андреевна, а старик, видимо, уже чувствует свою вину перед ребенком: он «пристально'поглядел на нее». Как ни стрлнно, единственный среди взрослых слушателей Нелли, кто понимает сейчас, как жестоки эти расспросы, — Николай Сергеич, которого Нелли только недавно назвала жестоким и злым стариком. Он врывается в разговор, чтобы облегчить Нелли ее задачу, сам рассказывает за нее то, что знает, но и он все-таки больше думает сейчас о своей Наташе, поэтому не может удержаться, чтобы не сказать:
«— Я знаю, Нелли, что твою мать погубил злой человек, злой и безнравственный, но знаю тоже, что она отца своего любила и почитала...»
Вот на эти слова Нелли ответит уже с гневом, потому что Николай Сергеич для нее — прежде всего так же не прощает свою дочь, как ее собственный дедушка не прощал ее мать. И Нелли отвечает «робко, но твердо»:
«— Мамаша любила дедушку больше, чем дедушка ее любил...»
Теперь, вспомнив самое горькое: как дед «не принял матушку и... прогнал ее...», Нелли уже сама хочет рассказать все подробности, и рассказ ее становится длинным, связным. Старики по-разному реагируют на ее слова: Анна Андреевна жалеет девочку, отирает слезы платком, но не понимает, что этот разговор всего более мучителен для ребенка. Николай Сергеич, может быть, и понимает это, но у него сейчас одна забота — ему важнее всего сказать, что старик Смит за дело отверг свою дочь: раз она его оскорбила, то он имел на это право. Но Нелли не принимает этих слов Ихменева, ей жалко мать, ее она оправдывает, а дедушке не может простить, что он так и не успел увидеть свою умирающую дочь. Все, все она рассказывает подробно: о болезни матери и о том, как она посылала свою девочку к дедушке просить его прощения...
Иван Петрович видит, что Нелли «была в чрезвычайном, болезненном волнении», что на него «она как-то избегала смотреть». Но он не останавливает девочку. Рассказ Нелли становится все подробнее и подробнее, мы уже видим перед собой и ее несчастную, умирающую мать, и дедушку с его Азоркой, который «был раньше мамашин», оттого-то дедушка так его и любил. Теперь становится яснее и характер ее матери, которая, зная, что умирает, отвела свою девочку «в большую улицу» и, остановившись перед богатым домом, сказала ей: «Нелли, будь бедная, будь всю жизнь бедная, не ходи к ним, кто бы тебя ни позвал, кто бы ни пришел. И ты бы могла там быть, богатая и в хорошем платье, да я этого не хочу. Они злые и жестокие, и вот тебе мое приказание: оставайся бедная, работай и милостыню проси, а если кто придет за тобой, скажи: не хочу к вам!» Таинственный смысл этих слов станет ясен позднее, но уже теперь, слушая рассказ Нелли, мы понимаем: умирая, ее мать надеялась, что кто-то еще придет и позовет девочку, не оставит ее в нищете. Почему же мать решилась приказать Нелли не соглашаться ни на чьи уговоры, оставаться бедной и лучше просить милостыню, чем принять чью бы то ни было помощь?
Нелли крепко запомнила слова матери: мы много раз видели это за те недели, что она жила у Ивана Петровича и все время порывалась отработать тот хлеб, которым он ее кормил от чистого сердца.
В одном смысле Иван Петрович прав: рассказ Нелли — действительно то последнее средство, которым можно образумить обезумевшего от оскорбленной гордости старика Ихменева. Но какой ценой приходится добиваться, чтобы старик пожалел свою дочь!
Последние воспоминания Нелли так страшны, что они пробуждают в памяти «Бедных людей» и описание старика Покровского, бегущего за гробом сына, роняя в грязь его книги. Нелли рассказывает, как она в последний раз пришла к деду, за несколько дней перед тем прогнавшему ее, хотя она пришла сказать, что мать умирает. И вот, поняв, что мать действительно уже при смерти, девочка сама побежала к дедушке: «...всю дорогу бежала бегом и прибежала... Как он увидел меня, то вскочил со стула и смотрит, и так испугался, что совсем стал такой бледный и весь задрожал. Я схватила его за руку и только одно выговорила: «Сейчас умрет». Тут он вдруг так и заметался: схватил свою палку и побежал за мной; даже и шляпу забыл, а было холодно. Я схватила шляпу и надела ее ему, и мы вместе выбежали. Я торопила его и говорила, чтоб он нанял извозчика, потому что мамаша сейчас умрет; но у дедушки было только семь копеек всех денег. Он останавливал извозчика, торговался, но они только смеялись, и над Азоркой смеялись, а Азорка с нами бежал, и мы все дальше и дальше бежали. Дедушка устал и дышал трудно, но все торопился и бежал. Вдруг он упал, и шляпа с него соскочила. Я подняла его, надела ему опять шляпу и стала его рукой вести, и только перед самой ночью мы пришли домой... Но матушка уже лежала мертвая. Как увидел ее дедушка, всплеснул руками, задрожал и стал над ней, а сам ничего не говорит...»
Нелли не пожалела старика, как не умеют жалеть дети, когда они считают себя борцами за справедливость. Она в присутствии его мертвой дочери назвала деда жестоким и злым человеком. Сейчас, рассказывая об этом, она, конечно, обращает свои слова к старику Ихменеву, не желающему простить Наташу...
Следующая за этим сентиментальная сцена вряд ли была бы возможна у зрелого Достоевского. Старушка Ихменева тащит Нелли за руку, и на вопрос мужа: «Куда ты, Анна Андреевна?» — кричит: «К ней, к дочери, к Наташе!» Но и старик уже хватает свою шляпу, и он кричит: «Наташа, где моя Наташа! Где она! Где дочь моя!» — ив эту минуту, когда он готов бежать к дочери, она сама вбегает в комнату.
Вся следующая глава — короткая последняя глава четвертой части романа — полна поцелуев и объятий старика с дочерью. Но есть в ней слова старика Ихменева, очень важные для Достоевского. Вот что говорит старик дочери: «О! пусть мы униженные, пусть мы оскорбленные, но мы опять вместе, и пусть, пусть теперь торжествуют эти гордые и надменные, унизившие и оскорбившие нас!.. Не бойся, Наташа... Мы пойдем рука в руку, и я скажу им: это моя дорогая, это возлюбленная дочь моя, это безгрешная дочь моя, которую вы оскорбили и унизили, но которую я, я люблю и которую благословляю во веки веков!...»
Это — манифест униженных и оскорбленных, их громкий протест против унижающих и оскорбляющих, протест, под которым могли бы подписаться все униженные герои Достоевского: и Макар Девушкин, и Неточка Незванова, и чиновник Мармеладов, и дочь его Соня, и не венчанная с отцом своего ребенка мать из «Подростка», и сестра и мать Рас- кольникова из «Преступления и наказания», и многие другие.
Старик Ихменев поднимается в эту минуту на высочайшую нравственную высоту: он преодолел весь свой эгоизм, он не думает даже о мщении своим оскорбителям, он полон любви к дочери — и эта любовь заставляет его быть человечным до конца: он первый вспомнил о Нелли и спросил, где она. Ни Наташа, ни ее мать не вспомнили о девочке. Иван Петрович тоже. Слова старика прозвучали упреком — все бросились искать Нелли, которая «незаметно проскользнула в спальню» и «стояла в углу, за дверью, и пугливо пряталась от нас».
«— Мамаша, где мамаша? — проговорила она как в беспамятстве, — где, где моя мамаша?» У девочки начался приступ эпилепсии. Этого и можно было ждать после того невыносимо тяжелого испытания, которому подверг ее Иван Петрович из любви к Наташе, из заботы о Наташе. Любви и заботы о Нелли у него не хватило.
Четвертая, последняя часть романа кончается припадком Нелли. Но есть еще эпилог, озаглавленный «Последние воспоминания». Достоевский все время напоминает нам о состоянии, в каком Иван Петрович пишет свою книгу: он лежит в больнице, больной и обреченный; старики Ихменевы уехалив Пермь и Наташа с ними: Иван Петрович один. И вот в больнице, откуда он не надеется выйти, умирающий писатель вспоминает события, происходившие год нааад, когда он был так несчастлив, но все же еще более или менее здоров. И тогда Нелли была жива...
3. Дочь
князя Валковского
Из эпилога мы узнаем, что Нелли — законная дочь князя Валковского. По этому делу князь и использовал Маслобоева; вернувшись в Петербург, он потерял след обманутой им дочери Смита, и это очень испугало князя именно потому, что он-то знал: дочь Смита была его законной женой и родившийся ребенок был его законным ребенком. Все это рассказывает Ивану Петровичу Маслобоев, и он же объясняет: мать Нелли не простила князю, что он «оплевал и унизил ее». Теперь нам становится понятнее, почему мать, умирая, все еще надеялась, что князь не бросит свою дочь в нищете, что он позовет Нелли к себе «в богатый дом», и она завещала девочке не идти к тем, кто ее позовет, работать, бедствовать, но не простить.
Нелли знала все, что знала ее мать. Она знала, кто ее отец: и тогда, когда она внезапно увидела князя в комнате Ивана Петровича, и тогда, когда ее заставили рассказать свою историю старикам Ихменевым. Она выполнила завещание матери — и не выполнила его. Потому что, умирая, мать оставила ей письмо к князю и велела самой пойти в дом к отцу и отдать ему в руки это письмо. Она хотела все-таки защитить ребенка от нищеты и бедствий.
Но Нелли не пошла к князю и не отдала ему письма. Мать не могла предвидеть, какой непримиримой она воспитала свою девочку. Только на смертном одре Нелли просила Ивана "Петровича после ее смерти прочесть письмо матери к князю, которое она все это время носила на груди, в большой ладанке.
Князь Валковский не виноват в смерти своей брошенной жены, и тем более в смерти ребенка. Не виноват — но и виноват. Дочь Смита погибла от чахотки, порожденной голодом и нищетой, на которые ее обрек князь, обобрав и бросив. Девочка, оставшаяся без матери, не могла не заболеть в тех нечеловеческих условиях, из которых Ивану Петровичу удалось ее вырвать слишком поздно.
Всем ходом событий Достоевский обвиняет князя в гибели двух близких ему существ: жены и дочери. Но ведь параллельно с историей матери Нелли и князя все время развивалась похожая на нее история княжеского сына Алеши и Наташи Ихменевой. Старик Ихменев так же не мог простить дочь, так же проклял ее, как Смит. В конце концов, только Нелли дорогой ценой собственного мучительного страдания удалось переубедить старика. А могла бы ведь и судьба Наташи сложиться трагически — и кто тогда был бы в этом виноват? Князь Валковский? Конечно, его подлость сыграла бы и здесь свою роль, но все-таки виноват в Наташи- ной трагедии милый, веселый, детски наивный Алеша. Достоевский не возвращается к нему в эпилоге: упомянув о его прощальном письме и о Катином обещании, что он будет счастлив, Достоевский не вспоминает об этих счастливых с их миллионами. Но читатель помнит о них. Помнит о том, что Алеша каялся, страдал, но ни разу не задался вопросом, чем будет теперь жить Наташа, как сложится ее судьба, если она отвергнута всем миром, опозорена, унижена. В одной из статей Достоевского есть такие строки: «Знаете ли, что весьма многие люди больны... непомерной уверенностью в своей нормальности, и тем самым заражены страшным самомнением, бессовестным самолюбованием, доходящим иной раз чуть ли не до убежденности в своей непогрешимости».
Эти слова, казалось бы, не имеют никакого отношения к роману «Униженные и оскорбленные». И в то же время они — обвинительный приговор и Алеше, и Кате. Оба они, выражаясь словами Достоевского, заражены уверенностью в своей непогрешимости. Ведь ни Алеша, ни тем более Катя не подозревают, что они-то сделали все, чтобы погубить На- ташину жизнь; если она не погибла, то это вопреки их стараниям. Самый горький вывод, который мы делаем из романа «Униженные и оскорбленные»: непонимание своей вины не может оправдать человека,
Отступление последнее
РЕЧЬ О ПУШКИНЕ
Закрыв роман «Униженные и оскорбленные», невольно задумываешься: что в этом романе составило зерно, основу будущих творений писателя?
Мы видели немало сюжетных поворотов и линий, набросков характеров, которые Достоевский позднее усилит, доработает и использует в своих зрелых произведениях. Мы видели, как возник под пером писателя странный, фантастический облик города, где среди «мертвых камней» живут его герои. Позднее — в «Преступлении и наказании», в «Идиоте» Петербург Достоевского обретет новые зримые черты: канал Грибоедова и площадь Мира, как бы ни менялись их облик и названия, навсегда останутся связанными с именами героев Достоевского; следы Раскольникова живы в нашей памяти и возникают в ней снова и снова, едва мы выходим к Львиному мостику, пересекаем канал и видим огромный угрюмый дом, где Достоевский поселил старуху процентщицу. На улице Дзержинского (бывшей Гороховой) сохранился мрачный дом, описанный в романе «Идиот» как дом купца Рогожина, — и до сих пор дом этот возбуждает горький ужас: Федор Михайлович описал его точно — так и кажется, что в одном из окон мелькнет из-за задернутых занавесок бледное лицо Рогожина, убившего в этом страшном доме Настасью Филипповну и мучительно горюющего над ее трупом.
Колдовство Достоевского было бы всевластно над нашим городом, если бы над ним уже не властвовали другие чары, другая колдовская сила: светлый гений Пушкина. «Белые ночи» Достоевского погружают нас в печаль, но белые ночи радуют нас, потому что мы знаем о них другие строки:
И ясны спящие громады Пустынных улиц, и светла Адмиралтейская игла.
И еще, и еще строки:
И не пуская тьму ночную На золотые небеса, Одна заря сменить другую Спешит, дав ночи полчаса.,.
Может быть,, рисуя свой страшный город, Достоевский понимал,, что его Петербург не останется в памяти людей только страшным, только мучительным, потому что всегда будет жив и Петербург пушкинский, грозящий стихийными бедствиями, подчиняющийся только воле своего великого создателя «на звонко скачущем коне», и все-таки радостный, светлый город, где «девичьи лица ярче роз», где радует «Невы державное теченье»; город, облик которого вселяет гордость, потому что он — «Петра творенье».
Для Достоевского имя Пушкина заключало в себе многое. Он не только любил Пушкина, преклонялся перед ним, много раз и публично, и в обществе друзей читал его стихи: «Пророк», монолог Пимена из «Бориса Годунова» — можно даже сказать, что именно Достоевский воскресил славу Пушкина в 1880 году на торжествах в честь открытия памятника великому поэту в Москве.
Празднество продолжалось три дня. В первый день выступали ученые, историки, а вечером состоялся литературный концерт, в котором принял участие и Достоевский.
На второй день с речью о Пушкине выступал Тургенев, на третий день — Достоевский. Впечатление от речи его было огромное. Современник свидетельствует: «Хотя он читал по писаному, но это было не чтение, а живая речь, прямо, искренно выходящая из души. Все стали слушать так, как будто до тех пор никто и ничего не говорил о Пушкине».
Чтобы понять, почему речь Достоевского произвела такое сильное впечатление, нужно вспомнить, каково в ту пору было отношение к Пушкину. Сейчас, когда мы каждый год празднуем день рождения поэта как всенародный праздник поэзии, каждый год отмечаем горестную дату его гибели, когда Пушкин для миллионов людей — самый близкий и любимый поэт, нам трудно представить себе, что сто лет назад большинству читателей он казался устаревшим, его объявляли подражателем Байрона, значение его для русской и мировой поэзии было не понято и не оценено многими.
В конце 1877 года умер Некрасов. Достоевский был на похоронах и произнес там речь. Когда он сказал, что Некрасов «в ряду поэтов должен прямо стоять вслед за Пушкиным и Лермонтовым», то голос из толпы крикнул: «Выше, выше!» — и несколько голосов подхватили этот выкрик- Для молодежи семидесятых годов значение Пушкина как величайшего русского поэта было непонятно.
Вот почему речь Достоевского о Пушкине оказалась как бы началом новой жизни поэта, нового понимания его творчества и его значения — понимание это дожило до нас и будет жить всегда. Но начал его Достоевский, и мы помним это с благодарностью и гордостью.
Что же сказал Достоевский? Конечно, пересказать всю его речь и невозможно, и ненужно: ее можно прочесть. Главные же его мысли таковы: Пушкин пришел в русскую литературу в то самое время, когда наша страна начала осознавать свое мировое значение после петровских реформ, когда формировалось национальное сознание русского народа. Конечно, в юности Пушкин подражал европейским поэтам, но в то же время уже в ранних его произведениях «выразилась чрезвычайная самостоятельность его гения». Очень подробно и внимательно Достоевский рассматривает характер Алеко из «Цыган», потому что видит в нем «того несчастного скитальца в родной земле, того исторического русского скитальца, столь исторически необходимо явившегося в оторванном от народа обществе нашем». Совершенно справедливо Достоевский считает, что тот же тип открывается в «Евгении Онегине», «поэме уже не фантастической, но осязательно реальной, в которой воплощена настоящая русская жизнь с такою творческою силой и с такою законченностью, какой и не бывало до Пушкина, да и после него, пожалуй».
В «Евгении Онегине» Достоевский считает главной героиней Татьяну, а не Онегина, которого он называет «мировым страдальцем», в котором видит те же поиски идеала, что были уже в Алеко, и считает Онегина не способным понять высокий душевный мир Татьяны. О ней же Достоевский говорит: «Это положительный тип... апофеоз русской женщины... такой красоты положительный тип русской женщины почти уже и не повторялся в нашей художественной литературе...»
Татьяна, по мнению Достоевского, не могла оставить своего мужа и пойти за Онегиным, потому что человек не может строить свое счастье на несчастье другого. Красота ее души основана на том, что у нее «все-таки есть нечто твердое и незыблемое, на что опирается ее душа. Это ее воспоминания детства, воспоминания родины, деревенской глуши... Тут соприкосновение с родиной, с родным народом, с его святынею». А у Онегина ничего этого нет.
Говоря об «Онегине», Достоевский утверждает, что в этой книге «Пушкин явился великим народным писателем, как до него никогда и никто». «Повсюду у Пушкина слышится вера в русский характер, вера в его духовную мощь, а коль вера, — стало быть и надежда, великая надежда за русского человека».
Очень важную мысль высказывает Достоевский о народности Пушкина: «...никогда еще ни один русский писатель, ни прежде, ни после него, не соединялся так задушевно и родственно с народом своим как Пушкин». Много есть писателей, пишущих о народе, — говорит Достоевский, — но почти все они «это лишь «господа», о народе пишущие». «В Пушкине же есть именно что-то сроднившееся с народом взаправду» (курсив Достоевского). Достоевский доказывает эту мысль примерами из творчества Пушкина, и можно только удивляться, как тонко и глубоко он знал Пушкина.
Пушкин — начало всех начал в русской литературе, и об этом тоже говорит Достоевский: «не было бы Пушкина, не было бы и последовавших за ним талантов». И еще одну особенность Пушкина отметил в своей речи Достоевский: Пушкин не только величайший русский народный поэт, но он умеет перевоплощаться в героев любой национальности и любого века: его Дон-Жуан — испанец, Скупой Рыцарь — типичный человек средневековья, герой «Подражаний Корану» — мусульманин...
Любимая мечта Достоевского была о всеобщем, всемирном счастье. И он надеялся, что русский народ положит основу счастью всех народов на земле. Поэтому так важно для него, что Пушкин «обладал такой способностью всемирной отзывчивости. Й эту-то... главнейшую способность нашей национальности он именно разделяет с народом нашим, и тем, главнейше, он и народный поэт».
Речь о Пушкине принесла Достоевскому огромную славу, он достиг небывалого влияния на мысли и чувства своих сограждан, восторженного их признания. Эта речь, в сущности, оказалась и его завещанием. Меньше чем через год после пушкинских торжеств Достоевский умер — тем дороже для нас, что он успел сказать свое последнее слово, и слово это сыграло великую роль в нашем понимании гордости всех русских людей — Александра Сергеевича Пушкина.
ОГЛАВЛЕНИЕ
Предисловие 3
ЧАСТЬ I
Глава 1. Старик и его собака 7
Как начинаются книги 7
Фантастический мир Петербурга 10
«Отчего иногда сердце перевертывается в груди...» ... 15 Глава II. Иван Петрович 19
Голос рассказчика . „ 19
Что необычно в романах Достоевского 22
Отступление первое. О юности Федора Достоевского 25
Завязка романа 28
Да бывает ли такая любовь? 36
Отступление второе. О повести «Бедные люди» 47
Глава III. Николай Сергеевич Ихменев 59
Управляющий князя Валковского 59
Не княжеские дети 64
Труд писателя 69
Отступление третье. О двадцати минутах жизни 77
Появляется девочка 82
Отец и дочь 86
Отступление четвертое. «Село Степанчиково» и другие книги... , . 93
ЧАСТЬ II
Глава IV. Алеша Валковский 99
«Вечное несовершеннолетие» 99
Отец и сын 107
Отступление пятое. «Преступление и наказание» 121
Репетилов и другие 125
Отступление шестое. О жизни Достоевского 137
ЧАСТЬ III
Глава V. Внучка Смита 145
Елена у Бубновой 145
Школьный товарищ 153
Сложный душевный мир 155
Не Елена — Нелли 161
Глава VI. Наташа 166
Муки ожидания 166
Дуэль? 170
Наташа и князь 172
Глава VII. Князь Петр Валковский 180
Переплетение судеб . 180
Князь открывается 184
Планы и угрозы 188
Отступление седьмое. О романе «Идиот» 195
Глава VIII. Катя 206
В гостиной графини 206
«Обе вместе» 208
Катя и Алеша 214
ЧАСТЬ IV
Отступление восьмое. О романе «Братья Карамазовы» 219
Глава IX. Нелли 230
Капризы 230
Снова об эгоизме 235
Дочь князя Валковского 246
Отступление последнее. Речь о Пушкине 249
Для среднего и старшего возраста
Долинина Наталья Григорьевна
ПРЕДИСЛОВИЕ К
ДОСТОЕВСКОМУ
Ответственные редакторы Н. П. К Р ы щ у к и И. И. Трофнмкин
Художественный редактор Б. Г. Смирнов
Технический редактор Т. С. Харитонова
Корректоры Н. Н. Жукова и Л. А. Бочкарёва
ИБ 2163
Сдано в набор 12.09.79. Подписано к печати 28.04.80. Формат 60x847i6. Бумага типографская № 1. Шрифт литературный. Печать высокая. Печ. л. 16. Уел. печ. л. 14,88. Уч.-изд. л. 13,67. Тираж 100 000 экз. М—12821. Заказ № 10D. Цена 55 коп. Ленинградское отделение ордена Трудового Красного Знамени издательства «Детская литература». Ленинград, 191187, наб. Кутузова, 6. Калининский ордена Трудового Красного Знамени полиграфкомбинат детской литературы им. 50-летия СССР Росглавполи- графпрома Госкомиздата РСФСР. Калинин, проспект 50-летия Октября, 46.
Долинина Н. Г.
Д64 Предисловие к Достоевскому/Рис. Н. Кошелы кова. — Л.: Дет. лит., 1980—254 е., ил.
В пер.: 55 коп.
Анализируя роман «Униженные и оскорбленные», автор размышляет о художественном мире писателя*
70803—146
Д Ш01(03)—80 404"~80 8Р1
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg


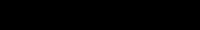


Комментарии к книге «Предисловие к Достоевскому», Наталья Григорьевна Долинина
Всего 0 комментариев