Алексей Зверев Динамическое напряжение
А. М. Зверев. Динамическое напряжение // Курт Воннегут. Сирены Титана. — М.: Пресса, 1993. — С. 5-16.
Долгое время книги Курта Воннегута были известны только самым дотошным читателям американской прозы. Публикуемые непрестижными издательствами, они терялись среди бесчисленных произведений, по внешним признакам относимых к научной фантастике. Появившийся в 1963 году роман «Колыбель для кошки» не привлек внимания ни одного рецензента.
Резко и неожиданно переменилась творческая судьба Воннегута шесть лет спустя, когда вышла «Бойня номер пять». Её успех был полным и безоговорочным: огромные тиражи, споры за право экранизации, инсценировка. За Воненгутом начали охотиться интервьюеры, его завалили письмами новоявленные поклонники. Особенно много их было среди молодежи, считавшей, что никто не выразил её взгляды и представления лучше, чем этот далеко уже не юный прозаик, у которого за плечами была война, немецкий плен, восемь лет службы в прославленной корпорации «Дженерал электрик» и ещё шестнадцать, отданных — без зримого вознаграждения — литературе.
Законы книжного рынка хранят в себе элемент тайны. Трудно до конца объяснять неожиданные взлеты популярности и наступающее ей вслед охлаждение. Но в данном случае сказались совершенно объективные причины, приведшие Воннегута в считанные мгновенья от безвестности к славе.
Шла война во Вьетнаме, самая непопулярная из всех, которые когда-либо вела Америка. Выражая мнение тысяч противников этой войн, Воннегут в интервью заявил, что, подобно Хиросиме, «она заставила нас всех осознать, до чего мы жестоки». А кроме того, «она лишила нас иллюзии, будто мы способны контролировать действия собственного правительства... Вьетнам показал, что рядовому человеку не дано каким бы ни было образом воздействовать на власть, хотя бы он прибегал к актам гражданского неповиновения... Властям всё это было безразлично... Тяжелый, травмирующий урок».
В «Бойне номер пять» самые впечатляющие эпизоды связаны с изображение другой войны, той заключительной её стадии, когда могущество Германии окончательно подорвано и быстро приближается развязка. 13 февраля 1945 года авиация союзников в два-три дня часа массированными налетами стерла с лица земли Дрезден, город, где фактически не было оборонных объектов. Погибло более ста тридцати тысяч жителей — печальный рекорд за всю европейскую историю. Военнопленный Воннегут уцелел лишь от того, что работал на бойнях, где глубоко под землей была холодильная камера. Когда на следующий день его вывели разгребать развалины, вокруг всё напоминало ад, только пострашнее, чем на старинных фресках.
Воненгуту был двадцать один год. Впоследствии он много раз повторял, что напрасно считают, будто потрясения дрезденского апокалипсиса сформировали его как личность, как писателя, — для этого он был слишком молод и незрел. Но всё равно, нельзя представить себе, что бы прославленный американский прозаик создал книги, известные теперь повсюду в мире, если бы в его жизни не было той февральской ночи, когда погиб Дрезден.
«Осознать, до чего мы жестоки», эта ночь помогла с наглядностью самого неоспоримого свидетельства. И она же открыла абсолютную неподконтрольность власти, которой нет дела до естественных, разумных человеческих побуждений. перед лицом стратегической необходимости эфемерными становились любые усилия противостоять вышедшей из берегов стихии массового убийства, гибели и разрушения. Человек оказывался либо обреченной жертвой, либо бесправным механическим исполнителем чьей-то бездушной и злой воли.
Об этом и рассказано в самой знаменитой книге Курта Воннегута. Вышедшая в 1969 году, она оказалась необыкновенно созвучной тогдашнему умонастроению. Вьетнамская война, продолжавшаяся мощному движению протеста, нанесла глубокую травму общественному сознанию. Вместе с похоронками в США приходили документальные подтверждения духовной и нравственной деградации, озверения вчерашних подростков, отправленных за тридевять земель в джунгли, чтобы с автоматами в руках охранять дряхлый сайгонский режим, ещё одного «Апокалипсиса сегодня», как назвал свой фильм о Вьетнаме режиссер Френс Коппола.
И крепла уверенность в том, что традиционные либеральные верования обанкротились, что нет нет никакой возможности обуздать высоко взметнувшуюся волну насилия, что власть действует, руководствуясь лишь собственной антигуманной логикой, а личности не на что рассчитывать в конфликте с этой обезумевшей властью. Духовно уцелеть , оставаясь человеком среди бесчеловечного мира, можно только, использовав единственный шанс: противостояние духа, особое устройство сознания, необходимое воспитывать так, что бы туда не проникали губительные веяния из окружающей реальности, в которой более нет ценностей, внушающих надежду.
Такое мироощущение простодушно, но необыкновенно точно сформулировал один из героев Воннегута, сказав: «Черт побери, приходится быть добрым». Просто ради выживания.
Целое поколение выросло с твердой уверенностью, что это и есть конечная истина жизни. Воннегут стал писателем того поколения, выразив его чувства и мысли достоверно, целоcтно, ярко — как никто больше.
Меж тем он никогда не предназначал себя к роли художника, где обретает свой голос и воплотит свое представление о действительности послевоенная Америка. Курт Воннегут — сын архитектора, которому родителю могли обещать не так уж и много: скромный колледж да профессию отца. Он, однако, предпочел химию. Много лет спустя, когда имя Воннегута приобретает широкую известность, университет, где учился будущий писатель, присудит ему учебную степень, но не как ученому, а как литератору, обогатившему знание о человеке. «Колыбель для кошки» сочли достаточно серьезным вкладом в сокровищницу такого знания, и автор получил ученую степень магистра антропологии.
Сюжет вполне воннегутовский по своей аналогичности на грани абсурда. Однако занятия химией, а особенно годы, проведенные в «Дженерал электрик», не прошли бесследно для творчества американского писателя. Гораздо раньше тех многих, обладающих литературным престижем, Воннегут понял, какой драматический материал таит в себе реальность ХХ века, «века науки». И эта реальность подсказала конфликты его лучших книг.
Подобно большинству своих сверстников, Воннегут пережил период безоговорочной веры в творческий и социальный потенциал науки, а вслед за тем — период полного разочарования в ней, неприятия, граничащего с технофобией. Об этом он говорил в речи перед студентами по выходе «Бойни номер пять»: «Мы только и слышали, что научная мысль сделает нашу жизнь необыкновенно приятной и счастливой. А получилось так, что высшее завоевание научной мысли было сброшено на Хиросиму... С тех пор я остаюсь пессимистом — твердым, хотя и не во всех случаях взирающим на мир с безнадежностью».
Но не только шок Хиросимы вызвал такую перемену взглядов. Это была кульминация, а сам процесс пересмотра и представлений о возможностях науки начался раньше, и был связан, с кризисом идеологии «технократического утопизма», одно время необыкновенно влиятельной, потому что она внушала иллюзию, будто с прогрессом науки, с триумфами автоматики, кибернетики будут найдены решения мучительных, вечных проблем человеческого бытия. Иллюзия, кстати, оставалась стойкой и после Хиросимы. Воннегут вспоминает, что его сослуживцы по «Дженерал электрик» были убеждены, «Не сегодня-завтра кто-то получит фотоснимок самого Господа Бога, и продаст негатив журналу, пропагандирующему достижения новевшей механики».
Самому ему были понятны причины, порождавшие этот наивный энтузиазм. Отрочество и юность Воннегута совпали со временем Великой Депрессии, неслыханного жестокого экономического кризиса, который охватил западный ми в 3-е годы. Люди той поры терялись от повседневных лишений, массовой безработицы, развала, хаоса, и нужны была хоть какая-то надежда, что со временем жизнь всё же войдет в нормальное русло, а надежды естественно связывалась с успехами науки и техники — больше её связывать было не с чем. Ведь и в самом деле немыслимо, что в наше столетие, в этот блистательный век, когда человеческий гений одерживает одну победу за другой, оставались голодные и бездомные, а человек, сталкиваясь с законами социальной жизни, порождающей столько горя, чувствовал себя беспомощным. Значит, все дело просто в неумении распорядиться огромными возможностями, появившимися с прогрессом науки. Профессиональный менеджер, технократ современной жилки должен взять на себя заботу о благоденствии людского сообщества, твердой рукой насаждая — везде и во всем — рационалистический принцип, чтобы в итоге каждый получил свою долю безоблачного счастья.
Философ Боконон в последней главе «Колыбели для кошки» подводит такой итог собственным размышлениям о мире: «Будь я помоложе, я бы написал историю человеческой глупости». В каком-то смысле книги Воннегута и стали этой историей — печальной, как ни забавны отдельные ее эпизоды.
Традиция, которой он следует, — одна из древнейших в мировой литературе, восходит еще к Лукиану. Питая творчество Эразма Роттердамского, Вольтера, Франса, позже, в XX веке, она пережила свое второе рождение, вызвав невиданный расцвет «шутовской» литературы, где повседневная жизнь смертных предстает карнавалом дураков.
Воннегута можно по праву признать наследником этой традиции. Но необходимо существенное уточнение: речь у него идет о' «глупости» особого рода, ставшей неотъемлемой чертой нашего столетия. Это «глупость» слишком короткой памяти и слишком беспочвенных упований. «Глупость» технократического сознания, отбрасывающего принципы гуманизма ввиду их практической неприменимости. «Глупость», которая способна поставить мир перед реальной угрозой катастрофы.
Долгие годы произведения Воннегута воспринимали как литературную футурологию. Это неверно. Хотя действие у него нередко переносится на несуществующие планеты или в немыслимо далекие времена, художественная ткань этих сказок технической эпохи состоит из конфликтов и проблем, слишком актуальных именно для нашего времени. От предвидения здесь протягиваются многочисленные нити к живой действительности.
Так было уже в первых книгах Воннегута, включая «Сирены Титана» (1959). Изобретенная Воннегутом планета Тральфамадор представляет собой как бы кривое зеркало, укрупняющее пропорции, чтобы с наглядностью обнаружилась вся «глупость» происходящего на земле. Вслед герою «Сирен Титана» Константу на Тральфамадор попадает и любимый персонаж Воннегута Билли Пилигрим из «Бойни номер пять», и образ особой реальности, которая воцарилась на этой планете, приобретет завершенность.
Эта реальность внешне необыкновенно привлекательна, а на поверку страшна своим абсолютным бездушием. Никаких противоречий, конфликтов, а тем более жизненных трагедий на Тральфамадоре быть не может, поскольку здесь господствует строго рациональный взгляд на вещи. Секрет беспредельного внутреннего спокойствия тральфамадорцев чрезвычайно прост. Для того, чтобы обрести его, надо всего лишь стать машиной — иными словами, отказаться от наивных попыток понять, почему жизнь людей полна превратностей и разочарований, а течение истории изобилует вспышками нетерпимости и водоворотами войн.
Время для тральфамадорцев есть чисто физическое понятие, и его нельзя ни объяснить, ни предугадать. Оно такая же лишенная всякого человеческого содержания реальность, как цепочка вершин горного хребта: мгновение следует за мгновением столь же закономерно и необратимо, как вершина сменяется вершиной, а человек «просто застыл в янтаре этого мига», который бессмысленно пытаться изменить или предотвратить.
Бессмысленно пытаться помешать летчику-испытателю нажать кнопку и тем самым взорвать галактику. Бессмысленно учить добру и противодействовать творящим зло. Каждый момент имеет определенную «структуру», и ее никому не изменить. «Ни начала, ни конца, ни напряженности сюжета, ни морали, ни причин, ни следствий» — характеристика романов, которые читают на Тральфамадоре, приложима и к самой жизни на планете, где технократическая рациональность одержала конечную победу.
Велик соблазн прочесть «Сирены Титана» как еще одну антиутопию, какими богата литература XX века, — достаточно назвать «Мы» Е. Замятина, «О дивный новый мир» О. Хаксли или книги Дж. Оруэлла, у которого Воннегут, по собственному признанию, многому научился. Конечно, элемент антиутопии в этом романе, кап почти во всем созданном писателем, есть, но не он доминирует. «Сирены Титана» сам Воннегут характеризовал как попытку понять, отчего такой силой обладают над людьми «беспочвенные надежды на коренное переустройство своего удела... совершенно детские по своей наивности мечты». Фигура Уинстона Найлса Рамфурда, предающегося подобным мечтаниям особенно страстно, занимает в романе место не менее важное, чем фигура похищенного на Тральфамадор авантюриста Константа: перед нами как бы двуединый центральный герой, и многое сказано уже этой сближенностью основных персонажей. Оба они — и Констант, и Рамфурд — люди, по сути, одного и того же склада, одной и той же идеи: им нужна деятельность, а не созерцание, их влечет эффективность, инициатива, не ведающая никаких сомнений, ощутимый результат, зримая польза. Понятия вины, ответственности, сострадания, милосердия для обоих остаются не более чем пустым звуком и только препятствуют уверенному движению по путям, ведущим к раю. А рай для них — это обесчеловеченные будни Тральфамадора.
Подобная философия жизни, начиная с первых же написанных Воннегутом страниц, сделается для него главным объектом критики, — очень последовательной и серьезной, пусть она скрыта за комедийными приемами, расцвечена юмором, который, впрочем, уместнее назвать висельным, чем беспечным.
* * *
Проза Воннегута производит впечатление фрагментарности. Отношения между героями возникают и обрываются как будто без всякой логики. Связи между бытовым и гротескным планами рассказа кажутся случайным, а финалы историй — немотивированными. Считалось, что Воннегут просто хочет запечатлеть жизнь как цепочку разрозненных мгновений, сама бессвязность которых свидетельствует, до чего хаотичен и неуправляем мир. Но тогда перед нами был бы просто формальный прием. А у Воннегута за внешней хаотичностью обнаруживается очень продуманная композиция, и это не путешествие без маршрута, во всяком случае, не беспорядочное мельтешение инфузорий, за которым бесстрастно наблюдает в микроскоп автор. «Мгновения» — допустим, бомбардировка Дрездена и пребывание Билли Пилигрима на Тральфамадоре — не разделены никаким пространственным или временным барьером, но еще важнее, что они сопоставимы, дополняют друг друга и даже друг без друга Невозможны. Получается мозаичное панно, которое может показаться нагромождением склеенных как попало фрагментов, если смотреть с близкого расстояния, но выявляется и законченность, и объемность, и единство замысла, когда зритель отступит в глубь зала на несколько шагов.
Конечно, подобная мозаичность тоже свидетельствует о характере времени. Демографический взрыв, расползшиеся муравейники городов, механистичность людских контактов, безликость и однотипность быта — все это запечатлено Воннегутом с неподдельной художественной точностью. Но не просто зафиксировано, а осмыслено. Ведь Воннегуту важно от этого свидетельства о выбившемся из колеи мире пойти дальше. Попробовать понять, когда и почему произошел сам этот вывих. И возможно ли преодоление убийственной механистичности бытия. И мыслимо ли добиться высокой художественной гармонии, когда из-под пера писателя встает обезображенный, дисгармоничный, раздираемый противоречиями мир.
В «Колыбели для кошки» Боконон утверждает, что принципом здорового общества должно стать динамическое напряжение. Общество, учит он, должно быть основано на противопоставлении добра злу, и между добром и злом необходимо поддерживать напряжение: наивна вера в общество, где торжествует чистое добро, а со злом покончено навеки, но пагубна и капитуляция перед злом по той причине, что оно не желает исчезать, сколь бы разумными ни выглядели проекты его полного искоренения.
Здесь изложена сущность мировосприятия самого Воннегута. Он пессимист, оговаривающий, что его пессимизм не абсолютен, но допускает исключения. Эту позицию можно принять или отвергнуть, но нельзя отказать ей в выношенности.
Творчески она оказалась очень перспективной. Это было ясно еще с первых романов Воннегута, но стало бесспорным, когда вышла в свет «Колыбель для кошки», а два года спустя — «Дай вам Бог здоровья, мистер Розуотер».
Тональность обоих этих романов грустная, иной раз даже трагическая — слишком жестоки аномалии изображаемой реальности. По капитуляции перед нею нет и следа. Наоборот, есть противостояние — в соответствии с программным для Воннегута принципом динамического напряжения.
Кто такой Элиот Розуотер, сквозной персонаж нескольких книг Воннегута? Наследник одного из богатейших состояний в Америке. И вместе с тем — неудачник, над которым вечно смеется судьба, причем такие насмешки иной раз жестоки. Отчасти чудак, отчасти сумасшедший — по крайней мере для здравомыслящих обывателей. Он ведь пытается строить жизнь не по законам рациональности и пользы, принятыми в той среде, где он вырос, а по закону доброты. Да, его устремления способствовать общественному благу нередко комичны до нелепости, а прекрасные порывы увенчиваются жалкими результатами. Принцип динамического напряжения не допускает, чтобы герой предстал подвижником. Но точно так же философия Воннегута требовала, чтобы в океане бездушного рационализма отыскался островок человечности. Хотя бы единственный.
Эксперимент Элиота, учредившего «Фонд Розуотера» для помощи всем, кто в ней нуждается, и ставшего единственным сотрудником этой организации, — попытка решения серьезной моральной проблемы. Сформулирована она Килгором Траутом, писателем-фантастом, который в книгах Воннегута почти всегда выражает точку зрения самого автора. Траут сочиняет мрачные книги о том, как восторжествовал голый практицизм и распространилось убеждение, что человеческая жизнь лишена всякого смысла, так как исчезла потребность в человеке хотя бы как творце новых, еще более великолепных машин. Общество, описанное в сочинениях Траута, видит в человеке только работника. Никого не интересует его судьба как индивида, его настоящее и будущее как личности.
До того, как Элиот попал на фронт, он тоже существовал подобно роботу — оттого по правилам, которым его обучили, и заколол штыком трех немецких мальчишек, даже не взглянув на их обмундирование пожарных, да еще удостоился за свой подвиг боевой награды. Мотив механически совершаемого убийства, безотчетности разрушения, производимого в строгом соответствии с критериями рациональности и эффективности, — едва ли не самый устойчивый в произведениях Воннегута. Для него этот автоматизм — может быть, самое зловещее последствие прогресса, выразившегося в полном безмыслии. А Элиот, ужаснувшись случившемуся с ним там, на войне, впервые пытается как-то противостоять роботизации. Его действия кажутся окружающим безумством, да и как иначе: кто же в здравом уме станет прибивать по всей округе дощечки с призывами к самоубийцам одуматься и обратиться за помощью, кто другой стал бы жертвовать огромные суммы на нужды пожарных команд или признал маленькими Розуотерами всех незаконнорожденных младенцев? Но есть в этих неумелых стараниях что-то неподдельно благородное, ведь преследуют они, собственно, одну главную цель: научиться дорожить людьми не как работниками, а просто как людьми. И научить этому других.
В филантропических потугах Розуотера — смешных и наивных — чувствуется стремление портивопоставить опустошительной рациональности доброту и тем самым наверстать нравственное отставание, которое образовалось в погоне за материальным благоденствием, основанным на торжестве технократизма. Для Воннегута подобные стремления всегда серьезны, в каких бы формах они ни выражались и чем бы ни увенчивались.
У Элиота такие стремления инстинктивны. Он пережил приступ сомнений в смысле жизни, знакомых многим персонажам Воннегута, н выход нашелся, когда ему открылась истина, старая как мир, — надо научиться быть человеком. Просто человеком.
Боконон на фундаменте той же простейшей истины возвел целую концепцию. Она именуется боконизмом, представляя собой законченную систему философских и моральных постулатов, в которой основное — принцип динамического напряжения, обладающий весомостью нравственного кредо.
Не пытайся коренным образом изменить структуру окружающего тебя мира, учит Боконон, и прими царящее в нем зло как неизбежность, более того — как необходимость. Однако помни о том, что здоровье общества и просто собственное твое спасение зависят от того, сумеешь ли ты противопоставить злу добро. Утверждай добро, утверждая права человека — каждого человека, просто человека, а не обладателя парламентского кресла или докторского диплома — пРава на счастье, во всяком случае, на жизнь.
Умей отделять себя от «гранфаллонов», — Боконон разумеет под этим ложные объединения людей, которых сплотили заведомо неразумные цели вроде служения политическим доктринам или национальному престижу. Но помни, что ты принадлежишь «карассу» — расторжимому сплетению добрых и злых начал, их взаимодействием поддерживается равновесие вселенной. Остерегайся нарушить это равновесие в сторону ли чистого добра, или беспримесного зла. Всякая попытка изменить «карасе» опирается на добытые логическим путем выкладки — противопоставь им «ложь», абсурд, невозможность. Ведь счастье, насколько оно возможно в этом мире, требует сохранения самой природой созданных «карассов» неприкосновенными, и для этого хороши любые средства.
Это не просто шутовская философия, помогающая разнообразить повествование и в нужный момент по контрасту оттенить его истинный смысл. Боконон со своими странными идеями противопоставлен технократической утопии: он уловил в ней основную слабость — равнодушие к человеку, как только тот не выступает в качестве создателя материальных ценностей, — и выдвинул контраргументом абсолютизацию интересов человека как личности. «Что вообще священно для боконистов?» — спрашивает приобщающийся к новой религии рассказчик и слышит в ответ: «Даже не Бог. Только одно... Человек... Вот и все. Просто человек».
Это очень простодушная философия, и доказать ее несостоятельность вроде бы ничего не стоит. Отчего же тогда боконизму поклоняются в республике Сан-Лоренцо, где происходит действие «Колыбели для кошки», буквально все, хотя официально он запрещен? Отчего на страницах романа развертывается своего рода гротескная комедия веры, заставляющая Боконона самого себя объявить вне закона, чтобы правители республики всегда имели повод свалить на боконистов вину за чудовищную нищету и еще более чудовищную тиранию, ставшие нормой вещей на этом крохотном острове?
Над этими вопросами бились все интерпретаторы романа. А ответ дал сам Воннегут. По сути своего мироощущения он, конечно, тоже боконист, но для него не тайна, что и самая искренняя любовь к человеку в столкновении с реальностями сегодняшнего мира имеет столько же шансов на победу, сколько сплетенная из шпагата игрушечная колыбель — на то, что ее облюбует живой котенок. Хиппи и другие приверженцы боконистской философии, старавшиеся исходить из интересов «просто человека», как бы не замечая, в какой бесчеловечной реальности тот живет, считали Воннегута своим оракулом, но сам он понимал: боконизм — чистая утопия, не больше.
Другое дело, что она для Воннегута воплощает действительно разумный взгляд на действительность. Единственный небоконист в Сан-Лоренцо доктор фон Кенигсвальд лаконично формулирует тот довод боконистов, который является решающим и для Воннегута: «Книги Боконона» скорее всего очень далеки от реальности, однако без них человеческая жизнь станет вообще непереносимой. «Я — прескверный ученый, — говорит Кенигсвальд. — Я готов проделать что угодно, лишь бы человек почувствовал себя лучше, даже если это ненаучно».
Не так ли и сам Воннегут? Ему необходима вера в истины простые, даже азбучные, и боконизм для него — свод таких вот истин. Но мир устроен слишком сложно, чтобы в нем восторжествовала подобная простота и естественность. Объективно она оказывается беспомощной, и хотя боконизму в Сан-Лоренцо поклонялись все, от президента до последнего нищего, действительность такова, что боконистов казнят на крюке, а развязкой становится гибель всего живого на острове, и предотвратить это боконизм не в состоянии как не в состоянии это сделать никто и ничто.
«Такие дела», — как сказал бы Билли Пилигрим, раз за разом сталкивающийся с подобными парадоксами, из которых состоит реальность XX века.
* * *
Остров Сан-Лоренцо погиб от льда-9 — вещества, нескольких кристаллов которого достаточно, чтобы убить жизнь на земле.
Лед-9 изобрел Феликс Хоннекер, выдающийся физик, лауреат Нобелевской премии. «Там, где он был, — гласит мемориальная доска на стене его лаборатории, — проходил передний край современной науки». Однажды генерал морской пехоты пожаловался Хоннекеру, что боевая техника оказывается в джунглях бесполезной — вязнет в болотах. Хоннекер нашел выход из положения: надо бросить в болото крупицу льда-9, и оно замерзнет. А потом замерзнут протекающие через болото ручьи, и реки, куда они впадают, и моря, куда бегут реки. Впрочем, эта сторона дела Хоннекера не беспокоила. Перед ним поставили конкретную задачу, и он нашел простой и гениальный способ ее решения.
До этого он изобрел водородную бомбу. Когда бомбу первый раз испытали, кто-то из коллег заметил: «Теперь наука познала грех». Хоннекер не понял, о чем речь, и спросил: «Что такое грех?»
У этого персонажа есть реальный прототип — доктор Ирвинг Лэнгмыор, тоже нобелевский лауреат; Воннегут его хорошо знал по' «Дженерал электрик». Лэнгмьюр был классическим ученым, как их обычно изображают в кино: рассеянным, целиком поглощенным работой. О нем ходили легенды — какой чудак, путает черепах с лягушками, а однажды, позавтракав у себя на кухне, оставил жене чаевые под тарелкой. Открытия Лэнгмьюра очень интересовали военное ведомство. Его это не заботило, вообще ничего не заботило, если впрямую не касалось хода очередного эксперимента. О людях такого склада Воннегут как-то сказал, что «нельзя позволять им слишком сосредоточиваться на чем-то одном. Тот, кто специалист Ч только, становится аморальным. Пусть музыкант живет одной музыкой. Но если одной наукой живет ученый, он мажет стать по-настоящему опасен».
Меж тем во времена, когда писалась «Колыбель для кошки», в цене были люди, посвятившие себя науке самозабвенно, без остатка. Ближайший помощник Хоннекера доктор Брид не без гордости заявляет: «Люди чистой науки работают над тем, что увлекает их, а не над тем, что увлекает других людей». Хоннекер следует этому кредо до смертного часа. Самому себе он кажется восьмилетним Мальчуганом, который по пути в школу останавливается на каждом шагу, всматриваясь в окружающий мир и стараясь понять, как он Устроен. Доктор Хоннекер был, по собственному признанию, очень счастливым человеком. Всю жизнь он питал любовь к головоломкам, куда более сильную, чем интерес к людям. Хоннекер-младший вспоминает об отце: «Люди были не по его специальности». Головоломками становились то колыбель для котят, то лед-9: в сознании великого физика это вещи одного ряда. Получив сосульку, он положил ее в баночку и поставил на полку: миссия ученого закончена, а с продуктом его труда могут поступать как угодно.
«Более защищенного от обид человека свет не видал, — вспоминает сын Хоннекера. — Люди не могли его задеть, потому что людьми он не интересовался». Он хлопотал об одной научной истине, заботливо отделив поиски верного решения от мыслей об этике и гуманности.
На Тральфамадоре, где оказывается Билли Пилигрим, унаследовали и эту непоколебимую приверженность чистой истине, и надежную защищенность от обид, от мелочных земных драм и ничтожных конфликтов, чье поле действия — всего лишь сегодняшний «миг», который завтра неизбежно сменится другим «мигом», а значит, и новой «суетой». Они достигли того, о чем Хоннекер мог только мечтать. Они полностью изолировали физическое время от времени человеческого, исторического. Они вообще отбросили историю, предоставив оптимальные условия для совершенно беспристрастного научного поиска.
Но Билли Пилигриму, как он ни зачарован простотой и доступностью такого пути к счастью, вступить на него так и не удается: ощутить себя свободным от истории ему, помнящему дрезденский ад, не дано. И в «Бойне номер пять» сознание героя особенно наглядно подчинено законам, управляющим реальным миром. Художественное время в этом необычном романе, где персонаж как бы сразу существует и в прошлом, и в сегодняшнем, к тому же переносясь в отдаленное будущее, олицетворенное Тральфамадором, — это отнюдь не формальный изыск, а своего рода концепция истории и человека в истории. Подлинные и наполненные трагическим содержанием события образуют в этой концепции ядро, фантастические события тральфамадорских эпизодов — только оболочку.
Несколько временных планов совмещаются в сознании Билли и объединены целой системой прямых или разветвленных ассоциаций. Иногда это ассоциации физические, зрительные: в 1967 году Билли едет на завтрак в клуб через сгоревший в ходе негритянских волнений квартал гетто и сразу же переносится памятью на исковерканные мостовые Дрездена в последние месяцы войны. Чаще — психологические ассоциации, навязываемые преследующей Билли идеей распада и смерти, неотступными и мучительными воспоминаниями о февральской ночи 1945 года. Рефрен едва ли не каждого эпизода — «такие дела» — всякий раз возвращает к образам умирания, насилия, надругательства над жизнью. Еще чаще — философские соотнесения открывшегося на Тральфамадоре с увиденным в обыденной действительности; в самолете рядом с Билли сидит его тесть, который «был машиной», а другая машина, по имени Валенсия Мербл Пилигрим, ест на аэродроме шоколадку и машет на прощание платочком.
В фундамент художественной конструкции, позволяющей объединить все эти ассоциации, положена метафора, которой открывается повествование о главном герое: «Послушайте! Билли Пилигрим отключился от времени». Метафора последовательно раскрывается по мере развития действия. Билли «путешествует во времени1 рывками и не властен над тем, куда он сейчас попадет». Единовременность существования всего его жизненного опыта, накапливавшегося десятилетиями, дает возможность отказаться от хронологической и сюжетной последовательности, выделив в этом опыте главное, к чему герой возвращается снова и снова.
Каждый временной отрезок наполняется и прошлым, и настоящим, и прогнозируемым будущим, и читатель оказывается перед необходимостью их сопоставления. Тральфамадор, Дрезден, Америка середины 60-х годов соединены незримыми, но очень прочными нитями. Эта связь в высшей степени содержательна. Она постоянно подводит к главной теме романа — к прямому соотнесению идеалов абсолютного рационализма, осуществленных на фантастическом планете, с практикой того же рационализма здесь, на земле, в ночь, когда погиб Дрезден.
Команда военнопленных, отправленных расчищать завалы, пробирается по «лунной поверхности», несколько часов назад бывшей большим городом. Все молчат. «Да и говорить было не о чем. Ясно было только одно: предполагалось, что все население города, без всякого исключения, должно быть уничтожено, и каждый, кто осмелился остаться в живых, портил дело. Людям оставаться на Луне не полагалось». Пролетавшие над руинами самолеты открывали огонь по всему, что шевелилось внизу. «Все это было задумано для того, чтобы скорее кончилась война».
Так на практике выглядит рациональный подход к задаче. Вот тогда, в те роковые дни что-то и сломалось в Билли Пилигриме. Последующие его «отключения от времени» были только следствием. А тральфамадорцы «просто помогли ему понять то, что происходило на самом деле».
Когда кончилась война, с американцами было бесполезно говорить о трагедии Дрездена — им «эта бомбежка вовсе не казалась чем-то выдающимся». Прошлое слишком быстро порастает травой забвения; назначением искусства было и остается напоминать о прошлом, в котором были и Дрезден, и Хиросима. Напоминать необходимо — чтобы из такого прошлого не протянулись аналогии в будущее.
«Я долго думал, для чего нужно искусство, — сказал Воннегут после выхода «Бойни номер пять». — Самое лучшее, что я мог придумать, — это моя теория канарейки в шахте. Согласно этой теории, художник нужен обществу, потому что он наделен особой чувствительностью. Повышенной чувствительностью. Он как канарейка, которую берут с собой в шахту: посмотрите, как мечется она в клетке, едва почувствует запах газа, а люди со своим грубым обонянием еще и не подозревают, что грядет опасность».
Роман Воннегута обрывается на почти идиллической ноте. Стоит весна. Распускаются деревья. Сто тридцать тысяч трупов политы бензином и сожжены, улицы более или менее привели в порядок. Вторая мировая война закончена. Билли в толпе пленных бредет по развалинам городя навстречу мирной будничной жизни благополучного «среднего американца».
Но прошлое останется с ним навсегда. Останется это «пьюти-фьют» — крик птицы, последнее, что он услышал в мертвом Дрезине. Сигнал предостережения.
Оно необходимо — предостережение против «глупости» всех, кто слишком быстро забывает «такие дела», и против «глупости» взбесившегося рационализма, создает ли он отталкивающую утопию Тральфамадора или методично убивает все живое здесь и сейчас, на многострадальной нашей земле.
И книги Курта Воннегута стали таким предостережением.
* * *
Эти книги принадлежат литературе, которая исключает категорические оценки, однозначные интерпретации. Ведь задачей для Воннегута всегда оставалось достичь «динамического напряжения», иначе говоря, сочетать гуманность и правду. Умную гуманность, не подкрашивающую истину во избежание безотрадных выводов. И полную правду, быть может, очень горькую, но не подавляющую убеждения, что в неизменно сохраняются человечность и добро.
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg

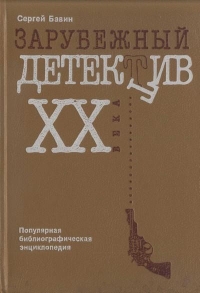
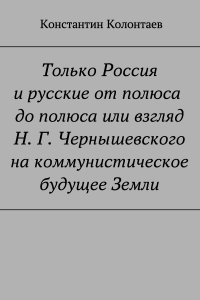
Комментарии к книге «Динамическое напряжение», Алексей Матвеевич Зверев
Всего 0 комментариев