Ева Александровна Леонова Немецкая литература XX века. Германия, Австрия
Часть 1
Основные литературные явления на рубеже XIX–XX вв
Реализм
Во 2-й половине XIX – начале XX в. продолжалось развитие реализма. Картина его воплощения в этот период весьма неоднородна: если в английской и французской литературах реализм в своей классической форме[1] сложился еще в 20—30-х годах XIX столетия, то в большинстве европейских литератур его становление приходится в основном на 60—70-е годы XIX в., а в некоторых – и на более позднее время. Кроме того, развитие реализма в ряде литератур во 2-й половине XIX – начале XX в. было отмечено определенными кризисными явлениями: давало о себе знать влияние общекультурных факторов, обусловивших существенные изменения в художественной системе реализма и вызвавших к жизни новые направления. «Реалистический способ освоения действительности, завоевавший прочные позиции в XIX в., опиравшийся на достижения науки, на принцип историзма… на понимание общества как некоей объективной целостности, подвластной научной систематизации и типизации в формах, аналогичных жизни, – получил на рубеже XIX–XX вв. новые импульсы для своего развития», – справедливо заметил известный российский ученый Л.Г. Андреев (1, 6).
Реализм не отмежевывается от эстетических исканий, стремится – часто в очевидном взаимодействии с другими художественными явлениями – к аналитичности, объемности во взгляде на реальность, к ее адекватному художественному изображению. Появляются новые формы художественного воплощения действительности, расширяется круг тем и проблем. Так, если в реалистических произведениях XIX в. преобладало социально-бытовое начало, то на рубеже XIX–XX вв. оно начинает сменяться философско-интеллектуальной, духовно-личностной проблематикой.
«Поэтика жизнеподобия» как основной художественный принцип, определявший облик реалистического искусства слова XIX в., постепенно уступает место иным структурообразующим тенденциям; существеннейшую роль в литературе начинает играть условность (А. Франс, Б. Шоу, Г. Уэллс и др.), конкретно-эмпирическое изображение действительности органично соединяется с параболическим, обобщенно-символическим. В психологизации искусства слова, наблюдаемой в ранней прозе К. Гамсуна, новеллах Т. Манна, драмах Г. Ибсена и А. Стриндберга, отчетливо просматривается перспектива литературы собственно XX в.
Большое место в реалистической прозе 2-й половины XIX – начала XX в. занимают масштабные, монументальные полотна («Жан-Кристоф» Р. Роллана, «Современная история» А. Франса, «Ругон-Маккары» Э. Золя, «Сага о Форсайтах» и «Современная комедия» Дж. Голсуорси, «Будденброки» Т. Манна и др.). Поражает многообразие романных форм: социально-психологический роман (Т. Манн, Г. де Мопассан, Р. Роллан), социально-политический (Дж. Лондон, Т. Драйзер), научно-фантастический (Г. Уэллс), социально-утопический (А. Франс, Г. Уэллс), сатирический (Г. Манн). При этом определить жанровую форму того или иного произведения без всевозможных оговорок и уточнений достаточно сложно: каждому из них присущи качества различных жанровых модификаций.
Возрастает роль публицистического элемента в художественной литературе, а также собственно публицистики. Без знакомства с публицистическими произведениями Э. Золя, Б. Шоу, Р. Роллана, Т. Манна, Г. Манна и многих других писателей невозможно составить полное представление об их творчестве. Литература заметно политизировалась, что было обусловлено общественно-политической напряженностью. Эта тенденция получит интенсивное продолжение в 20-30-х годах XX в.
Поразительными успехами отмечено развитие драматургии. Театрально-драматургическую эстетику данного периода, ознаменованную блестящими художественными достижениями Г. Ибсена, А. Стриндберга, Г. Гауптмана, Б. Шоу и др., стали обозначать понятием «новая драма». Пьесы этих авторов насыщены духовным борением, философской полемикой, актуальной социально-нравственной проблематикой. Примечательно, что большинство корифеев драмы занимались и разработкой ее теории; они экспериментировали, вели активный поиск в различных областях театральной деятельности, включая актерскую игру и режиссуру. Литературные и сценические открытия Г. Ибсена, А. Стриндберга и других художников по сей день широко используются театрами мира.
Существенной чертой литературного развития стало взаимодействие литератур, усвоение ими инонационального опыта. Исключительно важной в этом плане была роль русской литературы (Л. Толстой, Ф. Достоевский, А. Чехов, И. Тургенев и др.).
Источники
1. Андреев Л.Г., Карельский А.В., Павлова Н.С. и др. Зарубежная литература XX века. М., 1996.
Неоромантизм
Особое место среди художественных явлений 2-й половины XIX – начала XX в. занимает неоромантизм (греч. neos и романтизм; в противоположность романтизму конца XVIII – начала XIX в.). Не являясь по своей природе декадентским, неоромантизм, однако, тоже противостоит реализму. Он не только генетически и типологически восходит к романтизму, но и непосредственно с ним связан, развивая это направление как в проблемно-тематическом, так и в изобразительно-стилевом планах. Неприятие действительности; сильная личность, часто одинокая, руководствующаяся в своей деятельности альтруистическими идеалами; острота этической проблематики; максимализм и романтизация чувства, страсти; напряженность фабульных ситуаций; приоритет экспрессивного начала над описательным, эмоционального – над рациональным; активное обращение к событиям прошлого, легендам и преданиям, фантастике, гротеску, экзотике, культивирование авантюрно-приключенческих и детективных сюжетов – характерные черты неоромантизма, достигшего кульминации развития в 90-е годы XIX в.
При этом многое отличало неоромантизм от романтизма; например, гораздо чаще писатели-неоромантики помещают своих героев не в условно-выдуманную среду (как часто делали романтики), а в почти или совершенно реальную. Только они заставляют героя, а вместе с ним и читателя, открывать в привычном, будничном неожиданное и необычное, картинам напряженно-ярких событий противопоставляют картины «плесени жизни» (Г. Флобер). Персонажи неоромантиков – чаще всего не титаны и не сказочно-мифические существа, они порождены конкретной реальностью, но при этом щедро наделены силой духа, неукротимостью чувств и высокими устремлениями. Их борьба приобретает не столько метафизически-мировой, сколько конкретно-социальный, общественно-политический характер.
Показательны в этом смысле слова основателя, теоретика и практика английского неоромантизма Роберта Льюиса Стивенсона: «К сожалению, все мы в литературе играем на сентиментальной флейте, и никто из нас не желает бить в мужественный барабан… Будем же в меру сил учить народ радости. И будем помнить, что уроки должны звучать бодро и вдохновенно, должны укреплять в людях мужество».
Возникший как реакция на прозу жизни, на распространившийся во 2-й половине XIX в. натурализм, с одной стороны, и на декаданс – с другой, неоромантизм, в сущности, не сложился в самостоятельное литературное направление, в большинстве случаев сосуществуя с другими нереалистическими явлениями или с реализмом.
В соответствии с заявленным принципом мужественного оптимизма, согласно неоромантической концепции совмещения реального и идеально-героического и создавали свои произведения английские писатели (помимо Стивенсона) Джозеф Конрад (настоящее имя – Юзеф Теодор Конрад Коженевский), Джозеф Редьярд Киплинг, французские – Эдмон Ростан, Ромен Роллан, английские – Артур Конан Дойл, Этель Лилиан Войнич, американский – Джек Лондон, польский – Станислав Пшибышевский, шведская писательница Сельма Лагерлёф и многие другие.
Весьма ощутимо эстетическое присутствие неоромантизма в немецкой литературе: в лирике и философских работах Фридриха Ницше, у таких писателей, как Теодор Шторм, Вильгельм Раабе, Герхарт Гауптман, Рикарда Хух, Детлеф фон Лилиенкрон, ранний Герман Гессе; в творчестве таких австрийских авторов, как Гуго фон Гофмансталь, Райнер Мария Рильке и др.
Декаданс
Вторая половина XIX – начало XX в. – достаточно небольшой период в сравнении с некоторыми предыдущими историко-культурными эпохами, охватывающими иногда не одно столетие (например, Античность или Средневековье). Тем не менее он вполне сопоставим с этими и другими этапами культурного развития человечества, ибо вместил в себя целый ряд событий мирового значения и оказался отмеченным выдающимися достижениями в искусстве разных стран. Более того, общепризнано, что период 2-й половины XIX – начала XX в. вполне достоин названия эпохи как качественно новый культурный период, о котором можно сказать словами из стихотворения М. Волошина «Четверть века»:
Было… все было… так полно, так много…
Больше, чем сердце может вместить: И золотые ковчеги религий, И сумасшедшие тромбы идей… …Все упоение ритма и слова, Весь Апокалипсис туч и зарниц, Пламя горячки и трепет озноба От надвигающихся катастроф. Я был свидетелем сдвигов сознанья, Геологических оползней душ…
Человек, которому суждено было жить в то время, оказался участником свершавшихся с невиданной быстротой радикальных перемен. Об этом исследователи говорят даже по отношению к действительности Соединенных Штатов Америки, а ведь американцам 2-й половины XIX в., по свидетельствам историков, так свойственны были «чувство безопасности» и «вера в прогресс». «При изучении американской цивилизации на рубеже веков именно «перемены» становятся неизбежной отправной точкой», – писал Р. Гейбриел, один из авторов «Литературной истории Соединенных Штатов Америки» (1, 18). Наряду с чувством безопасности и оптимизмом нарастало «ощущение постепенной утраты традиционной нравственности под влиянием естественных наук и быстро распространяющегося материализма» (1, 19). В неизмеримо большей степени это характерно для Европы, которая во всех сферах жизнедеятельности испытывала подлинный кризис.
Причины, смысл и масштабы кризиса, переживаемого человеческим сознанием в тот период, обосновывались многими философами. Так, русский мыслитель В. Розанов в своей работе «Апокалипсис нашего времени» писал: «Нет сомнения, что глубокий фундамент всего теперь происходящего заключается в том, что в европейском… человечестве образовались колоссальные пустоты от былого христианства; и в эти пустоты проваливается все: троны, классы, сословия, труд, богатства. Все потрясены. Все гибнут, все гибнет. Но все это проваливается в пустоту души, которая лишилась древнего содержания».
Об апокалипсическом характере современности говорил также русский философ Н. Бердяев в работе «Кризис искусства»: «Много кризисов искусство пережило за свою историю. Переходы от античности к средневековью и от средневековья к возрождению ознаменовывались такими глубокими кризисами. Но то, что происходит с искусством в нашу эпоху, не может быть названо одним из кризисов в ряду других. Мы присутствуем при кризисе искусства вообще, при глубочайших потрясениях в тысячелетних его основах». И далее: «То, что происходит с миром во всех сферах, есть апокалипсис целой огромной космической эпохи, конец старого мира и преддверие нового мира… В поднявшемся мировом вихре, в ускоренном темпе движения все смещается со своих мест, расковывается стародавняя материальная скованность. Но в этом вихре могут погибнуть и величайшие ценности, может не устоять человек, может быть разодран в клочья. Возможно не только возникновение нового искусства, но и гибель всякого искусства, всякой ценности, всякого творчества». «Апокалипсис в русской поэзии», – назовет одну из своих статей А. Белый, а известный австрийский писатель С. Цвейг в книге мемуаров «Вчерашний мир: Воспоминания европейца» заметит: «Все бледные кони Апокалипсиса пронеслись сквозь мою жизнь…» Понятие Апокалипсиса, как видим, становится почти неотъемлемым атрибутом мемуаров, философских произведений, авторы которых пытались найти ключ к катастрофическим цивилизационным процессам своего времени.
Большое распространение имели работы немецкого философа Артура Шопенгауэра (1788–1860). Основной его труд «Мир как воля и представление» вышел в 1819 г., но заложенные в нем и других сочинениях Шопенгауэра идеи оказались близки философско-эстетическим представлениям 2-й половины XIX – начала XX в. Вслед за И. Кантом, полагавшим, что всякое явление есть обусловленное сознанием представление, Шопенгауэр создал свое учение о мире как стихийной, мятежной, стремящейся к воплощению воле. Приблизиться к познанию этого мира способен лишь тот, в ком эстетическая интуиция преобладает над интеллектуально-рассудочным началом, т. е. художник.
Под влиянием А. Шопенгауэра формировались философские взгляды Фридриха Ницше, оказавшего огромное влияние на искусство слова рубежа XIX–XX вв. Весьма существенным было также воздействие на литературно-художественный мир, особенно уже начала XX в., французского философа Анри Бергсона, создателя интуитивизма – учения об интуиции как основном способе познания жизненной сущности, и австрийского психиатра, автора теории и метода психоанализа Зигмунда Фрейда. Воззрения Бергсона послужили одной из отправных точек для символистов, а позднее и для представителей различных авангардистских направлений. Психоаналитическая же теория Фрейда стимулировала глубоко новаторский подход не только ко многим конкретным наукам, но и к мифологии, религии, живописи, литературе, эстетике, этнографии.
Именно на рубеже XIX–XX вв., когда происходило переосмысление духовно-эстетических ценностей и рушились прежние убеждения, когда одни теряли веру в незыблемость существующего мироустройства, а другие – в перспективу его радикального обновления, формируется и дает о себе знать во всех сферах общественной и культурной жизни такое явление, как декаданс (фр. decadence, от позднелат. decadentia – упадок). Насколько удалось выяснить литературоведам, первым использовал понятие «декаданс» в 1869 г. относительно искусства слова французский поэт Теофиль Готье (в предисловии к переизданию книги Шарля Бодлера «Цветы зла»).
В 1883 г. в стихотворении Поля Верлена «Томление» прозвучало: «Я – римский мир периода упадка…» (в пер. Б. Пастернака).
В 80-е же годы XIX в. понятие «декаданс» входит в широкий искусствоведческий и литературоведческий оборот во многом благодаря появлению во Франции журналов «Декаданс» и «Декадент». На первых порах оно почти отождествляется с термином «символизм». В частности, о том, что слово «декадент» следует понимать как слово «символист», было заявлено французским поэтом Гюставом Каном.
Очень скоро, однако, выяснилось, что искусство декаданса не тождественно ни символизму, ни какому-либо иному литературно-художественному направлению, что по своей эстетической природе оно в высшей степени сложно и многосоставно. Постепенно в критике и научных исследованиях по вопросам искусства рубежа XIX–XX вв. сложилось мнение, согласно которому декаданс – вовсе не направление, не метод, не стиль в традиционном литературоведческом понимании, а определенное мировосприятие, совокупность специфических настроений и ощущений «конца века»: тоски, меланхолии, бесконечной усталости от жизни, безнадежности, неприятия действительности, «заката», «влечения к упадку», что у многих сопровождалось своеобразным нарциссизмом. «Виртуозами боли» назовет французский поэт Поль Бурже авторов, чье творчество было отмечено подобными настроениями.
Ницше усматривал абсолютную формулу декаданса в христианстве; в Христе же с его смирением видел своего рода идеал декадента. Очень распространенным в Европе стало так называемое «бегство в Богему» (фр. Vie de Boheme – жизнь богемы). Одним из первых литературных произведений, получивших наименование «декадентского», считается нашумевший роман Ж. – К. Гюисманса «Наоборот» (1884), показавший со всей очевидностью, чем декаданс «был на самом деле, – не характеристикой одного журнала, не признаком одной литературной школы или группы писателей, а мировоззрением, образом мысли и образом жизни, эстетикой и поэтикой в одно и то же время» (2, 202). Несмотря на эклектизм декаданса, на его внутреннюю аморфность, следует тем не менее подчеркнуть, что все связанные с ним литературные направления противостоят реалистическому методу в изображении действительности.
Не являясь собственно стилем, декаданс в то же время отразился и на стилевой палитре многих писателей как тенденция к фрагментарности произведения, к исчезновению в нем непосредственности чувств и привнесению искусственно рафинированной чувственности, в склонности повествователя к рефлексии, к сосредоточенности на человеке частном, на что знатоки литературы обращали внимание уже в конце XIX в. «Я» становится основным топосом действия, но одновременно и той субстанцией, которая анализируется тщательнейшим образом, иногда на грани клинического исследования. Тот же П. Бурже писал: «Стиль декаданс начинается там, где единство книги распадается, чтобы уступить место независимости страницы, где страница распадается, чтобы уступить место независимости фразы, а фраза – чтобы уступить место независимости слова».
Показательно, что Ф. Ницше, характеризуя в работе «Казус Вагнер» (1888) знаменитого автора музыкальных драм как «типичного decadent», относительно «вопроса стиля» почти дословно повторяет суждение Бурже: «Чем характеризуется всякий литературный decadence? Тем, что целое уже не проникнуто более жизнью. Слово становится суверенным и выпрыгивает из предложения, предложение выдается вперед и затемняет смысл страницы, страница получает жизнь за счет целого – целое уже не является больше целым. Но вот что является образом и подобием для всякого стиля decadence: всякий раз анархия атомов, дисгрегация воли, «свобода индивидуума», выражаясь языком морали… Всюду паралич, тягость, оцепенение или (курсив везде автора. – Е.Л.) вражда и хаос… Целое вообще уже не живет более: оно является составным, рассчитанным, искусственным, неким артефактом». В «Ecce Homo» Ницше назовет decadents слабыми, не способными к познанию, а их идеал определит как «бегство от реальности».
Изложенная Ницше в «Рождении трагедии из духа музыки» концепция искусства как «высшего достоинства, ибо только как эстетический феномен бытие и мир оправданы в вечности», эхом отзовется в творчестве многих авторов, скажется на размежевании ими этического и эстетического, знания и наслаждения. Белорусский ученый В. Конон, констатируя свойственный рубежу XIX–XX вв. «кризис традиционных ценностей – генетически связанных с христианством и ренессансным гуманизмом представлений о добре и красоте как гармонии материальных и духовных сторон жизни, как единстве личности и общества, художника и народа», совершенно справедливо говорит о характерной для декадентов «концепции абсолютной автономности и самоценности искусства» (3, 401).
Никогда ранее не были столь привлекательными для художественного слова феномены красоты и одновременно упадка, смерти; красоты в парадоксальном соединении со смертью, даже красоты смерти, искушения смертью, ее болезненного приятия. У многих, в том числе русских и белорусских поэтов, прозвучат мотивы угасания, увядания. Белорусский поэт Максим Богданович назовет один из поэтических циклов своего «Венка» «Любовь и смерть», а в качестве эпиграфа к одному из стихотворений использует строки А. Пушкина: «Цветы последние милей / Роскошных первенцев полей», но его собственная образность неизмеримо трагичней, а драма природы и драма человеческой жизни подчеркнуто слиты.
Чтобы убедиться в типичности подобных настроений, достаточно вспомнить слова Н. Бердяева о «непреодолимом уклоне» культуры «к упадку, к декадансу, к истощению», об отделении ее «от своего жизненного, бытийственного источника». «Тогда, – говорит он в статье «Кризис искусства», – наступает эпоха поздней культуры упадка, самой утонченной и прекрасной культуры. Это – красота отцветания, красота осени…» Еще более катастрофичны видения русского символиста Федора Сологуба: «…один только Я во всей вселенной, волящий, действующий, страдающий, горящий на неугасимом огне, и от неистовства ужасной и безобразной жизни – спасающийся в прохладных и отрадных объятиях вечной утешительницы – Смерти».
Совершенно необходимо, однако, осознавать, что между декадансом как мирочувствованием, отмеченными им литературно-художественными направлениями и конкретными авторами существовала непростая система взаимосвязей – притяжения, но и отталкивания, отрицания. Латинское выражение homo duplex (человек двойственный) отнес к Верлену его первый биограф Шарль Морис (характерное заглавие даст сам Поль Верлен одной из своих книг: «Параллельно»), но то же самое можно с полным основанием сказать о каждом, кого (с легкой руки Верлена) называли «проклятыми поэтами» или «ужасными детьми» (enfant terrible – так определит себя самого Сэмюэл Батлер). Эта двойственность мышления найдет воплощение прежде всего в художественном творчестве – и западных писателей, и русских, и белорусских, и других.
Например, у белорусского поэта М. Богдановича есть немало стихотворений, пронизанных безграничной тоской и болью, но писались они отнюдь не с намерением увеличить число сторонников декаданса как «новой веры», а с целью прямо противоположной – исцеления человека через правду о нем самом, о времени и мире, какой бы неприглядной эта правда ни была («И ядами болезни лечат»). На эту особенность поэзии М. Богдановича обращали внимание и некоторые русские исследователи, в частности, Генрих Митин: «Поэзия всегда – песнь о земле и небе, разрушение этой связи (в любую сторону) оборачивается антипоэзией, но такое случается даже у гениальных поэтов. Во времена Серебряного века русской поэзии «небо» заявило о себе с новой силой и в философии, и в прозе, но это вызвало в поэзии яростную ответную реакцию – явились демонстративно-земные, внерелигиозные и богоборческие поэты. Даже высоко духовные певцы с каким-то сладким ужасом бросались в пропасть бездуховности. Может быть, только один Максим Богданович… сумел сохранить нерушимую связь между землей и небом, писал о земной любви, за которую не стыдно перед Господом. Его по-лермонтовски короткий путь… поражает редкостной эстетической восприимчивостью и духовной независимостью. А ведь его учитель, блестящий Валерий Брюсов, прошел свой путь без Христа и без креста…» (4, 28).
Разумеется, трагическое мировосприятие, по определению, не может быть показателем одной-единственной эпохи – всякое время преподносит человеку и человечеству свои испытания. Отсюда закономерно следует, что и декаданс как мироощущение – явление повторяющееся, хотя, безусловно, каждый раз модифицированное, в данном случае – в соответствии со спецификой fin de siecle («конца века»). Не удивительно, что термины «декаданс», «декадентство» иногда прилагают к самым разным эпохам. В художественном сознании Верлена, как мы помним, всплывает «римский мир периода упадка»; Ницше обнаруживает абсолютную формулу декаданса в христианстве; современник и соотечественник Ф. Кафки, писатель Макс Брод, соотносит декаданс с Гофманом, По, Бодлером и другими: «А у подлинных декадентов, например, у Э.Т.А. Гофмана и других… властителей ночной стороны жизни, чувствуется чуть ли не восторг от пребывания в состоянии страха и слабости, странное удовлетворение, попустительство, с каким они ужасаются упадку и гибели…» (5, 342).
Тем не менее, думается, широко манипулировать понятием «декаданс» можно только условно-метафорически; в историко-литературном смысле оно все же закрепилось за рубежом XIX–XX вв., или «концом века» (стоит учитывать, что и само понятие «конец века» давно приобрело статус эстетико-философской категории). Поэтому совершенно закономерным и оправданным представляется объяснение «декадентства» как общего наименования кризисных явлений именно конца XIX – начала XX в.
Мироощущение декаданса отразилось в таких направлениях, как символизм, импрессионизм, эстетизм – бесспорно, с существенными коррективами на ту или иную национальную литературу и личность конкретного художника. В определенном смысле соприкасается с декадансом и натурализм. Большинство писателей рубежа веков синтезировали в своем творчестве элементы разных художественных систем, в том числе противоположных декадансу – реализма и неоромантизма, часто выходя при этом за рамки собственных же эстетических деклараций.
Источники
1. Литературная история Соединенных Штатов Америки: В 3 т. Т. 3. М., 1979.
2. АндреевЛ.Г. Импрессионизм. М., 1980.
3. Конан У.М. Дэкадэнцтва // Энцыклапедыя л1таратуры i мастацтва Беларуа: У 5 т. Т. 2. Мшск, 1985.
4. Митин Г. Лилия на болоте // Русский курьер. 1992. № 8.
5. Макс Брод о Франце Кафке. СПб., 2000.
Натурализм
Определение «натурализм» во 2-й половине XIX в. было настолько распространенным, что выяснить со всей определенностью его авторство сегодня вряд ли возможно. По одной из версий, это понятие ввел в обиход в 1863 г. критик Кастаньяри по отношению к новой генерации французских живописцев, которых спустя десяток лет назовут импрессионистами. В начале 1860-х годов термина «импрессионизм» еще не существовало, а необходимость в новом понятии в связи с появлением новой живописи – была. Правда, самим художникам (Э. Мане и его единомышленникам) наименование «натуралисты» не очень импонировало. Зато его горячо воспринял Эмиль Золя, который соотносил это название и с деятельностью друзей-живописцев, и со своими собственными литературными устремлениями.
Тогда, в самом начале бытования понятия, в него вкладывали иное, чем это будет позднее, содержание. Согласно Кастаньяри, натурализм принимает «все реальности видимого мира и в то же время все пути познания этих реальностей», дает художнику свободу, не сковывает его индивидуальность. И Золя еще отнюдь не провозглашал отторжение автора от изображаемой жизни, художническое бесстрастие и невмешательство в ход повествуемых событий. В статье «Прудон и Курбе» (1865) он, в частности, писал: «Предмет или человек, которых изображают, являются лишь предлогом; гениальность заключается в том, чтобы представить этот предмет или человека в новом виде, более правдивом или более возвышенном. Что касается меня, то меня трогают не дерево, не лицо, не предложенная мне сцена. Меня трогает художник, которого я вижу в этом произведении, могучий индивидуум, оказавшийся в состоянии создать, наряду с божьим миром, свой собственный мир, мир, который глаза мои не смогут забыть и который они узнают везде». Как известно, доминанта эстетического кредо Золя в скором времени кардинально изменится, и имя великого французского прозаика и теоретика литературы будут связывать с натурализмом совершенно иного рода, тем не менее отчетливо импрессионистскими чертами будет отмечено, в сущности, все его творчество.
Необходимо заметить, что натуралистские тенденции (в сегодняшнем, традиционном их понимании наукой о литературе) имели место и в предшествующих культурных эпохах: в частности, ученые говорят о натурализме позднего Средневековья, «барочном натурализме» и т. д. Иногда встречается понятие «натуралистичность», несущее в себе оттенок подчиненности натуралистских признаков какому-то иному – основному – художественному методу (кстати, понятие «метод», позднее приобретшее статус важной литературоведческой категории, вошло в обиход благодаря именно натуралистам). Натуралистские черты действительно свойственны творчеству многочисленных авторов – от античных до современных; не случайно Золя утверждал, что натуралистское движение существовало всегда.
Как литературное направление, т. е. совокупность изобразительно-выразительных и эстетико-мировоззренческих принципов, натурализм (фр. naturalisme, от лат. natura – природа) сложился во 2-й половине XIX в., причем художественные произведения, соответствующие этим принципам, появились раньше и их теоретической разработки, и самого понятия. В зависимости от времени развития различают натурализм ранний (1850—1870-е годы) и поздний (1880—1890-е годы).
Философской основой натурализма послужил позитивизм (от лат. positivus), изложенный в трудах французского ученого О. Конта, английского – Г. Спенсера и их многочисленных последователей. Единственный подлинный источник знаний позитивисты видели в конкретных (эмпирических) науках, призванных давать только чистое описание фактов. Абстрактные рассуждения, философские умозаключения как средства постижения человека и мира во внимание не принимались. Большую роль в формировании натурализма сыграли достижения в сфере естественных наук – биологии, физиологии и т. п. Весьма популярными в писательской среде были труды Ч. Дарвина «Происхождение видов», французского медика К. Бернара «Введение в экспериментальную медицину» и др. Открытые этими учеными законы природы проецировались художниками-натуралистами на социальную жизнь. В своей программной статье «Экспериментальный роман» (1879) Золя декларировал: «…я… во всех пунктах буду опираться на Клода Бернара. Для того, чтобы мысль моя стала более ясной и имела строгий характер научной истины, мне часто достаточно будет слово «врач» заменить словом «романист»».
Главное внимание придавалось описанию «кусков жизни» во всех ее подробностях (по воспоминаниям С.Л. Толстого (1, 39), Лев Толстой с большим интересом читал произведения Золя, но «считал его реализм преднамеренным», а описания чересчур детальными: «У Золя едят гуся на двадцати страницах, это слишком долго…»). Объективное начало постулировалось и в крайних своих проявлениях перерастало в копирование; субъективное же, личностное начало, привносящее в повествование оценочный элемент, считалось неприемлемым. Отвергались такие качества, как отбор событий, типизация, свойственные реализму. Поведение и поступки людей не анализировались всесторонне, а мотивировались «физиологией», наследственностью, трактовались как проявления «биологического закона». Констатировалось решающее влияние среды. Автор должен был самоустраняться от какой бы то ни было оценки и вообще стремиться к тому, чтобы у читателя оставалось впечатление художнической бесстрастности. Согласно Золя, писателю-натуралисту не требуется фантазия, его мало занимают фабула, экспозиция, завязка и развязка, он «не вмешивается в натуральный ход событий, не стремится ничего выбросить или добавить к действительности», он «всего лишь регистратор фактов, он остерегается давать оценки и делать выводы». «Таким образом, – заключал Золя, – писатель-натуралист, как и ученый, никогда не присутствует в своем произведении». Совершенно очевидно, насколько все это далеко от прежнего представления Золя о художнике как о «могучем индивидууме», творящем «свой собственный мир».
Большую роль в становлении эстетики натурализма сыграли работы французского философа и теоретика литературы И.А. Тэна («История английской литературы», «Философия искусства» и др.), основные же ее принципы изложены Золя. Так, в уже цитированной статье «Экспериментальный роман» он писал: «… я пришел к следующим выводам: экспериментальный роман (читай: натуралистский. – Е.Л.) есть следствие научной эволюции нашего века; он продолжает и дополняет работу физиологии, которая сама опирается на химию и физику; он заменяет изучение абстрактного, метафизического человека изучением человека подлинного, созданного природой, подчиняющегося действию физико-химических законов и определяющему влиянию среды; словом, экспериментальный роман – это литература, соответствующая нашему веку науки, так же как классицизм и романтизм соответствовали веку схоластики и теологии». И далее: «Экспериментальный метод в физиологии и в медицине служит определенной цели: он помогает изучать явления, для того чтобы господствовать над ними… Мы стремимся к той же цели, мы тоже хотим овладеть проявлениями интеллекта и других свойств человеческой личности, чтобы иметь возможность направлять их. Одним словом, мы – моралисты-экспериментаторы, показывающие путем эксперимента, как действует страсть у человека, живущего в определенной социальной среде. Когда станет известен механизм этой страсти, можно будет лечить от нее человека, ослабить ее или, по крайней мере, сделать безвредной. Вот в чем практическая полезность и высокая нравственность наших натуралистических произведений, которые экспериментируют над человеком, разбирают на части и вновь собирают человеческую машину… Я говорил лишь об экспериментальном романе, но я твердо убежден, что самый метод, уже восторжествовавший в истории и в критике, восторжествует повсюду – в театре и даже в поэзии. Это неизбежная эволюция. Что бы ни говорили о литературе, она тоже не вся в писателе – она также и в натуре, которую он описывает, и в человеке, которого он изучает… Метафизический человек умер, все наше поле наблюдений преобразилось, когда на него вступил живой человек, интересный и для физиолога».
Характерно, что во многом отличаются друг от друга не только разнонациональные варианты натурализма, но и натуралистские школы внутри одной национальной литературы. Если, к примеру, представители мюнхенской школы в Германии зарекомендовали себя почти безоговорочными последователями Э. Золя, то натуралисты берлинской школы принимали далеко не все его положения. Высоко оценивая художественное творчество французского писателя, они в то же время не были в восхищении от его теории. Основная претензия касалась изгнания из литературы идеального, духовного, «правды в высшем смысле слова», в результате чего роман или рассказ приобретал тенденциозность, превращался в «протокол научного эксперимента» или «учебник патологии». «Тот, кто раболепно копирует действительность, не художник, а всего лишь фотограф», – говорилось в одном из их манифестов. «А имеем ли мы право обвинять судью, вынужденного вести «грязный процесс»? – возражали «мюнхенцы». – Обвинять Золя – значит обвинять мир, который он выносит на суд нашей совести», – мир инстинктов, темных страстей и грязных преступлений.
Некоторые немецкие натуралисты пошли даже дальше французских. Так, известные практики и теоретики «последовательного натурализма» Арно Хольц и Иоганнес Шлаф объявили, что «искусство имеет тенденцию снова стать природой», оно «не может быть ничем иным, кроме как повторением действительности». Кстати, если не в случае с французской, то в случае с немецкой литературой надежды Золя на натуралистскую поэзию оправдались: в то время как в других национальных литературах натурализм нашел воплощение преимущественно в прозе и драматургии, в немецкой он достаточно активно заявил о себе и в поэзии. Мир представал в ней раздробленным на отдельные элементы, фрагментарным, часто уродливым; изображаемому же миру должна была, по мнению авторов, соответствовать и форма поэтического произведения – неприглаженная, «непричесанная». Поэтический язык подвергался ощутимой прозаизации, а иногда и совмещался с собственно прозой, отсутствовали рифма, мелодика, строфическое деление, преобладали свободные ритмы. Получил распространение так называемый секундный стиль, предусматривавший широкое использование в художественной речи, в том числе поэтической, диалектизмов и жаргонизмов, просторечных слов, звукоподражаний, педантичную фиксацию индивидуальных речевых особенностей, включая дефекты и даже патологию произношения. «Уже пользовались, правда, подзорной трубой, – писал А. Хольц, – но еще не пользовались микроскопом».
Образцами литературного натурализма являются, например, романы «Жермини Ласерте» (1865) французских писателей братьев Гонкур (они определяли свое произведение как «клинический анализ Любви») и «Тереза Ракен» (1867) Золя, пьеса немецкого драматурга Герхарта Гауптмана «Перед восходом солнца» (1889). Пожалуй, именно роману Золя «Тереза Ракен» натурализм был обязан подлинным своим (хотя и скандальным) успехом. Критика встретила роман, по словам Золя, «яростным, негодующим воем». Зато уже в следующем году состоялось второе издание, в предисловии к которому автор окончательно объяснился как с многочисленными недоброжелателями, так и с еще не многочисленными почитателями: «В «Терезе Ракен» я поставил перед собой задачу изучить не характеры, а темпераменты. В этом весь смысл книги… я ставил перед собою цель прежде всего научную… Я просто-напросто исследовал два живых тела, подобно тому как хирурги исследуют трупы».
Весьма влиятельное направление 2-й половины XIX в., натурализм, при всех его крайностях, немало сделал, по выражению А. Хольца, «для обновления языковой крови» (das Sprachblut). Натуралисты с обостренным интересом относились к конкретно-индивидуальному, стремились по-своему выяснить истоки, корни, причинно-следственные связи явлений, расширили проблематику искусства, демократизировали темы и героя. Нередко синтезируя в своих произведениях натурализм с реалистическими тенденциями, с элементами импрессионизма и даже неоромантизма (как это было, например, у Золя), они придавали картинам действительности неповторимый облик; ввели в художественную практику новые технические приемы, прочно закрепившиеся в литературном арсенале (монтаж, гипертрофия детали, чередование массовых сцен с индивидуализированными характеристиками и др.). Широко использовали натуралисты документы и реальные факты, внесли свой вклад в развитие аналитического романа, очерка и других жанров и жанровых форм.
Как ни парадоксально, натурализм имеет много общего с импрессионизмом. Прежде всего это типологическая связь с реализмом, ибо во всех трех случаях искусство отталкивается от объективной реальности, соотносится с действительностью. Как натуралисты, так и импрессионисты не задавались целью обобщения, отбора фактов или впечатлений. Не случайно в пору травли художников-импрессионистов в их защиту одними из первых выступили писатели-натуралисты (Э. Золя, братья Гонкур и др.).
К художникам слова, на чье творчество сильное воздействие оказал натурализм, относят, кроме вышеназванных, французского писателя Ж.К. Гюисманса, бельгийского – К. Лемонье, английских – Дж. С. Элиот, Дж. Гиссинга, американских – Ф. Норриса, С. Крейна, Х. Гарленда (последних называли «разгребателями грязи»). Натуралистские тенденции дали о себе знать у итальянских веристов (итал. verismo, от vero – правдивый) – Дж. Верги и др., в творчестве французских писателей Г. Флобера и Г. де Мопассана, норвежских – Г. Ибсена, К. Гамсуна, шведского – А. Стриндберга, русских – А. Писемского, Д. Мамина-Сибиряка, П. Боборыкина, А. Серафимовича, Б. Пильняка, белорусских – Т. Гартного, М. Зарецкого, К. Чорного и др.
Что касается немецкоязычных литератур, то в австрийской натурализм не нашел широкого распространения; в Германии же его влияние испытали на своем творчестве (помимо уже названных А. Хольца, И. Шлафа, Г. Гауптмана) Герман Зудерман, Макс Кретцер, Вильгельм фон Поленц, Отто Эрих Хартлебен, Рихард Демель, Детлеф фон Лилиенкрон и др.
Некоторые черты натурализма найдут развитие в ряде авангардистских направлений XX в. (экспрессионизме, школе «потока сознания», «психологической школе», сюрреализме, «театре абсурда», «новом романе») в творчестве таких немецких писателей, как Генрих Манн, Бертольд Брехт, Эрих Мария Ремарк, Альфред Дёблин, Гюнтер Грасс и др., у многих представителей других национальных литератур.
Источники
1. Толстой С.Л. Очерки былого. М., 1956.
Символизм
Одним из наиболее значительных литературных направлений, получивших развитие во 2-й половине XIX – начале XX в. в русле декаданса, стал символизм. Его художественная практика складывается во французской литературе уже в 60-х годах XIX в., тогда как теоретико-эстетическая разработка приходится в основном на последующие десятилетия.
15 мая 1871 г. Артюр Рембо обращается к поэту-соотечественнику Полю Демени с известным письмом, в котором излагает концепцию поэтического искусства, основанного на «ясновиденьи». В 1880 г. Стефан Малларме открывает в своем доме литературный салон, где по вторникам молодые поэты-единомышленники горячо обсуждают возможные пути обновления французской литературы. Ряд программных стихотворений, включая «Искусство поэзии», а также серию очерков «Проклятые поэты» (посвященных Корбьеру, Рембо, Малларме и др.) печатает в 1882–1883 гг. Поль Верлен. 70-е – начало 80-х годов и были первым этапом становления символизма как литературного направления.
С середины 80-х годов выходят из печати многочисленные символистские манифесты, первые из которых – «Трактат о Слове» Рене Гиля с предисловием Малларме и «Литературный манифест. Символизм» Жана Мореаса (оба в 1886 г.); одновременно активизируется издание сборников символистской поэзии (второй этап). С конца 80-х и в течение 90-х годов (третий этап) эстетические искания символистов переживают настоящий апогей: выходят статьи-манифесты Эрнеста Рейно «О символизме» (1888), Жоржа Ванора «Символистское искусство», Жана Тореля «Немецкие романтики и французские символисты», Шарля Мориса «Литература нынешнего дня» (все в 1889 г.) и др. В 1891 г. под председательством Малларме состоялась шумная презентация очередной поэтической книги Мореаса; лояльность по отношению к новому направлению продемонстрировал в одной из своих статей общепризнанный лидер академической критики Фердинанд Брюнетьер, Жюль Юре опубликовал 64 посвященных символизму и получивших широкий резонанс интервью с французскими и бельгийскими писателями.
Основой символистской концепции искусства послужило, как известно, учение Платона о противопоставленных друг другу «мире идей» и «мире вещей». Первый, по мнению древнегреческого философа, и является истинным, вечным, не зависящим от пространства и времени, второй же, материальный, тождествен небытию и представляет собой лишь отражение первого, причем нередко искаженное. Определенное влияние на символистскую эстетику оказали идеи немецких философов Артура Шопенгауэра, Фридриха Ницше, а также открытия психологов и психофизиологов, проявлявших растущее внимание к подсознательному, к трудно улавливаемым душевным состояниям и «вибрациям». Объективно же символизм был отрицанием позитивизма и натурализма как его художественного преломления.
Основную задачу искусства символисты усматривали в постижении «мира идей», в выражении духовно-душевного, осуществляемом посредством символа (фр. symbolisme, от греч. symbolon – символ, условный знак). Именно символ (о чем свидетельствует само наименование направления) играл определяющую роль в художественной системе символизма. «В жизни символиста все – символ. Не-символов – нет…», – напишет позднее Марина Цветаева. При этом символ не был, как известно, открытием писателей-символистов, и обращались к нему не только они. Сколько существует искусство, столько существует символ, его особая функция в любом произведении обусловлена самой природой художественного образа. Образами-символами насыщены Библия, античная и любая национальная мифология, символической образностью пронизаны устное народное творчество, памятники древней литературы. Заметим, однако: образностью символической, но – не символистской.
Знаменитый немецкий философ И. Кант основным признаком символического считал «представление по одной только аналогии»; символ он определял как «косвенное изображение по аналогии», «перенесение рефлексии с предмета созерцания на совершенно другое понятие, которому, вполне вероятно, созерцание никогда не сможет прямо соответствовать» (1, 373–375). В чем же заключается кардинальное отличие традиционного понимания символа от его понимания символистами? Согласно традиции, «всякий символ есть образ (и всякий образ есть, хотя бы в некоторой мере, символ)… Переходя в символ, образ становится «прозрачным»; смысл «просвечивает» сквозь него, будучи дан именно как смысловая глубина, смысловая перспектива» (2, 378).
Говорить же о «прозрачности», конкретности символистского символа отнюдь не приходится. «На место художественного образа, определенно выражающего одно значение, они поставили художественный символ, таящий в себе много значений», – указывал один из русских символистов В. Брюсов. В работе «Ключи тайн» он утверждал: «Для кого все в мире просто, понятно, постижимо, тот не может быть художником. Искусство только там, где дерзновение за грань, где порывание за пределы познаваемого…» И далее: «Пусть же современные художники сознательно куют свои создания в виде ключей тайн, в виде мистических ключей, растворяющих человечеству двери из его «голубой тюрьмы» к вечной свободе».
Символ у символистов полисемичен; помимо обозначения определенного явления или предмета, он одновременно сублимирует эмоциональные реакции на них автора и лирического героя, их переживания и ощущения, стремится к абстрагированию предметного мира, к постижению непостижимого, невыразимого, неких таинственных «сущностей» бытия. «Символ только тогда истинный символ, когда он неисчерпаем и беспределен в своем значении… – писал Вяч. Иванов. – Он многолик, многосмыслен и всегда темен в последней глубине. Вместе с этим символ архетипичен по своей сути, так как является переживанием «забытого» и утерянного достояния народной души». Не удивительно, что именно в такой своей ипостаси символ виделся бельгийскому писателю-символисту Эмилю Верхарну «самым высоким и самым духовным проявлением искусства». Иное дело, что истолковать символистское произведение нелегко и до конца, пожалуй, невозможно по определению, ибо каждый содержащийся в нем символ несет свои смыслы, как говорил французский поэт и критик Анри де Ренье, «так же неявно, скрыто, как дерево несет зародыш будущего плода». Символистский символ – подвижный, незавершенный, открытый для новых прочтений, едва ли не бесконечный в своих оттенках и нюансах – не показывает, а подсказывает, не называет и не анализирует, а, подобно музыке, навевает идеи и чувства, создает определенное настроение.
Таким образом, неотъемлемым атрибутом символистской поэтики становится обращенная прежде всего к интуиции читателя техника намека, суггестия (фр. suggerer – внушать, подсказывать, от лат. suggestio – намек, внушение). «Назвать предмет, – писал Малларме, – значит на три четверти разрушить наслаждение от стихотворения – наслаждение, заключающееся в самом процессе постепенного и неспешного угадывания; подсказать с помощью намека (курсив автора. – Е.Л.) – вот цель, вот идеал. Совершенное владение этим таинством как раз и создает символ; задача в том, чтобы, исподволь вызывая предмет в воображении, передать состояние души или, наоборот, выбрать тот или иной предмет и путем его медленного разгадывания раскрыть состояние души». Через суггестию озвучиваются все составляющие действительности – Бог, природа, человек, искусство. Не случайно своим предшественником не только французские, но позднее и немецкие символисты считали Шарля Бодлера, автора знаменитой книги стихов «Цветы зла» (1857); уже он наивысшее мастерство поэта, мудрое владение языком находил в «суггестивной магии», когда «сливаются объект с субъектом, внешний мир с самим художником».
Именно на языке суггестии, считали символисты, осуществляется извечный закон художественного языка – закон соответствия звука, цвета, запаха, образа. «Цвет, вкус, запах – все это в конечном счете есть не что иное, как различные виды колебания материи, – утверждал Э. Рейно. – Когда ее движение принимает то или иное конкретное направление, возникает та или иная конкретная форма…» Творимые художником эстетические формы «выражают тему при помощи соответствий (курсив автора. – Е.Л.). Запахи, цвета, звуки перекликаются между собой… Любой психический или физиологический феномен имеет соответствие в потенциальном или воплощенном небесном прообразе. Течение реки соответствует течению чьей-либо судьбы, заходящее солнце – чьей-то меркнущей славе…»
О том же, в сущности, пишет в своем манифесте Ж. Ванор: «Для этой литературы характерны прежде всего метафоры и аналогии; она ищет сродство внешне различных явлений. Именно поэтому она так часто ошарашивает неискушенных читателей, говоря о звучании запаха, цвете ноты, аромате мысли». Р. Гиль в статье «Познание творчества» (1891) пишет о «цветовом слухе, то есть о цвете Звуков», о «словах-мелодиях», «языке-музыке», о соответствиях между «вокальными тембрами» и «строем чувств или мыслей». Что касается Ш. Мориса (в письме к которому от 15 декабря 1882 г. Верлен отстаивал свое художническое право на «Нюанс» и «Музыку»), он вообще видел предназначение современного поэта в том, чтобы «служить Евангелию Соответствий и Закону Аналогий». «Искусство, – полагал он, – восходит к своим первоистокам: изначально единое, оно обретает это единство вновь, и Музыка, Живопись и Поэзия, три преломления единого луча, все больше стремятся сойтись друг с другом, дабы слиться в общей конечной точке, как когда-то из общей точки разошлись».
Теория и практика (включая и принцип «соответствий») французских символистов явилась безусловным результатом творческой рецепции идей их непосредственного предшественника Бодлера с его известным стихотворением «Соответствия». Оно было воспринято как «основополагающее учение», как «вероисповедание новой поэтической школы»; по словам Вяч. Иванова, Бодлер сумел постичь «реальную тайну природы», основанную на соответствиях и созвучиях того, что непосвященному представляется разъединенным и несогласным.
Закон «соответствий» значил для Бодлера больше, чем эстетический принцип или один из многих художественных приемов. По сути, в нем нашла выражение определенная философия, согласно которой материальное и духовное не автономны, соприкосновения и переклички разных видов искусства свидетельствуют о действии глубинного и универсального закона «всеобщей аналогии», о духовном состоянии эпохи, когда искусства «стремятся если не подменить друг друга, то хотя бы придать друг другу новую мощь». Стоит заметить, однако, что для Бодлера главными оставались пластические образы, звуки же и запахи образовывали для них своеобразный аккомпанемент.
Бодлеровская концепция «соответствий» в свою очередь восходит к романтизму. Посредником между немецкими романтиками и Бодлером был, без сомнения, Рихард Вагнер, чьи музыкальные драмы пользовались во Франции середины XIX в. огромной популярностью. Бодлер и сам признавал существенное влияние на себя Вагнера с его стремлением к созданию Gesammtkunstwerk (универсального, или тотального, произведения искусства), с его призывом «к слиянию художественных энергий в синтетическом искусстве, которое должно вобрать в свой фокус все духовное самоопределение народа…»
Придание символистами большого значения звуку, звучанию закономерно, поскольку многие поэты воспринимали музыкальность как средство воплощения всего разнообразия оттенков проникновенно-интимного, чарующе-трепетного голоса, принадлежащего одному-единственному человеку и идущего из глубин его души, а с его смертью бесследно и безвозвратно исчезающего. Крик птицы, заблудившейся в лесной чаще, повторяется, считал Теофиль Готье, и разбитый Страдивариус может быть воссоздан; не повторяется только человеческий голос. Пожалуй, одни символисты обладали магическим искусством воплощения «голоса души»; вызванные ими к жизни образы не могли не быть музыкальными, ибо именно в музыке дух и сознание максимально сближаются и идеально передают непостижимую тайну сущего.
Однако слово у символистов не только излучает музыку; оно, согласно принципу соответствий, живописует, доносит тончайшие движения в физическом и метафизическом понимании – танец ветра и воспарение мысли, полет снежинок и игру смыслов. Все это не было самоцелью: символисты, вслед за романтиками (Вакенродером, Новалисом и др.), стремились вернуть поэзии сакральную целостность, свойственную древнему искусству, засвидетельствовать слияние пространственного и временного, сознательного и подсознательного, повседневного и бытийно-вечного. В сущности, именно из «синтетических устремлений» (Н. Бердяев) исходили символисты в своих эстетических исканиях, а их художественная практика стала «до конца осуществленным синтезом» (А. Белый).
Необходимо при этом размежевывать проявления этого феномена у романтиков, с одной стороны, и у символистов – с другой. Теми же немецкими романтиками-натурфилософами синтез расценивался как путь к культурному универсуму, в котором произойдет диффузия, взаимопроникновение, слияние пластического, живописного, вербального искусств и, в результате, возникнет общая художественная стихия. Очевидно, романтики сознательно и целенаправленно стремились к синкретизму.
Символизм же – это тоска об утраченном единстве, жажда единства и, одновременно, ясное осознание его невозвратимости. «И затосковал человек в своем творчестве, – писал Н. Бердяев, – по органичности, по синтезу, по религиозному центру, по мистерии». Символистский синтез основывался уже на ином принципе: цели одного искусства достигаются средствами другого искусства. «Романсы без слов» – демонстративно дерзко назовет свою поэтическую книгу Поль Верлен. Информативная функция слова уступает место функции музыкальной, живописной; единство, слияние, универсальность заменяются полифонией. Не случайно символизм в художественной практике французских, немецких и других поэтов очень часто соединяется с импрессионизмом.
Ж. Мореас (изобретатель термина «символизм») предложил следующее развернутое определение символистской поэзии: это «враг поучений, риторики, ложной чувствительности и объективных описаний; она стремится облечь Идею в чувственно постижимую форму, однако эта форма – не самоцель, она служит выражению Идеи, не выходя из-под ее власти… Картины природы, человеческие деяния, все феномены нашей жизни значимы для искусства символов не сами по себе, а лишь как осязаемые отражения перво-Идей, указующие на свое тайное сродство с ними». «Символистскому синтезу, – считал Ж. Мореас, – должен соответствовать особый, первозданно-всеохватный стиль»: использование старинной метрики, александрийский стих, чередование рифмы четкой с зыбко-невнятной, многозначительные повторы, умолчания, непривычные словообразования, обращение к верлибру (фр. vers libre; термин «верлибр» ввел в обиход поэт-символист Гюстав Кан) и др.
В начале 1890-х годов символизм во Франции еще остается популярным и влиятельным, но все ощутимее размывается другими художественными явлениями, все менее отчетливы его границы; после смерти признанного мэтра символистов Стефана Малларме в 1898 г. символистское движение окончательно распалось. Конец 90-х годов XIX – начало XX в. во французской литературе принято определять уже как период постсимволизма, отмеченный, с одной стороны, крайностями эпигонства, с другой – поисками выхода за пределы давно устоявшейся эстетики.
Зато новое дыхание символизм обретает в других национальных литературах, в разной степени воплотившись в бельгийской (Эмиль Верхарн, Морис Метерлинк), австрийской (Гуго фон Гофмансталь, Райнер Мария Рильке), немецкой (Стефан Георге, Герхарт Гауптман), норвежской (Генрик Ибсен), русской (Федор Сологуб, Валерий Брюсов, Александр Блок, Константин Бальмонт, Андрей Белый, Вячеслав Иванов, Владимир Соловьев, Дмитрий Мережковский, Максимилиан Волошин), белорусской (Максим Богданович, ранний Янка Купала) и др.
Источники
1. Кант И. Сочинения: В 6 т. Т. 5. М., 1966.
2. Аверинцев С.С. Символ // Литературный энциклопедический словарь. М., 1987.
Импрессионизм
Давно замечено: «нового стиля» не бывает, он всегда «стар» в том смысле, что в совокупности самых выразительных, наиболее характерных своих признаков, в своем соответствии содержанию эпохи и, главное, в сопоставлении с традицией может быть выявлен только с достаточно протяженной временной дистанции. Возможно, в целом суждение и не бесспорное, однако в отношении литературного импрессионизма, несомненно, справедливое: представители этого направления будут творчески осваивать эстетические открытия импрессионистов-живописцев.
Начало импрессионизма (от фр. impression – впечатление) в живописи принято связывать с громким событием середины апреля 1874 г. – открытием в Париже первой выставки художников «Анонимного сообщества живописцев, скульпторов и граверов», которые объединились вокруг Э. Мане (К. Моне, Э. Дега, К. Писсаро, Э. Буден, О. Ренуар, Ф. Базиль, А. Сислей, Б. Моризо). Спустя десять дней после открытия выставки, 25 апреля 1874 г., в одной из газет вышла заметка критика Луи Леруа, посвященная этому событию, в ироническом названии которой «Выставка импрессионистов» автор использовал понятие, производное от названия картины Клода Моне «Впечатление. Восход солнца». Термин «импрессионизм» получил широкое распространение; он пришелся по душе и самим художникам, что было засвидетельствовано в официальном наименовании их третьей выставки – «Выставка импрессионистов» (1877).
Однако 70-е годы XIX в. – это уже, в сущности, апогей импрессионистской живописи. Сложилась же она еще во 2-й половине 60-х – начале 70-х годов, когда были созданы многие полотна К. Моне (последователи будут видеть в нем не только основателя импрессионизма, но и его живое воплощение) и других художников, продемонстрированные публике на выставке 1874 г.
С самого начала творчество импрессионистов воспринималось как вызов официозу в искусстве, как бунт против устоявшихся представлений о пейзаже, композиции, рисунке, колорите и т. д. Не случайно другой критик, Эмиль Кордон, назвал авторов выставки 1874 г. мятежниками. Насмешки над новым искусством не мешали, однако, его яростным оппонентам «заимствовать» у импрессионистов различные технические приемы. «Нас расстреливали, но при этом обшаривали наши карманы», – с горечью заметит Э. Дега.
Основные свойства импрессионистской живописи – светоносность (или эффект пленэрности; фр. plein air – открытый воздух), акцентирование беспрестанных изменений, «переходных» состояний природы и человека (последнее особенно дало о себе знать в знаменитых портретных этюдах Ренуара), всевозможные комбинации света и тени, контрасты движения и статики, фиксация впечатлений и ощущений, обогащение цветовой палитры разнообразными оттенками, компоновка картины по принципу мгновенного снимка или случайно остановленного кадра. Со времен импрессионизма живопись пошла, говоря словами Н. Бердяева, «по пути размягчения, утери твердых форм, по пути исключительной красочности». Причем красочности особенной, основанной на полутонах и нюансах. Полумрак, полуденная дымка, марево, туманная завеса, подвижные блики и отблески, призрачное трепетание, мерцание – вот излюбленные мотивы импрессионистов. Стремлением достичь эффекта пленэрности обусловлен преимущественный интерес живописцев к пейзажу; на воздухе происходят, как правило, и жанровые сцены. Очень часто (если не чаще всего) импрессионисты «созерцали» пейзаж урбанистический, не случайно М. Волошин позже назовет их «узниками города».
Важно иметь в виду, что субъективное искусство живописного импрессионизма с его категорическим отрицанием «локальных» красок основывалось на самом что ни на есть объективном фундаменте – научных открытиях немецкого физика Г.Л.Ф. Гельмгольца, французского химика-органика М.Э. Шевреля и других в области оптики и стало, в сущности, их художественным подтверждением.
М. Волошин, оглядываясь на сделанное живописцами-импрессионистами, оценивая итоги их деятельности, в 1904 г. напишет: «Импрессионисты обновили искусство, пустив новые корни в жизнь. Они удесятерили силу видения. Теперь нужно пользоваться этим материалом». Впрочем, успешно пользоваться этим материалом к тому времени уже научились – и в музыке (Дебюсси, Равель, Рахманинов), и в скульптуре (Роден), и даже в критике, но прежде всего – в литературе.
Существование импрессионистского стиля в литературе признано всеми ее исследователями, но бытование импрессионизма как литературного направления многим представляется проблематичным, ибо он (в отличие от импрессионизма в живописи) не нашел такого же глубокого теоретического обоснования, как, например, символизм или натурализм. В то же время существует мнение, согласно которому отсутствие манифестов уже само по себе стало характерной приметой импрессионизма именно как литературного направления.
Что же отличает импрессионистский стиль в литературе, в первую очередь в поэзии? Это фрагментарность, отрывочность, «стенографирование» единичного, частного, конкретного, точное отражение впечатления, вызванного тем или иным событием, человеком, природой, пейзажем, исключительное внимание ко все тем же, что и в живописи, тончайшим нюансам, полутеням, полутонам в характере, предмете, явлении, поистине импрессионистская живописность при передаче цвета, колорита, состояния, преобладание таких ощущений, как неопределенность, недосказанность, зыбкость, расплывчатость. Но главное – слияние внешнего и внутреннего, предметного и чувственного, в результате чего и возникает пресловутый импрессионистский пейзаж души. «Философия мгновения» – так определил А. Белый поэзию В. Брюсова, но определение это может быть вполне отнесено и к творчеству многих других писателей-импрессионистов. Таким образом, импрессионизм – это своеобразная форма художественного постижения человека и мира, когда субъективное впечатление от реальных предметов и явлений занимает ведущее место, преобладает над объективным началом.
Достаточно выразительную характеристику импрессионизма дал известный его исследователь Дж. Ревалд: «Природа уже не была объектом интерпретации… она становилась только непосредственным источником впечатлений, и эти впечатления можно было лучше всего передать техникой мелких точек и мазков, которые, вместо того чтобы изображать детали, сохраняли общее впечатление во всей его живости и богатстве красок» (1, 158). Эту характеристику импрессионистской живописи можно отнести и к импрессионистской литературе.
В искусстве слова импрессионизм получил широкое распространение; в числе самых значительных его последователей (при том что их художественные системы отнюдь не сводились только к импрессионизму) называют французских писателей П. Верлена, братьев Э. и Ж. Гонкур, Ж.К. Гюисманса, английского – О. Уайльда, норвежского – К. Гамсуна, шведского – А. Стриндберга, русских – К. Бальмонта, И. Анненского, А. Блока, В. Брюсова, белорусского – М. Богдановича и др. Велико было влияние импрессионизма на творчество австрийских писателей – Артура Шницлера, Гуго фон Гофмансталя, Петера Альтенберга, Райнера Марии Рильке; теоретиком австрийского импрессионизма стал Герман Бар. В Германии импрессионизм был гораздо менее популярен, однако импрессионистские тенденции заметны в лирике Герхарта Гауптмана, Детлефа фон Лилиенкрона, Рихарда Демеля, Стефана Георге, в прозе Томаса Манна и др.
В стилевой, изобразительной сфере импрессионизм имеет много общего с символизмом. Оба явления предусматривают пластичность стиха, сконцентрированность на подтекстах, многоплановость образов, взаимопроникновение внешнего, конкретно-реального и внутреннего, душевно-духовного. Подобно символистам, импрессионисты часто обращались к верлибру. И те и другие большое внимание уделяли музыкальности, мелодичности произведения. Впрочем, лирика вообще иногда определяется как «музыка в литературе», как искусство слова, «возложившее на себя законы музыки» (М.С. Каган). Тем более близка к музыке импрессионистско-символистская поэзия, поскольку, как и музыка, призвана передавать – и создавать! – общее настроение, мир впечатлений и ощущений.
В чистом виде, как уже отмечалось выше, импрессионизм встречается не так часто, в большинстве случаев он соседствует с символизмом (П. Верлен, Р.М. Рильке, Г. фон Гофмансталь), хотя мировой литературе известно немало примеров органичного взаимопроникновения элементов импрессионизма и натурализма (в частности, в прозе Э. Золя, Ж.К. Гюисманса, в поэзии Д. фон Лилиенкрона), импрессионизма, символизма и эстетизма (в творчестве О. Уайльда, в поэзии С. Георге) и т. д.
Время, отделяющее нас от эпохи «конца века», как говорят о рубеже XIX–XX вв., позволяет сделать вывод: именно в символизме и импрессионизме сформировался своеобразный литературный метаязык, начало которому положили еще романтики, – язык интермедиальный, синтезировавший в себе, кроме собственных изобразительно-выразительных средств, еще и возможности невербальных искусств – живописи, музыки, хореографии, чтобы их органичной совокупностью воздействовать на читателя, побуждая его воспринимать жизнь во всей сложной симфонической целостности ее проявлений. Многие приемы импрессионизма нашли применение в авангардистских литературных направлениях – «потоке сознания», «новом романе» и др.
Источники
1. Ревалд Дж. История импрессионизма. М., 1994.
Эстетизм
Атмосфера декаданса, а также наступление цивилизации на «красоту», на «естественное состояние» человека стимулировали появление во 2-й половине XIX в. эстетизма, который возник в разных национальных литературах, но раньше и ярче всего – в английской. Из всех художественных явлений, получивших развитие в русле европейского декаданса, эстетизм, пожалуй, одно из самых неизученных советской и постсоветской наукой художественно-литературных направлений. Его определения не дала в свое время «Краткая литературная энциклопедия», не содержит его и «Литературный энциклопедический словарь» (1987). Очень немного в литературоведении действительно основательных попыток включить эстетизм в мировую систему других направлений, течений и школ, дать его периодизацию, показать этапы становления и факторы влияния на тех или иных писателей, исследовать механизмы реализации в конкретных произведениях литературы, сопоставить его разнонациональные варианты, обосновать закономерность оформления именно во 2-й половине XIX в.
Непосредственными предшественниками эстетизма принято считать английских «прерафаэлитов». Оскар Уайльд, едва ли не самый известный из эстетов, признавался, что счел бы огромным счастьем для себя пожертвовать молодостью ради возможности оказаться в 1848 г., чтобы принять непосредственное участие в создании «Прерафаэлитского братства». Свою деятельность «прерафаэлиты» посвящают поискам истины, универсально-сущностное содержание которой они видели в Красоте; и поскольку предельно прагматизированная действительность середины XIX в. не в состоянии была предложить ничего прекрасного, они ищут красоту в предшествующих эпохах, прежде всего – в искусстве итальянских живописцев, живших и творивших до Рафаэля, «перед Рафаэлем» (отсюда название объединения), а также в творчестве других художников и писателей Античности, Средневековья, раннего Возрождения. Характерные черты искусства прерафаэлитов – культ красоты, рафинированность, изысканность, утонченность переживаний, пластичность образов, обостренная чувственность, придание особого значения форме произведения. На этой почве и возрос в скором времени собственно эстетизм.
Основателями эстетизма принято считать английских писателей и теоретиков литературы Джона Рескина и Уолтера Пейтера. Причем Рескин, хоть и признавал за художником право ради достижения своих целей оперировать любыми знаками и символами, даже не соотносящимися с действительностью напрямую, все же в искусстве видел в первую очередь «указатель… социальных и политических добродетелей». У Пейтера же общественное, этическое все заметнее уступает место эстетическому, доминантными качествами произведения уже видятся стиль и форма. Художественное произведение, согласно Пейтеру, – источник «необыкновенной красоты и наслаждения», подлинная же мудрость – не в дидактике, не в морали, а «в поэтической страсти, в стремлении к красоте, в любви к искусству ради искусства». Писатель не должен быть ангажированным, озабоченным общественными и социально-политическими проблемами, его предназначение – воспевать красоту, привносить в жизнь эстетические ценности.
Теоретико-критические и художественные произведения Пейтера и его последователей в разных национальных литературах позволяют сделать вывод: с эстетизмом мы имеем дело в тех случаях, когда эстетическому не просто отдается преимущество перед этическим, но этическое сознательно исключается из круга целей и задач художника, категория же красоты приобретает самоценность и автономность и, в результате, – отвлеченность и даже подчеркнутую декоративность.
Влияние эстетизма сказалось на творчестве английских писателей Оскара Уайльда, Уильяма Батлера Йетса, Артура Саймона, англо-американского – Генри Джеймса, французских – Теофиля Готье, Жориса Карла Гюисманса, немецкого – Стефана Георге и др.
Основные литературные явления 1-й половины XX в
Реализм
Общеизвестно, что реализм как литературное направление сформировался в западноевропейской литературе XIX в., но как художественный метод реализм получил дальнейшее развитие и в литературе XX в. Процесс этот отмечен определенными кризисными явлениями, существенной трансформацией эстетической системы. Принцип имитации, воспроизведения, изображения жизни в художественных формах, соответствующих самой жизни, используется многими писателями и сейчас, однако во все большей мере он сопровождается или даже вытесняется мифом и символом, вместо конкретных образов авторы все чаще обращаются к образам обобщенно-символическим, вместо подробно, точно изложенных обстоятельств и характеров используют условно-фантастические, аллегорические, гротескные. Литературные произведения все чаще приобретают характер притчи. Иными становятся и способы сюжетостроения: напластовываются, взаимопроникают прошлое, настоящее и будущее, события соединяются самыми разными средствами – от монтажа до ассоциативного повествования. Чрезвычайно углубляется психологизм реалистического искусства слова, писатели включают в сферу своего постижения не только сознание, но и подсознание человека. На второй план отодвигается социально-бытовое начало, основное же внимание уделяется душевно-духовной, внутренне-личностной жизни персонажа.
В результате рядом с масштабными, монументальными литературными полотнами, романами-эпопеями, охватывающими большие промежутки времени и масштабные события, существуют произведения камерные. Писатели работают в историческом, фантастическом, социально-психологическом и других жанрах. Причем определение жанровой формы того или иного произведения становится еще более проблематичным, чем в предшествующие литературные эпохи: очень часто в произведении в одинаковой степени присутствуют различные жанровые черты. Трудноопределяемость жанра, взаимодействие с авангардистскими течениями – показательные качества реалистической литературы XX в.
Современному реализму нельзя отказать в злободневности. Все социально-политические катаклизмы, которыми так насыщено XX столетие: революции, гражданские и мировые войны, установление тоталитарных режимов, национально-освободительные движения и многое другое, – находили воплощение в искусстве слова.
Многие произведения были посвящены Первой мировой войне. Существенную их часть определяют понятием «литература потерянного поколения». Американские писатели Эрнест Хемингуэй, Джон Дос Пассос, Уильям Фолкнер, немецкий – Эрих Мария Ремарк, английский – Ричард Олдингтон и другие привнесли в литературу собственный трагический опыт кровавой бойни, засвидетельствовали утрату целым поколением духовно-этических ориентиров. В то же время вышло немало книг о Первой мировой войне, авторы которых (например, французский прозаик Анри Барбюс, немецкий – Арнольд Цвейг, белорусский – Максим Горецкий и др.) не ограничивались показом глубокого разочарования персонажем в цивилизации, в былых идеалах, а стремились раскрыть исторические и социально-политические причины трагедии.
Одной из магистральных тем литературы XX в. стала тема фашизма и Второй мировой войны. Приход фашистов к власти в Германии, Испании и других странах, мировая война и ее страшные последствия, рецидивы фашизма уже в послевоенное время («непреодоленное прошлое», по определению западногерманских писателей и критиков) по сегодняшний день осмысливаются литературой.
Широкое распространение приобрели политический роман и антиутопия. Авторы последней видели свою задачу в том, чтобы предостеречь человечество, противопоставить утопическому мышлению, опасным планам и надеждам на будущее наилучшее государственное устройство трезвый взгляд на исторический процесс и роль личности в нем. При этом применяется тот же основной художественный прием, что и в утопии, – дается определенная вымышленная модель общественного строя, используются всевозможные сатирические средства, гротескные ситуации, посредством которых писатель убеждает, что любые попытки осуществить утопию угрожают тиранией, неограниченной властью одного человека или группы людей над всеми остальными, насилием над законами истории, над природой и прежде всего – над личностью человека. В жанре антиутопии в 1-й половине XX в. писали Олдос Хаксли, Джордж Оруэлл (Англия), Карел Чапек (Чехия) и др.
Значительное место в литературе XX в. (прозе, поэзии, драматургии) занимает философская проблематика. Ко все большему количеству произведений прилагается понятие, введенное Томасом Манном, – «интеллектуальный роман». Кроме Т. Манна, в русле философской прозы в 1-й половине XX в. работали Герман Гессе, Антуан де Сент-Экзюпери, Элиас Канетти, Роберт Музиль и другие писатели, представители разных национальных литератур. Проза эта чрезвычайно многообразна в жанрово-стилевых отношениях, по своей тематике, пафосу. Нередко она отмечена влиянием экзистенциализма. В любом случае определяющий мотив философской прозы – смыслопоиск. Например, Сент-Экзюпери озабочен тайнами бытия конкретного человека, взаимосвязями его со Вселенной, с землей и небом, в противостоянии с которыми человек осуществляется как личность, утверждает свое величие, постигает смысл общечеловеческих ценностей, духа и разума, ответственности за тех, кого «приручил».
В последнее десятилетие XX в. бурно дискутировался вопрос о социалистическом реализме. Понятие это, очевидно, возникло из соединения двух компонентов – политико-идеологического («социалистический») и эстетического («реализм»), однако решающее значение получил именно первый. В произведениях, принадлежащих к социалистическому реализму, все больше давал о себе знать разрыв между реальностью и социалистической мечтой. Многокрасочность в изображении жизни уступала место одноцветности, органичность – нормативизму и конъюнктуре, художественная независимость – схематизму, идеологической заданности, иллюстративности. Догмы социалистического реализма превратились в своеобразный репрессивный инструмент: официально, как правило, признавались только те писатели, чьи книги обслуживали командно-административную систему с ее социально-политическими установками, другие же авторы, какими бы талантливыми они ни были, разными способами от литературы отлучались. Концепция социалистического реализма с ее регламентированием литературного процесса, жесткими идеологическими запретами нанесла большой ущерб искусству слова.
Понятие «социалистический реализм» использовалось не только применительно к советской литературе, оно прилагалось и к определенным зарубежным произведениям, в том числе и самими их авторами, особенно широкое распространение получив в критике и литературоведении стран так называемого социалистического лагеря. Ради справедливости важно отметить, что отношения многочисленных зарубежных писателей как к социалистическим идеям и советской действительности в целом, так и к социалистическому реализму часто были неоднозначными. Например, Иоганнес Роберт Бехер уже в 1956 г. писал: «Основная ошибка моей жизни заключалась в том, что я думал, будто социализм покончил с человеческими трагедиями и положил конец трагизму человеческого существования… Но действительность оказалась прямо противоположной надеждам… Казалось, что при социализме человеческая трагедия началась вновь, только в иной форме, ранее неведомой и для нас совершенно непонятной. Социализм предоставил неограниченное пространство человеческому трагизму. Трагедия превзошла в нем себя, приумножилась и пообещала нам не «светлое будущее», как принято было говорить, а такую эпоху, трагическое содержание которой и сравнить нельзя было с любой предыдущей». Не могли не видеть западные художники того, что, говоря словами Альбера Камю, «действительный объект социалистического реализма – это реальность, на сегодняшний день не существующая», и что «в результате мы получаем пропагандистское искусство, где люди делятся на плохих и хороших, своеобразную Розовую библиотеку», которая «имела мало общего с большим искусством».
Тем не менее многие зарубежные писатели искренне защищали ценность именно литературы социалистического реализма. Тот же И.Р. Бехер, его соотечественники Бертольт Брехт и Анна Зегерс, чешский поэт Витезслав Незвал и др. оставили много талантливых произведений, которые традиционно интерпретировались как образцы искусства социалистического реализма. Безусловно, оспаривать их эстетический уровень только на этом основании было бы и неразумно и несправедливо, здесь требуется дифференцированный и взвешенный подход. Нельзя не согласиться, например, с Василем Быковым, известным белорусским писателем, который в одном из своих интервью на вопрос: «Вообще оставил ли, по-вашему, соцреализм как метод большие произведения искусства, литературы?» ответил: «Большие произведения были в разные времена, как и большие авторы. Можно по-разному относиться к М. Шолохову… но все же «Тихий Дон» – действительно большая книга».
Из-за негативного оттенка, приобретенного понятием «социалистический реализм», литературоведы в конце XX в. предприняли поиск новых терминов, которыми можно было бы определить то позитивное, что имело место в литературе социалистического реализма, не обходя при этом вниманием и произведения иные, которые никак его требованиям не отвечают, однако возникли в соответствующее время и в соответствующих условиях. В частности, были предложены понятия «социально-утверждающий», «социально-критический», «утверждающе-психологический» реализм и др.
Экзистенциализм
В 1920–1930 годы в определенной степени завершилось формирование такой философской системы, как экзистенциализм. Своих предшественников эта философия имела еще в XIX в.; среди них справедливо выделяют знаменитого датского ученого Сёрена Кьеркегора (1813–1855), многие из теоретических положений которого были восприняты экзистенциалистами. Своеобразным промежуточным звеном между ними и Кьеркегором стала философия немецкого мыслителя Фридриха Ницше (1844–1900). Непосредственное же становление экзистенциализма было результатом философской деятельности немецких ученых Карла Ясперса (1883–1969) и Мартина Хайдеггера (1889–1976), русских – Льва Шестова (1866–1938) и Николая Бердяева (1874–1948) и ряда других. Понятие «экзистенциализм» происходит от латинского слова exsistentia – существование. Жизнь человека, или существование, экзистенциалисты чаще всего характеризовали в таких терминах, как «забота», «тревога», «отчаяние», «заброшенность», «одиночество», «враждебность мира» и т. п.
В художественной литературе экзистенциализм получает распространение накануне и во время Второй мировой войны. Исследователи неоднократно подчеркивали, что своей популярностью он не в последнюю очередь обязан именно литературе, особенно французской, таким ее талантливейшим представителям, как Альбер Камю, Жан-Поль Сартр, Андре Мальро, Симона де Бовуар. Поданный в художественных образах и ситуациях, в достаточно привычных эстетических категориях, экзистенциализм быстрее находил приверженцев. «Если хочешь быть философом, пиши романы», – как-то метко заметил Камю. Распространению экзистенциализма способствовали также трагические обстоятельства: фашизм, Вторая мировая война, которая, в сравнении с Первой мировой, приобрела еще более глобальный и жестокий характер; взрывы атомных бомб над японскими городами – все это и многое другое не могло не привлечь внимания к философии, утверждавшей беспомощность человека, ограниченность его возможностей, абсурдность существования в мире.
Абсурд – категория, чрезвычайно важная в философии экзистенциализма. В понимании экзистенциалистов, абсурд – это разлад, раскол, конфликт, причем, во-первых, осознанный личностью, во-вторых – неразрешимый. Например, человек стремится к единению с природой, к ее постижению, однако природа его «отталкивает»: не могут быть единым целым одушевленное (человек) и неодушевленное (деревья, камни и т. п.). Или еще: человек стремится продлить себя в вечности, однако сам он смертен. И наконец, главное: человек способен на многое, на всевозможные дела и свершения, но не способен преодолеть собственную смерть, предотвратить ее или хотя бы предусмотреть, какой и когда она будет. А значит, по мнению экзистенциалистов, все остальные возможности теряют смысл и только придают существованию еще больший трагизм. Не случайно экзистенциализм иначе называют трагической философией. Жизнь – это путь к смерти, приближение ее, неуклонное и неизбежное. Об этом пишет Камю в эссе «Миф о Сизифе»: «Думать о завтрашнем дне, ставить перед собой цель, отдавать предпочтение – все это предусматривает веру в свободу… Но с этого времени я знаю, что нет наивысшей свободы, свободы быть… Смерть становится единственной реальностью, это конец всем играм». Результатом такого мироощущения было, во-первых, равнодушие к будущему, ибо будущего – во всяком случае, у конкретного человека – может и не быть. Отсюда, во-вторых, замена качества жизни ее количеством: «двадцать лет жизни и опыта не заменишь ничем». В конце концов делался вывод: «Все завершается признанием глубочайшей тщетности человеческой жизни».
Совершенно необходимо, однако, учитывать: экзистенциализм пережил чрезвычайно существенную эволюцию, которой в большой мере благоприятствовали политические события, прежде всего антифашистское Сопротивление, участие в котором приняли сами Камю, Сартр и другие писатели-экзистенциалисты. И если основные черты раннего литературного варианта экзистенциализма (или периода «абсурда», как определил Камю первый виток собственного творчества) нашли воплощение в таких его произведениях, как эссе «Миф о Сизифе» и роман «Посторонний», роман Сартра «Тошнота», то изменения во взглядах экзистенциалистов («виток бунта», согласно Камю) отразились на содержании его романа «Чума», пьесы «Осадное положение», трактата «Человек бунтующий», на пьесах Сартра «Мухи», «Мертвые без погребения» и др. Новые позиции этих писателей определяют как «трагический стоицизм» (Камю) или «мятежный вызов» (Сартр). Не отрицая и в эту пору абсурдности человеческого существования, они, однако, приходят к убеждению: если ты человек, а не плесень или цветная капуста, то, пусть и в рамках положенного судьбой, даже без надежды на успех, ты должен действовать, делать выбор в пользу добра и благородства, думать о других людях, нести ответственность не только за себя и свои поступки, но и за человека вообще, за облик своего времени.
Во 2-й половине XX в. экзистенциализм в разных своих проявлениях продолжал влиять как на писателей-реалистов, так и на авангардистов (представителей «нового романа», театра абсурда). К художникам слова, в чьем творчестве весьма заметно присутствие экзистенциалистских идей, следует отнести французов Робера Мерля, Франсуазу Саган, англичан Уильяма Голдинга, Айрис Мердок, японца Кобо Абэ и др. Немало точек соприкосновения с экзистенциализмом в произведениях белорусских писателей Василя Быкова и Юрия Станкевича, русского – Валентина Распутина и др.
Отчетливые следы влияния экзистенциализма можно обнаружить и в послевоенной литературе Германии – в прозе Германа Казака, Ганса Эриха Носсака, в поэзии Ганса Эгона Хольхузена, Эрнеста Кройдера и др. Не случайно, например, именно Жан-Поль Сартр всячески содействовал публикации во Франции романов, повестей и рассказов Г.Э. Носсака, первым опубликовав в 1947 г. в своем журнале его рассказ «Гибель» и роман «Некийя». Носсака с экзистенциалистами роднит многое: проблемы выбора, жизни и смерти, искусства и власти, свободы и власти, решаемые в экзистенциалистском духе, размышления персонажей о «заброшенности», одиночестве человека, наличие во многих произведениях пограничной ситуации и проч. Есть общие образы-символы (достаточно, например, сравнить рассказ Носсака «Гибель» или его же новеллу «Кассандра» с пьесой Сартра «Мухи»), общие ситуации (в частности, в романах А. Камю «Посторонний» и Г.Э. Носсака «Дело д'Артеза» и др.). Как известно, перевод сартровской пьесы «Мухи» в Германии вышел именно в 1947 г. (это и год завершения Носсаком и опубликования рассказа «Гибель»); вскоре пьесу поставят в театрах Дюссельдорфа, Западного Берлина и других немецких городов. Соответственно, резонанс ее будет достаточно велик, как, впрочем, и экзистенциализма в целом. Что же касается мировосприятия Ганса Эриха Носсака, то применительно к нему литературоведы не без оснований нередко использовали понятие «стоический пессимизм» (по аналогии с «трагическим стоицизмом» Альбера Камю), хотя книги этого немецкого писателя, по справедливому замечанию П.М. Топера, «далеко не всегда полностью укладываются в схему экзистенциалистских идей» (1, 395).
Источники
1. Топер П. Овладение реальностью: Статьи. М., 1980.
Авангардизм
Авангардизм (фр. avant-gardisme, от avant-garde – передовой отряд) – понятие, которым литературоведы определяют совокупность нереалистических направлений в искусстве и, в частности, в литературе XX в. Помимо понятия «авангардизм» используется и еще одно – «модернизм» (фр. moderne – новейший, современный, от лат. modo – только что, недавно). Четкой дифференциации этих терминов ни в нашей, ни в зарубежной литературоведческой науке до сего времени не появилось. Одни считают их синонимичными, другие видят в авангардизме следующую после декаданса стадию в развитии модернизма, отмечая при этом, что собственно модернизм – заключительная стадия в развитии нереалистического искусства 2-й половины XIX–XX в., складывается как определенная художественная система примерно с 20-х годов XX столетия.
Наличие двух понятий можно в какой-то степени объяснить и тем, что в нашем литературоведении продолжительное время преобладали идеологические критерии, из чего проистекала необходимость разделения нереалистического, или альтернативного, искусства на «левое» и «правое». Так называемые левые художники, которые обращались в своем творчестве к революционной, антифашистской, антивоенной проблематике, именовались, как правило, авангардистами, аполитичные же авторы – модернистами. Согласно этой иерархии, живописец Пабло Пикассо или поэт И.Р. Бехер с его ранними стихами – авангардисты, а, например, Джеймс Джойс или Марсель Пруст – модернисты и т. д.
Однако искусство, в том числе и искусство слова, требует эстетического подхода; с этой точки зрения как Бехер, так и Джойс были реформаторами литературы (последний, что признано всеми, даже значительно большим). Реформировалась литература и в содержательном аспекте (в ее сферу оказывались включенными такие стороны человеческой жизни, которые ранее традиционно оставались за пределами изображения), и в поэтико-эстетическом (осваивались новые приемы воплощения и постижения действительности). Таким образом, если об искусстве судить по законам искусства, то понятия «авангардизм» и «модернизм» можно считать почти взаимозаменяемыми.
К наиболее показательным чертам авангардизма необходимо отнести погруженность в душевный мир героя, в сознание и даже подсознание человека (хотя представители отдельных направлений, например экспрессионизма, уделяли внимание и социальной проблематике), преобладание иррационального над рациональным. В первую же очередь – это радикальное отрицание художником принципа внешнего правдоподобия, эстетики простого воспроизведения, мимезиса, имитации, изображения жизни в формах, соответствующих самой жизни.
Именно в XX в. тенденция отрицания заявила о себе с особой силой, сориентировала писателей на жанровый и композиционно-стилевой эксперимент, выразилась в формировании совершенно нового типа художественного мышления, восприятия действительности. Суть последнего в том, что автор отталкивается не столько от самой действительности, сколько от своего собственного видения ее, от своего представления о ней, даже если в его представлении и изображении она становится почти (а иногда и совсем) неузнаваемой. Главное для художника-авангардиста – воплотить в произведении свой неповторимый, индивидуальный, субъективный взгляд на человека и мир, свое «я». Уже известные жанры и формы не просто обновляются, но сознательно отрицаются, а на их место предлагаются новые. Не случайно в литературоведении так широко стали использовать понятия с частицей анти – (против): антироман, антидрама, антиискусство. Говоря словами одного из исследователей авангардизма, ни одна из предыдущих нереалистических школ при всем их новаторстве не ставила еще с такой категоричностью вопрос: имеет ли смысл искусство, которое всего лишь фиксирует то, что мы привыкли видеть?
В новой ситуации оказывается и читатель. Его собственная творческая способность активизируется, он уже не просто сопереживает или получает готовую информацию, не приспосабливается к авторской интерпретации, а дает свободу собственной фантазии, становится сотворцом.
Важно, однако, усвоить следующее: не существует литературных направлений, художественных приемов «хороших» или «плохих», принадлежность к реализму или авангардизму, следование традиции или художественное, так сказать, инакомыслие сами по себе совсем не свидетельствуют о наличии или отсутствии таланта у художника. Стоит прислушаться к словам Василя Быкова: «Разумеется, искусство рождается из определенных проявлений жизни (преимущественно реалистическое искусство), но также и из внутренних, душевных импульсов, сигналов авторского подсознания. Соотношение того или другого в каждом произведении каждого автора очень неопределенное. Бывают произведения, будто сама жизнь, «остановленное мгновение»; бывают созданные исключительно из иррациональных элементов, где от реальности, пожалуй, ничего нет. Вероятно, ценность тех или других определяется все же не столько способом изображения, сколько характером творца, сущностью его иногда отчетливого, а иногда загадочного таланта».
Авангардистскими концепциями искусства, в частности литературы, были вызваны к жизни самые разные направления. В 1-й половине XX в. таковыми оказались экспрессионизм, дадаизм, сюрреализм, школа «потока сознания» и др.
Экспрессионизм
Глубочайший кризис сознания 2-й половины XIX в. (когда, по словам немецкого философа Фридриха Ницше, Бог умер) не только нашел продолжение в XX в., но и обострился. Тоталитаризм в различных своих проявлениях, мировые войны, путчи лишали человека ощущения стабильности, гармонии, покоя. На грани краха оказались все прежние убеждения и взгляды – социально-политические, религиозные, эстетические. Человек утратил внешнюю опору, оказался наедине с многочисленными вопросами, пытаясь теперь найти ответы на них лишь в самом себе, в собственном сознании. Отсюда широкое распространение философских систем, которые соприкасались друг с другом в следующем: человек связан с миром своими переживаниями и представлениями. Значит, именно они, точнее – собственные художнические переживания и представления – и должны стать для художника объектом изображения. Одна из таких философско-эстетических систем, теория «вчувствования» (Einf?hlung), сформировавшаяся в 1-й половине XX в., и предлагала художнику включать в эстетический объект содержание собственной личности, на явления и предметы внешнего мира переносить свои настроения и ощущения, придавать этим явлениям и предметам личные особенности, иначе говоря, проецировать свою душу на неодушевленные вещи. В процессе такого «вчувствования» художническое «я» активизируется, повышается эмоциональность, экспрессивность.
Отсюда наименование одного из направлений в искусстве – экспрессионизм (от лат. ?%pressio – выражение). Возникло это течение в живописи в самом начале XX в., а затем распространилось на другие сферы искусства (литературу, театр, кинематограф и т. д.). Период возникновения экспрессионизма был еще относительно спокойным, однако обстоятельства менялись – приближалась Первая мировая война. В предчувствии ее грозных последствий, смертей и страданий в обществе и отдельном человеке возрастало психологическое напряжение, усиливались нервозность, ощущения беспомощности и беззащитности, отчужденности и одиночества. Настроения ожидания катастрофы и воплотились в новом искусстве, характерными чертами которого стали художественное искажение того или иного объекта, изображение мира как хаоса, крайнее обострение конфликтов, нагромождение гротескных ситуаций и целенаправленное доведение читателя или зрителя до, условно говоря, «шокового» состояния.
Таким образом, экспрессионизм – это форма постижения и изображения жизни через совокупность соответствующих приемов, предназначенных предельно усилить художественную выразительность, экспрессивность произведения. «Экспрессионизм взорвал постепенное, плавное развитие искусства, так как визионерское мировидение молодого поколения художников и писателей заставляло их безоглядно устремляться к сути вещей, срывая покров мнимой благопристойности, обнаруживая за парадной внешней оболочкой зримого мира ужасавшую их внутреннюю извращенность, – пишет автор статьи о немецком экспрессионизме, помещенной в «Энциклопедическом словаре экспрессионизма» (2008), А.А. Гугнин. – Эта несовместимость «внешнего» (как общепринятого) и «внутреннего» (субъективного духовного видения, осознаваемого как пророческое откровение) требовала немедленного действия: патетического отчаяния, «крика», воззвания, страстной проповеди. Пафос экспрессионизма исключал гармонию, соразмерность, композиционную, ритмическую или цветовую уравновешенность; произведение должно было не радовать глаз и слух, а будоражить, возбуждать и – еще лучше – потрясать».
С самого начала экспрессионисты сознательно противопоставили свое творчество импрессионизму: импрессионисты стремились зафиксировать единичное мгновение, а экспрессионисты видели цель в том, чтобы показать действительность как процесс, как длительность – в движении, в динамике, изменении. Живописцы для этого использовали цветовой контраст, необычную окраску привычных предметов, определенную систему в расположении линий. Например, застылость передавалась посредством параллельных штрихов, хаотичность, взрывчатость – посредством неупорядоченного пересечения горизонтальных и вертикальных линий и т. д. Начало экспрессионизму в живописи положили участники группы «Мост» («Brücke»; 1905–1913) в Дрездене, в которую вошли Эрнст Людвиг Кирхнер, Эрих Хеккель, Эмиль Нольде, Макс Пехштейн, Отто Мюллер и др. Свое дальнейшее развитие экспрессионистская живопись получила в деятельности «Нового объединения художников Мюнхена» (1909–1914) и мюнхенской группы «Синий всадник» («Der blaue Reiter»; 1911–1914), участниками которой стали В. Кандинский, Ф. Марк, Г. Мюнтер, А. Макке, Х. Кампендонк и др.
В литературе (прозе, поэзии, особенно драматургии) экспрессионизма наиболее показательны преобладание абстрактных, обобщенных образов-символов, художественная деформация предметов изображения, повышенная эмоциональность, даже экзальтированность, склонность к гротеску. «Земля – это исполинский пейзаж, созданный для нас Богом. На него надо смотреть так, чтобы он ничего от нас не заслонял, – пишет в статье-манифесте «Экспрессионизм в поэзии» (1917) один из основателей и теоретиков литературного экспрессионизма Казимир Эдшмид. – Никто не сомневается, что не может быть истинным то, что предстает как внешняя реальность. Реальность должна быть создана нами. Мы должны докопаться до смысла предмета. Нельзя довольствоваться описанным фактом, принятым на веру или являющимся плодом воображения, картина мира должна иметь чистое, не искаженное отражение. Но таковое есть лишь в нас самих».
Казимир Эдшмид подчеркивает субъективность экспрессионистского взгляда на жизнь, необыкновенную насыщенность экспрессионистского литературного произведения художническими представлениями и чувствами: «Пламя чувства, сливающегося непосредственно с сердцевиной вселенной, овладевает этой непосредственностью и поглощает ее. Ничего другого не остается. Порой в сильном порыве чувства увлеченность произведением сплавляет в нем все настолько воедино, что это может выглядеть искажением. Но структура произведения доведена до последней степени напряжения, жар чувства так накалил душу творящего, что она в своем стремлении к безмерному начинает исторгать неслыханное».
Как самостоятельное литературное направление экспрессионизм просуществовал до начала 1930-х годов. Сложился он и получил особенное распространение в немецкоязычных литературах Германии и Австрии (в разной степени к нему обращались немецкие прозаики Генрих Манн, Альфред Дёблин, Леонгард Франк; поэт, прозаик и драматург Готфрид Бенн, поэты Георг Гейм, Эльза Ласкер-Шюлер, Эрнст Штадлер, ранние Бертольт Брехт и Иоганнес Р. Бехер, драматург Георг Кайзер; австрийские поэты Франц Верфель и Георг Тракль, прозаик Франц Кафка, прозаик и поэт Макс Брод и многие другие), но в дальнейшем повлиял и на целый ряд других национальных литератур (творчество испанского писателя Ф.Г. Лорки, русского – Л. Андреева и др.). Проявился экспрессионизм и в скульптуре (Э. Барлах), музыке (А. Берг, А. Веберн, А. Шёнберг), кинематографе, театре.
Отдельные стилевые приемы экспрессионизма широко использовали во 2-й половине XX в. такие немецкие писатели, как Вольфганг Борхерт, Герман Казак, Гюнтер Грасс, Эрих Арендт, Стефан Хермлин, Хайнер Мюллер, Фолькер Браун, швейцарские – Фридрих Дюрренматт, Макс Фриш, австрийские – Петер Хандке, Эльфрида Елинек и др.
Дадаизм
В 1916 г. в Швейцарии возникло одно из самых радикальных в искусстве направлений – дадаизм. Его создателями были в основном молодые писатели, художники – представители стран-участниц Первой мировой войны. Оставить родину и искать убежища в нейтральной Швейцарии их вынудило нежелание воевать, быть убитыми и искалеченными. Именно в Цюрихе и была основана литературная группа «Дада», в которую вошли немцы Хуго Балль, Рихард Хюльзенбек, Георг Гросс, Франц Юнг, Вальтер Меринг, немецко-французский художник и поэт Ганс Арп и др.; были в числе дадаистов итальянцы, голландцы и др. Во главе группы оказался будущий французский поэт и эссеист, родом из Румынии, Тристан Тцара.
Название направления восходит то ли к фр. dada – деревянная лошадка, то ли к дважды повторенному утверждению, то ли к нескладному детскому лепету, – на этимологию понятия единого взгляда не существует. «Интернациональное слово. Только слово», – как писал о нем Хуго Балль в «Манифесте к первому вечеру дадаистов в Цюрихе» (1916). Ему вторили Г. Арп, утверждавший, что «дада – это бессмыслица», но «дада в основе всякого искусства», и Р. Хюльзенбек, видевший в слове «дада» символ «примитивнейшего отношения к окружающей действительности», к «новой реальности».
«Воплем попавших в опасность личностей» назвал позже это направление Р. Хюльзенбек. Такого тотального неприятия действительности, непризнания какой бы то ни было традиции – реалистической или нереалистической, – такого культивирования абсурда, стремления разрушить все, что уже упрочилось, искусство еще не знало. Не случайно свою художественную деятельность дадаисты называли «а-тезной». В то же время расценивать дадаизм только как вызов, как «великую фронду» (Р. Хюльзенбек) было бы несправедливо, особенно на первых порах.
При всей неопределенности, расплывчатости целей и задач среди последних одна наиболее привлекала дадаистов: создание нового литературного языка, с самого начала, со слова. Ради этого необходимо было, по мнению дадаистов, отказаться от всех литературных норм, от языка общепринятого, «стертого» от долгого употребления. «Я читаю стихи, которые ставят перед собой целью ни много ни мало, как отказ от языка… Все дело в связях, в том, чтоб их вначале слегка нарушить. Я не хочу слов, которые изобретены другими. Все слова изобретены другими. Я хочу совершать свои собственные безумные поступки, хочу иметь для этого соответствующие гласные и согласные. Если замах мой широк, мне нужны для этого податливые слова с широким замахом, слова же господина Шульце не больше двух с половиной сантиметров.
Можно стать свидетелем возникновения членораздельной речи. Я просто произвожу звуки. Всплывают слова, плечи слов, ноги, руки, ладони слов. Стих – это повод по возможности обойтись без слов и языка. Этого проклятого языка, липкого от грязных рук маклеров, от прикосновений которых стираются монеты. Я хочу владеть словом в тот момент, когда оно исчезает и когда оно начинается.
У каждого дела свое слово; здесь слово само стало делом… Слово, слово, вся боль сосредоточилась в нем, слово, господа, – общественная проблема первостепенной важности», – писал Х. Балль в вышеназванном манифесте.
Некоторые художественные приемы и формы, используемые участниками нового направления, были перечислены в коллективном «Дадаистском манифесте 1918 года», сочиненном от имени единомышленников Р. Хюльзенбеком. Это бруитский, или шумовой, стих – от фр. bruit – шум; симультанный стих, который имеет в виду изображение в одной строке или строфе событий, происходящих в разных местах в одно и то же или разное время, т. е., пользуясь словами из «Манифеста», «сумбурную перекличку всего на свете»; статический стих, сама графика которого должна обладать ассоциативностью, и другие приемы, предназначенные передавать жизнь со всей ее жестокостью, насилием, напряженностью, нигилизмом.
Определенный резонанс получили театрализованные представления, проходившие в цюрихском кабаре, ставшем своего рода дадаистским центром и получившем соответствующее название «Кабаре Дада». Во время представлений дадаисты декламировали свои так называемые фонетические поэмы: слова, слоги или даже только звуки подбирались здесь и ставились рядом не по смыслу, а по звуковой окраске. Использовались дадаистами и такие методы «написания» произведений, как коллаж, наклеивание на бумагу различных вырезок из газет или журналов; коллективное письмо, когда каждый следующий автор не знал, что написал предыдущий; «конкретное письмо» (Г. Арп), предваряющее «автоматическое письмо» сюрреалистов; расчленение текста на фрагменты, а затем их произвольный монтаж и др.
В 1918 г. была создана собственно берлинская группа дадаистов усилиями Р. Хюльзенбека и ряда его сторонников. Эта группа к литературе и вообще к искусству имела отношение достаточно косвенное: какие-либо эстетические цели, по сути, даже не декларировались; точнее, это было своеобразное соединение художественной провокации с политическим нигилизмом при очевидном доминировании последнего, о чем свидетельствует манифест Хаусмана, Хюльзенбека и Голишеффа «Что такое дадаизм и какие цели он ставит себе в Германии?» (1919). Он содержал уже не положения, а требования – от «международного революционного объединения всех творческих и думающих людей во всем мире», «введения прогрессивной безработицы» ради того, чтобы научить людей «сопереживанию», до «немедленной экспроприации собственности», «введения ежедневного питания» для все тех же «творческих и думающих людей» и прочие лозунги.
Деятельность берлинской группы дадаистов относится уже к первым послевоенным годам, когда опасность мобилизации миновала и появилась возможность покинуть Швейцарию. Не только в Германии, но и во Франции дадаисты еще продолжали некоторое время (примерно до 1924 г.) работать: во Франции к ним присоединились Луи Арагон, Поль Элюар и ряд других французских поэтов.
Однако еще раньше, около 1922 г., инициативу в Париже берет в свои руки Андре Бретон, с чьим именем будет связано возникновение нового нереалистического течения – сюрреализма.
Сюрреализм
Сюрреализм как самостоятельная художественная школа оформился в 1924 г. в Париже. Именно с этого времени здесь начинают выходить печатные издания, знакомившие читателей с сюрреалистской концепцией искусства. Объединительной фигурой среди сторонников этого направления стал французский писатель и теоретик сюрреализма Андре Бретон, который раньше был приверженцем дадаизма. Именно в 1924 г. он опубликовал свой знаменитый «Манифест сюрреализма», где достаточно четко и основательно излагались основные положения нового искусства, прежде всего, литературы. В «Манифесте» дано и определение сюрреализма: «Чистый психический автоматизм, имеющий целью выразить или устно, или письменно, или любым другим способом, реальное функционирование мысли. Диктовка мысли вне всякого контроля со стороны разума, вне каких бы то ни было эстетических или нравственных соображений». Иначе говоря, творческий процесс не должен контролироваться разумом, ибо в противном случае это уже не «автоматическое», т. е. не свободное, а обусловленное определенными эстетико-речевыми, жанрово-стилевыми правилами и нормами письмо.
Само же понятие «сюрреализм» (фр. surrealisme – буквально: сверхреализм или надреализм) впервые было использовано Гийомом Аполлинером в предисловии к одной из своих драм («Груди Тиресия», 1917). Хотя, по мнению самого А. Бретона, более уместным было бы понятие «супернатурализм», которое полнее передает «чрезвычайно высокую степень непосредственной абсурдности», особенно характерной для произведений сюрреалистов. В рядах единомышленников А. Бретона оказались Луи Арагон, Поль Элюар, Робер Деснос, Леон Поль Фарг, Пьер Реверди, Сен-Жон Перс, Жан Кокто, Филипп Супо, Роже Витрак, Антонен Арто и др.
Методы, которыми пользовались в своем творчестве писатели-сюрреалисты, были самыми разными: коллаж, эхолалия (машинальная фиксация услышанных слов или фраз), дистракция (разъединение представлений, слов и понятий), коллективное письмо, симультанная техника и т. д. Все усилия сюрреалистов сводились к основному декларированному ими принципу: соединение несоединимого, сопоставление несопоставимого, совмещение несовместимого, сближение удаленных по смыслу образов, деталей, ситуаций. «Образ есть чистое создание разума. Родиться он может не из сравнения, но лишь из сближения двух более или менее удаленных друг от друга реальностей. Чем более удаленными… будут отношения между сближаемыми реальностями, тем могущественнее окажется образ, тем больше будет в нем эмоциональной силы и поэтической реальности…», – цитирует А. Бретон в своем «Манифесте сюрреализма» (1924) эссе П. Реверди «Образ» (1918). И делает собственный вывод: «Возможно сближение любых слов без исключения. Поэтическая ценность такого сближения тем выше, чем более произвольно и недопустимо на первый взгляд». У Г. Аполлинера сюрреалисты позаимствовали термин «сюрприз». Действительно, художественная практика сюрреалистов изобилует ошеломляющими метафорами-сюрпризами. Литература должна, по их мнению, избавиться от банальности, чисто информативной функции, нивелировки персонажей и сюжетов; в этом смысле для Бретона был неприемлем даже Достоевский.
Из всех направлений сюрреализм в наибольшей степени основывался на философских теориях. Большое влияние на его формирование оказали немецкий философ Артур Шопенгауэр, который считал необходимым соединение в искусстве элементов реальности и алогичной фантастики, отводя главную роль в творческом акте интуиции, и французский – Анри Бергсон, который видел в искусстве средство массового гипноза, а логику художественного воображения отождествлял с логикой сновидения, неподвластной контролю со стороны разума. Кстати, в изобразительной системе сюрреализма функция сновидения вообще была значительной: культивировалась не только его логика, но и сюжеты сновидений (Бретон в своем манифесте ссылается на пример Сен-Поля Ру, который всегда, перед тем как лечь спать, вывешивал на дверях своего дома табличку со словами «Поэт работает»).
Особенно же ощутимым было влияние на сюрреалистов австрийского философа и психиатра Зигмунда Фрейда с его теорией и методом психоанализа. А.А. Бретон, сам врач-невропатолог, познакомился с учением З. Фрейда во время Первой мировой войны и пользовался его методами лечения, а позже переписывался с З. Фрейдом. В учении Фрейда сюрреалистам импонировали внимание к подсознанию, констатация отсутствия принципиального различия между психической нормой и патологией (в одном случае произведения, а в другом – симптомы невроза могут свидетельствовать о наличии у человека «психологически еще загадочной для нас художественной способности»), стремление объяснить поведение и поступки людей как специфическое продолжение событий, воплощенных в сновидении, и др.
Если экспрессионисты представляли мир в цветах контрастных, часто черно-белых, то сюрреалисты видели его разноцветным, многокрасочным, пестрым: «земля голубая, как апельсин» (П. Элюар), «ветер голубой, как земля» (Ф. Супо) и т. п.
Ощутимую конкуренцию Бретону как теоретику и практику сюрреализма составил франко-немецкий поэт Иван Голль (настоящее имя Исаак Ланг; его родители были французами из Эльзаса, что побуждало Голля всю жизнь быть приверженцем и немецкой, и французской культурных традиций). Писал он на немецком, французском и английском языках. Одновременно с Бретоном (в октябре 1924 г.) выпустил свой «Манифест сюрреализма», которому в качестве эпиграфа предпослал собственные слова: «Художественное произведение должно создавать сверхреальную реальность. Лишь это поэзия».
В манифесте Ивана Голля много общего с бретоновским видением искусства. Пальму первенства в творческой реализации сюрреалистской концепции он, как и Бретон, отдает Гийому Аполлинеру. Подобно Бретону, Голль считал образ «пробным камнем хорошей поэзии». «Быстрота ассоциаций в промежутке между первым впечатлением и окончательным его выражением определяет качество образа… – писал Голль. – Самые прекрасные образы – те, что самым прямым и быстрым путем соединяют элементы действительности, далеко отстоящие друг от друга». «Искусство получает жизнь и человеческую природу, – продолжает он. – Сюрреализму как выражению нашей эпохи свойственны характеризующие ее симптомы. Он выражает себя непосредственно, интенсивно, он отвергает средства, опирающиеся на абстрактные понятия из вторых рук: логику, эстетику, грамматические эффекты, игру слов». Расхождения же между Бретоном и Голлем касались прежде всего степени влияния на них фрейдовского учения: если Бретон в этом смысле шел едва ли не дальше самого Фрейда, то для Голля психоанализ в искусстве был неприемлем: «Как будто учение Фрейда возможно перенести в мир поэзии! Не называется ли это перепутать психиатрию с искусством?»
Соединение несоединимого имеет место и в живописи: растекаются, как тесто, металлические корпусы часов и туловища людей, теряют опору каменные плиты и здания, женский торс переходит в изображение хищного зверя и т. д. Кризис сознания, абсурдность жестокой действительности, неумолимость обстоятельств, катастрофичность событий – все эти и подобные им ощущения воплощались в живописных полотнах сюрреалистов (С. Дали, И. Танги, Ф. Пикабиа, П. Челищев, Х. Миро и др.). К эстетике сюрреализма обращались также деятели кино (Л. Бунюэль, Ж. Кокто), театра (А. Арто) и других видов искусства.
Просуществовало направление сюрреализма до конца 1930-х годов, оставив след в искусстве Франции, Бельгии, Германии, Чехословакии, Югославии, ряда латиноамериканских и других стран.
Являясь своеобразным продолжением символизма (творчества А. Рембо, Лотреамона и др.) и дадаизма, сюрреализм, в свою очередь, повлиял на такие литературные явления 2-й половины XX в., как «новый роман», театр абсурда и др.
Школа «потока сознания»
Понятие «поток сознания» (англ. «Stream of consciousness») было введено в обращение известным американским философом и психологом Уильямом Джеймсом. В 11-м разделе своей книги «Основы психологии» (1874–1890) ученый утверждал: «Сознание никогда не рисуется самому себе раздробленным на куски. Выражения типа «цепь» или «ряд» не рисуют сознание так, как оно представляется самому себе. В нем нет ничего, что могло бы связываться, – оно течет… Метафора «река» или «поток» всегда более естественно рисует сознание. Поэтому позвольте нам в дальнейшем, говоря о нем, называть его «потоком мысли», «потоком сознания», «потоком субьективной жизни»».
Суждения У. Джеймса были восприняты писателями разных стран: Джеймсом Джойсом, Вирджинией Вулф (Англия), Марселем Прустом (Франция), Уильямом Фолкнером, Гертрудой Стайн (США), Альфредом Дёблином (Германия) и др. Особенно заметное развитие школы «потока сознания» приходится на 20—30-е годы XX в.
В литературоведении различают «поток сознания» как отдельный художественный прием в ряду других приемов и как литературную жанровую форму (в таких случаях говорят: роман «потока сознания»).
Как художественный прием «поток сознания» довольно часто отождествляется с внутренним монологом, который использовался еще в литературе XIX в.; впервые же упоминается, по мнению американских исследователей, в романе А. Дюма «Двадцать лет спустя», а в русской литературе – в рецензии Н.Г. Чернышевского на произведения Л. Толстого «Детство и отрочество» и «Военные рассказы» («Современник», 1856, № 12). Внутренний монолог используется Стендалем, Л. Толстым, Ф.М. Достоевским, Э. Хемингуэем, Т. Драйзером, О. Хаксли, Г. Грассом и многими другими авторами XIX–XX вв.
«Поток сознания» – в отличие от внутреннего монолога с его логичностью, последовательностью, причинно-следственными связями – характеризуется такими чертами, как обрывистость мысли, временные напластования и сдвиги, тенденция к алогичности, субъективность, отсутствие заданности, сознательная ненаправленность. Мысли, ассоциации, впечатления, воспоминания как бы перебивают друг друга, соединяются по принципу случайности и ненарочности, как это и происходит с сознанием и подсознанием в естественной жизни человека. Близки к «потоку сознания» и приемы «внутреннего анализа» (похож на внутренний монолог, однако отмечен алогичностью), «сенсорного впечатления» (предусматривает обрывистость не только мыслей, фраз, но и отдельных слов), диссонанса и др. Под техникой «потока сознания» обычно понимают совокупность всех этих приемов.
Вспомним эпизод из романа Альфреда Дёблина «Берлин, Александерплац» (1929), когда полиция вместе с замешанным в убийстве Мицци персонажем ищет труп несчастной; в потоке сознания этого героя, жестянщика Карла, все переплелось и перепуталось: «Едут знакомой дорогой. Хорошо ехать. А еще лучше бы выпрыгнуть из машины. Да где там! Сволочи, руки связали, ничего не поделаешь. И шпалеры у них при себе. Так что ничего не поделаешь, как ни крути. Едут, шоссе летит навстречу. Мицци, ты мне всех милей, дарю тебе сто двадцать дней… Сядь ко мне на колени. Какая славная была девушка, а этот негодяй, этот Рейнхольд, по трупам шагает. Ну погоди же! Вспомнишь Мицци… Вот откушу тебе язык… Как она целоваться-то умела! Шофер тогда еще спрашивал, куда ехать: направо или налево? Я и говорю – все равно куда! Милая ты моя, милая девушка…»
Или еще один из множества эпизодов, на этот раз с участием главного героя Франца Биберкопфа: «Смотрит – два снимка рядом. Что это? Франц похолодел весь. Это же – я. Но почему же я здесь, из-за дела на Штралауерштрассе? Ужас какой, это же я, а рядом – Рейнхольд, а сверху – заголовок: «Убийство в Фрейенваль-де…» Мицци! А это кто же? Я?.. Тише, мыши, кот на крыше… Да что ж это?» (роман цитируется в переводе Г. Зуккау).
«Прием и техника потока сознания имели у разных писателей разное содержание и смысл… – пишет Н.С. Павлова (справедливо заметившая, что имеющийся перевод не дает полного представления о повествовательной технике Дёблина, в том числе о его потоке сознания). – Для Дёблина в потоке сознания скрыта своя актуальность. Специфически дёблиновский смысл этой техники сводится к возможности показать трение внутреннего и внешнего пластов действительности, т. е. все то же внедрение (bohren) жизни в сознание человека» (1, 123). Не случайно Дёблина применительно к его собственному творческому методу решительно не устраивало слово «описывать». «В романе следует наслаивать, скапливать, перекатывать, толкать» (schichten, häufen, wälzen, schieben) (2, 447).
Иногда прием «потока сознания» используется как универсальное средство изображения действительности, единственно возможное для передачи психически-психологической жизни персонажа. В этом случае говорят уже о жанровой форме – о романе «потока сознания». В отличие от романа традиционного, он, по мнению американского литературоведа М. Фридмана, «течет безостановочно, легко, работая спонтанно, с реминисценциями и предчувствиями», внимательно относясь к сознанию и подсознанию персонажа.
Классическими образцами романа «потока сознания» считаются романы Дж. Джойса «Улисс» (1922) и «Поминки по Финнегану» (1939), У. Фолкнера «Шум и ярость» (1929). Большое место занимает «поток сознания» в многотомном романе М. Пруста «В поисках утраченного времени», над которым писатель работал с 1905 по 1922 г.; однако здесь ассоциативное повествование ближе к внутреннему монологу, в большей степени (за некоторым исключением) логично, к тому же, как и у А. Дёблина, в романе М. Пруста дают о себе знать и другие художественные направления, прежде всего импрессионизм и реализм (у Дёблина – натурализм, реализм, символизм, экспрессионизм, футуризм, а также «эпический театр» Б. Брехта и др.).
Как прием «поток сознания» используется и в собственно реалистической литературе, и в авангардистской, например, в «психологическом» ответвлении такого направления, как «новый роман».
Источники
1. Павлова Н.С. Типология немецкого романа: 1900–1945. М., 1982.
2. Döblin A. Die Vertreibung der Gespenster. Berlin, 1968.
Основные литературные явления 2-й половины XX в
Реализм
Мировая литература во второй половине XX в. характеризуется в основном развитием тенденций, сформировавшихся в период между Первой и Второй мировыми войнами, – тенденций реалистической и авангардистской, а также большей степенью их взаимопроникновения. При этом собственно реалистический художественный метод изменился так, что, по справедливому замечанию Л.Г. Андреева, «порой и само применение термина «реалистический» затруднительно, – при том, что речь идет об искусстве немодернистском…» (1, 16).
Однако и в достаточно традиционных художественных формах реалистическое искусство слова во 2-й половине XX века не прекратило существования, особенно в первые послевоенные десятилетия, когда появилась, как вспышка, целая волна эпических литературных произведений. Назовем лишь некоторые из них: трилогии словацкого писателя Владимира Минача «Время долгого ожидания» (1958), «Живые и мертвые» (1959), «Колокола возвещают день» (1961) и его соотечественника Винцента Шикулы «Мастера» (1976); цикл романов сербского прозаика Иво Андрича «Мост на Дрине», «Травницкая хроника», «Барышня» (все – 1945 г.); роман-эпопея польского писателя Ярослава Ивашкевича «Хвала и слава» (1956–1962); трилогии немецких писателей Юрия Брезана «Гимназист» (1958), «Семестр потерянного времени» (1960), «Годы возмужания» (1964) и Вилли Бределя «Родные и знакомые» («Отцы, 1941; «Сыновья», 1949; «Внуки», 1953); заключительные романы трилогии американского писателя Уильяма Фолкнера «Город» (1957) и «Особняк» (1959) (первая часть, роман «Деревушка», вышла в 1940 г.) и др.
Внимание писателей-реалистов в первые послевоенные десятилетия было приковано к антифашистской, антивоенной проблематике. Произведения послевоенной литературы объединяло стремление авторов раскрыть сущность фашизма, его социально-исторические корни и философские истоки. При этом учитывалась многомерность понятия «фашизм», его социально-политические и философско-психологические аспекты, все бесчисленное множество их оттенков, глубокое постижение которых возможно именно художественными средствами, и более всего – литературными. Восточнонемецкий писатель Франц Фюман дал, например, такую суммарную характеристику фашизма: «В области идеологии (при всех формах проявления в недавнем прошлом и настоящем) фашистскими мне представляются следующие черты: элитарное презрение к массе и одновременно стремление раствориться в безликом («магия солдатского строя»); …застывшее мышление – существует только черное или белое; прославление всего жестокого, ужасного, кровавого, доисторического с одновременным преклонением перед техническим и индустриальным; требование милитаризации всей общественной жизни, вплоть до жизни личной, при одновременном одобрении анархической борьбы всех против всех; клевета на разум, совесть и сознание; принцип фюрерства; демагогия, фанатизм… – и все это вместе, не изолировано одно от другого». Художники слова показывали различные слагаемые фашизма в мышлении и действительности.
В первые послевоенные десятилетия писатели, обращавшиеся к теме фашизма и войны, опирались чаще на собственный житейский опыт, отдавая предпочтение детальному описанию событий. Следует подчеркнуть специфику немецкой антифашистской литературы: в то время как писатели других стран раскрывали в своих произведениях историческую вину фашистской Германии перед всем миром, немецкие ставили перед собой цель осознать вину и ответственность гитлеровцев не только перед чужими народами, но и перед своим собственным. Отсюда и проблемно-тематические особенности немецкой литературы (главный персонаж, как правило, не герой, иными словами – не положительное лицо, а, в лучшем случае, жертва нацистской идеологии), и сюжетные: например, солдат-фронтовик непосредственно в бою изображается редко. Очевидно, это объясняется интересом писателей не к внешней стороне поведения персонажа, а к его сознанию, к мотивации поступков, стремлением разобраться, чем был подготовлен приход персонажа к фашизму, как лично он относится к событиям, в которые оказался втянутым гитлеровской военной машиной.
С начала 1960-х годов литература о фашизме и войне приобретает новые черты. Позже, в 1970—1980-е годы, искусство слова откроет в антифашистской теме дополнительные грани, заглянет в самую ее суть, однако ключ к подлинному осмыслению этого наиважнейшего жизненного материала был найден, безусловно, в 1960-е годы. Новое дало о себе знать в том, что широкоохватное повествование уступает место личностному, все чаще акцентируется нравственно-духовная сторона конфликта, более полнокровными становятся характеры персонажей. Поворот от события к человеку отразился и на художественной структуре произведений, на жанрово-стилевых решениях. Антифашистская литература постепенно из черно-белой гравюры превращается во все более многоцветную картину. Исследование поведения человека в экстремальной ситуации сопровождается углублением психологизма, широко используются принципы монтажа, множественности точек зрения, условности, сюжетной незавершенности. Трудно даже перечислить крупных представителей мировой литературы 2-й половины XX в., писавших о фашизме и войне; назовем таких как Норман Мейлер, Уильям Стайрон (США); Генрих Бёлль, Ганс Вернер Рихтер, Альфред Андерш, Вольфганг Кёппен, Зигфрид Ленц, Гюнтер Грасс, Анна Зегерс, Герман Кант, Франц Фюман, Макс Вальтер Шульц, Дитер Нолль (Германия); Ежи Путрамент, Ежи Анджеевский, Зофья Налковская (Польша); Ян Отченашек, Винцент Шикула, Цирил Космач (Чехословакия); Робер Мерль, Луи Арагон, Поль Элюар (Франция) и многие другие.
Значительным явлением в реалистической литературе XX в., особенно второй его половины, стал политический роман, авторы которого продолжили традиции жанров жизнеописания, исторического романа, мемуаров. Широкое распространение политического романа именно во 2-й половине XX столетия обусловлено самой действительностью с ее политическими событиями – войнами и путчами, национально-освободительными движениями, неофашизмом и терроризмом, организованной преступностью и т. п. Литературоведы считают политический роман чрезвычайно перспективным и показательным для нашей эпохи. В его русле работали писатели Англии, где был особенно популярен так называемый антиколониальный роман (Грэм Грин, Джеймс Олдридж), а также Франции, США, Латинской Америки.
Как своеобразная художественная поправка к утопическому мышлению формируется антиутопия. Возникшая на рубеже XIX–XX вв. и получившая развитие в межвоенный период, она становится особенно популярной после Второй мировой войны. Если утопия представляет собой произведение о наилучшем государственном устройстве, о совершенном, гармоничном человеке, то антиутопия – это категорическое, радикальное отрицание не только возможности, но и самой желательности ориентироваться на утопические представления. Причем отрицание это осуществляется по преимуществу теми же, что и в утопии, художественными средствами – через придуманную модель, предназначенную убедить читателя, что любая попытка воплотить утопию на практике неизбежно ведет к деспотизму, насилию над законами природы и истории, над личностью, наконец. В последние десятилетия века тематика антиутопической литературы значительно расширилась: уже не только социально-политические преобразования стали объектом изображения в ней, но и опасность атомной или ядерной войны, технические и экологические катастрофы, бездуховность, отсутствие исторической памяти, терроризм. В форме антиутопии после Второй мировой войны работают Энтони Бёрджесс (Англия), Станислав Лем (Польша), Курт Воннегут, Рей Дуглас Бредбери (США), Робер Мерль (Франция), Гюнтер Грасс (Германия) и др.
Велико значение философской проблематики в мировой реалистической литературе 2-й половины XX в.; при этом необходимо учесть, что на писателей, обращавшихся к этой проблематике, достаточно сильное влияние оказала философия экзистенциализма (Айрис Мердок и Уильям Голдинг в Англии, Кобо Абэ в Японии, Робер Мерль во Франции, Ганс Эрих Носсак в Германии и др.).
Источники
1. Андреев Л.Г., Карельский А.В., Павлова Н.С. и др. Зарубежная литература XX века. М., 1996.
Авангардизм
«Новый роман»
Вопрос о «новом романе» (или неоромане, антиромане) имеет непосредственное отношение к бурным дискуссиям, развернувшимся в 1950—1970-е годы (да и позднее не угасшим, даже несколько обострившимся в связи с феноменом постмодернизма) вокруг судеб традиционных литературных жанров, в частности, жанра романа. Своего рода кульминации эти споры достигли в конце 1950-х – 1-й половине 1960-х: английские, французские, американские журналы, издания других стран публиковали диалоги о судьбах современного романа с видными писателями и критиками, интервью и анкеты, опросы и материалы коллоквиумов. Именно после одного из литературных симпозиумов во Франции (1956) и вошло в обиход понятие «новый роман».
По инициативе Европейского сообщества писателей 5–8 августа 1963 г. в Ленинграде состоялась Международная встреча европейских писателей, посвященная проблемам романа; в ней приняло участие 83 зарубежных гостя, в том числе писатели и критики из ФРГ и ГДР. Как и следовало ожидать, деятели литературы ГДР стеной встали на защиту традиционного реалистического романа. В частности, критик Ганс Кох утверждал: «Период фашизма и борьбы против него был одновременно периодом сурового испытания литературных методов. По-моему, метод написания романа нельзя отделять от позиции пишущего. А разве, например, метод Кафки, который нам здесь рекомендовали в качестве образца, не связан самым тесным образом с позицией беспомощной, беззащитной жертвы бесчеловечного для этой жертвы, непостижимого мира? Могут ли подобная позиция и подобный метод действенно способствовать уничтожению фашизма в общественной жизни и в душах людей? Я так не думаю. Мы стоим на позициях борьбы против фашизма и войн, и реалистический метод, метод социалистического реализма в немецкой литературе, как выражение этой позиции, выдержал в период фашизма тяжелейшее историческое испытание. В той же мере он оправдал себя и после 1945 г. – и в литературе, и в жизни» (1, 236). В поддержку реалистической прозы выступил также поэт и публицист из ГДР Пауль Винс.
Западногерманские писатели, напротив, приводили аргументы в пользу необходимости кардинального обновления литературы. «Кафка, Музиль, Джойс, Пруст – все это уже история литературы, – говорил Ганс Вернер Рихтер, один из основателей и руководитель «Группы 47», – и я не вполне понимаю позицию некоторых моих коллег. Что касается меня, то я разделяю взгляды французской делегации. Я не слышал выступления Натали Саррот, но это и не нужно было – ведь я читал ее книги и склоняюсь к ее мнению». В ответ на расспросы о «Группе 47» Рихтер заметил, что однозначно изложить позиции всех участников этого объединения достаточно трудно, но, сказал он, «я полагаю, что эти писатели близки к устремлениям французских авторов» (1, 242). Русским писателям Рихтер адресовал свое пожелание скорее выйти за пределы социалистического реализма.
Другой западногерманский писатель, Ганс Магнус Энценсбергер, стараясь быть сдержанным в своих рассуждениях, тем не менее подчеркнул, что все немецкие романы, вышедшие сразу после войны, были антифашистскими; но чтобы произведение стало подлинным литературным достижением, только одного этого недостаточно. Тот же роман Э.М. Ремарка «Искра жизни», повествующий о концлагере, Энценсбергера совершенно не удовлетворил, ибо «построен как все старые добрые реалистические романы», все в нем «следует одно за другим и все находится в соответствии: стиль, форма, изложение и т. д.», а потому «книга эта лживая» (1, 219). В качестве писателей, отказавшихся от старых методов и прибегших к новым изобразительно-выразительным средствам, включая открытия Кафки, Брехта и других художников, создавших в результате крупные произведения литературы, Энценсбергер назвал прежде всего Вольфганга Кёппена и Гюнтера Грасса. Он, как и Рихтер, выразил надежду на то, что советская литература тоже подвергнет пересмотру свои методы, чтобы более адекватно изображать современность.
Вопрос судьбы традиционного («бальзаковского») романа волновал, разумеется, литературоведов, критиков, а также самих писателей и в других странах; закономерно поэтому, что он находил отражение даже в художественных произведениях. Так, в одном из эпизодов романа американского писателя Курта Воннегута «Бойня номер пять, или Крестовый поход детей» (1969) читаем: «Совсем рядом с отелем, где остановился Билли, была радиостудия. Билли увидал название на дверях и решил войти. Он поднялся в студию на скоростном лифте, а там, у входа, уже ждали какие-то люди. Это были литературные критики. Они пришли участвовать в дискуссии – жив роман или же он умер. Такие дела…
В самом начале программы Билли поднял руку, но ему пока что не дали слова. Выступали другие. Один критик сказал, что сейчас… пришло самое время похоронить роман. Другой сказал, что теперешний читатель уже не умеет читать как следует, так, чтобы у него из печатных строчек складывались волнующие картины, и поэтому писателям приходится поступать, как Норман Мэйлер, то есть публично делать то, что он описывает. Ведущий спросил участников беседы, какова, по их мнению, задача романа в современном обществе, и один критик сказал: «Дать цветовые пятна на чисто выбеленных стенах комнат». Другой сказал: «Художественно описывать взрыв». Третий сказал: «Научить жен мелких чиновников, как следовать моде и как вести себя во французских ресторанах»». По сути, в несколько гротескной форме здесь представлены полярные точки зрения на роман и на его задачи, различные его концепции – от экспериментально-авангардистской до описательно-бытовой, прикладной даже.
Американский критик Г. Кабли утверждал в статье «Роман исчезает»: «История романа… удивительно коротка… роман стоит перед опасностью исчезновения» (цит. по: 2, 8). Начало кризиса, настоящей деградации романа критик относит к 1939 г., связывая эту тенденцию с такими явлениями, как конъюнктура книжного рынка, засилье телевидения, беспомощность критики, отсутствие эстетического вкуса у массового читателя, а главное – кризис сознания, распространение экзистенциалистской концепции человека и мира. В жизни сегодня редко встретишь настоящую личность, подлинного героя – нет их и в литературе; редко происходят значительные события – в литературе, как результат, нет сюжетов, нет действия, динамики; царит абсурдистский взгляд на существование – в литературе отсутствует определенное, четкое, глубокое толкование чего бы то ни было, торжествует же относительность, зыбкость всего и вся. Деформируется мир – деформируется литература.
На место романа традиционного, ставшего уже будто бы анахронизмом, и был предложен так называемый «новый роман». К числу писателей-неороманистов относят ряд прежде всего французских авторов – Натали Саррот, Алена Роб-Грийе, Мишеля Бютора, Клода Симона и др. В качестве своих предшественников эти художники слова справедливо рассматривали Джеймса Джойса, Марселя Пруста, Франца Кафку, Уильяма Фолкнера, Андре Жида, Вирджинию Вулф. Характерны рассуждения, например, Саррот (именно ее позиция была поддержана, как упоминалось, на писательской встрече в Ленинграде немецким прозаиком Г.В. Рихтером). В программном эссе «Эра подозрения» (1956) она пишет: «Начиная с блаженных времен «Евгении Гранде», когда, достигнув вершины своего могущества, персонаж восседал на троне между читателем и романистом как объект их совместного поклонения… он только и делает, что утрачивает мало-помалу свои атрибуты и прерогативы. Наделен он был богаче некуда, осыпан всевозможными благами, окружен неусыпной заботой; ни в чем у него не было недостатка – от серебряных пуговиц на штанах до шишки с кровавыми прожилками на кончике носа. И постепенно он все это растерял: своих предков, свой заботливо выстроенный дом, набитый с чердака до подвала самыми различными вещами, вплоть до самых ничтожных безделушек, свои земли и денежные бумаги, свою одежду, тело, лицо и, главное, свое самое драгоценное достояние – характер, принадлежащий только ему лично, а зачастую даже и свое имя».
Что же в этом случае остается от прежнего сюжета и от прежнего персонажа, что, наконец, остается делать читателю? Читатель «уже не может… плестись на поводу подсовываемых ему знаков, руководствуясь своими повседневными навыками, – продолжает Саррот. – Чтобы понять, о ком идет речь, он вынужден, подобно самому автору, распознавать персонажи изнутри, с помощью указаний, которые обнаруживает, только если откажется от тяги к интеллектуальному комфорту, погрузится во внутреннюю жизнь персонажей так же глубоко, как сам автор, и освоит авторское видение».
Иначе говоря, в неоромане отсутствует традиционный персонаж (это значит – всесторонне поданный, от характера до внешности, от сословной до национальной, возрастной, имущественной принадлежности и т. п.) и традиционный сюжет. Структура произведения дробится на единичные мгновения, поступки, ощущения, точно так же дробится и персонаж – перед нами своеобразный калейдоскоп состояний, чувств, переживаний, иногда, на первый взгляд, мало или совершенно не связанных с теми или иными конкретными событиями и явлениями действительности.
Почти одновременно с Саррот о том же писал и А. Роб-Грийе в статье «О нескольких устаревших понятиях» (1957), имея в виду под «устаревшими понятиями» именно персонаж и сюжет («историю», по терминологии автора). Во времена Бальзака, считал Роб-Грийе, иметь имя, характер, родственников, профессию, внешность для героя было, несомненно, важно. Однако «роман с персонажами, безусловно, принадлежит прошлому», как принадлежат прошлому и сюжет, и традиционная техника повествования – «систематическое использование простого прошедшего времени… и третьего лица, безусловное требование хронологического порядка в изложении событий, линейности интриги, ровная траектория эмоционального развития, стремление каждого эпизода к своему завершению и т. п.», что было «направлено на создание образа устойчивого, внутренне связанного и последовательного, однозначного, поддающегося расшифровке мира. И поскольку понятность этого мира даже и не ставилась под сомнение, само рассказывание не представляло никакой проблемы. Романическое письмо могло оставаться наивным».
Неороман имеет два ответвления, или направления. Первое – психологическое («суперпсихологизм»), с интересом к сознанию и подсознанию, к «сумеркам души» (Н. Саррот, К. Мориак), второе – так называемый вещизм, или шосизм (шозизм), от фр. chose – вещь, когда абсолютизируется описание вещей и предметов, теряющих при этом нравственно-философский и какой бы то ни было аллегорический, символический характер (А. Роб-Грийе, М. Бютор и др.). Мир подобен лабиринту, и человек в нем лишен связей с другими людьми, привычных ориентиров-представлений о прошлом, настоящем и будущем, о том, что такое добро и зло; персонаж же если и изображается, то во внешних проявлениях своего чисто физического бытия – в жестах, мимике и т. п. Обусловлено это, согласно А. Роб-Грийе, тем, что личность не способна к самоидентификации, утратила собственную целостность, связь с миром, становящимся все более чужим, хаотичным, холодным, враждебным по отношению к человеку.
С французским «новым романом» можно познакомиться на материале книг Н. Саррот «Тропизмы» (1938; сборник миниатюр, в которых уже было положено начало своеобразной художественной манере писательницы), «Планетарий» (1959), «Золотые плоды» (1963), «Вы слышите их?» (1972), М. Бютора «Изменение» (1957), А. Роб-Грийе «В лабиринте» (1959), К. Симона «Дороги Фландрии» (1960)и др.
Самодостаточность письма, асоциальность, фрагментарность и алогичность усугубляются в своего рода продолжении неоромана – неонеоромане («новом новом романе»), или структуралистском «романе-тексте», французского писателя Филиппа Соллерса («Драма», 1965; «Числа», 1968; «Бомбоводородный роман», 1973) и его единомышленников.
Элементы поэтики «нового романа» обнаруживаются и в творчестве писателей других стран, в том числе немецкоязычных, – у западногерманских художников слова Гюнтера Грасса («Жестяной барабан»), Мартина Вальзера («Единорог», «Крушение»), Уве Йонсона («Третья книга об Ахиме») и др., у австрийских – Петера Хандке («Шершни», «Страх вратаря перед одиннадцатиметровым»), Эльфриды Елинек («Пианистка») и др.
Общеевропейская тенденция к обновлению прозы, ее языка и жанровых форм, в еще большей степени проявилась в деятельности участников «кёльнской школы нового реализма», пришедшейся в основном на 1960-е – первую половину 1970-х годов: Гюнтера Гербургера (роман «Ярмарка»), Рольфа Бринкмана (роман «Никто не знает больше», сборник новелл «Объятия»), Дитера Веллерсхофа (роман «Прекрасный день»), Уве Тимма (роман «Жаркое лето»), Рора Вольфа (книга «Точка есть точка»), а также Уве Фишера, Людвига Харига, Юргена Беккера, Хельмута Хайсенбюттеля, Клауса Штиллера и др. Например, Ю. Беккер предложил новую жанровую форму – «поля», опубликовав под этим названием свои экспериментальные тексты; Л. Хариг положил в основу своей книги «Консультации по немецко-французскому взаимопониманию и взаимопониманию других членов «общего рынка»» учебник французского языка и т. д. Использовались самые разнообразные абсурдистские приемы, гиперцитация, коллаж, нарушались или отвергались вовсе грамматические и синтаксические нормы. На этих писателей большое влияние оказывали не только французские, но и американские авангардисты, в частности – художник, писатель, сценарист и кинорежиссер Энди Уорхол.
Источники
1. Материалы Международной встречи писателей Европы в Ленинграде // Иностранная литература. 1963. № 11.
2. ЗатонскийД. Искусство романа и XX век. М., 1973.
Театр абсурда
Такое направление, как театр абсурда, сложилось в Европе, прежде всего во Франции, в 1950—1960-х годах. Французские драматурги Эжен Ионеско, Сэмюэл Беккет, Жан Жене, английские – Том Стоппард и Гарольд Пинтер, польский – Славомир Мрожек, чешский – Вацлав Гавел и другие предложили читателю и зрителю свое нетрадиционное видение человека и жизни. Поиски и эксперименты этих драматургов были в определенном смысле близки к поискам неороманистов в прозе. Как и неороманисты, вышеназванные художники отказались от традиционных персонажа и сюжета, судьбу человека они воплощали не в конкретных образах, а в обобщенно-символических, универсальных, которые могли бы интерпретироваться по-разному и даже противоположным образом. В театре абсурда изображалась не столько сама жизнь, сколько ее иллюзорность, видимость; человеческое существование лишалось движения, динамики, действия в любом, каком бы то ни было широком смысле слова, уподоблялось процессу воспоминаний или элементарного говорения.
Проблемы, которые поднимал театр абсурда, касались самых драматических и даже трагических аспектов человеческой жизни и решались чаще в экзистенциалистском духе. Не случайно наиболее распространенные в театре абсурда жанровые формы – трагикомедия и трагифарс. «Паскаль в исполнении клоунов», – метко определил театр абсурда французский драматург Жан Ануй. Человек отчужден, изолирован от общества, он одинок и беспомощен, слаб перед судьбой и обстоятельствами, личность его разъята, душевно-духовное и телесно-физическое как бы автономны, разъединены (как дополнительную возможность подчеркнуть эти свойства персонажей С. Беккет, например, часто наделяет своих героев той или иной патологией: они бессильны, слепы или парализованы, одиноки, стары и живут в ожидании смерти и т. п.).
Кроме понятия «театр абсурда», существуют и разные другие определения этого драматургического явления: «театр шутки», или «театр насмешки» (Э. Жаккар), «театр парадокса» (Э. Ионеско), антидрама, антитеатр и др., но в широкий обиход вошло именно понятие «театр абсурда». Известный чешский драматург Вацлав Гавел (не менее, правда, известный и как политик) писал о театре абсурда как о «самом значительном явлении в театральной культуре столетия», ибо именно в нем нашел воплощение современный человек в состоянии глубочайшего кризиса. «Мне кажется, что если бы театр абсурда не существовал уже до меня, мне следовало бы его выдумать», – заметил В. Гавел.
Поэтику антидрамы, ее композиционно-стилевую структуру составляет комплекс определенных художественных приемов. Большое место отводится монологам, часто приближающимся к «потоку сознания», еще более, условно говоря, натурализованному, чем даже у Джеймса Джойса. Отсутствует слитность отдельных элементов; например, внешне часто могут быть не связаны между собой название и содержание произведения, сцены, реплики в диалоге. Реальность художественно трансформирована, доминирует гротеск, по-сюрреалистски соединено несоединимое, совмещено несовместимое. Гротескный мир находит свое, гротескное воплощение, предназначенное создать ощущение абсурдности человеческого существования.
При желании и соответствующих усилиях в антипьесах можно усмотреть нечто вроде композиции. Или, точнее, своего рода композицией здесь и является ее отсутствие. Э. Ионеско в связи с этим подчеркивал: «Иногда отсутствие структуры – это и есть структура». Антипьесы часто строятся по принципу калейдоскопа, монтажа отдельных реплик или попыток совершить действие, тот или иной поступок (именно попыток, а не собственно поступков, ибо, как правило, в театре абсурда ничего по-настоящему не происходит: персонаж намеревается произнести речь, но оказывается глухонемым, хотел бы отправиться в путь, но не трогается с места и т. п.). Герои часто анонимны, иногда названы инициалами, посредством чего подчеркивается их безличность, неадекватность собственному «я», унифицированность, множественность, обобщенность.
Среда, в которой действуют герои (или, скорее, не действуют не-герои), – это замкнутое пространство, акцентирующее несвободу человека, его неспособность опять же хоть что-нибудь изменить в своем существовании. Невозможно жить, но невозможно и умереть – вот едва ли не универсальная формула для театра абсурда. Среду, подобную той, в которой находятся персонажи абсурдистской драмы, даже трудно представить как физическую: пустота, некая сюрреальность, в которой все неопределенно, зыбко, относительно. Нет и времени в традиционном смысле слова, недаром театр абсурда именуют еще «театром остановленных часов». Э. Ионеско на этот счет заметил: «Каждое время требует своей «вневременности», которую невозможно передать посредством обычного времени и обычного контакта».
На раскрытие алогичности бытия, отчужденности людей работают, так сказать, и циклично-тавтологическое построение антипьес в целом и отдельных их действий и сцен, и намеренно неупорядоченная речь персонажей, часто доводимая автором до пароксизма и существующая как бы отдельно от действий и желаний персонажей. «Никто никого по-настоящему не слышит, если не хочет услышать. Разговор глухонемых», – так комментировал Э. Ионеско речевые ситуации в антидраме.
Театр абсурда содержит в себе своеобразный провокационный дискурс, он ориентирует читателя и зрителя на поиски спрятанного смысла – как произведения, так и самой человеческой жизни. Образцы театра абсурда: «В ожидании Годо» (1952), «Счастливые дни» (1960), «Игра» (1964), «Звук шагов» (1976), «Кульминация» (1982) С. Беккета; «Лысая певица» (1950), «Стулья» (1952), «Носороги» (1959), «Воздушный пешеход» (1962), «Король умирает» (1962) Э. Ионеско; «Стриптиз» (1961), «Танго» (1964), «Счастливый случай» (1973), «Эмигранты» (1975), «Дом на границе» (1980) С. Мрожека; «Автостоп» (1961), «Сообщение» (1965), «Праздник в саду» (1968), «Аудиенция» (1975), «Протест» (1978) В. Гавела и др.
В западногерманской литературе в русле театра абсурда работали Вольфганг Хильдесхаймер («Трон дракона», 1955; «Пастораль», 1958; «Пейзаж с фигурами», «Часы», 1959; «Ноктюрн», 1963); Гюнтер Грасс («Наводнение», «Дядя, дядя», 1957; «Злые повара») и др.; в австрийской – Петер Хандке («Поругание публики», 1966; «Каспар», 1967; «Опекаемый хочет стать опекуном», 1969; «Всякая всячина», 1970; «Верхом по Боденскому озеру», 1971).
Постмодернизм
Постмодернизм – интересное и весьма непростое явление. Пристальное внимание западных исследователей оно привлекло на рубеже 1970—1980-х годов, но до сего времени многие связанные с ним вопросы остаются спорными. В первую очередь это касается сути постмодернизма. Одни считают, что постмодернизм – это специфическое мировосприятие, «новое виденье мира», выражение духа нашего времени. Другие рассматривают его как своеобразный стиль. Спорным является и вопрос о том, когда возник постмодернизм: по мнению одних, это определенный способ мышления, который нельзя закрепить за конкретной эпохой; по мнению других, постмодернизм имеет истоки в искусстве 1-й половины XX в., в частности – в романе Джеймса Джойса «Улисс» (1922) и особенно в романе «Поминки по Финнегану» (1938), в целостную же художественную систему он сложился уже во 2-й половине XX столетия.
Все же исследователи постепенно приходят к относительно общему знаменателю. Считается, что постмодернизм – действительно достаточно необычное восприятие мира как текста (мир есть текст). А поскольку во 2-й половине XX в. это мировосприятие нашло воплощение в огромном количестве художественных произведений различной жанровой принадлежности, появились основания говорить о постмодернизме и как об определенном литературном стиле, «стиле письма». Главный признак такого стиля – направленность писательского внимания на литературное наследие, художественные манипуляции с созданным предшественниками. Ради большей ясности сравним: реалисты отталкиваются от действительности, авангардисты – от собственных переживаний и ощущений, какими бы субъективными, отдаленными от видимой реальности они ни были; постмодернисты же идут от уже известных, чужих литературных (а также исторических, культурных) мотивов, образов и целых текстов. Часто это тексты классические, они хорошо известны читателю, легко узнаются и вызывают совершенно определенные ассоциации. Иными словами, они и отдельные их составляющие представляют собой своеобразные знаки. Важно, однако, подчеркнуть: в каждом новом случае использования таких сюжетов, мотивов и образов они и интерпретируются по-новому, причем интерпретации эти, даже на уровне одного произведения, могут быть разными, вариативными.
Существует также ряд других, весьма значимых, признаков литературного постмодернизма. Постмодернистское произведение имеет, так сказать, гибридный характер, в нем переплетаются «высокие» и «низкие» жанры и жанровые формы. Например, в постмодернистском романе могут одновременно присутствовать элементы исторического, детективного, психологического, философского и других видов романа, в результате чего оказываются совмещенными занимательность и интеллектуальная глубина. «С одной стороны, – пишет известный российский исследователь постмодернизма И.П. Ильин, – используя тематический материал и технику популярной, массовой культуры, произведения постмодернизма обладают рекламной привлекательностью предмета массового потребления для всех людей, в том числе и не слишком художественно просвещенных. С другой стороны, пародийным осмыслением более ранних – и преимущественно модернистских – произведений, иронической трактовкой их сюжетов и приемов он апеллирует к самой искушенной аудитории» (1, 218–219).
Писатель-постмодернист культивирует, прежде всего в прозе, и такие жанры, которые традиционно считались далеко не главными, периферийными, маргинальными: эссе, трактат, рецензию, словарь и т. п. Кроме того, в одном и том же постмодернистском произведении комбинируются не только жанры и известные сюжеты, мотивы и образы, но и уже известные литературные стили. Этим обусловливается такое качество постмодернизма, как стилевой полифонизм. Функцию же объединителя разных элементов выполняет цитирование (цитация), явное или скрытое, которым объясняется интертекстуальность постмодернистского произведения. Происходит своего рода литературная игра, посредством которой образы-знаки, мотивы-знаки лишаются первоначального смысла, переиначиваются, подвергаются пародированию и иронизированию, своего рода карнавализации, травестированию (ирония – одна из неизменных, постоянных слагаемых постмодернистского произведения), нередко сопровождающимся ощущением катастрофизма.
Отдается предпочтение определенным символам, которые часто используются в совокупности, создавая в романе, пьесе, новелле или стихотворении разветвленную систему знаков; это лабиринт, дворец, библиотека, книга, зеркало, сад, роза и ряд других. Все они таят в себе необходимость и возможность выбора любых направлений и поворотов, совершенно равнозначных друг другу, как стоят друг друга все слагаемые культурного наследия человечества.
Сжатую и достаточно точную характеристику постмодернизма дал в одной из своих работ немецкий исследователь этого явления Вольфганг Вельш: «С постмодернизмом мы имеем дело там, где практикуется осознанный плюрализм языков, моделей, методов, причем не только в разных произведениях, но и в одном и том же, то есть интерференциально, чересполосно» (2, 115). Суть и пафос постмодернизма В. Вельш видит в его принципиальной «антитоталитарности»: он «начинается там, где кончается целое. А потому всюду, где наблюдаются попытки ретотализации, постмодерн – в оппозиции… Постмодерн радикально плюралистичен, и не из-за поверхностности подхода или безразличия, но благодаря сознанию бесспорной ценности различных концепций и проектов. Видение постмодерна – видение плюралистичное» (2, 129). В отличие от модернизма с разными его направлениями, каждое из которых претендовало на исключительность, эксклюзивность, новаторство, постмодернизм «тотально инклюзивен, всеобъемлющ настолько, что даже оставляет место для диаметральной противоположности – пуризма» (2, 131), – приводит В. Вельш мнение Чарльза Дженкса. И продолжает: «Против чего ополчается постмодерн, так это только против тех тенденций, тех позиций, которые в принципе оспаривают подобный плюрализм. Постмодерн бежит всех форм монизма, унификации и тоталитаризации, не приемлет единой общеобязательной утопии и многих скрытых видов деспотизма, а вместо этого переходит к провозглашению множественности и диверсивности, многообразия и конкуренции парадигм и сосуществования гетерогенных элементов» (2, 132).
Понятия «постмодерн», «постмодерновый», «постмодернизм» встречались уже в 1-й половине XX в. Как выяснил Вольфганг Вельш, впервые понятие «постмодерн» прозвучало в 1917 г. в книге немецкого искусствоведа Рудольфа Панвица «Кризис европейской культуры» (речь шла о «постмодерном человеке»: «спортивного закала националистического настроя военной выправки религиозного беспокойства постмодерный человек это моллюск в панцире золотая середина между декадентом и варваром выплывший из рождающего водоворота великого декаданса радикальной революции европейского нигилизма»). Однако в сегодняшнем значении термин «постмодернизм» всплыл в 1959 г. в дискуссиях о состоянии литературы того времени; во 2-й же половине XX в., как уже отмечалось, постмодернизм и сформировался, приобретя многочисленных сторонников в разных национальных литературах.
В Аргентине это Хорхе Луис Борхес (1899–1986; стихи, прозаические миниатюры, рецензии, рассказы), Хулио Кортасар (1914–1984; роман «Игра в классики», 1963), Абель Поссе (род. в 1934 г.; роман «Райские псы», 1983); в Италии – Умберто Эко (род. в 1932 г.; роман «Имя розы», 1980 и др.); в США – Курт Воннегут (1922–2007; роман «Колыбель для кошки», 1963); в Англии – Том Стоппард (род. в 1937 г.; драма «Розенкранц и Гильденстерн мертвы», 1967 и др. пьесы), Джулиан Барнс (род. в 1946 г.; роман «История мира в 10 1/2 главах», 1989); в Югославии – сербский писатель Милорад Павич (род. в 1929 г.; роман «Хазарский словарь», 1984 и др.).
Очевидный интерес к постмодернизму демонстрировали во 2-й половине XX в. немецкие писатели Хайнер Мюллер (1929–1995), Патрик Зюскинд (род. в 1949 г.) и др. Из произведений П. Зюскинда (ФРГ) к числу постмодернистских, бесспорно, относятся пьеса-монолог «Контрабас», роман «Парфюмер», короткие рассказы «Завещание мэтра Мюссара» и «Amnesie in litteris» и некоторые другие.
В контексте постмодернизма рассматривают также так называемую тотальную драму Х. Мюллера (ГДР), соотносимую исследователями его творчества с концепцией Gesamtkunstwerk Рихарда Вагнера. В пьесах Мюллера «Гамлет-машина», «Гораций», «Филоктет в 1979. Драма с балетом (проект)», «Геракл 5», «Запущенный берег Медея – материал ландшафт с аргонавтами», «Германия смерть в Берлине», «Жизнь Гундлинга Фридриха Прусского. Сон мечта крик Лессинга», «Квартет», «Генрих фон Клейст играет Михаэля Кольхааса» и др. синтезированы элементы различных драматургических жанров, направлений и стилей – от барокко и романтизма до экспрессионизма, соцреализма, эпического театра Б. Брехта, «театра жестокости» А. Арто, различных мифологических и литературных сюжетов и образов, вербальных и невербальных средств изображения.
Источники
1. Ильин И. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. М., 1996.
2. Вельш В. «Постмодерн»: Генеалогия и значение одного спорного понятия // Путь. 1992. № 1.
Часть 2
Литература Германии на рубеже XIX–XX вв
Одним из самых важных событий в истории Германии нового времени стало воссоединение страны, завершившееся 18 января 1871 г. провозглашением Германской империи. Из «лоскутного одеяла», каким, по выражению Лессинга, долгое время была Германия, она в 70-е годы XIX в. начала превращаться в мощное государство с высокоразвитой промышленностью.
Бурное экономическое развитие страны сопровождалось милитаризацией всех областей ее жизни, усилившейся с приходом к власти в 1888 г. Вильгельма II. Именно в этот период получили широкое распространение печально известные теории, сводившиеся к утверждению превосходства «нордической расы», необходимости для «народа без пространства» завоевать «место под солнцем» и т. п. Пройдет не так уж много времени, и эти теории обернутся неисчислимыми бедствиями не только для немецкого народа, но и для всего человечества.
Сложность общественно-политической ситуации не могла не сказаться на литературном процессе. Картина его была поразительно пестрой. Цензура, сформировавшаяся к этому времени в целую систему изощренных государственных санкций, рынок и, наконец, сама общественная атмосфера в Германии имели следствием все большее распространение апологетической и тривиальной литературы. Последняя была представлена в самых различных формах: от толкователей снов, морализаторских книг для девочек-подростков, сенсационных повествований на социальные темы, псевдоисторических и колониальных романов до приключенческих повестей, детективов и порнографии, книг милитаристского содержания. Литература подобного рода преследовала отнюдь не только коммерческие цели, она была удобным средством манипулирования массовым сознанием.
Получило развитие так называемое областническое искусство, представители которого (Фридрих Линхард, Адольф Бартельс, Густав Френсен и др.) видели в развитии промышленности угрозу «корням» и в качестве идеала изображали крестьянина, «вечного сеятеля», не способного променять свой надел на городской ад.
В тесной связи с общественной ситуацией развивалась и философия Германии. Огромное влияние на духовную жизнь Европы начала XX в. оказал Фридрих Ницше (1844–1900); в этот период его философия явилась поистине духовной доминантой. Сын пастора, воспитанный в атмосфере протестантского благочестия, намеревавшийся изучать богословие, Ницше, однако, решительно сменил теологический факультет Боннского университета на факультет классической филологии. С 1869 г. он преподавал классическую филологию и греческий язык. Жизнь Ницше была, по словам С. Цвейга, «самой потрясающей драмой человеческого духа», «нечеловеческим воплем духовного одиночества», простершегося «через весь мир, через всю его жизнь от края до края». Первые симптомы ужасной болезни Ницше ощутил в 1873 г., в 1889 г. наступило окончательное помрачение.
Мировоззрение ученого, воплотившееся в работах «Рождение трагедии из духа музыки» (1872), «Человеческое, слишком человеческое» (1878), «Так говорил Заратустра» (1885), «По ту сторону добра и зла» (1886), «К генеалогии морали» (1887), «Сумерки идолов» (1888) и др., – это непрестанная эволюция, суть которой близка к смыслу рассказанной Заратустрой притчи о трех превращениях духа: «как дух становится верблюдом, львом верблюд и, наконец, ребенком становится лев». Верблюд – это «выносливый дух», «навьюченный» уже готовыми знаниями. Однако путь верблюда ведет «в пустыню», ибо способность только «к глубокому почитанию» всего готового, даже самого совершенного, опасна бесплодностью. Чтобы избежать ее, «львом становится дух, свободу хочет он себе добыть», дабы творить новое, дополняя им «тысячелетние ценности». Но «создавать новые ценности» можно лишь в чистоте и непосредственности, а потому «хищный лев должен стать еще ребенком», ибо «дитя есть невинность и забвение, новое начинание, игра».
Утверждением «своей воли» был и весь путь Ницше: занятия классической филологией, страстное увлечение музыкой Вагнера и философией Шопенгауэра («Я понял его как если бы он писал для меня») – отход от их взглядов, от традиций немецкого романтизма – и, наконец, создание собственной философской системы, соединившей в себе идеи «воли к власти», «вечного возвращения» и «сверхчеловека». Эти новые «жизненные ценности» противопоставлены мыслителем «пассивному нигилизму», берущему начало в идеализме Сократа и Платона и нашедшему продолжение в христианстве – «платонизме для стада». Декаданс Ницше понимал не столько как совокупность явлений в литературно-художественной сфере, сколько как триумф «рабов», умерщвляющих в себе волю, способность к действию, живущих «маленькими удовольствиями» стадного животного.
Великий разрушитель догм, поставивший современников перед необходимостью «переоценки всех ценностей», «самый независимый», по собственному определению, человек в Европе, Ницше не только пытался раскрыть суть декаданса, но и предложил философский ориентир для выхода из него. «Бог умер», и человеку, неожиданно обнаружившему в себе духовную пустоту, нужно встать на путь ее преодоления. «В человеке, – писал Ницше, – тварь и творец соединены воедино: в человеке есть материал, обломок, глина, грязь, бессмыслица, хаос; но в человеке есть также и творец, ваятель, твердость молота, божественный зритель и седьмой день – понимаете ли вы это противоречие? И понимаете ли вы, что ваше сострадание относится и к «твари в человеке», к тому, что должно быть сформировано, сломано, выковано, разорвано, обожжено, закалено, очищено, – к тому, что страдает по необходимости и должно страдать? А наше сострадание – разве вы не понимаете, к кому относится наше обратное сострадание, когда оно защищается от вашего сострадания как от самой худшей изнеженности и слабости? – Итак, сострадание против сострадания!»
Ницше считал, что именно современная ему действительность породила «презреннейшего человека», которого не хватает даже на презрение к самому себе. «Все времена и народы, разноцветные, смотрят из-под покровов ваших, – скажет Ницше устами Заратустры, – все обычаи и верования говорят беспорядочно в жестах ваших. Если бы кто совлек одеяния и покровы, краски и жесты: у него осталось бы ровно столько, чтобы пугать птиц». Только «лучшие», «высшие» люди наделены внутренней свободой, способностью к самоопределению, к осознанию себя центром мироздания; «стаду» же, «наихудшим» не суждено стать самим собой. Посредством тотального философского нигилизма Ницше стремился спасти человека от слабости в нем, предотвратить наступление такого «времени, когда человек уже не сможет родить ни единой звезды». Наиболее известными его философемами («концептуальными метафорами») стали понятия «сверхчеловека», «воли к власти», «вечного возвращения».
Уникальна манера письма Ницше-философа – многоликая, лабиринтная, в прямом смысле художественная. Быть может, в особенности это относится к его работе «Так говорил Заратустра». Здесь откровенно метафоричен сам хронотоп (действие происходит то в горах, то на острове, то в городе Пестрая Корова, в максимально абстрагированное время); произведение населено персонажами-масками, персонажами-символами – Заратустра встречается с Юношей и Девушкой, Стариком и Старухой, Паяцем и Плясуном, Королем и др.; оно чрезвычайно экспрессивно, изобилует повторами, рефренами, параллелизмами, риторическими вопросами и восклицаниями.
Ницше однажды заметил, что созданное им – «по сути дела, это музыка, случайно записанная не нотами, а словами». Действительно, та же книга «Так говорил Заратустра» необычайно лирична, к тому же включает главы, в самих названиях которых выражено музыкальное, песенное начало («Танцевальная песнь», «Ночная песнь», «Надгробная песнь» и т. д.), а также содержит собственно «песенные», поэтические тексты. При этом совершенно в духе нового, символистско-импрессионистского искусства 2-й половины XIX в. с его пресловутым бодлеровским принципом «соответствий»: слово и музыка в произведении синтезированы с живописным и танцевальным, хореографическим началами, образы чрезвычайно пластичны и зримы («Мой стиль – танец», – говорил Ницше, имея в виду, однако, еще и «танец» как форму изложения своей мысли).
В книге множество культурных и литературных реминисценций и аллюзий (среди которых преобладают аллюзии на Библию, Гёте и Лютера), она поистине соткана из афоризмов («…горе тому, кто сам в себе свою пустыню носит!», «…имя есть только кожа», «Для… новых песен нужна новая лира», «…через наименьшую пропасть труднее всего перекинуть мост», «Убивают не гневом, а смехом», «Там, где кончается государство, и начинается человек…» и т. д.). Ницше был и тонким лириком, запечатлевшим столь характерное для рубежа веков ощущение «великого внутреннего упадка и распада».
Не менее трагичной, чем жизнь, оказалась посмертная судьба Ницше: он разделил участь немецких философов, писателей, композиторов, которых фашистские идеологи объявили своими «предтечами». Процесс денацификации наследия Ницше начался на Западе еще в середине 1950-х годов, нам же, в сущности, еще предстоит разрушить десятилетиями складывавшийся стереотип в восприятии идей великого мыслителя.
Идеями Ницше увлекались многие писатели: Т. Манн, Г. Манн, Г. Гессе, Р. Киплинг, Э. Синклер и др. Судьба Ницше оказалась «вплетенной», по свидетельству самого Т. Манна, в историю «вдохновенно-больного музыканта» Адриана Леверкюна, главного героя его вершинного романа «Доктор Фаустус». В своей знаменитой статье «Философия Ницше в свете нашего опыта» (1947) Т. Манн писал о «неодолимо притягательной силе его философии», о его «трагически-иронической мудрости», внимании к глубинам человеческой психологии; он ценил Ницше как «писателя, психолога, мыслителя», владевшего даром предугадывания катастрофического будущего. Особенно же велико было влияние Ницше на немецких писателей, разделявших установки тех или иных нереалистических направлений.
В литературе Германии представлены различные направления, так или иначе связанные с понятием декаданса: импрессионизм (пейзажная лирика Детлева фон Лилиенкрона, 1844–1909), символизм (поэзия Стефана Георге, 1868–1933) и др. Важнейшее место в немецкой литературе рубежа веков занял натурализм, становление которого протекало в 1880–1890 годы под влиянием русской, скандинавских и прежде всего французской литератур (братья Гонкур, Э. Золя). В 1889 г. А. Хольц завершил разработку своей теории «последовательного натурализма» и в соавторстве с И. Шлафом обратился к ее осуществлению в драматургии. К этому времени относится и деятельность театрального общества «Свободная сцена», первым поставившего произведения Гауптмана, Хольца и Шлафа и др. Натурализм нашел воплощение в творчестве таких немецких писателей, как Макс Кретцер (1854–1941); Герман Конради (1862–1890); Отто Эрих Хартлебен (1864–1905); Джон Генри Макай (1864–1933);
Арно Хольц (1863–1929); Иоганнес Шлаф (1862–1941); Вильгельм фон Поленц (1861–1903); Карл Хенкель (1864–1929); Рихард Демель (1863–1920); Макс Хальбе (1865–1944) и др.
Накануне Первой мировой войны в литературе Германии заявили о своих художественных исканиях авангардисты. Самым влиятельным из авангардистских течений стал экспрессионизм, возникший в начале века в живописи (Э. Кирхнер, Э. Хеккель, Э. Нольде, М. Пехштейн, Ф. Марк) и ставивший своей задачей повышение экспрессивности, выразительности художественного произведения. Наиболее характерной для раннего этапа в развитии экспрессионистской литературы была поэзия трагически погибшего Георга Гейма (1887–1912) с его единственным прижизненным сборником «Вечный день» (1911). Посмертно была издана книга Гейма «Umbra vitae» («Тени жизни», 1912). Многие поэты-экспрессионисты погибли на фронтах Первой мировой войны: Альфред Лихтенштейн (1889–1914), Эрнст Вильгельм Лотц (1890–1914), Эрнст Штадлер (1883–1914), Август Штрамм (1874–1915) и др.
Основной мотив творчества экспрессионистов – тревожное ощущение надвигающейся всемирной катастрофы, хаоса, близящегося «конца света»; основной композиционный прием – нанизывание однородных образов, долженствующих в совокупности создать картину вселенского беспорядка. Накануне и в годы Первой мировой войны экспрессионизм получает развитие в драматургии (Франк Ведекинд, 1864–1918; Эрнст Барлах, 1870–1938; Вальтер Газенклевер, 1890–1940; Георг Кайзер, 1878–1945; Эрнст Толлер, 1893–1939 и др.). Искания экспрессионистов разделят – в течение более или менее продолжительного времени – многие другие немецкие писатели, в том числе Г. Бенн, И.Р. Бехер, Ф. Вольф, Л. Франк, Г. Манн.
На рубеже веков развивается и так называемая пролетарская литература, которая представляла собой важный элемент духовной жизни страны. Она привлекла внимание читателей к новым темам, выработала новые художественные приемы. Примером может служить творчество Роберта Швейхеля (1821–1907), в наследии которого особого внимания заслуживают исторические романы; поэта Августа Гейба (1842–1879); эссеиста, драматурга и поэта Леопольда Якоби (1840–1895); автора стихов и новелл Эрнста Прецанга (1870–1949) и др. Формируется рабочая мемуаристика. Серьезными достижениями отмечена литературная критика (Клара Цеткин, 1857–1933; Франц Меринг, 1846–1919; Роза Люксембург, 1871–1919). В наследии Р. Люксембург особое место занимают статьи о русской литературе («Последние художественные произведения Толстого», «Душа русской литературы» и др.).
Пролетарская литература была лишь частью той немецкой литературы, которая в лице писателей разных поколений продолжила разработку реалистических принципов художественного изображения действительности. В этом плане не самой плодотворной оказалась 2-я половина XIX в., когда литература Германии в большой мере утратила мировое значение, приобретенное ею в XVII – 1-й половине XIX в. В теории и художественной практике получил развитие так называемый поэтический реализм, эстетическая программа которого предполагала в одинаковой степени как критику реальности, так и ее поэтизацию и даже идеализацию. Обязательными для художника были «не разоблачение причин, ведущих к разрушению человеческого, а изыскание возможностей для сохранения и развития личности в ограниченной жизненной сфере и, наконец, уверенность в будущем и оптимизм». Отсюда внимание писателей к периферийным, малозначительным сюжетам, преобладание психологического над социальным.
Произошло смещение в расстановке литературных видов: если в предыдущие эпохи все они в равной мере были отмечены выдающимися достижениями, то теперь поэзия и драматургия как бы померкли, и только существование художественной прозы было более полнокровным. Но и внутри системы прозаических жанров наблюдалось смещение акцентов: в то время как в других европейских и американской литературах создавался роман в различных своих формах, в немецкой прозе переживала расцвет новелла. Выдающимся новеллистом был Теодор Шторм (1817–1888), чьи произведения с течением времени становились все более реалистичными, часто при этом не утрачивая элементов романтизма, приобретали лаконизм и трагедийность («Университетские годы», 1863; «Виола Триколор», 1874; «Психея», 1876; «Ганс и Гейнц Кирх», 1883; «Исповедь» и «Двойник», 1887; «Всадник на белом коне», 1888 и др.). Хотя и в меньшей степени, нежели ранние новеллы (например, «Иммензее», 1849), поздняя проза Шторма тоже отмечена качествами, которые Томас Манн ценил в его поэзии – пейзажной, любовной, философской: «благородством, силой, тонкостью, точностью, лиризмом, полетом воображения».
Определенные завоевания немецкой прозы конца XIX в. связаны, однако, и с жанром романа, к которому, в частности, обращался на протяжении всего своего творчества Фридрих Шпильгаген (1829–1911). Его произведения (начиная с романов «Проблематичные натуры», 1861; «Один в поле не воин», 1866 и кончая «Бурным потоком», 1876 и «Новым фараоном», 1889) во многом были вызваны к жизни современными писателю социальными явлениями.
Подобно Шпильгагену, многое не принимал в действительности Германии талантливый прозаик Вильгельм Раабе (1831–1910). Лиризм, мелодраматичность, мягкий юмор, некоторая идеализация немецкой действительности середины XIX в., свойственные раннему Раабе («Хроника Воробьиной улицы», 1857; «Голодный пастор», 1864 и др.), в его творчестве того периода постепенно сменялись скептицизмом, сарказмом, разоблачительным пафосом, острым критицизмом по отношению к «бездне подлости, трусости, гнусности» (романы «Сдобоед», 1890; «Летопись Птичьей слободы», 1896 и др.). В произведениях Раабе на исторические темы весьма ощутимы романтические тенденции («Канцелярия Господа Бога», 1862; «Черная галера», 1865).
Одним из самых значительных художников-реалистов 2-й половины XIX в. был Теодор Фонтане (1819–1898). «Как встречаются люди от природы юные, завершающие свое развитие и, если они достигают зрелого возраста, тем паче старости, переживающие самих себя, так, по-видимому, встречаются и натуры, для которых глубокая старость – единственное соответствующее им состояние; классические, можно сказать, старцы… Нелегко найти в истории духа человеческого нечто подобное тому зрелищу, какое являет собой престарелый Фонтане, стареющий годами, но непрерывно молодеющий творчески, умственно, душевно, в преклонные лета переживающий вторую, подлинную юность и зрелость», – говорил Томас Манн.
Начав литературную деятельность еще в 30-е годы XIX в. и создав огромное количество очерков, репортажей, баллад, песен, он лишь в 1878 г., т. е. в 59 лет, опубликовал свой первый роман «Перед бурей», действие в котором происходит во времена наполеоновских войн, в 1812–1813 годах. Пруссию начала XIX в. живописал Фонтане в повести «Шах фон Вутенов» (1883), в поэтике которой мастерски синтезированы дискуссия, подтекст, ассоциативность, система лейтмотивов. Тончайшим психологом и аналитиком показал себя писатель в созданных им в 1880—1890-е годы повестях и романах о современности: «Грешница» (1882), «Сесиль» (1887), «Пути-перепутья» (1888), «Стина» (1888), «Фрау Женни Трайбель» (1892), «Поггенпулы» (1896), «Штехлин» (1898) и др. Конфликты этих произведений лежат, как правило, в частной, личной жизни персонажей, но благодаря таланту автора приобретают глубокий общественно-философский смысл. Наибольшую же известность получил роман Фонтане «Эффи Брист» (1895). И здесь главной является любовная интрига, тем не менее трагедия романтичной, свободолюбивой Эффи обусловлена неумолимыми социальными законами, «железными параграфами», беспощадно губящими любого, кто дерзнет их нарушить.
Т. Фонтане был и автором путевых заметок, книг о войне, основательного пятитомного историко-этнографического исследования «Странствия по марке Бранденбург».
Социально-психологическими произведениями Фонтане во многом завершается развитие немецкого реализма прошлого столетия и начинается история реализма XX в. Показательно, что натуралисты, занявшие непримиримую оппозицию по отношению ко всей предшествующей литературе, воспринимали Фонтане как исключение, признавали как «одного из своих» за его пристальное внимание к действительности, глубину проникновения в мир «мелкого, повседневного, заурядного». При этом их методы художественного постижения жизни и методы Фонтане были принципиально разными, ибо, по его мнению, буквальное воспроизведение действительности «относится к реализму как руда к металлу». Генрих Манн, который вместе с Томасом Манном стал выдающимся продолжателем традиций немецкого реализма на новом этапе, писал: «Современный роман был открыт, осуществлен, равно как и усовершенствован для Германии… Теодором Фонтане. Он первый доказал, что роман может быть правдивым и долговечным документом, отображающим общество и эпоху…»
Герхарт Гауптман
В 1940 г. немецкий драматург Б. Брехт, создатель «эпического театра», напишет, что «история нового театра ведет свое начало от натурализма». Если же брехтовскую мысль конкретизировать, то следует со всей определенностью сказать, что художественные достижения немецкой драматургии рубежа веков связаны прежде всего с творчеством Герхарта Гауптмана (1862–1946).
Родился Г. Гауптман в семье разбогатевшего, но затем обанкротившегося крестьянина-силезца, содержателя гостиницы. Дед писателя был ткачом, очевидцем восстания 1844 г., вошедшего в историю пролетарского движения. Сам Гауптман в юности увлекался скульптурой и живописью, изучал естественные науки, много странствовал. Знакомство с натуралистами в 80-е годы XIX в. во многом определило направленность его творчества и дало о себе знать в первых же его пьесах.
Начинал Гауптман как поэт и новеллист. К числу его наиболее значительных беллетристических произведений, созданных на рубеже веков, относятся новеллы «Масленица», «Стрелочник Тиль», а также романы «Юродивый Эмануэль Квинт» (1910), «Атлантида» (1911–1912). Герой романа «Атлантида», молодой человек по имени фон Каммахер, персонаж в известной степени автобиографический, предпринимает океанское плавание из Европы в Новый Свет, во время которого путешественнику пришлось пережить небывалой силы шторм и гибель парохода «Роланд». Спустя всего несколько месяцев после опубликования романа потерпел крушение самый большой в то время пассажирский лайнер «Титаник». Из двух тысяч человек, находившихся на борту корабля, спастись удалось не более трети. В авторе «Атлантиды» увидели своего рода провидца, а в его произведении – грозное предупреждение человечеству накануне Первой мировой войны.
Тем не менее не в прозе, а в драматургии сказал Гауптман основное свое слово. В отличие от многих писателей, Гауптман не оставил работ критико-литературоведческого или философского характера. Исключением являются относящаяся еще к студенческим годам работа «Мысли о создании статуй» и авторское предисловие к сборнику драм, изданных в 1906 г. Как собственно художественная практика, так и эти работы свидетельствуют о том, что, несмотря на приверженность к натурализму, Гауптман не ограничивал им свой художественный метод. Интерес к Дарвину не смог заслонить социальных, философских, психологических аспектов жизни отдельного человека и общества в целом. Более того, элементы натурализма нередко оттесняются (либо вовсе вытесняются) на второй план неоромантическими тенденциями, ибо, по Гауптману, «драматург-поэт ставит себе целью отражать не реальные противоречия наличного мира… а свои собственные драматические импульсы…» Эта эстетическая установка не исключала, однако, интереса писателя к «болезненной» действительности со всеми ее противоречиями. Как результат – обнаруживающиеся во многих произведениях Гауптмана глубоко реалистическое мировидение, масштабность и актуальность поднимаемых проблем, современность звучания.
Удивительно широк круг тем, к которым обращался Гауптман, причем темы эти он черпал как из прошлого, так и из современности. Обширен и диапазон литературных влияний на немецкого драматурга: это Шекспир и Гёте, Тургенев и Достоевский, Ибсен и Л. Толстой. В 1945 г., уже как бы подводя итог своему большому жизненному и творческому пути, Гауптман писал: «Истоки моего творчества восходят к Толстому… Моя драма «Перед восходом солнца» возникла под воздействием «Власти тьмы», ее своеобразной, смелой трагедийности». Созданная в 1889 г. пьеса «Перед восходом солнца» была посвящена теоретикам натурализма в Германии А. Хольцу и И. Шлафу. Впервые поставленная известным немецким режиссером Отто Брамом, драма начала свою долгую сценическую жизнь в театрах мира. Это первое значительное произведение Гауптмана свидетельствовало о его стремлении соединить натуралистический и реалистический художественные методы, а социальные проблемы – с теорией наследственности.
Ключевой персонаж пьесы – Елена Краузе, человек глубоко нравственный, думающий, цельный, трагически одинокий в кругу своей семьи. Всеми силами пытается она сохранить себя, защититься от тех чудовищных пороков, которые погубили ее отца и сестру, убили в них все человеческое. И исключений вокруг почти нет, как констатирует один из героев драмы, доктор Шиммельпфенниг, характеризуя «здешнюю жизнь»: «Везде и всюду пьянство! Обжорство, кровосмесительство и, как следствие, повсеместное вырождение». Вырваться отсюда, из атмосферы алкоголизма, разврата, стяжательства и лицемерия, но – как? Бежать с любимым, но – кого полюбить? И вот он является, Альфред Лот, так не похожий на всех тех, кто окружает Елену, искренний и честный, посвятивший свою жизнь суровой борьбе «за всеобщее счастье». «Для того чтобы я стал счастлив, все люди вокруг меня должны стать счастливыми. Для этого должны исчезнуть нищета и болезнь, рабство и подлость», – говорит Лот Елене. Но именно этот-то «очень, очень хороший человек», как называет его Елена, и довершает трагедию ее судьбы. Убежденный позитивист, Лот в вопросах любви, как и во всех других, «трезв и логичен»: он считает «самым важным произвести на свет физически и духовно здоровое поколение», а потому его избранница должна иметь абсолютно здоровую, безупречную наследственность. Оказавшись неожиданно посвященным в историю семейства Краузе, Лот решает овладеть своими чувствами, коль скоро «это имеет смысл», иначе говоря – бежит от страстно влюбленной в него Елены, обрекая ее на гибель. Впечатление жуткой безысходности оставляет финал драмы: под вопли пьяного отца, возвращающегося из трактира, Елена кончает жизнь самоубийством.
Образ Лота воспринимается неоднозначно. Ни тюрьма, ни лишения не смогли его сломить, и этот стоицизм и бескомпромиссность не могут не вызывать уважения. Но убеждения, превращенные в догму, делают Лота эгоистом, лишают органичности его же собственное существование. Все, о чем он думает, что делает, «должно иметь практическую цель», и только. Поэтому гётевский «Вертер», с его точки зрения, – «глупая книга», «для слабых людей», а Ибсен и Золя – «вообще не художники… они неизбежное зло», и то, что они предлагают читателю, – «это лекарства», а не искусство. В глубине души Лот, вероятно, и сам до известной степени сознает неестественность своей жизни («Знаешь, я ведь еще не жил! До сих пор я еще не жил!»), однако победить себя он не в силах.
И все же нельзя свести содержание пьесы к еще одной – на этот раз немецкой – интерпретации теории наследственности. Не случайно Гауптман определил жанр своего произведения как «социальная драма». Социальные вопросы в общем ряду проблем, поднятых автором, занимают очень важное место, а на примере отношений в семействе Краузе показана широкая картина общественной жизни. Особый интерес в этом смысле представляет образ зятя Елены – Гофмана, чьи разглагольствования о «неудобствах», причиняемых богатством, о собственной «просвещенности» и «высоких идеалах» – всего лишь демагогические фразы, призванные замаскировать ненависть к тем, кто, подобно Лоту, своей деятельностью «подрывает основы», «развращает народ». Гофман – не алкоголик, как его жена и тесть, но он не менее их духовно убог и страшен, он даже, говоря словами Елены, «хуже их всех». Его благосостояние произрастает на «болоте», на грязи, в которую он не прочь столкнуть и Елену.
Первая драма Гауптмана поведала читателям о трагедии несостоявшейся жизни, которая оборвалась, в сущности, так и не начавшись, «перед восходом солнца». К темам распада связей между самыми, казалось бы, близкими людьми, духовной изолированности человека, его трагического несоответствия враждебному миру Гауптман обратился в своих социально-психологических драмах «Праздник примирения» (1890) и «Одинокие» (1891).
В 1892 г. писатель закончил работу над драмой «Ткачи». До нее в немецкой драматургии после бюхнеровской «Смерти Дантона» не было другой пьесы, в которой бы с такой силой был показан бунт, протест пролетариев против нечеловеческих условий своей жизни. Сюжет произведения восходит к истории восстания силезских ткачей в 1844 г. Это событие отразил в своем знаменитом стихотворении «Силезские ткачи» Г. Гейне, к нему обращались Г. Веерт, Ф. Фрейлиграт и многие другие немецкие писатели. Драма Гауптмана имела самый широкий резонанс в демократической среде. Правительственные же круги Германии как во времена Вильгельма II, так и позднее, не смогли простить автору этой крамолы.
Герой пьесы – массовый, что декларируется уже в самом ее названии. Однако ткачи Гауптмана – масса отнюдь не безликая, не серая однообразная толпа, в виде которой спустя два с лишним десятилетия будут изображать рабочих драматурги-экспрессионисты. Многие гауптмановские образы психологически рельефны, глубоко индивидуальны. «Красного» Беккера, молодого и дерзкого, и мрачного Анзорге, терпеливого старого Баумерта и вернувшегося со службы Морица Егера, горячую, язвительную Луизу и других ткачей и ткачих сводит вместе, соединяет в грозный, все сметающий на своем пути поток стремление «самим постоять за себя», пусть один-единственный раз «вздохнуть полной грудью», «перерезать веревку, на которой висели».
Условия жизни рабочих невыносимы. В то время как фабрикант Дрейсигер и ему подобные утопают в роскоши, ткачи влачат нищенское существование. Муки голода, ужасные болезни, смерть детей – страшные приметы их быта. Неизгладимое впечатление оставляет эпизод трапезы в лачуге Баумерта: в этот вечер его семья радуется, ибо на ужин удается раздобыть собачье жаркое. И это еще не самое худшее. Когда старый ткач Гильзе, изнуренный работой и болезнями калека, пытается учить домочадцев терпению, его невестка Луиза вызывающе бросает: «А не будет у нас черной муки, сделаем так, как Венглеры: разнюхаем, куда живодер закопал подохшую клячу, выкопаем и будем жрать падаль».
Совершенно однозначно отношение Гауптмана к духовенству, которое заодно с «господами дрейсигерами, этими палачами». Именно пастор Киттельгауз подает мысль о том, чтобы покончить с бунтом, «этим неслыханным безобразием», с помощью полиции. Чем чаще мрут бедняки, тем выгоднее «духовным пастырям». Фабриканты, духовенство, полиция – вот силы, в которых персонифицируется социальное зло. Однако важно отметить, что драматург не идеализирует и рабочих. Среди них есть штрейкбрехеры и предатели, как те красильщики, которые помогают жандармам арестовать Морица Егера. Все симпатии автора – на стороне вышедших «на площадь», чтобы добиваться «лучшей жизни». Но у восставших нет ясного представления не только о целях борьбы, но и о причинах своих бед и страданий. «Они своего добиваются: пробраться на фабрику!.. – говорит один из героев. – Разбить механические станки! Ведь это станки разорили ткачей, работающих вручную». (Как не вспомнить здесь воспетых Байроном луддитов.) Круша все на своем пути, рабочие идут навстречу смерти. Характерно, что автор не довел изображаемые им события до реального финала. Из истории известно, что восстание силезских ткачей было потоплено в крови. Гауптман же оборвал пьесу – своеобразный гимн восставшему народу – на самой высокой ноте: даже расстрел не останавливает рабочих, к ним присоединяются и те, кто колебался, и вот уже ткачи теснят вооруженных солдат. Писатель мастерски применил прием полилога (многоголосия), который особенно органичен в конце драмы: голоса с улицы и голоса в «доме», смех и крики ужаса, пение и выстрелы передают все напряжение, весь драматизм ситуации.
При чтении пьесы неизбежны аналогии с романом Э. Золя «Жерминаль». Речь идет не только о сюжетном сходстве, не только о явно выраженных элементах натурализма у обоих художников (прежде всего в описании быта и внешности героев) при очевидном преобладании реалистических тенденций, но и о пафосе того и другого произведений.
Разработку исторической тематики Гауптман продолжил в драме «Флориан Гейер» (1896), на этот раз обратившись к гораздо более далекому прошлому – к событиям Крестьянской войны 1525 г. Но и этим не исчерпывается круг тем, привлекших внимание драматурга в 1890-е годы, как не исчерпывается диапазон его художественных структур эстетикой реализма и натурализма. Так, в стихотворной драме «Потонувший колокол» (1896) синтезированы черты неоромантизма и символизма, реалии немецкой провинции и картины, рожденные фантазией автора, фольклорные мотивы и элементы древненемецких христианских мифов. Не вызывает сомнения влияние на Гауптмана творческих принципов норвежского драматурга Г. Ибсена, с чьей пьесой «Пер Гюнт» многими нитями связан «Потонувший колокол».
Перед нами – два совершенно чуждых друг другу мира, один из которых населен обывателями, другой – сказочными, фантастическими существами. Обитатели гор – Водяной и Леший, старая мудрая колдунья Виттиха и юная золотоволосая фея Раутенделейн, гномы и эльфы – с презрением относятся к «долине», к «людям-волкам», которые всегда готовы «светлую испортить жизнь, запакостить ее». Как приговор филистерству и бездуховности звучат гневные слова Виттихи: «Я знаю, знаю; чувство – грех у вас, // Земля, по-вашему, лишь тесный гроб, // А голубое небо – крышка гроба, // А звезды – свечки; солнце – дырка в небе, // Для вас и сам Господь всего лишь поп».
Иные законы – красоты и гармонии – руководят жизнью «гор». И все же два объемных образа-символа – «долина» и «горы» – гораздо многозначнее и сложнее, именно многозначность и неодномерность делают их диалектичнее и убедительнее. Так, гротескные сказочные существа поразительно разнообразны в своем поведении и характерах – мудрые и проницательные, комичные и даже безобразные. В этом смысле эстетика Гауптмана определенным образом приближается к романтическим принципам Гюго, к его представлениям о гротеске, о необходимости смешения в одном персонаже высокого и низкого. Гауптмановские обитатели «гор» презирают «слабый, жалкий, человечий род», но им самим не дано чувствовать глубоко и беззаветно. Лишь полюбив Генриха, Раутенделейн узнает, подобно Снегурочке из пьесы-сказки А.Н. Островского, что такое слезы и страдания: «…так, значит, // Я плакала сейчас? Ах, вот как плачут! // Я поняла…»
В то же время жизнь людей, при всем ее несовершенстве и обыденности, по-своему полнокровнее, чем безмятежное существование горных духов и фей. Генрих и его жена Магда по натуре своей чужды друг другу. Магде неведом дух творчества, сжигающий ее Генриха. «Я смысла слов твоих не понимаю», – говорит она в ответ на его мучительные терзания. Любовь Магды – это любовь к Генриху-супругу, Генриху – отцу ее детей, Генриху – просто человеку. Но и ее достаточно, чтобы обезуметь от горя и броситься в реку, туда, где покоится злосчастный колокол – творенье мужниных рук и сердца.
Магда и Раутенделейн – как две путеводные звезды, две нити Ариадны, одна из которых влечет литейщика Генриха к земле, к реальности, вторая манит к горным высям, к мечте. Но художнику нужно и то, и другое. Трагедия Генриха в том и заключается, что он не может соединить, сплавить в своем творчестве оба эти начала. Он и сам весь соткан из противоречий: дерзкий и слабый, честолюбивый и искренний, гордый и жалкий. «Душа и бьется в нем и рвется».
Ты был побег могучий и прямой, Но, сильный, – ты бессильным оказался, Ты званым был, но избранным не стал, —говорит Генриху Виттиха. Эту свою «разорванность» сознает и сам мастер:
… Я там, в долине, Чужой – и свой, и здесь, у вас в горах, Чужой и свой…Лучше и раньше других Генрих понял, что отлитый им колокол, в который он вложил всю свою душу,
Не для высот был создан и не мог В вершинах горных отзвук пробуждать.Метание между реальностью и мечтой, «долиной» и «горами» заканчивается смертью Генриха.
О том, что творческие принципы автора «Потонувшего колокола» во многом восходят к эстетике романтизма, свидетельствует уже само присутствие в драме темы художника и искусства. Дань ей в свое время отдали немецкие романтики Новалис, Брентано, Гофман. Подобно их героям, гауптмановский Генрих мечтает о согласии частей с целым, о гармоничности и завершенности, которые и являются приметами «сокровища», позволяют из «массы грубой», из «хаоса» родиться «форме», подлинному произведению искусства.
Пьесы Гауптмана, созданные как в 1890-е годы, так и в начале XX в. («Бедный Генрих», «Крысы» и др.), поражают чрезвычайным многообразием поэтических средств и художественных приемов. Все они, будь то драма или сказка, социально и философски насыщены, глубоко психологичны, изобилуют символами, придающими частным конфликтам характер обобщения. Начиная с пьесы «Перед восходом солнца», через всю драматургию Гауптмана лейтмотивом проходит образ солнца, символизирующий новые человеческие и общественные отношения, силы созидания, светлую жизнь. «Беспомощный и жалкий, я тоскую // О солнце, об отце моем…» – взывает мастер Генрих в «Потонувшем колоколе». «Перед заходом солнца» – так по аналогии с первой драмой назовет Гауптман свою самую значительную из пьес, созданных после Первой мировой войны. Согласно завещанию писателя, он и похоронен был на северном побережье перед восходом солнца.
В 1912 г. Гауптману была присуждена Нобелевская премия. Его произведения привлекали внимание многих театров мира. В России великолепные постановки пьес Гауптмана осуществлены Московским художественным театром, театром им. Е.Б. Вахтангова, Малым театром. В конце XIX – начале XX в. в Минске и Витебске были поставлены его драмы «Возчик Геншель» и «Потонувший колокол».
Генрих Манн
Генрих Манн (1871–1950) – выходец из влиятельной семьи зерноторговцев, чья фирма была основана еще в конце XVIII в. в Любеке – северном немецком городе, старинном торговом центре. Отец Г. Манна был не только владельцем солидной фирмы, но и занимал видное общественное положение: в 1877 г. его избрали в любекский сенат. Мать – дочь бразильянки и богатого немецкого предпринимателя, в свое время эмигрировавшего в Южную Америку из Любека, вероятно, в немалой степени способствовала пробуждению в детях любви к искусству. Кроме Генриха, в семье было еще четверо детей: братья Томас и Виктор и сестры – Юлия и Карла (обе впоследствии покончат жизнь самоубийством).
Рано ощутил Г. Манн свою отчужденность от бюргерской среды. Это почувствовал и его отец, не случайно в завещании он вменял в обязанность опекунам препятствовать «так называемой литературной деятельности» старшего сына, его неукротимой мечтательности и, наоборот, содействовать его «практическому воспитанию». Сочинительством Г. Манн начал заниматься еще в старших классах гимназии. После ее окончания в 1889 г., получив желанную свободу, он оставляет отчий дом и живет в Дрездене, Берлине, изучает книготорговое дело, историю и филологию. После смерти отца семья перебралась в Мюнхен, однако Генрих бывал там лишь изредка: его влекли Франция и особенно Италия.
Первый роман Г. Манна, «В одной семье», был опубликован в 1893 г. Однако сам автор связывал свое вступление в литературу с выходом в свет романа «Земля обетованная» (1900), замысел которого был подсказан писателю произведениями Бальзака и в особенности романом «Милый друг» Мопассана. Еще одна типичная история молодого человека поведана Г. Манном. Его Андреас Цумзее, вчерашний провинциал, становится в Берлине известным драматургом, но благодаря отнюдь не таланту, а связи с женой банкира Туркхаймера. Стоило, однако, Цумзее попытаться обмануть своих покровителей, как его карьере был положен конец. Ничтожен и ограничен этот паяц, но не менее ничтожно и «высшее общество», куда удается ему на время проникнуть.
Андреас Цумзее, этот немецкий «милый друг», открывает целую галерею портретов «верноподданных» в творчестве Г. Манна, которая с течением времени пополнится новыми образами, в том числе и самым ярким из них – образом Дидериха Геслинга из романа «Верноподданный».
Почти одновременно (1903) публикуются новые произведения Г. Манна – трилогия «Богини» («Диана», «Минерва», «Венера») и роман «В погоне за любовью». Трилогия явилась результатом интереса Г. Манна к эпохе Возрождения, попыткой перенести ее идеалы в современные условия. Действие трилогии происходит в Неаполе, на фоне экзотической природы. Главная героиня, Виоланта Асси, наделенная качествами «человека эпохи Возрождения», тщетно пытается утвердиться как личность и как художник. В мире купли-продажи нет места ни подлинному искусству, ни любви.
Реакция публики на трилогию была неоднозначной: одни восторгались картинами итальянской природы, романтической, страстной натурой героини, другие не могли принять выспренности языка, надуманности, «книжности» ситуаций, далеких от действительности. Спустя некоторое время и сам автор признал недостатки своего произведения. Не очень удачным в художественном отношении оказался и роман «В погоне за любовью». В противоположность трилогии, в этом 600-страничном произведении показана немецкая реальность начала XX в.
Менялись персонажи и ситуации в творчестве Г. Манна, расширялась его художественная палитра, но неизменным ее атрибутом оставалась сатира. Именно сатирическое начало, выразившееся уже в «Земле обетованной», определило пафос одного из наиболее известных романов, созданных Г. Манном до Первой мировой войны, – «Учитель Гнус, или Конец одного тирана» (1905). Юношеские впечатления автора от учебы в гимназии далеко не исчерпывают содержания книги, хотя и сыграли решающую роль в обращении писателя к теме школы. Известно, как презирали братья школу с ее духом пруссачества, с ее, по выражению Т. Манна, «методами дрессировки».
Герой этого романа – учитель Нусс, прозванный учениками Гнусом (в оригинале роман называется «Professor Unrat»; настоящая фамилия учителя – Rat. Unrat по-немецки – нечистоты, отбросы, отходы); вокруг него и строится все повествование. Г. Манн показывает тирана, трусливого, злобного и мстительного, видящего в каждом ученике лишь «серое, забитое, коварное существо», «мятежника» и «тираноубийцу». Все помыслы Гнуса сводятся к маниакальной страсти «поймать с поличным», во что бы то ни стало испортить карьеру тому, кто осмелился назвать его «этим именем». А поскольку Гнус подвизается в местной гимназии более четверти века, то для него «школа не заканчивалась дворовой оградой; она распространялась на все дома в городе и в пригороде, на жителей всех возрастов», в конечном счете – на все человечество. Запоздалая страсть к «артистке Фрелих» и союз с нею довершают деградацию Гнуса: он превращается сначала в завсегдатая, а затем и в содержателя грязного притона. Даже самые респектабельные и благонамеренные бюргеры со своими судьбами и кошельками оказываются у ног Гнуса. Такая трансформация воспринимается как вполне закономерное явление: Гнус, и прежде развращавший души своих учеников, в новых обстоятельствах лишь прибегает к новым средствам растления.
Г. Манн был не первым немецким писателем, выведшим на страницах своего романа образ школьного тирана, поставщика «верноподданных». Подобный тип учителя встречается у Якоба Михаэля Рейнхольда Ленца и Жана Поля Рихтера, Карла Лебрехта Иммермана и Вильгельма Раабе, Франка Ведекинда и др. За этой темой стоит нечто большее, нежели простой интерес к одной из сторон общественной жизни. Школьная система, сложившаяся в Германии, издавна служила воспитанию юношества в духе верноподданничества. Не случайно после побед Германии в ряде захватнических войн во 2-й половине XIX в. широкое распространение получило выражение «войну выиграл прусский школьный учитель».
Школа, которая порождена соответствующей государственной политикой и олицетворением которой является Гнус, была в буквальном смысле преддверием прусской казармы. Гимназический класс, а затем притон в доме учителя – это кайзеровская империя в миниатюре, империя, в которой гнусы носят свое имя «как венок победителя», творят преступления во имя того, чтобы действительно можно было сказать: «Ни одного, ни одного человека!» Позднее краткую, но выразительную характеристику «тому неумолимому, попирающему человеческое достоинство, автоматически действующему организму, каким была гимназия», эта страшная сила, «живьем и без остатка проглатывающая человека», Г. Манн даст и на страницах «Верноподданного». В 1914 г. увидело свет еще одно произведение, продолжившее традицию сатирического изображения школы, – роман видного немецкого писателя Леонгарда Франка «Шайка разбойников».
«Гимном демократии» назвал Г. Манн свой последний из «итальянских» романов «В маленьком городе» (1909). В нем рассказывается о том, как с прибытием оперной труппы в городе пробуждается жизнь, обостряются личные и политические конфликты, развиваются события, приведшие к трагическому финалу – смерти юных влюбленных Альбы и Нелло. В повествовании преобладает юмор, хотя нередки и гротескные ситуации, столь характерные для творчества Г. Манна.
В 1911 г. писатель начал работать над осуществлением нового замысла, со временем воплотившегося в трилогию «Империя». В жанр эпического романа, столь распространенного на рубеже XIX–XX вв. («Ругон-Маккары» Эмиля Золя, «Сага о Форсайтах» Джона Голсуорси, «Будденброки» Томаса Манна, «Дело Артамоновых» Максима Горького и др.), Г. Манн внес свои краски – как в проблемно-содержательном, так и в композиционно-стилевом аспектах.
«Верноподданный» (1914) – первый и наиболее совершенный роман трилогии. Его журнальная публикация в Германии была почти сразу же приостановлена по цензурным соображениям. Первая мировая война требовала нового пушечного мяса, роман же Г. Манна работал вовсе не на решение этой задачи. Лишь в 1918 г., после крушения той самой вильгельмовской империи, на которую с такой яростью обрушился Г. Манн, с «Верноподданным» познакомились немецкие читатели. Однако еще раньше роман стал известен за рубежом, в том числе в России, где был опубликован уже в 1914 г.
Самые существенные социально-политические события эпохи нашли отражение в романе, действие которого приходится на 1890–1897 годы, но проецируется и на последущие полтора десятилетия, непосредственно предшествовавшие Первой мировой войне. Сюжетные же перипетии сводятся к истории возвышения Дидериха Геслинга, становления его «верноподданнического» сознания. По сути, мы имеем дело со своеобразной – пародийной – формой Bildungsroman, «романа воспитания» (нем. Bildung – воспитание, становление), жанр которого имеет весьма продолжительную традицию в западноевропейской (и прежде всего немецкой) литературе. На протяжении всего романа герой Г. Манна демонстрирует поистине эквилибристскую приспособляемость к обстоятельствам. Но как бы ни была «сладостна» для Геслинга «дрожь человека, которого пожирает власть», для него всегда «на первом месте… долг перед самим собой», иначе говоря – личная выгода, «готовность самому попрать бунтовщика».
Геслинг раболепствует перед отцом, перед классным наставником, возведшим его «в ранг первого ученика и тайного наушника», благоговеет перед всеми «сильными», но лишь затем, чтобы его «не стерли… в порошок». Действуя «хитро, исподтишка», Геслинг превращается «в упоенного победой насильника» над более слабыми – матерью, сестрами, соучениками, рабочими. Не случайно любимой его игрой в детстве была «игра в тирана».
Глубоко символично сходство Геслинга с императором Вильгельмом, которое становится в результате многократного варьирования лейтмотивом повествования. Причем речь идет не только о внешнем сходстве («кончики усов у самых глаз», «холодный блеск в глазах» и т. п.), но и о внутреннем: даже мозг Дидериха работает «в унисон с мозгом» кайзера, и Геслинг как бы подсказывает ему слова и решения. Посредством этого уподобления приземляется, развенчивается, приобретает фарсовый оттенок облик не только Дидериха, но и самого Вильгельма II.
Роман «Верноподданный» был актуален не только для своего времени, но и для последующих десятилетий, недаром он оказался среди первых книг, брошенных в костер гитлеровскими штурмовиками 10 мая 1933 г. В сущности, автор акцентирует внимание читателей на опасности «системы насилия», вседозволенности, ибо в конце концов именно это превращает народ в «массу маленьких людей», способных только на то, чтобы взрастить «большого человека», а в действительности – «пустую куклу». «Куклу», которая, тем не менее, их же самих лишит собственной воли, самобытности и самосознания, сделает «статистами», «поклонниками палки и авторитета». Геслинг, в котором невероятным образом уживаются страх, комплекс неполноценности с агрессивностью, эмоциональная реактивность и лабильность – с жестокостью, и есть чудовищное порождение системы насилия. «Мерзавец… но таким необходимо быть!» – твердо убежден Геслинг, и это, кажется, единственное его твердое убеждение. Найден и жизненный ориентир – верноподданничество, механика которого весьма проста: самому действовать «под команду» и от других требовать того же, любые бунтарские настроения «сокрушать». «Ничто человеческое не может устоять перед властью!», «Кровь и железо были и остаются самым действенным методом лечения! Сила выше права!» – вот основные постулаты Дидериха Геслинга.
В годы фашизма манновский персонаж ассоциировался с Гитлером. Прочно вошел роман и в духовный обиход после Второй мировой войны. Более того, произведение оказалось в своем роде пророческим. Т.Л. Мотылева в связи с этим писала: «…еще до Первой мировой войны был написан роман, где встал во весь рост социально-психологический тип, получивший полное свое развитие позднее, при Гитлере, – роман «Верноподданный». Элементы антифашистской литературы зарождались, накоплялись уже тогда, когда фашизма как такового еще не было и сам этот термин не успел еще войти в обиход… Ценность «Верноподданного» Генриха Манна не только в сатирической остроте, но и в точности социального диагноза…» (1, 362).
Много общего между «Верноподданным» и «Учителем Гнусом», прежде всего, между их центральными персонажами. Гнус – «верноподданный» в не меньшей степени, чем Геслинг, а Геслинг – такой же тиран, как Гнус.
Новаторская социально-этическая установка, положенная в основу лучших произведений Г. Манна, таких, как «Учитель Гнус» и «Верноподданный», потребовала от писателя художественного новаторства. В обеих книгах среди всех изобразительных средств доминируют гипербола и гротеск. Гротескны не только персонажи, в том числе многие эпизодические (не случайно роман «Верноподданный» оставляет впечатление массовости типа, определенного в названии произведения), но и ситуации, побуждающие читательское восприятие работать в предусмотренном автором направлении.
Уничтожающе сатиричен Манн во внешних и характерологических деталях. Так, грязный кабак, в котором выступает «артистка Фрелих», носит претенциозное название «Голубой ангел», а уборную певички Гнус, давно потерявший ориентацию в восприятии окружающего и мнящий весь город своими владениями, то и дело именует «классом» или «каталажкой». Если Гнус отбивает у своих учеников всякий интерес к изучаемому произведению, просто превращая его «мелодию» в «звуки разбитой шарманки», то Геслинг идет дальше: например, ловко манипулируя музыкой и текстом оперы Вагнера «Лоэнгрин», он трактует их в шовинистическом духе. Своего героя, для которого «лучший вид эстетического наслаждения» – это витрина колбасного магазина, автор заставляет «теоретизировать» по поводу искусства вообще: роман для Геслинга – «не искусство», зато к «истинно немецкому искусству» он относит портретную живопись, «конечно, потому, что можно писать портреты кайзера».
Большое место в палитре сатирических красок занимают речевые характеристики персонажей, «говорящие» имена. Основные формы повествования в романе – диалог и монолог, причем последний представлен самыми различными видами публичных выступлений, приобретающих пародийный характер.
Несмотря на обилие в художественной структуре произведений гротескных образов и ситуаций, к обоим романам можно отнести слова автора, сказанные по поводу «Верноподданного»: они не были «ни преувеличением, ни искажением», а, напротив, явились «документом общественного сознания» Германии конца XIX – начала XX в.
Продолжением истории Дидериха Геслинга стала вторая часть трилогии – «Бедные» (1917), в которой, однако, главное внимание уделено изображению жизни пролетариев. Заключительная часть трилогии, «Голова», была опубликована в 1925 г.
Г. Манн отдавал предпочтение романному жанру, причем роману социально-психологическому, в отличие от своего младшего брата Томаса Манна, тяготевшего к проблематике преимущественно философско-метафизической, к раскрытию душевно-духовных глубин человека. Как-то полушутя Т. Манн заметил, что они с братом строго придерживаются «принципа разделения труда». «В двадцатипятилетнем возрасте я сказал себе: необходимо писать социальные романы о современности. Немецкое общество не знает себя», – подчеркивал Генрих Манн.
Именно социум является главным обобщенным героем произведений Г. Манна – романов, новелл, пьес. Особого внимания заслуживают его литературно-критические эссе и публицистические статьи, в которых изложены эстетические взгляды писателя, отражены его художественные поиски, определено отношение к крупнейшим представителям европейской культуры. Наиболее значительны публицистические работы Г. Манна, созданные до Первой мировой войны, – эссе «Флобер и Жорж Санд» (1905), статьи «Вольтер и Гёте» (1910), «Дух и деяние» (1911), «Золя» (1915), памфлет «Рейхстаг» (1911). Публицистика Г. Манна пронизана стремлением активизировать интеллигенцию, побудить ее к борьбе против реакции, желанием донести до читателей свое политическое кредо, закономерным итогом которого в последующие годы стал непримиримый антифашизм.
Публицистику Г. Манн будет создавать и в эмиграции, в которую он, предупрежденный французским послом в Берлине о планируемой расправе над ним, отправился в феврале 1933 г. К наиболее значительным книгам, написанным Г. Манном в эмиграции, относится своеобразная публицистическая трилогия – «Ненависть» (1933), «Настанет день» (1936) и «Мужество» (1939), где анализируется характер исторического развития Германии, логическим концом которого и стал приход к власти фашистов; воскрешаются судьбы участников Сопротивления, «людей, которые не покорились». «Это немцы, и это тот редкий случай, когда слово «немец» заслуживает, чтобы быть произнесенным с любовью», – писал Генрих Манн. Важное место в его литературном наследии занимает и мемуарно-публицистическая книга «Обзор столетия» (1946).
Всего в эмиграции Г. Манн написал около 400 публицистических работ.
Пристального внимания заслуживает художественная проза писателя периода эмиграции – романы «Лидице» (1943), «Дыхание» (1949), «Прием в свете» (1950, опубл. в 1956 г.) и др., но прежде всего – историческая дилогия о французском короле Генрихе IV («Молодые годы короля Генриха IV», 1935; «Зрелые годы короля Генриха IV», 1938). Действие дилогии происходит в эпоху позднего французского Ренессанса, но едва ли не в первую очередь Г. Манн, как и другие авторы исторических романов, созданных в это время (Томас Манн («Иосиф и его братья»), Стефан Цвейг («Мария Стюарт»), Лион Фейхтвангер («Лже-Нерон») и др.), имел своей целью противопоставить тоталитарной государственной концепции в целом и фашизму, в частности, иную, гуманистическую традицию. Его главный герой, Генрих IV, произносит знаменательные слова – может быть, ключевые в дилогии: «Ни на одной карте не указано точно, где их (фанатизма, массового психоза, тоталитаризма. – Е.Л.) владения. Они там, где зло».
Франция была первой из стран, в которых Генрих Манн нашел прибежище. Позднее 70-летний писатель вынужден был покинуть Европу и с большими трудностями добираться до США, где он провел последние десять лет жизни. Писатель страдал вдали от родины, но не терял веры в то, что шествие фашистского насилия будет остановлено, и ради этого работал не покладая рук. В 1950 г. Генрих Манн принял предложение восточнонемецких властей стать президентом Академии искусств ГДР. Уже была зарезервирована каюта на польском пароходе «Стефан Баторий», который должен был доставить писателя в Гдыню, откуда он планировал направиться в Берлин. Внезапная смерть положила конец надежде вернуться на родину.
След жизни Генриха Манна, говорил в день его смерти Томас Манн, может исчезнуть «только с исчезновением самой культуры и утратой уважения к самим себе». Остается добавить: культуры не только немецкой и уважения к себе не только немцев.
Источники
1. Мотылева Т. Роман – свободная форма: Статьи последних лет. М., 1982.
Томас Манн
У Томаса Манна (1875–1955), как и у многих других художников рубежа XIX–XX вв., ощущение истории во многом было ощущением упадка, конца бюргерской эпохи. Свое величайшее произведение «Доктор Фаустус» (1947) писатель назовет «романом конца». Но ведь и первый роман Т. Манна, «Будденброки», – это тоже «история гибели одного семейства». Ощущением конца пронизаны и его новеллы, не случайно их содержание в большинстве случаев сводится, если использовать название одной из них, к изображению «дороги на кладбище» того или иного героя. Нравственная и физическая смерть – почти непременный атрибут всех произведений Т. Манна, а одну из своих ранних новелл он так и назвал: «Смерть» (1897). Исключением, пожалуй, является лишь роман «Волшебная гора» (1925), в котором биография главного героя выходит за сюжетные рамки произведения и, соответственно, его смерть не показана, хотя сама атмосфера книги буквально пропитана болезнью и смертью.
«Я свято верю, что мне достаточно рассказать о себе, чтобы заговорила эпоха, заговорило человечество, и без этой веры я отказался бы от всякого творчества». Эти слова Т. Манна относятся к 1920 г., но в них заключена суть всего его творчества. Автобиографическое, пережитое на собственном опыте, более чем существенно в произведениях Т. Манна.
Начал свою карьеру Томас в одной из страховых контор. Однако первый литературный успех уже через год позволил ему оставить нелюбимое занятие: в 1895 г. лейпцигский журнал напечатал его новеллу «Падшая».
В большинстве ранних произведений Т. Манна так или иначе обозначились важнейшие проблемы, к обстоятельной разработке которых художник обратится вскоре в романе «Будденброки». Новеллы Т. Манна этого периода сходны по многим параметрам. Их герои, как правило, – люди одинокие, отчужденные от общества, терпящие крах в своем стремлении преодолеть это отчуждение и обрести счастье. Бессмысленной оказалась жизнь героя новеллы «Маленький господин Фридеман», жизнь, которую «горбатый человечек» сумел сотворить и которую нежно любил: игра на скрипке, чтение, посещение концертов, прогулки в пригородном саду. Все разрушила его мучительная страсть к Герде фон Риннлинген, красивой и эксцентричной особе. Презрительно ею отвергнутый, господин Фридеман кончает жизнь самоубийством. Трагический финал истории достаточно закономерен: для слабого, «не такого, как все», счастье невозможно. Тщетными оказались надежды на счастливую, размеренную жизнь в уединении главного персонажа «Паяца»: он вдруг обнаруживает в себе полную опустошенность, ощущает бессмысленность дальнейшего существования. Не менее одинок и несчастен и адвокат Якоби, герой новеллы «Луизхен».
Одиночество манновских героев в большой степени обусловлено уродством, болезнями, предрасположенностью к психическим заболеваниям. Общим для большинства персонажей является и неучастие в деловой жизни: источник их материального обеспечения – рента, а если некоторые, как господин Фридеман и адвокат Якоби, имеют профессию и работают, то только для того, чтобы придать своему существованию внешнюю благопристойность. Как правило, герои ранних новелл Т. Манна примерно одного возраста, они не могут создать семью, а если все же вступают в брак, то несчастливы в нем и бездетны. Но, пожалуй, более всего роднит многих персонажей наличие духовных интересов, стремление компенсировать ими отсутствие связей с обществом. Эстетствующими дилетантами не являются центральные фигуры лишь трех ранних новелл – «Тобиас Миндерникель», «Луизхен» и «Дорога на кладбище». Общая для ранних новелл тема решена в этих трех произведениях в трагикомическом плане.
Ранние новеллы Т. Манна интересны и тем, что по ним можно судить об отношении писателя к натурализму, распространившемуся в тот период в немецкой литературе. Элементы натурализма присутствуют и в произведениях Т. Манна. В их сюжетах и поэтике представлены, в частности, антитезы «жизнь – смерть», «здоровье – болезнь». Играет роль в судьбах героев и наследственность («Паяц»). Да и незначительность персонажей, периферийность их жалких судеб тоже сближают ранние новеллы писателя с творчеством натуралистов. Однако различия гораздо более существенны. Натуралистические категории, к которым обращается Т. Манн, носят характер не естественно-научный, а метафизический. В отличие от героев натуралистических произведений персонажи Т. Манна – более или менее состоятельные люди, а их страдания и крах – следствие причин не материального, а психологического порядка. Новеллы Т. Манна имеют хоть и не напряженную, но достаточно четкую фабулу, а повествование в них поднято на более обобщенный уровень.
Очевидно влияние на раннего Т. Манна идей А. Шопенгауэра и Ф. Ницше. Характерно название одной из новелл – «Воля к счастью», подсказанное, вероятно, известной формулой Ницше «воля к власти». Некоторые произведения Т. Манна восходят к идеям Ницше концептуально и даже сюжетно («Смерть»).
В 1901 г. появился роман Томаса Манна «Будденброки». Его художественная структура традиционна, история семьи любекских купцов излагается хронологически последовательно, смысл произведения конкретнее, нежели в последующих романах писателя. По первоначальному замыслу предполагалось создание очередной новеллы, в которой автор «собирался развить лишь историю последнего отпрыска рода, болезненно-чувствительного мальчика Ганно, да разве еще жизнеописание Томаса Будденброка…» Однако сюжет потребовал от автора масштабов романных, эпических.
Многие реалии взяты писателем непосредственно из действительности, собственных воспоминаний о детских и юношеских годах, проведенных в Любеке, рассказов родственников, семейных документов (вплоть до кухонных рецептов). Но роман – отнюдь не частный семейный случай. Позднее сам автор определит «Будденброки» как «скрытый под маской семейной хроники социально-критический роман». На примере четырех поколений Будденброков Т. Манн показал закат немецкого бюргерства, при этом сквозной линией романа является история третьего поколения, представленного Томасом, Тони, Христианом и Кларой. Время действия – с 1853 г. до конца XIX в. Художник исследовал процесс умирания семейства в экономическом, общественном и биологическом аспектах, взаимосвязанных и в определенной степени взаимообусловленных.
Наиболее очевиден деловой, экономический крах семейства. Старый Иоганн Будденброк, представитель самого старшего поколения, еще может испытывать удовлетворение от своей коммерческой деятельности: уходя из жизни, он оставляет процветающую фирму и состояние, ради приумножения которого всю жизнь «работал не щадя сил». После его смерти значительная часть капитала была утрачена, и не только по объективным причинам – в качестве приданого и многих других выплат, но и из-за нежелания консула Будденброка, нового хозяина фирмы, вести смелые, рискованные операции. При Томасе Будденброке, всю жизнь стремившемся «слыть деятельным человеком» и поначалу действительно способствовавшем некоторому подъему фирмы, дела начинают идти столь «унылым темпом», что становятся предметом пересудов. «Удачи и успехи миновали», а «грошовые обороты» и «почти мелочная экономия» не могут исправить положения. Фирма оказывается оттесненной на обочину предпринимательства, а после смерти Томаса Будденброка ликвидируется.
Экономический упадок сопровождается, напротив, – ростом общественной репутации, но (что характерно) репутации не семейства в целом, а лишь его главы. В то время как брат Томаса, Христиан, этот «выродок, нарыв на теле семьи» компрометирует своих родичей, да и Тони оставляет своими браками «пятна» на репутации семьи, сам Томас Будденброк удостаивается звания сенатора. Но и его авторитет с самого начала не обещает быть прочным и продолжительным, ибо зиждется на шатком экономическом фундаменте.
Писатель исследует также и биологический аспект вырождения Будденброков. Эта сторона истории с течением романного времени занимает все больше места. В сущности, от старости суждено умереть лишь первым Будденброкам. Кончина консула уже настораживает: слишком внезапно она наступила. Медленно, в страшных муках умирает консульша. Процесс угасания жизни в ней показан Т. Манном во всех подробностях, почти натуралистически. Детальному изображению тех или иных аномалий, болезней и смертей автор будет уделять все больше внимания. Рано умирает сестра Томаса – религиозная Клара. Странной кажется окружающим смерть Томаса («От зуба… сенатор Будденброк умер от зуба… Но… от этого же не умирают!»). И, наконец, тиф уносит юного Ганно, с рождения страдавшего многочисленными недугами. Смерть этого последнего Будденброка как бы предопределена и не имеет альтернативы. Страстно любящий музыку, богато одаренный, он чувствует, как «больно ранит красота», как она отнимает у человека «пригодность к обыденной жизни». Его преследует мысль, что «тяжкое бремя с первых дней жизни гнетет его душу и когда-нибудь совсем придавит ее». «Мне хочется умереть… – признается Ганно. – Пастор… сказал кому-то, что на мне надо поставить крест, я из вырождающейся семьи…» Не по годам рано он начинает сознавать себя не только свидетелем «разлома, распада и разложения», но и самой уязвимой частью того мира, который идет к своему неумолимому концу.
Именно образ Ганно побуждает к анализу не только потерь на пути рода к гибели, но и определенных обретений: из поколения в поколение развиваются утонченность, культура, душевная раздвоенность героев, их неспособность удовлетворяться только «делом» и семейной жизнью. Как результат – все более явственное их отчуждение от общества, несоответствие поведения сословной морали. Уже консул Иоганн Будденброк не испытывает той безмятежности и уравновешенности, которые были свойственны его родителям, ощущает искреннюю потребность в Боге, культивирует в себе «небудничные, некупеческие и сложные чувства». Еще более противоречива фигура Томаса Будденброка. У городских обывателей с их «пропыленной житейской мудростью» вызывают подозрение его безупречная элегантность и корректность манер, в особенности же – его союз с Гердой, «сомнительный», ибо покоился на духовной общности.
Томас Будденброк разбирается в живописи и литературе, увлекается Шопенгауэром (философия которого оказала сильное влияние на мироощущение молодого автора «Будденброков»). Все чаще перед ним встает вопрос: кто он – «человек действия или томимый сомнениями интеллигент», «расслабленный мечтатель»? («Да! Вот вопрос! Вопрос, волнующий его с той самой поры, как он начал думать!.. Так вот: приспособлен ли он, Томас Будденброк, подобно своему отцу и деду, к этой суровой практической жизни? С давних пор – и часто, очень часто – были у него причины в этом сомневаться! Часто, очень часто, с самых юных дней, приходилось ему приноравливать свое мироощущение к этой всеобъемлющей жизни…») Он был «слишком умен и честен, чтобы в конце концов не осознавать, что в нем воссоединилось и то и другое». Что же касается Ганно, то он вообще кажется «пришельцем», совершенно беззащитным перед людьми и жизнью. Идее романа соответствует его поэтика, его художественная логика.
Поразительно стройна композиция «Будденброков», повествование обстоятельно и в то же время внутренне динамично, насыщено иронией, символическими образами и коллизиями, отличается структурной целостностью и завершенностью, глубокой психологической разработкой характеров.
О том, что Т. Манну, по его собственным словам, «написавшему книгу, сугубо немецкую по форме и по содержанию, удалось создать книгу, интересную не только для Германии, но и для Европы, – книгу, в которой отражен эпизод из духовной истории европейского бюргерства вообще», свидетельствует факт присуждения писателю Нобелевской премии в 1929 г. именно за этот роман.
За «Будденброками» последовали единственная пьеса Т. Манна – драма из жизни Флоренции XV в. «Фьоренца» (1906), автобиографический очерк «В зеркале» (1907), статьи об искусстве, роман «Королевское высочество» (1909), новеллы. Драма и роман уступают по своему идейно-художественному уровню «Будденброкам», зато среди новелл есть произведения поистине замечательные. К их числу относятся прежде всего «Тристан», «Тонио Крегер» и «Смерть в Венеции».
Проблематика многих новелл, созданных писателем в этот период, свидетельствует об их общности с его предыдущими произведениями, в том числе с романом «Будденброки». Искусство и жизнь, художник и бюргер – вот вопросы, занимающие наиважнейшее место в творчестве Т. Манна. С человеком из мира литературы автор знакомит нас в новелле «Тристан» (1902). Эстетствующий писатель Детлеф Шпинель, чья, по ироничному определению повествователя, «сомнительная деятельность» увенчалась одним «рафинированным» романом, то и дело прибегает к самохарактеристике (прием, постоянно используемый Т. Манном в новеллистике). «Я и мне подобные, – признается Шпинель, – мы всю жизнь только о том и печемся, только тем и озабочены, чтобы обмануть свою совесть, чтобы ухитриться доставить ей хоть маленькую радость. Бесполезные мы существа… и, кроме редких хороших часов, мы всегда уязвлены и пришиблены сознанием собственной бесполезности. Мы презираем полезное, мы знаем, что оно безобразно и низко, и отстаиваем эту истину…» Эстетство Шпинеля постоянно подчеркивается автором: речь этого «удивительного субъекта» цветаста и вычурна, а его воображение способно самые обыденные факты сделать до неузнаваемости искусственными. Шпинель-Тристан, увлеченный г-жой Клетериан-Изольдой, ускоряет ее уход из жизни. Угрызения совести не мучают его; наоборот, он видит свою заслугу в том, что конец Габриэлы «свободен от пошлости», и считает, что «красота смерти» предпочтительнее «всей этой бесчувственной, слепой, бессмысленной жизни».
Ассоциации с легендой о Тристане и Изольде – точнее, с ее вагнеровской интерпретацией, звучащей в новелле, – совершенно очевидны, но в противоположность Рихарду Вагнеру Т. Манн соединяет в своем повествовании трагический план с комически-гротескным, причем последний доминирует. Антипод Шпинеля – господин Клетериан, воплощенное мещанство, «человек, пищеварение и кошелек которого находятся в полном порядке». Именно он высмеивает и ниспровергает Шпинеля. Таким образом, искусство и дух, лежащие вне жизни, от жизни же терпят поражение, но от жизни в самом ее банальном и ничтожном варианте. Действие новеллы происходит в санатории для легочных больных, образ которого позднее будет развернут автором в мощную метафору-символ в романе «Волшебная гора».
Размышления Т. Манна о взаимоотношениях искусства и бюргерства, искусства и жизни с наибольшей полнотой воплощены в новелле «Тонио Крегер» (1903). Не без оснований исследователи говорят об автобиографичности этого произведения, а также о родстве его героя с персонажами романа «Будденброки». Многое в Тонио, особенно в Тонио-подростке, напоминает Ганно Будден-брока. Как и Ганно, он сын зерноторговца, причем занимающего в городе выборную должность; как и Ганно, плод необычного брака. Тонио тоже «одинок и не похож на всех остальных людей, добропорядочных и обыкновенных». Музыка, писание стихов, размышления о любви и страдания составляют его «внутреннюю жизнь». Но мировосприятие Ганно абсолютно цельно; Тонио же в этом смысле ближе к Томасу Будденброку с мучительными раздумьями последнего о том, кто он – интеллигент или делец. Натура Тонио в еще большей степени исполнена противоречий. Он и Ганса Гансена, а затем Ингеборг Хольм, этих «белокурых и голубоглазых», любит не только за красоту, но и за их полную противоположность себе.
С течением времени противоречия становятся еще острее и обретают новое качество, удачно сформулированное героиней новеллы, русской художницей Лизаветой Ивановной: «Вы бюргер на ложном пути… Заблудший бюргер…» «Я стою между двух миров, ни в одном не чувствуя себя дома…», – говорит и сам Тонио.
Новелла «Тонио Крегер» отчетливо показала эволюцию Т. Манна во взглядах на искусство. Его герой, представитель «духа», хотя и сознает свое превосходство над представителями «жизни», все-таки ее не презирает, ибо понимает, что «если что может сделать из литератора поэта, то как раз… любовь к человечному, живому, обыденному», а без этого его голос «останется гудящей медью и кимвалом бряцающим». Это – своеобразный манифест, и не только героя новеллы, но и ее автора.
В защиту искусства, порождаемого чувством и жизнью, Т. Манн выступает и в новелле «Смерть в Венеции» (1913). Главный ее герой – стареющий писатель Густав Ашенбах. Автор не случайно сравнивает процесс литературного труда Ашенбаха с работой «продуцирующего механизма»: его книги холодны, они – результат «постоянных усилий», а не естественное порождение подлинного таланта, согретого любовью к людям. «Внутренняя опустошенность» и «биологический распад», фальшь и «разрушительная тоска» – суть как личности Ашенбаха, так и его творчества, глубоко декадентского по своему содержанию. Во всей полноте эти черты проявляются в истории роковой страсти Ашенбаха к юному Тадзио. Важно понять, что эта любовь стала не причиной смерти, а лишь последней вехой на пути писателя к ней. Поражение же Ашенбаха – это поражение не искусства вообще, а только того искусства, которое представляет он, – лишенного человечности, исполненного «лжи и шутовства», толкающего «к бездне».
В ряду образов, создающих символическую структуру новеллы, ключевыми являются образы незнакомца, внушившего писателю сильное, «как приступ лихорадки», желание путешествовать; мрачного гондольера с похожим на гроб черным суденышком; певца-скомороха, пахнущего карболкой. Впечатление символичности, даже демоничности этих фигур усиливается благодаря тому, что все они наделены повествователем абсолютно одинаковой внешностью. В чем-то эти персонажи предвосхищают второе «я» Адриана Левер-кюна в «Докторе Фаустусе» – чёрта.
Существен вопрос о том, какие реальные лица и социально-философские теории оказались включенными в художественный мир новеллы. Безусловно, в ней, как и в других произведениях Т. Манна, нашли воплощение некоторые идеи Шопенгауэра и Ницше. Относительно же прототипа главного героя Т. Манн в 1921 г. сообщает в одном из писем, что «своему охваченному вакханалией распада герою» он дал имя и внешность музыканта Густава Малера, о смерти которого узнал в 1911 г. во время путешествия в Венецию. Но, очевидно, образ Густава Ашенбаха имеет характер обобщенно-собирательный.
Лучшие новеллы Т. Манна – примеры удивительного соответствия поэтики произведений их нравственно-философскому смыслу. Они многоаспектны, эстетически многогранны, отличаются масштабностью внутреннего конфликта, насыщены художественными реминисценциями и аллюзиями. Бесконечно интересны они в плане общехудожественной проблематики, особенно музыкальной, разработка которой найдет свое глубочайшее концептуальное продолжение в «Докторе Фаустусе».
Сложностью и противоречивостью отмечены политические убеждения Т. Манна в канун и период Первой мировой войны, что подтверждают его публицистические работы «Мысли во время войны», «Размышления аполитичного» и др. Наряду с трезвыми и актуальными рассуждениями в них есть и положения весьма сомнительного толка. Однако последующие статьи и художественная практика, прерванная на время войны и затем возобновленная, свидетельствовали о преодолении Т. Манном заблуждений и опасных иллюзий, о постепенном обретении им «новой гуманности».
Литература Австрии на рубеже XIX–XX вв
Литература дуалистической императорско-королевской монархии, каковой была Австро-Венгрия на рубеже XIX–XX вв., не представляла собой единого целого: она включала целый ряд литератур различных национальных общностей (украинской, польской, чешской, словацкой, румынской и др.). Эти литературы, с одной стороны, испытывали на себе влияние культуры Германии, с другой – имели отчетливо выраженные особенности, обусловленные своеобразием исторического развития, языковой принадлежностью и т. п. Однако уже к середине XIX в. австрийская монархия начинает распадаться. Этот процесс обострился к концу XIX в., что не могло не сказаться на литературном развитии страны. Четко дифференцируется собственно австрийская литература, создаваемая на немецком языке и, в отличие от литературы Германии 2-й половины XIX в., вступившая в полосу нового подъема.
Заметное развитие в австрийской литературе получают реалистические тенденции. Они сказались на художественном методе Людвига Анценгрубера (1839–1889), Марии фон Эбнер-Эшенбах (1830–1916), Фердинанда фон Заара (1833–1906), Якоба Юлиуса Давида (1859–1906) и др. Важным фактором, определявшим характер австрийского общественного развития на рубеже веков, стало, как и в Германии, рабочее движение, вызвавшее к жизни социалистическую литературу, в частности роман (Минна Каутская, 1837–1914; Берта фон Зутнер, 1843–1914).
Параллельно с реализмом в Австрии получили развитие такие художественные течения, как неоромантизм, импрессионизм, символизм, представители которых стремились по-новому выразить свои духовные и эстетические потребности. Характерно, однако, что в австрийской литературе почти не нашел отклика столь распространенный на рубеже веков натурализм. Дифференцировать литературные направления в Австрии непросто, они часто сосуществуют, переплетаются (в том числе с реализмом) в произведениях одного и того же автора. Теоретиком нереалистических течений был писатель и литературный и театральный критик Герман Бар (1863–1934).
Опытом фиксации деталей внешней жизни Вены и субъективных переживаний отдельного ее обитателя явилось творчество прозаика-импрессиониста Петера Альтенберга (настоящее имя – Рихард Энглендер, 1859–1919). В его миниатюрах (сборники «Как я это вижу», 1896; «Что приносит мне день», 1900; «Сказки жизни», 1908 и др.) чередуются многообразные оттенки радости и печали.
Новатором в прозе и драматургии стал сын известного венского врача и сам по профессии психиатр Артур Шницлер (1862–1931). Его художественный метод не поддается однозначной трактовке. Например, некоторые немецкие литературоведы относят Шницлера к реалистам, замечая, однако, что он был одним из зачинателей того «нового направления», в русле которого творили Г. Бар, П. Альтенберг, Г. фон Гофмансталь. Наряду с Достоевским на него оказали влияние Флобер и Мопассан, многое почерпнул он из трудов Зигмунда Фрейда. Сам Шницлер тоже не только практиковал, но и занимался научными изысканиями в своей области медицины. Закономерно поэтому, что в его произведениях преобладает именно психологическое препарирование действительности, нередко переводимое им в сферу подсознательного.
В основе пьес Шницлера часто оказывается любовная фабула, они изящны, критицизм в изображении венского общества в них, как правило, уравновешивается соответствующей долей сентиментального и эротического. Есть у драматурга и такие пьесы, в которых отчетливо прослеживается именно социальная проблематика («Зеленый попугай», 1898; «Профессор Бернарди», 1912 и др.).
Особое место в психологической прозе писателя занимает новелла «Лейтенант Густль» (1900), представляющая собой удачную попытку воспроизвести события и душевную реакцию на них главного персонажа, лейтенанта Густля. Случай, поставивший его в ситуацию выбора между смертью и изменой офицерскому кодексу чести, обнаружил всю никчемность и лицемерие Густля. Есть основания считать, что этой новеллой австрийский художник предвосхитил школу «потока сознания».
Своеобразным проявлением литературного синкретизма стало творчество драматурга, поэта и прозаика Гуго фон Гофмансталя (1874–1929). Художник «ничуть не меньшего значения, чем Рильке» (1, 31–32), Гофмансталь соединяет в своей поэзии черты неоромантизма и эстетизма, символизма и импрессионизма, причем часто на уровне одного произведения. Стихи Гофмансталя отличаются исключительной пластичностью и музыкальностью, насыщены глубоким философским содержанием. В основе мировосприятия поэта – ощущение несвободы, обреченности, власти рока, «тоски по родине, без имени и звука». Все эти мотивы сопряжены, например, в стихотворении Гофмансталя «Видение», вызывающем в памяти знаменитый «Пьяный корабль» А. Рембо. В системе образов-ассоциаций «Видения» один из самых впечатляющих – образ смерти, которая, «в невыразимой грусти // став музыкой, мерцающей и темной», сочится сквозь «серебряный и тусклый запах тьмы».
Композиционная и смысловая целостность у Гофмансталя основывается на слиянии философского и собственно художественного планов. Характерными в этом смысле являются его «Терцины о бренности всего земного».
Wir sind aus solchem Zeug, wie das zu Träumen, Und Träume schlagen so die Augen auf Wie kleine Kinder unter Kirschenb?umen, Aus deren Krone den blaβgoldnen Lauf Der Vollmond anhebt durch die groβe Nacht. …Nicht anders tauchen unsre Träume auf, Sind da und leben wie ein Kind, das lacht, Nicht minder groβ im Auf– und Niederschweben Als Vollmond, aus Baumkronen aufgewacht.. Das Innerste ist offen ihrem Weben, Wie Geisterhände in versperrtem Raum Sind sie in uns und haben immer Leben. Und drei sind Eins: ein Mensch, ein Ding, ein Traum. Из той же ткани, что и сновиденья, Мы сотканы – и наши сны не спят, Как дети возле вишен, в их цветенье. Где меж ветвей луна ласкает сад, В ночи скользит свет бледно-золотой. … И наши сны о том же говорят, О чем и явь. – В них тот же разнобой, И тот же хоровод, и смех, и прятки, И тот же месяц в небе над землей. Таинственно запутаны порядки Их нитей; словно дух – не погребен — Они нам задают свои загадки. Вот триединство: человек, вещь, сон. (Пер. В. Топорова)Те же мотивы и образы наполняют одноактные поэтические драмы Гофмансталя: «Вчера» (1891), «Смерть Тициана» (1892), «Глупец и Смерть» (1893) и др.
В начале XX в. Гофмансталь работает преимущественно в сфере театра. Действие его пьес отнесено к различным историческим эпохам, но не реалистическое воспроизведение Античности («Электра», «Эдип и сфинкс») или Средневековья («Каждый») является целью автора, а воплощение столь интересующих его тем смерти и рока, своей убежденности в том, что «все неизбежно, и великое счастье в том, чтобы знать, что все неизбежно». Плодотворным было сотрудничество Гофмансталя с Рихардом Штраусом, к операм которого он создал ряд либретто, в том числе к знаменитому «Кавалеру роз» (1910).
В канун и годы Первой мировой войны в Австрии, как и в Германии, формируется литература экспрессионизма. Наиболее талантливыми ее представителями были такие очень разные в этико-эстетическом отношении художники, как поэт и прозаик Франц Верфель (1890–1945), страстно желавший, чтобы наступило «на планете время // общечеловеческого братства»; Георг Тракль (1887–1914), певец «распада» и «одиночества духа», провидец «бездны огненной» и «горького времени конца»; прозаик Густав Майринк (настоящее имя – Густав Майер, 1868–1932), из произведений которого особую известность приобрели сборник новелл «Волшебный рог немецкого обывателя» (1909–1913) и роман «Голем» (1915).
Многие австрийские писатели (Р.М. Рильке, Г. Майринк, Э.Э. Киш и др.) обосновались в Праге. С Прагой связаны жизнь и творчество Франца Кафки (1883–1924), у которого было много общего с экспрессионистами, но были и особенности мировоззренческого и эстетического характера. В 1910-е годы опубликован ряд произведений Кафки, в том числе его новеллы-притчи «Приговор» (1913) и «Превращение» (1916); некоторые другие его известные произведения, хотя и оказались изданными посмертно, были написаны также в это время (романы «Америка», «Процесс»).
В начале XX в. публикуются и первые произведения Стефана Цвейга, Роберта Музиля, Карла Крауса.
В Австрии, в Вене, прошла большая часть жизни знаменитого невропатолога и психиатра, автора теории и метода психоанализа Зигмунда Фрейда (1856–1939). Убедившись в несостоятельности вульгарно-материалистического толкования происходящих в человеческой психике изменений, в недостаточности знания анатомии и физиологии для лечения неврозов, Фрейд создает совершенно новую психотерапевтическую технику. Одно из первых ее описаний дано в работе «Исследования по истерии» (1895), опубликованной Фрейдом совместно с венским врачом И. Брейером. В рассматриваемый период Фрейд успел издать свои фундаментальные труды: «Толкование сновидений» (1899), «Тотем и табу» (1913), другие книги и статьи с изложением психоаналитической теории, которая, несмотря на резкую критику многими психиатрами, получает широкое распространение в ученой среде (в 1908 г. оформилось «Венское психоаналитическое общество», прошел 1 Международный психоаналитический конгресс, в 1910 г. образована поныне действующая Международная психоаналитическая ассоциация) и начинает оказывать огромное воздействие на творческую интеллигенцию.
Фрейд и сам интересовался вопросами искусства, прежде всего – ее ролью в психической деятельности как создающего, так и воспринимающего художественное произведение. Для того и другого искусство является своего рода катарсисом, помогая первому освободиться от неудовлетворенных желаний посредством их воплощения в своих произведениях, а второму через наслаждение этими произведениями прийти к душевной разрядке; в обоих случаях происходит самоисцеление.
Однако гораздо большее значение для культуры, включая литературу, имели различные аспекты собственно психоанализа (роль инстинктов, бессознательного в «индивидуальной жизни души», теория свободных ассоциаций, функция сновидений и т. п.). Причина притягательности идей Фрейда стала понятной уже в начале XX столетия: он повернул психологию в сторону личности, неизведанных глубин ее внутренней деятельности, показал неповторимость и ценность каждого человека. Говоря словами С. Цвейга, Фрейд приступил к исцелению «не только несчетного числа отдельных лиц, но и всей морально нездоровой эпохи», «дал другое направление всем основным вопросам культуры» («Зигмунд Фрейд»).
Источники
1. Михайлов А.В. Из источника великой культуры // Золотое сечение: Австрийская поэзия XIX–XX веков в русских переводах. М., 1988.
Райнер Мария Рильке
За время, прошедшее со дня смерти гениального австрийского поэта Райнера Карла Вильгельма Иосифа Мария Рильке (1875–1926), было предпринято великое множество попыток прочтения, постижения философско-эстетической природы его творчества, в том числе чрезвычайно глубоких. И все же, кажется, никто так близко не сумел подойти к пониманию метафизической сущности таланта Рильке, как Марина Цветаева в своем «Новогоднем» – стихотворении-реквиеме, стихотворении-плаче, первом и потому насыщенном почти физической болью отклике на смерть человека и художника, так много значившего для нее («Душа питается жизнью, – здесь душа питается душой, – напишет М. Цветаева Б. Пастернаку в 1929 г., имея в виду свое заочное знакомство с Рильке. – С тех пор у меня в жизни ничего не было. Проще: я никого не любила – годы – годы – годы»):
…Что мне делать в новогоднем шуме С этой внутреннею рифмой: Райнер – умер. Если ты, такое око, смерклось, Значит жизнь не в жизнь есть, смерть не в смерть есть. Значит – тмится, допойму при встрече! — Что ни жизни нет, ни смерти, – третье, Новое… …С незастроеннейшей из окраин — С новым местом, Райнер, светом, Райнер! С доказуемости мысом крайним — С новым оком, Райнер, слухом, Райнер! Все тебе помехой Было: страсть и друг. С новым звуком, Эхо! С новым эхом, Звук!..Приведенные фрагменты (как и стихотворение в целом) в первую очередь впечатляют осознанием вневременной праосновы произведений Рильке, взглядом на них sub specie aeternitatis (с точки зрения вечности), как на явление в определенном смысле космическое, универсальное, а на автора их – как на своеобразного пилигрима, для которого смерть – всего лишь переход на «новое место», обретение «нового звука», всего лишь «новое рукоположенье» («В небе лестница, по ней с дарами… // С новым рукоположеньем, Райнер!»).
Действительно космическим, универсальным был поэтический дар Рильке как мало кого из поэтов, и не только по своей внутренней природе. Его универсализм детерминирован и рядом вполне объективных причин, среди важнейших из которых – сама принадлежность к Австро-Венгрии, этой, так сказать, Европе в миниатюре. В результате Первой мировой войны «лоскутная» империя рухнет, а пока в нее входят земли южнославянские, польские (Краков), украинские (Львов), а также те, которые позже составят Австрию, Чехию, Венгрию. Соответственно гротескному образованию, каким была Австро-Венгрия в целом, и Прага живет жизнью разнонациональной, разноязычной, разнокультурной, не соприкасаться со всеми сторонами которой Рильке не мог. Но ему и здесь не хватает воздуха, он все время стремится вырваться за пределы страны, в которой ему суждено было родиться. Он всегда в дороге, редко имеет постоянный адрес, квартиру или службу; у людей, его знавших, часто складывалось впечатление, что Рильке сам мог не знать сегодня, куда поведет его дорога завтра.
Говоря словами Стефана Цвейга, он принадлежал к «роду, не имеющему прямых потомков в наши открытые всем ветрам дни». Все та же М. Цветаева почувствовала это много раньше других.
«Кто ж ты все-таки, Райнер? – задается вопросом она в одном из писем. – Не немец, хотя – целая Германия! Не чех, хотя родился в Чехии (NB! в стране, которой еще не было, – это подходит!), не австриец, потому что Австрия была, а ты – будешь! Ну не чудеса ли? У тебя – нет родины!» Сам Рильке в одном из писем от 1926 г. скажет: «Вы легко можете себе представить, какое влияние оказывало на меня окружение или многие страны, в которых я по милости моей щедрой и снисходительной судьбы имел возможность останавливаться не только как путешественник, но и по-настоящему там жить, принимая живейшее участие в современном и прошлом этих стран…»
К числу этих стран принадлежат Италия и Франция, Испания и Дания, Швеция и другие. Закономерно поэтому, что в зрелых стихах Рильке представления пражанина о важнейших проблемах жизни органически соединяются с мироощущением обитателя вселенной, а современно-актуальное пересекается с философским, универсально-бытийным.
По словам поэта, «решающим же влиянием была Россия»; во время двух ее посещений в 1899 и 1900 г. она открыла Рильке «мир неслыханных измерений», стала его «духовной родиной», основой его жизневосприятия. «Дорогой друг! Если бы я пришел в этот мир как пророк, я бы всю жизнь проповедовал Россию…», – признается Рильке. Вновь и вновь называет он Россию «незабываемой сказкой», «святой и близкой», страной, навсегда вошедшей в основы его существования.
Рильке был знаком с русскими художниками Л.О. Пастернаком, А. Бенуа, И. Репиным, с писателями Л. Толстым, М. Горьким, С. Дрожжиным и др. Выучив русский язык, он перевел «Слово о полку Игореве», «Чайку» А.П. Чехова, фрагменты из «Бедных людей» Ф.М. Достоевского, стихотворения М.Ю. Лермонтова, С. Дрожжина, К. Фофанова, З. Гиппиус, рассказ Ф. Сологуба «Червь» и сам, как известно, написал восемь стихотворений по-русски. М. Цветаева как-то заметит, что не только в судьбе, но и в творчестве Рильке «не раз – повеет Россией». Так оно и было: русский опыт, результаты изучения религиозно-исторических обычаев и культуры России нашли воплощение в поэтических сборниках «Книга образов» (1902), «Часослов» (1905), «Новые стихотворения» (1907–1908), в небольшом рассказе «Как на Руси появилась измена» (из цикла «О Господе Боге и другое», 1900). Русские мотивы дали о себе знать и в романе «Записки Мальте Лауридса Бригге», самом крупном прозаическом произведении писателя. Кстати заметим, что присутствуют в творчестве Рильке и украинские влияния (в «Часослове», в рассказах «Песня о правде» и «Как старый Тимофей пел, умирая» из вышеназванного цикла «О Господе Боге и другое»); чрезвычайно важными ее составляющими стали также итальянские, французские, скандинавские и другие темы и впечатления.
Универсализм Рильке был обусловлен и синкретизмом в переломную эпоху. Духовная, в том числе литературная жизнь на пограничье культурно-исторических эпох всегда имеет характер синтеза, пограничью же XIX–XX вв. это было особенно свойственно. Если прежде старое направление уступало место новому, как это было, к примеру, с классицизмом и романтизмом, позже – с романтизмом и реализмом, то во 2-й половине XIX – начале XX в., в эпоху декаданса, различные течения и школы хоть и противостояли друг другу, и стремились друг друга опровергнуть, однако же – сосуществовали; часто, как ни парадоксально, давали направлению-антиподу почву для новых художественных открытий, а иногда и сходились, взаимопроникая на уровне не только творчества одного автора, но и одного произведения.
В наивысшей степени синкретичным было и творчество Рильке: оно не укладывается в прокрустово ложе какого-либо одного направления, не поддается однозначному определению, даже если речь идет о том или ином конкретном произведении. Тем более это справедливо в отношении творчества Рильке в целом: каждый новый цикл его стихотворений свидетельствует о философско-эстетической эволюции поэта. Если в ранних произведениях сопрягаются элементы импрессионизма и неоромантизма, то с течением времени они лишаются прозрачности, многомерно осложняются и обогащаются, приобретают полисемичность, перспективу многовариантного осмысления.
Художник воспринял многочисленные влияния не только писателей (датчанина Е.П. Якобсена, австрийца Г. фон Гофмансталя, немцев С. Георге, Г. Гауптмана, Д. фон Лилиенкрона, бельгийца Э. Верхарна, французов Ш. Бодлера, М. Пруста, П. Валери, русских Л. Толстого, И.С. Тургенева и др.), но и живописцев, скульпторов (Микеланджело, П. Пикассо, П. Сезанна). Исключительно важную роль в судьбе Рильке сыграл Огюст Роден, чьим личным секретарем поэт был в 1905–1906 гг. Именно после знакомства с ним Рильке понял, что не смеет, по его собственному признанию, искать и требовать от жизни никаких иных осуществлений, кроме творческих: «в них мой дом, в них те существа, которые мне действительно близки, в них женщины, которые мне нужны, и дети, которые вырастут и долго проживут». Равного Родену среди художников-современников Рильке не видел, он был покорен искусством французского скульптора, совершенством его произведений, его самоотверженностью, сконцентрированностью на своем деле.
Большой интерес вызывало у Рильке экспрессионистское искусство, в частности, стихи Георга Тракля (вот только одно из авторских свидетельств: «… я был очень взволнован и увлечен как раз стихами Георга Тракля; круг его судьбы тем временем замкнулся и теперь, конечно, еще яснее видно, насколько его творчество уже вышло, вырвалось за пределы бренного и преходящего») и живопись погибшего на Первой мировой Франца Марка; это не могло не отразиться на его собственном творчестве.
Впрочем, чувства одиночества и беспомощности, катастрофизма и беззащитности, столь характерные для экспрессионистов, в поэзии самого Рильке вряд ли можно расценивать только как результат творческих влияний последних; очевидно, они – плод социально-общественных обстоятельств, в которых поэту суждено было жить. В письме к молодому немецкому поэту Бернгарду фон дер Марвицу от 9 марта 1918 г. Рильке, в частности, напишет: «Есть ли для нас где-нибудь просвет в этом потерявшем надежду мире? Разве не следовало бы всем, чье сознание отягчено ужасами, которые год за годом творятся в этом мире, сойтись, в конце концов, в таком месте, где люди стоят на коленях и кричат, – это я понял бы и бросился бы к ним и присоединил бы мой крик к их стенаниям». Строки эти не только вызывают ассоциации со знаменитым полотном «Крик» норвежского живописца и графика Эдварда Мунка, одного из зачинателей экспрессионизма, или с драмами – «криками» немецкого экспрессиониста Георга Кайзера, но воспринимаются и как квинтэссенция трагических настроений «конца века».
Die stillen Kräfte prüfen ihre Breit Und sehn einander dunkel an. Молчаливые силы свою мощь испытывают И друг на друга мрачные взгляды бросают. (Подстрочник наш. – Е.Л)Такое эмблематическое изображение рубежа столетий даст Рильке уже в книге «Часослов». Многократно останавливается он на специфике своей эпохи и позже («Ich lebe grad, da das Jahrhundert geht». – «Я живу как раз, когда столетие уходит»), предчувствуя ужасающие катаклизмы, невиданное ранее распространение жестокости, которая на родине поэта проявилась едва ли не раньше, чем в других странах Европы. По словам С. Цвейга, «в то последнее десятилетие перед новым столетием в Австрии уже началась война всех против всех». Интеллигентность, духовность, деликатность в принципе не совместимы с атмосферой мракобесия, манипулирования массовым и индивидуальным сознанием; совершенно чужды были подобные обстоятельства Рильке с его «жизнью вполголоса». Что уж говорить о военной школе или тем более о военной казарме, если Рильке утомляли и раздражали любая неупорядоченность быта, любая несдержанность чувств; как ни удивительно, его, вечного странника, на долгие часы лишала равновесия одна только мысль, что несколько минут нужно будет провести в многолюдном трамвае.
Одиночество относится к определяющим чувствам Рильке-человека и Рильке-художника. Неимоверно обостряется оно в городе – будь это Прага, Венеция или «город вечной молодости – Париж», который Рильке любил страстно, как никакой другой город. Однако и в Париже – прежде всего в Париже – ему было бесконечно одиноко. И вот уже в письме от 18 июля 1903 г. к Лу Андреас-Саломе звучат слова бесконечного, отчаянного страха: «Я хотел бы сказать тебе, дорогая Лу, что в Париже я испытал нечто похожее на то, что и в военном училище; как тогда меня охватило громадное гнетущее изумление, так и теперь на меня снова напал ужас перед всем тем, что в каком-то невыразимом заблуждении зовется жизнью. Тогда я был мальчиком среди мальчиков, я был одинок среди них;
но как одинок был я теперь среди этих людей, как отрицало меня постоянно все, что встречалось на пути; экипажи проезжали сквозь меня… катили, исполненные презрения, прямо через меня, как через выбоину, в которой скопилась застоявшаяся вода». «О, этот мой страх воздвигали тысячи рук, он был захолустной деревней и стал городом, большим городом, в котором творится несказуемое… когда наступил Париж, страх быстро принял огромные размеры».
…Быть может, в страх, рожденный городами, по горло я тобою погружен? (Пер. В. Микушевича)Важно, однако, что одиночество было для Рильке в такой же степени невыносимым, в какой и желанным, единственно для него как для творца необходимым, единственно приемлемым: «Я боюсь, что заболею, если мой образ жизни не будет изменен в сторону одиночества и природы» (это из уже цитированного письма к Б. фон дер Марвицу). И позднее, делясь с М. Цветаевой счастьем «прорастания» и «созревания» последних поэтических циклов – «Элегий» и «Сонетов к Орфею», Рильке заметит: «Восторг и победа, Марина, не имеющие себе равных! Но чтобы этого добиться, мне необходим был тот избыток одиночества во всей своей убийственности». (Четырьмя годами раньше Рильке и за неполных два года до своей смерти Франц Кафка в письме к Максу Броду скажет нечто до ужаса подобное: «Страх перед полным одиночеством. В сущности, одиночество является моей единственной целью, моим великим искушением… И несмотря ни на что, страх перед тем, чего я так сильно жажду… Эти два вида страха перемалывают меня, как жернова».)
Ощущением огромного духовного одиночества, которое уже само по себе есть «труд, и достоинство, и призвание», тяжелая ноша, но, одновременно, «святое» состояние, проникнуты поэзия и проза Рильке. «Du meine heilige Einsamkeit» («О святое мое одиночество – ты!») – начинается одно из первых его стихотворений. С этого времени мотив отверженности, отчужденности пройдет через все его творчество. Одинок художник – одинок каждый, всякий человек – наконец, ошеломляюще, неизмеримо одинок сам Бог:
От века и навек всего лишенный, отверженец, ты – камень без гнезда. Ты – неприкаянный, ты – прокаженный, с трещоткой обходящий города. (Пер. В. Микушевича)Так скажет поэт в одном из стихотворений «Часослова», книги, ознаменовавшей начало славы Рильке. Та же мелодия прозвучит и в «Элегии», своеобразном поэтическом завещании.
Одиночество и бесприютность слышатся и в «Новых стихотворениях», и в других книгах Рильке, однако они далеко не исчерпывают всего диапазона чувств и переживаний его лирического героя. Это особенно касается на одном дыхании написанных «Дуинских элегий» (1923) и «Сонетов к Орфею» (1923) – двух «парусов», как назвал их автор («цвета ржавчины малый парус Сонетов и огромный белый парус Элегий»).
Большинство произведений, составивших эти циклы, построено по принципу контрапункта: в одном стихотворении соединяются отдаленные и даже полярные образы и мотивы – вечного и преходящего, жизни и смерти, одиночества и сопричастности, победы и поражения, боли и радости:
Тайна любви велика, боль неподвластна нам, и смерть, как далекий храм, для всех заповедна. Но песня – легка и летит сквозь века светло и победно. (Сонеты к Орфею, XIX. Пер. Г. Ратгауза)Антиномичность – одна из определяющих констант в художественной системе Рильке; она присутствует как в структуре стихотворения в целом, так и в структуре отдельного образа, часто сополагающего в себе и адепта той или иной идеи, и ее оппонента. Заметим, что антиномичность, двойственность дает себя почувствовать также в рилькевских прочтениях чужих произведений и в человековосприятии поэта вообще. К примеру, всю суть лермонтовского «Демона» Рильке видит в противостоянии «двух могучих чувств» – «чувства свободы и чувства высоты, или, если это выразить иначе, чувства крыльев, которое возникает от близости облаков и ветра, и великой, до боли блаженной тоски, исходящей от бездны, от того, что так манит снизу из глубины глубин и немыслимого сумрака смерти». Жизнь и смерть, полет и падение, движение вверх и движение вниз уравновешиваются друг другом до такой степени, что исчезает разница между ними; и те и другие в своей неразрывности составляют суть нашего существования, наш смысл. Известно, что даже самые притягательные философские теории лишались в глазах Рильке всякой ценности, как только выкристаллизовывались в нечто совершенно определенное, утрачивали каждодневно новое, «как тот, кто опровергает сам себя».
Точно так же в лирике и прозе Рильке метафизическое транспонируется на конкретное и, наоборот, сосуществуют в диалектической сопряженности земное и потустороннее, общее и частное, мука и радость, отчаяние и надежда. Еще в «Часослове» одной из художественных доминант становится антитеза «жизнь – смерть»; например:
Du sagest leben laut und sterben leise Und wiederholtest immer wieder: S e i n. Промолвил жить ты громко, умереть же – тихо, но снова повторял ты: Б ы т ь. (Подстрочник наш. – Е.Л)Много позже, уже имея в виду цикл «Элегий», Рильке констатирует: «Утверждение жизни и смерти в «Элегиях» становится единством». Разобщенными и в то же время целостными видятся автору «Элегий» человек («ангел и кукла»), его сознание, намерения и помыслы.
Особое место в ряду рилькевских двуединств занимает дву-единство «Бог и человек». Что Бог нашел в лице Рильке своего величайшего певца, проникновенного художника-толкователя и несравненного собеседника, – это бесспорно. Как, правда, бесспорно и то, что певца не первого и не последнего. Специфика же обращенной к Богу поэзии Рильке в том, в частности, что она, по большому счету, не была апологией конкретной религиозной догмы. Есть свидетельства, что почти неотъемлемыми атрибутами интерьера жилища Рильке, где бы он его ни снимал, обычно были и православная икона, и католическое распятие. Религиозность Рильке – это, скорее, определенное состояние души – искательницы и мученицы, которое может быть одинаково свойственно любому верующему и совершенно не обязательно координируется с какой-то одной религией.
Вяч. Иванов в свое время писал: «Религиозная проблема на первый взгляд представляется двоякою: проблемою охранения религии, с одной стороны, проблемою религиозного творчества – с другой. На самом же деле она остается единой. Без внутреннего творчества жизнь религии сохранена быть не может, – она уже мертва». Если внутреннее религиозное творчество понимать как создание Бога для себя и в себе и себя для Бога, как духовное самостроительство, самоусовершенствование, извлечение гармонии из хаоса, то именно такое единство мы и обнаружим у Рильке. Стремясь утешить своего адресата, поэта и военного в одном лице, Рильке советует: «…спросите себя, милый N., да действительно ли Вы Бога – потеряли? А что если Вы его еще никогда не находили? Ибо – когда же это могло быть? Неужели Вы думаете, что ребенок может его объять, его, которого мужи несут с трудом и под бременем которого сгибаются старцы? Неужели Вы думаете, что, действительно его обретя, можно потерять его, как камешек, – или, может быть, Вы также думаете, что обретенный им когда-либо может быть утрачен?.. Почему Вы не думаете, что он – грядущий, от века предстоящий, будущий, конечный плод дерева, листы которого – мы. Что Вам мешает перебросить его рождение в грядущие времена и жить свою жизнь как болезненный и прекрасный день в истории великой беременности? Разве Вы не видите, как все, что случается, всегда случается сначала, и не могло ли это быть его началом, раз начало само по себе – так прекрасно? Если он – наисовершеннейшее, не должно ли ему предшествовать меньшее, дабы он мог выбрать себя из полноты и избытка? – Не должен ли он быть последним, чтобы все в себя вместить, и какой смысл имели бы мы, если бы тот, которого мы жаждем, уже был?» И снова вспоминается «Новогоднее» М. Цветаевой:
…Не ошиблась, Райнер, Бог – растущий Баобаб? Не Золотой Людовик — Не один ведь Бог? Над ним другой ведь Бог?..Бог Рильке, как видим, – это не только непостижимая сила, созидающая или обрекающая. Очень часто Бог уподобляется Орфею – «певческому богу» древнегреческой мифологии, в котором Рильке видел сущность искусства, его жертвенный смысл, способность ко всепроникновению, – Орфею, разорванному «мстительным роем», но успевшему наполнить пением «сердце скалы или льва» («Сонеты Орфею»). И всегда Бог у Рильке, в каком бы обличье ни представал, сам – строитель, сам – художник, сам – зодчий, создающий человека, дерево или песню. Создающий, но и человеком создаваемый, творимый, в человеке потребность имеющий, без человека обойтись не могущий, ибо человек – пристанище, приют для него. Не однажды прозвучит у Рильке мотив равенства человека и Бога (или даже вершинности человека); присутствует этот мотив уже в «Часослове»:
И всех творений кисти нашей суть в том, чтоб природу, что создал ты тленной, тебе вовек нетленною вернуть… …Умри я – и со мной уйдут Твой смысл, твой дом, весь твой уют, Моими созданный словами. (Пер. А. Карельского)Стоит подчеркнуть, что «Часослов» – вообще одно из самых мощных в мировой поэзии воплощений духовного опыта, точнее – сокровенного, потаенного, глубоко интимного процесса его обретения, формирования. «Тот свет (не церковно, скорее географически), – читаем в письме М. Цветаевой к Рильке, – ты знаешь лучше, чем этот, ты знаешь его топографически, со всеми горами, островами и замками. Топография души – вот что ты такое. И твоей книгой (ах, это была не книга – это стало книгой!) о бедности, паломничестве и смерти ты сделал для Бога больше, чем все философы и проповедники вместе». Все три цикла «Часослова» – своеобразное единое целое, обращенный к Богу монолог, который составили необычайные по мощи душевного самораскрытия (даже – самовскрытия!) молитвы, молитвы-исповеди и молитвы-сомнения, недоумения и жалобы, самоотречения и обещания. Все, что только может быть ведомо душе, – отчаяние и достоинство, гордость и смирение – принесено Богу, обращено к нему в надежде на обретение покоя.
Определяющая для творчества австрийского поэта философия духовного зодчества распространяется и на область поэтики, стиля. «Здесь время высказыванья, //здесь родина слова» («Дуинские элегии», IX), – заявит Рильке, безупречный слуга и повелитель языка. Соразмерность и собранность, изысканность и симметричность были одинаково свойственны его личности, его облику и – его произведениям. Излюбленные приемы поэта – сквозная рифмовка, аллитерация, принцип контрапункта, метафорическая и синтаксическая усложненность, аллюзии и реминисценции, пересечение различных ассоциативных полей – философского, исторического, культурного. Особого внимания заслуживает стиль, в котором созданы прежде всего «Новые стихотворения» и который исследователи часто определяют как «новая вещность».
Осознание поэтом философско-эстетической ценности вещей, каковым проникнуты «Новые стихотворения», не вдруг родилось. Еще в 1903 г. Рильке писал: «Только вещи говорят со мною. Вещи Родена, вещи готических соборов, античные вещи – все вещи, которые совершенно вещны. Они-то и указывают мне на образцы, на движущийся, живой мир…» Незадолго до смерти поэт с сожалением констатирует: «Одухотворенные, вошедшие в нашу жизнь, соучаствующие нам вещи сходят на нет и уже ничем не могут быть заменены».
Имея в виду книгу «Новые стихотворения», точнее – первую ее часть, Рильке сообщает жене: «Я получил первые корректуры от издательства… В стихах инстинктивно намечается нечто подобное трезвой правдивости». То новое, что поэт именует «трезвой правдивостью», а позже – «трезвой точностью», преодолением «лирической поверхности», «приблизительности», созерцательности, и стало воплощением рилькевской концепции вещи (Ding). Становление этой концепции приблизительно может быть очерчено в такой последовательности: созерцание вещи – отражение вещи – постижение и пересоздание вещи. (Разумеется, о существовании этих стадий в химически чистом виде говорить не приходится.) Невозможный без двух предыдущих, заключительный этап оказался наиболее плодотворным и в философском и в эстетическом отношении. Потенциально он ощущается и в «Часослове»; однако если здесь рукой Рильке еще водит природа в широком смысле слова, еще действительность – основной «труженик», то постепенно поэт становится ее сотворцом.
Вещи, не теряя своей пространственно-временной конкретности, продолжают нести на себе и в себе семантику душевно-духовного «воспитания» лирического героя и автора, приобретают более глубокий, экзистенциальный смысл, а рецептивное, созерцательно-мистическое начало уступает место началу инициативному. Через поэтическое воплощение вещи постигается логика бытия, ибо вещь – его надежное хранилище, часть материально реализованной духовности. Вещь принадлежит разновременным пластам; оставаясь самодостаточной и всегда – самой собой, она не изолируется от мира, сегодня она – еще и нечто иное, то, чем вчера не была, что не было в ней раньше открыто.
Заботясь о сбережении вещи в ее сущностях, с эмпирической включительно, поэт сохраняет самоё жизнь в ее подлинном свете, гарантирует человеку его посмертное продолжение, непрерывность бытия. «Первоначальная вещь определенна, – излагает свою концепцию Рильке, – вещь, созданная искусством, должна быть еще определенней; отстраненная от всех случайностей, избавленная от любой неясности, изъятая из времени и данная пространству, такая вещь становится непреходящей, способной к вечности. Предмет, служащий моделью, кажется, – вещь, созданная искусством, есть. Таким образом, одно переступает через другое, выходит за его безымянные пределы, становится нарастающим и спокойным осуществлением того желания быть, которое исходит ото всего, что есть в природе». Конкретность, пластичность при этом не противоречат философским обобщениям; наоборот, Рильке говорит об ответственности за сохранение не только «человеческой», но и «божественной» ценности вещей.
Традиция Ding-Gedicht (стихотворения о вещи, о предмете, «на предмет», даже стихотворения-вещи) восходит к древнему жанру надписи; необходимо иметь в виду, что немецкое слово «Ding» по своему значению существенно отличается от русского «вещь» или белорусского «рэч», и прежде всего – философской емкостью, смысловой глубиной. К роли вещи в человеческом существовании философская, эстетическая мысль обращалась издавна. В книге шведского ученого Э. Сведенборга «Истинная христианская религия», в разделе, посвященном немецкому богослову, соратнику Лютера, Филиппу Меланхтону, есть ряд эпизодов, в свете нашей проблемы чрезвычайно впечатляющих. Позволим себе привести один из них, 797-й: «Я узнал, что когда он вошел в духовный мир («иной», потусторонний. – Е.Л.), то был обеспечен домом, подобным тому, в котором жил в этом мире… Все вещи в его комнате были подобны тем, которые он имел прежде, – стол, конторка с выдвижными ящиками и шкаф с книгами. Поэтому, пробудившись в своем новом жилище, он уселся за стол и начал писать, как обычно, свое оправдание только верою, и продолжал заниматься этим в течение нескольких дней, не написав ни слова о любви. Это было замечено ангелами, и они послали вестников спросить: почему он ничего не написал о любви? Меланхтон ответил: «В любви нет ничего от церкви, ведь если бы любовь воспринималась как насущная для нее, человек приписывал бы себе заслуги оправдания и спасения и отрицал бы духовную сущность веры». Ангелы сообщаются со всяким новопришедшим, но когда они, общаясь с Меланхтоном, это услышали, то отступили от него. Несколько недель спустя вещи, которыми он пользовался в своей комнате, начали постепенно блекнуть и исчезать…» Трудно сказать, знал ли Рильке эту работу знаменитого философа-мистика; во всяком случае, кто-кто, а он, безусловно, сумел бы оценить отношение к вещи как ангельской награде за любовь и за осознание веры как любви, спасительной ее ценности. Уподобил же Рильке опеку ангелов над невинными человеческому умилению вещью, любви к ней:
Как спускаются ангелы и отмечают крестами двери невинных, так и мы прикасаемся, только к вещам: вот эту не троньте. (Пер. А. Карельского)У представителей разных национальных литератур есть блестящие образцы «стихотворений-вещей». К примеру, у французского поэта Шарля Бодлера, чьи «Цветы зла» – своего рода библия новых художников слова 2-й половины XIX–XX в., – восходят, как считают исследователи, к ряду произведений Оноре де Бальзака, в частности, к философскому этюду «Луи Ламбер». Именно у Бальзака нашел будто бы Бодлер осмысление вещей в их бытийной сущности, познание вещей более вещных, нежели сами вещи. Еще ранее та же тенденция просматривается у романтиков, с некоторой долей брезгливости отвернувшихся от всего искусственного и направивших взоры на природу с ее конкретностью и натуральностью, а мечту, фантазию совместивших с тривиальностью, предложив в результате две вещи в своем творчестве – желаемо-феноменальную и очевидно-предметную.
Традиция «вещности» нашла развитие и у русских поэтов – А.С. Пушкина и И. Анненского, Б. Пастернака и А. Ахматовой, Б. Ахмадулиной и др. В стихотворении «Великая Мать» С. Городецкий расскажет о ржаных колосьях, вещи конкретной, из сферы материальной, которые причастились тайны брака хтонических богов Деметры и Диониса, а затем, послужив пищей для человека, посвятили в тайну и его. Б. Ахмадулина свое видение вещи изложила в следующей поэтической формуле:
Иль неодушевленных нет вещей, иль мне они не встретились ни разу.(Здесь вспоминается рилькевская «душа розы» – «Das Rosen-Innere».)
Философско-эстетическое осмысление вещи имеет прочную традицию и в самой австрийской литературе как у современников Рильке (характерные строки есть в «Терцинах о бренности всего земного» Г. фон Гофмансталя: «Und drei sind Eins: ein Mensch, ein Ding, ein Traum». – «Вот триединство: человек, вещь, сон»), так и у предшественников, в частности, у Адальберта Штифтера (1805–1868), одного из авторов литературного бидермайера. Правда, Штифтера привлекало прежде всего внешнее обличье вещи, ее доступная чувственной сфере фактура, что бы ни имелось в виду под вещью – предмет природы (дерево, камень и т. п.) или домашнего обихода.
В работе «О положении и достоинстве писателя» Штифтер призывает художников слова с максимальной точностью изображать «вещи в их объективной сущности». Как позднее и Рильке, Штифтер оперирует понятием «Ding»; иногда он выходит за рамки им же самим прокламируемой «объективной значимости», «реальной реальности», включая в круг вещей не только собственно предметы, но и явления действительности, и то и другое рассматривая как результат воли Бога. Хотя «новая вещность» Рильке чрезвычайно отличается от восприятия вещи литературным бидермайером, все же последний, включая произведения Штифтера, откликнулся в рилькевской поэзии, да и востребован был в XX в., как считают немецкие историки литературы, не в последнюю очередь благодаря обращению к нему Рильке и Гофмансталя.
Именно Рильке с его «Новыми стихотворениями» наиболее глубоко и многогранно разработал жанр Ding-Gedicht. Книга писалась под сильным влиянием творчества Родена, под впечатлением от способности скульптора сосредоточиться на одной вещи, даже на ее отдельной детали. «И всегда то, на что он смотрит, что охватывает своим зрением, становится для него единственным – миром, в котором все происходит; и если он лепит руку, то она лишь одна и есть в пространстве, нет больше ничего, кроме этой руки, и Бог за шесть дней создал только одну руку, вокруг нее пролил все воды, над ней воздвиг небесный свод и отдыхал, когда все было завершено, и было единое великолепие и единая рука», – восхищенно пишет Рильке.
Такая сосредоточенность в высшей степени соответствовала представлениям самого поэта о путях познания вещи, познания ее высоты, величия, ее постоянства и изменчивости. «Для того чтобы вещь Вам говорила, Вы должны взять ее на некоторое время как единственную существующую, как единственное явление, помещенное усердием и исключительностью Вашей любви по самой середине Вселенной и на этом несравненном месте обслуживаемое в тот день ангелами», – советует Рильке одной своей адресатке.
Рильке волновало «становление» вещей – так же, как и Родена; иногда Рильке казалось, что Роден вообще равнодушен к их внешнему облику и воспринимает только их внутреннее, суверенное бытие, настолько существенное, что «они даже не стоят на Земле, а движутся вокруг нее». Самого поэта тоже не только не смущает, а наоборот – влечет наличие движения в вещи; более того, считает Рильке, «в подъемах и спадах спокойной плоскости также есть движение». Соответственно этому видению вещи, героями «стихотворений-предметов» Рильке становятся не только вещи недвижные (собор, окно, портал и др.), но и живые существа – от представителей фауны (газель, пантера, лебедь и проч.) до человека – просто человека, художника и, наконец, даже Христа с его поисками и страданиями:
Еще и это. И таков конец. А мне идти – идти, слепому, выше. И почему Ты мне велишь, Отец, искать Тебя, раз я Тебя не вижу. А я искал. Искал, где только мог. В себе. В других. И в камнях у дорог. Я потерял Тебя. Я одинок. (Гефсиманский сад. Пер. А. Карельского)У Рильке вещи, предметы не только жаждут быть увиденными, но и сами «видят», живут. Чрезвычайно заострен этот мотив в стихотворении «Архаический торс Аполлона»: здесь смотрит, всматривается в себя и в нас мраморный обрубок, без головы и, следовательно, без глаз: «…Иначе б сила // улыбки в бедрах этих не сквозила…» (Пер. И. Белавина).
Повсюду вещи, привычные, бытовые, и – высокие, высшие, последние, и все они вместе – вещь, и весь мир как вещь, единая, целостная («wie ein Ding»). Все творчество Рильке воспринимается как парадигма этого мира, как развернутая метафора бытия-движения, бытия-развития.
Философско-эстетические открытия Рильке в той или иной форме отозвались у многих поэтов: российских – М. Цветаевой, Б. Пастернака (вот лишь одно признание самого Б. Пастернака: «Я всегда думал, что в своих собственных попытках, во всем своем творчестве я только и делал, что переводил или варьировал его (Рильке. – Е.Л.) мотивы, ничего не добавляя к его собственному миру и плавая всегда в его водах»), О. Мандельштама, немецких – Г. Маурера, Л. Фюрнберга и др. С «новой вещностью» Рильке ассоциируются и произведения ряда белорусских поэтов, в первую очередь – Алеся Рязанова (поэмы «Глина», «Камень», «Железо» и др.).
Творчество писателей Германии и Австрии в 1-й половине XX в
Герман Гессе
Как известно, процесс проникновения художественного сознания в область духовно-душевного чрезвычайно активизировался в последние два столетия. Постепенно усиливалась многозначность понятия «душа», в эволюции которого, может быть, особенно отчетливо обозначились закономерности человеческого развития – философского, религиозного, эстетического, социального, психологического. Тем не менее весь спектр смыслов этого понятия мог и может быть сведен к основному: это внутреннее содержание человека, то, что И. Кант определил как «Werth» (внутренняя ценность) в отличие от «Preis» (буквально: ценность внешняя). Особенно обострилось внимание к душе как внутренней ценности на рубеже XVIII–XIX вв., когда личность, человеческое «я» переживает апофеоз и одновременно глубокий кризис. Обе стороны этого процесса оказались воплощенными в трудах Жан-Поля, произведениях многих других философов и писателей, прежде всего – романтиков. Свое продолжение эта тенденция найдет в литературе XX в., и, может быть, прежде всего – в творчестве знаменитого немецко-швейцарского писателя, лауреата Нобелевской премии (1946) Германа Гессе (1877–1962), поэта и прозаика, эссеиста и публициста, автора таких значительных произведений, как «Демиан» (1919), «Сидхартха» (1921), «Нарцисс и Гольдмунд» (1930), «Паломничество в Страну Востока» (1932), «Игра в бисер» (1943) и др. К их числу, бесспорно, относится и роман «Степной волк» (1927).
Безусловно, философия и поэтика духовно-душевного у Гессе имеет свои (в одних случаях достаточно легко, в других – трудно распознаваемые) истоки. Общим местом посвященных творчеству Гессе исследований стало акцентирование его автобиографичности. Действительно, художник едва ли не исповедуется в своих произведениях. И это – первая антитеза в ряду многих других, которую важно отметить, ибо и поэтика Гессе в целом, и его поэтика души построена именно на антиномии, на антитезе, ими руководствуется и от них отталкивается. Роман «Степной волк» – одно из наиболее автобиографичных сочинений Гессе. В перипетиях судьбы главного героя, Гарри Галлера (достаточно показательно уже совпадение инициалов персонажа и автора), отпечаталось многое из пережитого к тому времени самим писателем, включая глубоко личное (первая жена Гессе, Мария Бернулли, в 1919 г. была помещена в психиатрическую лечебницу; неудачным оказался и второй брак с молодой певицей Рут Венгер). Болезни, занятия, возраст автора – все узнается в жизненном опыте его центрального героя.
В то же время «Степной волк» – отнюдь не автокомментарий, а Гарри Галлер – не авторская самопроекция. Есть, например, основания и для аналогии «Гарри Галлер – Фридрих Ницше», в особенности относительно структур их личностей (о чем речь пойдет ниже). Не говоря о том, что философия Ницше – один из существеннейших стимуляторов как для самого Гессе, так и для его персонажа. Впрочем, в мыслительном пространстве писателя нашли свое место Вагнер, Бах и Моцарт, Кант, Шопенгауэр и Жан-Поль, Гёте, Брентано, Бодлер, Новалис и Достоевский, Фрейд и Юнг, а также христианство и философско-религиозные системы Востока. Источников и истоков душевно-духовного такое множество, что свести внутреннее содержание героя к одному из них было бы невозможно и неправильно. При всей исключительности, образ Гарри Галлера в наивысшей степени собирателен (и это еще одна очевидная антитеза): перед нами кризисный человек кризисного времени и, наконец, человек вообще. «Этот человек – снова праматериал, неоформленный материал душевной плазмы», – скажет Гессе об одном из героев Достоевского в своем эссе «Братья Карамазовы, или Закат Европы» (1919). Это суждение вполне соотносимо и с его собственным персонажем – Степным волком Гарри Галлером.
«Биографиями души» называл свои произведения Герман Гессе. И в романе «Степной волк» подлинным местом действия служат не улицы и дома, не гостиные и рестораны, а душа героя. Она – эпицентр всего происходящего, в ней смоделирована нравственно-психологическая реакция творческой (и в буквальном, и в широком, как у романтиков, смыслах) личности на один из сложнейших и драматических периодов в политической и культурной жизни общества, период краха былых ценностей и поиска нового миропорядка, новой гуманности, новых человеческих взаимоотношений, новой эстетики. Само это время между двумя мировыми войнами с уместившимися в нем трагическими событиями обрекало людей на невиданные мучения, о чем Гессе скажет в «Степном волке»: «Настоящим страданием, адом человеческая жизнь становится только там, где пересекаются две эпохи, две культуры и две религии… Но есть эпохи, когда целое поколение оказывается между двумя эпохами, между двумя укладами жизни в такой степени, что утрачивает всякую естественность, всякую преемственность в обычаях, всякую защищенность…»
В свете этой идеи не удивляют двойственность гессевского героя, его глубокий душевный разлад. Порывы и движения души вообще редко бывают однонаправленными; как здесь не вспомнить признание гётевского Фауста (звучащее, кстати, и в сознании Гарри Галлера) о «двух душах» в нем, смертельно враждующих между собой. Неоднократно этот мотив двойственности прозвучит и у Ницше, в частности – в стихотворном приложении к «Веселой науке» «Песни принца Фогельфрай»:
В нас ужились две натуры — Блуд и святость, мир и Бог!Подобными признаниями, в разные эпохи произносимыми устами разных персонажей, можно было бы заполнить великое множество страниц. Но вот только одно еще, опять ницшевское: «Всегда быть одному слишком много для меня… Всегда один и один – это дает со временем двух».
Своеобразную антиномию (основную, вокруг которой сконцентрирована вся система гессевских антитез) представляет собой и душа Галлера. Особенность этой антиномии в том, что ее составляющие не всегда враждебны одна другой, но временами как бы взаимоперетекают, взаимопроникают, а иногда и даже питают и поддерживают друг друга. Пресловутое единство противоречий – вот, скорее, что это такое. Как известно, в таком виде гессевская концепция личности во многом сформировалась под влиянием «аналитической психологии» Карла Густава Юнга, согласно которой душа человека многообразна и изменчива, но в то же время все ее проявления, даже подсознательные, имеют закономерный характер и могут быть истолкованы. По мнению К.Г. Юнга, личность соединяет в себе «маску», «социальную кожу», «роль», с одной стороны, и внутреннюю сущность, подлинность, «самость» (Selbst) – с другой.
Именно двойственностью, трагическим внутренним разладом привлекали внимание Гессе великие творцы. Достоевский, например, был близок Гессе тем, что совокупностью своих персонажей он воссоздал «человека европейского кризиса», не сводимого ни к поэту, ни к святому, ни к преступнику: в нем все эти ипостаси сосуществуют. «В этом человеке внешнее и внутреннее, добро и зло, Бог и дьявол неразрывно слиты», – пишет Гессе в эссе «Братья Карамазовы, или Закат Европы». «Бог, который одновременно и дьявол, – это же древний демиург, – продолжает писатель. – Он был извечно; он, единственный, находится по ту сторону всех противоречий, он не знает ни дня, ни ночи, ни добра, ни зла. Он – ничто, и он – всё. Мы не в состоянии постичь его, ибо мы постигаем что-либо только в противоречиях, мы – индивидуумы, привязанные ко дню и ночи, к теплу и холоду, мы испытываем необходимость в Боге и дьяволе». Волчье и человеческое начала соединяются в душе героя Гессе, каждое из которых в определенный момент может доминировать, но никогда не существует автономно.
Впервые образ «волка» у Гессе появляется в рассказе «Волк» (1907), затем встречается в заметках 1920-х годов («степной зверь»), в лирическом дневнике «Кризис» (1925). Известно, что «волк» как образ-символ может рассматриваться в разных смыслах: мифологическом, философском, психологическом. В качестве первого волк – образ-символ злого, демонического, дьявольского. В качестве второго он находит воплощение, в частности, в философии Ницше: это человек-одиночка, «гений», «сверхзверь», который решается противостоять «стаду». Важнейшим в этой градации смыслов является психологический: «волк» – это сфера подсознательной, инстинктивной жизни, которую, по мысли Гессе, надлежит привести к гармоническому сосуществованию с жизнью сознательной, целенаправленной, социально и нравственно ориентированной (1). Именно два последних аспекта, философский и психологический, наиболее разработаны Гессе. При этом они переплетены, как, может быть, мало у кого из художников слова: герой Гессе – гений, но «гений страдания», гений душевно-духовной жизни, такой напряженной, как будто Гарри Галлеру суждено страдать за всех, стать вторым Христом, разглядевшим тайну всего сущего и пришедшим к бездне одиночества, превратиться во врага для всех «правильных», «нормальных».
Душа Галлера трагична, ибо ее стихия – это разлад, раскол, но ведь именно душевный разлад был и остается основным качеством трагического героя. «Жил некогда некто по имени Гарри, по прозвищу Степной волк. Он ходил на двух ногах, носил одежду и был человеком, но по сути он был степным волком. Он научился многому из того, чему способны научиться люди с соображением, и был довольно умен. Но не научился он одному: быть довольным собой и своей жизнью. Это ему не удалось, он был человек недовольный. Получилось так, вероятно, потому, что в глубине души он всегда знал (или думал, что знает), что по сути своей он вовсе не человек, а волк из степей… Итак, у Степного волка было две природы, человеческая и волчья; такова была его судьба…»
Гарри – чужой, посторонний для «других»: «… я и есть тот самый степной волк, кем я себя не раз называл, зверь, который забрел в чужой непонятный мир и не находит себе ни родины, ни пищи, ни воздуха». Но герой не был бы гессевским героем, если бы и здесь не давала о себе знать его двойственность: сквозь тотальную отчужденность только что не кричит страстное желание приобщенности, своеобразного единения с человечеством, чтобы «все принадлежали мне, всем принадлежал я».
Двойственностью, сосуществованием волчьего и человеческого, телесного и духовного, инстинктивного и сознательного отмечены каждая мысль, каждый поступок героя. В этом аутсайдере, чье неизменное состояние – греза, а заветная мечта – астральные вершины и равенство с «бессмертными», живет огромная жажда обычного тепла, уюта, женской нежности, та самая потребность в любви и признании, которую гениально просто высказал некогда Паскаль – один из любимых самим Гессе и его персонажами мыслитель: всякого человека должна ценить хотя бы одна-единствен-ная душа, иначе его существование станет невыносимым.
Наиболее глубокое воплощение – и объяснение – мотив двойственности находит в разделе «Трактат о Степном волке». Одной частью своей души Галлер утверждает то, что другой – опровергает. Более того, в нем даже не две натуры, он состоит из сотен, тысяч разных Галлеров. «Тело каждого целостно, душа – нет», тем более душа человека кризисного, человека, который не является чем-то застывшим, он – «некий переход», попытка очеловечивания, которое писатель и его герой понимали еще и как путь к гениальности во всех ее проявлениях. Писал же Ницше в «Человеческом, слишком человеческом» о «гениальности справедливости»: «… и я не могу, – замечал он, – решиться оценить ее ниже, чем какую-либо философскую, политическую или художническую гениальность». Почему бы в таком случае не говорить о гениальности душевных страданий или, например, о стремлении к гениально гармоничному существованию? Если есть у гессевского героя цель, то это именно наивысшая душевная гармония, цельность, которая соединила бы в себе свободу, индивидуальность и причастность ко всеобщему, буднично-повседневное и сакральное, недоступное обычному пониманию. Галлер тоскует о том и другом; говоря словами Ницше, он – «лабиринтный человек» в поисках не столько истины, сколько своей Ариадны.
Апофеоз этих поисков воплощен Гессе в картине «магического театра» – развернутой метафоре эзотерической сферы, символе души Галлера и человеческой души вообще со всеми ее, часто полярными, возможностями. Сцены с «магическим театром» – это настоящий паноптикум опредмеченных душевных ипостасей; эти сцены вызывают ассоциации с ночью Вальпургии, мотив которой в литературе XX в. наиболее мощно прозвучал в «Волшебной горе» Томаса Манна. Но экстатичная, по-сюрреалистски диссонансная атмосфера «магического театра» – это не только экстракт человеческой души в состоянии ее расколотости; это, безусловно, и парадигма мира, уверенно двигавшегося к бездне фашизма и Второй мировой войны. В этом смысле автор «Степного волка» не был одинок: в 1920-е годы к символическим образам кровавой бойни обращались многие художники – соотечественники Гессе, которыми руководило предвидение близкой и неизбежной катастрофы.
С.С. Аверинцев обращал внимание на то, что герой Гессе в сценах с «магическим театром» предстает не в самом лучшем виде. Действительно, складывается впечатление, будто сознание и подсознание персонажа, его душа объяты апокалипсическими конвульсиями, в которых бьется и рвется мир. Попытаться не оправдать, но объяснить состояние героя можно словами самого Германа Гессе из эссе «Братья Карамазовы, или Закат Европы», тем более что в данном случае речь идет о Карамазовых условных, иначе говоря – об определенном типе, с которым имеет, безусловно, точки соприкосновения и Степной волк: «Эти люди отличаются от других, прежних людей порядка, расчета, явной положительности, в сущности, только тем, что они столько же живут внутри себя, сколько снаружи, тем, что у них вечные проблемы с собственной душой. Карамазовы способны на любое преступление, но совершают они преступление только в виде исключения, ибо им чаще всего достаточно осуществить преступление в мыслях, во сне, в игре с возможностями. В этом их тайна».
Но не только тайна, а еще и разгадка. В Галлере живет Фауст (как живет он в той или иной степени в каждой мыслящей личности): «…наш Степной волк открыл в себе по крайней мере фаустовскую раздвоенность, обнаружил, что за единством его жизни вовсе не стоит единство души, а что он в лучшем случае находится лишь на пути, лишь в долгом паломничестве к идеалу этой гармонии. Он хочет либо преодолеть в себе волка и стать целиком человеком, либо отказаться от человека и хотя бы как волк жить цельной, нераздвоенной жизнью». Душевный разлад может заставить человека заглянуть в бездну смерти или преступления, повергнуть в пучину страшных соблазнов; но если он найдет в себе силы устоять, удержаться «на краю», его внутреннее противостояние имеет шанс обрести иное направление. Как у Гёте: «смерть для жизни новой». Так и для героя Гессе «знание зла» (Kenntnis Unmoral) должно завершиться преодолением этого зла, состоянием инобытия. (Впрочем, Гессе – далеко не единственный писатель, чьи персонажи проходили через, условно говоря, «соучастие», находясь в состоянии транса.)
Как ни удивительно, именно сцены с «магическим театром» утверждают в правомерности параллели «Степной волк – Ницше». Кстати, на материале произведений Ницше и романа Германа Гессе интересно было бы провести сравнительный анализ текста философского и текста художественного, при этом из произведений Ницше можно было бы привлечь и «Рождение трагедии из духа музыки», и «Так говорил Заратустра», и «Человеческое, слишком человеческое»… Ограничимся, однако, лишь некоторыми и почти очевидными аналогиями между самим Ницше и героем Гессе. Оба живут с сознанием собственного мессианства, принадлежности к «бессмертным», своей гениальности, тому и другому свойственна мучительная болезненность – душевно-нравственная и физическая; в первую очередь она и создает между Ницше и персонажем Гессе интимное сходство и, в определенном смысле, даже родство. То же самое сходство, спустя ровно двадцать лет, обнаружится между Ницше и трагическим героем романа Томаса Манна «Доктор Фаустус» Адрианом Леверкюном.
По определению Гессе, его Степной волк – «гений страдания». «Во все возрасты моей жизни я испытывал неимоверный излишек страданья», – признается однажды Ницше. Привычное духовное и физическое одиночество, пустынность окружающего мира, бездуховного и американизированного (у Гессе одним из его символов является джаз), погруженность в себя и свое время – время упадка, нескончаемые скитания, тоска, жестокие боли, лекарства, бессонница, редкие мгновения счастья, поистине донжуанство познания («Дон Жуаном познания» назвал Ницше С. Цвейг), фанатический поиск себя цельного – все это и многое другое в одинаковой мере свойственно и герою Гессе, и его знаменитому прототипу. Можно было бы найти целый ряд соответствий, почти буквальных совпадений в высказываниях, поведении, ощущениях Ницше и Степного волка.
Что касается сцен с «магическим театром», то они (в числе других значений) могут восприниматься и как своего рода метафора если не всей жизни великого философа, то почти несомненно – последних ее лет, предшествовавших умопомрачению, о которых С. Цвейг в эссе «Фридрих Ницше» (1925) писал как о времени, исполненном жажды Ницше «добела раскалить свое жгучее ощущение бытия», времени «танца над бездной, над бездной его конца». «Пламя – вот моя душа», – воскликнул Ницше в одном из своих стихотворений. То же мог бы сказать о себе и герой Гессе. «Только для сумасшедших» – предупреждает надпись над входом в «магический театр» и на обложке «Трактата о Степном волке». «Книга для свободных умов» – предупреждает Ницше читателей «Человеческого, слишком человеческого». И читателей «Песен принца Фогельфрай» – тоже: «Берегитесь, мы смертельны / Там, где жизнь – режим постельный…». (Только для идиотов – мог бы сказать о своих книгах Достоевский.)
«Сумасшедшие», «свободные», «идиоты» – все это люди не от мира сего, непрестанно ищущие, самосозидающие, грезящие о том, чтобы в конце концов прийти к состоянию «ребенка» – той, согласно Ницше, последней стадии духовных метаморфоз человека, которая сулит ему подлинно созидательную жизнь (слово «ребенок» не однажды прозвучит в романе Гессе). Очевидна также своеобразная перекличка контроверзы «человек – волк» у Гессе со знаменитой ницшевской антиномией аполлонизма и дионисийства.
Не лишней, наконец, будет цитата из самого романа Гессе, целиком подтверждающая обоснованность аналогии его героя с великим философом: «Такой человек, как Ницше, выстрадал нынешнюю беду заранее, больше, чем на одно поколение, раньше других, – то, что он вынес в одиночестве, никем не понятый, испытывают сегодня тысячи».
Гессевской концепции души с ее двойственностью, стремлением к преодолению хаоса, к космической гармонии соответствует и архитектоника романа «Степной волк». Первая его часть, конкретно-событийная, – это взгляд на Гарри Галлера «снизу», взгляд мира мещанского, которому герой чужд. Вторая часть («Трактат о Степном волке») – медитативная; это взгляд «сверху», взгляд тех, кому все известно и кем все предопределено. Наконец, третья часть – самое экспрессивное, самое пронзительное повествование, дающее наиболее полное представление о душевно-духовной сущности героя, ибо ни Богу, ни дьяволу не известны те таинственные и непостижимые глубины человеческой души, какие ведомы самому ее обладателю.
Свою концепцию души Гессе воплощает в различных символах, которые, при всем их многообразии и многозначности, строго соотносятся друг с другом и с идеей произведения в целом. Одни из них имеют смысл метафизический (прежде всего это «зеркало», «вода», «стена»), другие («ночь», «сырой асфальт», «холодная морось», «огни фонарей», «золотой светящийся след») выстраиваются почти в блоковское («Ночь. Улица. Фонарь…»), привнося в роман необычайный лиризм, превращая книгу в пронзительную песнь души.
Обрывается песня, исчезает ее исполнитель. Но важно, на какой ноте она обрывается. Впрочем, обрывается ли? Мог ли исчезнуть, покончить с собой человек, чье всеприсутствие и после прочтения книги ощущается почти физически? В послесловии к одному из изданий романа Герман Гессе писал: «Разумеется, я не могу, да и не хочу предписывать читателю, как ему следует понимать мой рассказ. Пусть каждый возьмет из него то, что сочтет для себя подходящим и нужным! Тем не менее мне было бы приятно, если бы многие из читателей заметили, что история Степного волка хоть и изображает болезнь и кризис, но не болезнь, которая ведет к смерти, не гибель, а ее противоположность: исцеление».
Под занавес стоит задаться ницшевским: «Что это дает мне?» Что творчество Гессе дает нам сегодня, когда, говоря словами из пастернаковского «Гамлета», «идет другая драма»? Но, при ближайшем рассмотрении, не такая уж она и другая: и время наше – кризисное, и личность все еще остается проблемой, и вопросы Степного волка вполне злободневны, и человек по-прежнему продирается сквозь старые заблуждения к новой жизни, к свету. И если кто-то в конце XIX столетия утверждал, что Софокла от Гёте отделяет один час культурного развития, а Гёте от конца XIX века – двадцать четыре часа, то в продолжение этой метафоры о душевных страданиях героев Германа Гессе, писателя, ушедшего из жизни четыре десятилетия назад, можно говорить едва ли не в настоящем времени.
Источники
1. Подробней об этом см.: Каралашвили Р. Мир романа Германа Гессе. Тбилиси, 1984.
Бертольт Брехт
Ойген Бертольт Брехт (1898–1956) родился 10 февраля 1898 г. в баварском городе Аугсбурге в семье коммерческого директора местной бумажной фабрики Бертольта Фридриха Брехта. В 1904–1908 гг. мальчик учился в народной школе «босоногих» францисканского монашеского ордена, в 1908–1917 гг. – в Баварской королевской реальной гимназии. В конце Первой мировой войны будущий знаменитый драматург был мобилизован и непродолжительное время служил санитаром в аугсбургском военном госпитале. После увольнения он был принят на философский факультет Мюнхенского университета имени Людвига Максимилиана и, кроме того, зачислен слушателем медицинского факультета. Нередко Бертольта Брехта можно было встретить и на лекциях по театроведению. Однако в 1921 г., по окончании двух курсов, юношу отчислили из университета (скорее всего, из-за его собственного нежелания продолжать учебу).
Будущее Брехта ему и его близким представлялось достаточно смутным. Заметим, что Б. Брехт никогда – ни в юности, ни в зрелом возрасте, ни на родине, ни в эмиграции, ни как писатель, ни как театральный деятель, ни в отношениях с политикой, ни в отношениях с женщинами – не был человеком, что называется, образцового поведения. Он не умел приспосабливаться, не слишком считался с разного рода условностями и в результате всегда имел немало проблем как личного, так и общественного характера.
Еще в гимназии Б. Брехт получил достаточно основательную гуманитарную подготовку: здесь изучались история от Античности до начала XX в., литература, включая драматургическое наследие Шекспира, Корнеля, Мольера, немецких писателей. Многое он читал самостоятельно – городская публичная библиотека стала для него почти вторым домом. В круг интересовавших молодого человека авторов входили как философы (Ф. Ницше, Б. Спиноза и др.), так и художники слова (из последних особенно так называемые poetes maudits – проклятые поэты: Франсуа Вийон, Поль Верлен, Артюр Рембо; реминисценции из их произведений, аллюзии на них не однажды появятся в художественной системе и молодого и зрелого писателя Б. Брехта). Весьма импонировало Брехту творчество шведского драматурга и прозаика Августа Стриндберга, норвежского писателя Кнута Гамсуна, русского – Федора Достоевского, английского поэта и прозаика Редьярда Киплинга, из соотечественников – Генриха фон Клейста, Христиана Хеббеля, поэтов-экспрессионистов, в особенности Франка Ведекинда, существенно повлиявшего на его художественную манеру, на интерес Брехта к таким жанровым формам, как баллада, балаганные куплеты и др. (Кстати, в честь Ф. Ведекинда писатель назовет Франком своего внебрачного сына, которому суждено будет погибнуть в 1943 г. на Восточном фронте.)
Немалую роль в формировании Брехта-художника сыграла Библия, которая, однако, в брехтовском восприятии лишалась традиционного религиозно-дидактического смысла и представала сводом драм и трагедий совершенно конкретных людей. Все творчество Бертольта Брехта пронизано библейскими мотивами, образами, сюжетами, церковно-церемониальными понятиями, приобретающими у него, как правило, пародийный, травестийно-приземленный характер (например, в поэтических циклах «Домашние проповеди», 1927; «Хоралы для Гитлера», 1934; в пьесе «Мамаша Кураж и ее дети», 1941 и др.). Показательно, что своему первому драматургическому опыту, обработке одного из произведений Х. Хеббеля, Брехт даст название «Библия».
Не оставалась вне поля зрения Б. Брехта и литература тривиальная, включая детективы, которые он всю жизнь охотно читал. Очень любил он народные гуляния, ярмарки, балаганные зрелища, паноптикумы с разного рода курьезами и «ужасами», кабаре, выступления клоунов; все это, а также искусство Чарли Чаплина, позже ощутимо даст о себе знать в собственной эстетике Брехта.
В 1922 г. Бертольт Брехт вступил в брак с певицей и актрисой Марианной Цоф, но их союз уже в 1927 г. был расторгнут, фактически же он распался еще раньше (дочь писателя от этого брака, Ханна, стала, как и мать, актрисой и сыграла многие значительные роли в спектаклях по пьесам отца). Начиная с 1920-х годов, Брехт навсегда связал свою жизнь с актрисой Еленой Вайгель, хотя в его судьбе были и многие другие женщины.
Эмиграция для Бертольта Брехта началась 27 февраля 1933 г., буквально на следующий день после поджога рейхстага. Писатель с женой направились в Прагу, за пределы Германии были вывезены и их дети – сын Стефан и дочь Барбара. Как и многим другим немецким писателям, Б. Брехту предстояли долгие скитания по чужим странам. Из Праги он с семьей направился в Вену, затем – в Швейцарию, откуда время от времени наведывался в Париж (здесь с прославленным Джорджем Баланчиным он работал над постановкой балета «Семь смертных грехов обывателя», премьера которого состоялась в Театре на Елисейских полях 7 июня 1933 г.).
В том же 1933 г. Бертольт Брехт принял приглашение датской писательницы Карин Михаэлис поселиться на ее родине. В эмиграции он узнал, что уже 10 мая 1933 г. его книги вместе с произведениями других прогрессивных отечественных и зарубежных писателей были публично сожжены нацистами. В 1935 г. власти Германии лишили Брехта немецкого гражданства. Обстоятельства вынудили писателя в 1939 г. переехать в Швецию, позже – в Финляндию. Однако фашистский «новый порядок» достиг и Скандинавии, и в мае 1941 г. Брехт направился в США. Это была девятая страна из числа тех, которые поочередно предоставляли ему временное убежище.
После окончания Второй мировой войны писателя заподозрили в антиамериканской деятельности, поэтому он счел за лучшее не искушать судьбу и переехал в Швейцарию. Оттуда, после соответствующей подготовки, в октябре 1948 г. он возвращается в Германию, в восточный сектор Берлина. В одном из стихотворений Бертольт Брехт написал об эмигрантской жизни – своей и других немецких изгнанников: «…мы шагали, меняя страны чаще, чем башмаки».
Находясь в эмиграции, Брехт активно участвует в международной политической жизни, в возобновлении деятельности Союза немецких писателей за рубежом, публикуется в многочисленных печатных органах и заботится о создании новых, в которых могли бы высказываться немецкие эмигранты. Всеми силами он стремится помочь соотечественникам найти общий язык и выработать общую платформу в отношении к фашизму, объясняет его природу и сущность. Брехт внимательно следил за событиями в Советском Союзе: с одной стороны, он всегда был лоялен к нашей стране, к социалистическим идеям, с другой – уже в конце 1930-х годов заявил о своем категорическом неприятии культа личности, писал о необходимости преодоления «вождизма», слепого преклонения многих перед одним, об опасности идеализации, мифологизации этого одного.
Годы эмиграции были весьма плодотворными для Брехта-писателя. Вышло несколько его поэтических сборников, в том числе «Песни. Стихотворения. Хоры» (Париж, 1934), «Свендборгские стихотворения» (Свендборг, 1939); они носили преимущественно политический характер и имели целью разоблачение фашистского режима во главе с «коричневым маляром» (так писатель называл Гитлера). В 1939 г. появилась достаточно оригинальная книга Брехта – «Военный букварь», сборник с 70-ю фотодокументами, запечатлевшими страшные последствия фашизма; каждый снимок сопровождался брехтовским четверостишием – «комментарием».
Работал Брехт-эмигрант и в прозе: написал «Трехгрошовый роман» (1934) и ряд рассказов; несколько романных проектов остались незавершенными («Дело господина Юлия Цезаря», «Разговоры беженцев», «Туи-роман»). Главное же внимание писатель, как и прежде, уделял театру: 12 пьес, шесть из которых благодаря неимоверным усилиям автора были поставлены на сцене в разных странах, – таковы успехи Брехта-драматурга в период эмиграции.
Вернувшись на родину, писатель неутомимо, без каких бы то ни было скидок на подорванное многолетними скитаниями здоровье, работал над созданием новых пьес (вышли драмы «Дни Коммуны», 1949; «Турандот, или Конгресс победителей», 1954), издал книгу прозаических миниатюр «Истории из календаря» (1948), написал ряд основательных теоретических работ обобщающего характера, в том числе знаменитый «Малый органон для театра» (1948). Но, пожалуй, главным делом последних лет жизни Б. Брехта стал театр «Берлинский ансамбль», который он сам создал и которым руководил как режиссер. Здесь выступали Елена Вайгель, Эрнст Буш, многие другие известные мастера сцены, здесь ставились пьесы не только самого драматурга, но и других авторов. Много времени Брехт отдавал работе с молодыми немецкими писателями.
Когда я вернулся, Волосы мои еще не были седы, И я был рад. Трудности преодоления гор позади нас, Перед нами трудности движения по равнине. (Когда я вернулся. Пер. И. Фрадкина)Так написал Брехт в 1949 г. К сожалению, последний период его жизни и литературно-театральной деятельности оказался непродолжительным: 14 августа 1956 г. писатель скончался от инфаркта. Согласно предсмертной просьбе Брехта, он был похоронен вблизи могил знаменитых немецких философов Гегеля и Фихте.
* * *
В 1922 г., посмотрев спектакль Мюнхенского камерного театра по пьесе Бертольта Брехта «Бой барабанов в ночи», критик Герберт Иеринг писал: «В один вечер двадцатичетырехлетний писатель Берт Брехт изменил поэтический облик Германии. С Бертом Брехтом мы обрели новое звучание, новую мелодию, новое видение» (1, 45). Вероятно, автор приведенной цитаты даже не предполагал, насколько он был близок к истине. Действительно, уже в 1920-е годы в основных своих компонентах сложилась брехтовская театрально-драматургическая система, предусматривавшая определенную, так сказать, стратегию и тактику и в конечном счете получившая наименование «эпический театр».
Эпический театр Бертольта Брехта был порожден, безусловно, временем и политическими обстоятельствами, и в этом смысле он стал далеко не единственным культурным явлением политико-педагогического, воспитательного характера в Германии. Прокламируемый драматургом Фридрихом Вольфом лозунг «Искусство – оружие!» определил творчество многих немецких деятелей, в том числе таких, как режиссеры Златан Дудов и Эрвин Пискатор, художники Георг Гросс и Кете Кольвиц, актеры Елена Вайгель и Эрнст Буш, многих композиторов и писателей. Даже в небольших городах возникали рабочие театры и мобильные агитационно-пропагандистские группы; их выступления были плакатно-прямолинейными, но чрезвычайно актуальными и доступными. Присоединение профессионалов к театральному агитдвижению содействовало обретению им большей художественности, жанровому обогащению (политический комментарий соседствовал с живой газетой, ревю и сценический монтаж – с пьесой-репортажем и проч.). Агитпроповские жанровые формы и стиль наложили отпечаток и на творчество Б. Брехта, особенно раннее; он считал их сокровищницей новых художественных приемов.
Из политических потребностей вырос и собственно брехтовский театр. Есть символический смысл и, безусловно, своя логика в том, что складывался он именно в 1920—1930-е годы – трагический период в истории Германии, страны, которая из века в век славилась как страна философов и неожиданно будто лишилась разума, позволила себя изувечить, лишить нравственности в глазах целого мира, пошла за убийцами. Целью эпического театра было пробуждение человеческого сознания, обнажение сути фашизма, который, как писал Брехт, «реабилитирует достоинство немецкого народа, деля этот народ на две группы: осквернителей и оскверненных. Он обещает сделать их властителями мира, а делает их рабами небольшой своры… Огромное значение режим придает своему народному характеру. Непрерывно и неизменно он обращается к народу и от имени народа. Он все причисляет к народу, кроме того, что он к нему не причисляет, что… и есть народ».
В ситуации распространения фашизма Брехт-драматург считал необходимым обращаться не столько к эмоциональной сфере зрителя и читателя, сколько к рациональной. Именно эта особенность явилась определяющим качеством эпического театра, который сознательно и подчеркнуто противопоставлялся автором театру традиционному, драматическому (или аристотелевскому), построенному на технике суггестивности (от лат. suggestio – внушение), на «магии» и «колдовстве», на принципах переживания и сопереживания. При этом – необходимо отдать должное Брехту – речь шла не об отрицании чувства, не о полном замещении его разумом, а, скорее, об определенном смещении акцентов, чтобы читатель или зритель ощутил себя не «потребителем», а «производителем», чтобы он активно рассуждал о прочитанном или увиденном в театре. Ее величество мысль должна была доминировать в читательском и зрительском восприятии произведений эпического театра. «Основное в эпическом театре, вероятно, заключается в том, что он апеллирует не столько к чувству, сколько к разуму зрителя; необходимо, чтобы зритель не сопереживал, а занимал оценивающую позицию», – утверждал Б. Брехт уже в 1927 г.
Чтобы дать наглядное представление об отличиях между драматической и эпической формами театра, писатель не раз помещал в своих статьях сравнительные таблицы, время от времени внося в них коррективы. Если обобщить самые характерные принципы обеих концепций, в итоге они могут выглядеть следующим образом:
Драматическая форма театра
представляет собой действие;
посредством действия вовлекает зрителя в события;
«изнашивает» активность зрителя;
пробуждает эмоции зрителя;
имеет целью вызвать у зрителя сопереживание;
оперирует прежде всего внушением;
зритель остается на уровне эмоционального восприятия;
зритель сопереживает;
человек рассматривается как нечто неизвестное;
человек неизменен;
зритель заинтересован финалом действия;
события развиваются последовательно, по прямой;
человек есть нечто совершенно законченное;
бытие определяется сознанием;
переносит зрителя в другие обстоятельства;
обращается к чувству зрителя.
Эпическая форма театра
представляет собой рассказ;
посредством рассказа делает зрителя наблюдателем;
пробуждает активность зрителя;
заставляет принимать решения;
имеет целью изобразить события;
использует аргумент;
эмоции перерабатываются сознанием в выводы;
зритель изучает;
человек является предметом исследования;
человек изменяется сам и изменяет действительность;
зритель заинтересован ходом действия;
события происходят неожиданно;
человек представляет собой процесс;
сознание определяется общественным бытием;
показывает зрителю другие обстоятельства;
обращается к разуму зрителя.
Уже в 1920-е годы Бертольт Брехт использует понятия «очуждать» и «очуждение». При этом термин «очуждение» («Verfremdung»), как выяснили исследователи, противопоставляется гегелевскому понятию «отчуждение» («Entfremdung»), которое для Брехта было неприемлемым, ибо подразумевало созерцательно-пассивное отношение человека ко всему происходящему.
Известно также, что во время пребывания в 1935 г. в Советском Союзе Брехт услышал от писателя и теоретика литературы С. Третьякова термин «остранение», введенное в обиход известным литературоведом В. Шкловским; хотя и близкое к понятию «очуждение», оно все же не было ему идентично. Постепенно «эффект очуждения» («Verfremdungseffekt») стал стержневым, ключевым понятием брехтовской эстетики, ее своеобразным ядром.
Суть пресловутого «эффекта очуждения» можно изложить, как ни парадоксально, афоризмом Аристотеля, с которым Брехт неустанно полемизировал: «Удивление – мать философии». Согласно Брехту, «очуждение» и предназначено было вопреки классическим страху и сочувствию, необходимым для аристотелевского катарсиса (очистительного воздействия искусства на человека), удивлять зрителя совершенно неудивительными вещами, высвобождать его от гипноза сцены, от иллюзий, создавать новый его контакт со сценическим зрелищем.
В докладе «Об экспериментальном театре», прочитанном 4 мая 1939 г. в стокгольмском Доме студентов перед участниками Студенческого театра, Бертольт Брехт, в частности, говорил: «Произвести очуждение события или характера – значит прежде всего просто лишить событие или характер всего, что само собой разумеется, знакомо, очевидно, и вызвать по поводу этого события удивление и любопытство». Таким образом, продолжал Б. Брехт, «…очуждать – это значит историзировать, изображать события и персонажи как нечто историческое, преходящее… В результате зритель обретает в театре новую позицию. По отношению к картинам человеческой жизни он обретает теперь такую же позицию, какую человек нашего века занимает по отношению к природе. Он и в театре будет воспринимать мир с позиции великого преобразователя, который может вмешиваться в процессы природы и процессы общественные, который не только воспринимает мир, но и совершенствует его. Театр уже не пытается опьянить зрителя, наделить его иллюзиями, заставить забыть собственный мир, примирить с собственной судьбой. Теперь театр открывает ему мир для активных действий».
В качестве примера Брехт приводит знаменитый шекспировский сюжет. Король Лир разгневан неблагодарностью дочерей; в драматическом театре актер сыграет эту сцену так, что зрителю этот гнев покажется единственно возможной естественной реакцией, он и сам разгневается и никакого иного состояния даже не сможет себе представить. В эпическом театре посредством «техники очуждения», посредством актерской игры гнев Лира должен удивить зрителя, вполне способного представить себе совсем иное поведение оскорбленного отца. Это не значит, что гнев Лира в эпическом театре будет восприниматься как абсолютно неестественный или нечеловеческий, однако и не общечеловеческий – вот что важно; кто-то другой на месте Лира может переживать такое же состояние, а может и совершенно иное, обусловленное определенными обстоятельствами, временем, влиянием окружающих и т. д. Очевидно, предельно политизированный эпический театр был одновременно и театром интеллектуальным, рассчитанным на нетривиальную рецепцию, на аналитическую зрительскую реакцию, не на эмоции, а именно на разум.
Впрочем, в подобном обращении к сознанию, к разуму Брехт (как и в других составляющих своей теории и практики эпического театра) был отнюдь не одинок. Как известно, Бернард Шоу тоже считал величайшим злом подмену интеллектуальной деятельности в искусстве чувственным экстазом. Театр, способный научить человека думать, утверждал английский драматург, способен научить и действовать; вслед за великим норвежским реформатором театра Генриком Ибсеном Шоу отдавал предпочтение интеллектуально-аналитической архитектонике произведений, насыщал их диалогами-дискуссиями. В то же время в зрелых, самых значительных пьесах Брехта (как и в произведениях вышеназванных представителей других национальных литератур) показаны не персонажи-идеи, не герои-тезисы, а живые личности, наделенные неповторимым психологическим миром.
В целом же эстетика Бертольта Брехта продолжила самые разные традиции, будучи порождена театрально-драматургическими явлениями многих времен и народов; согласно самому художнику, он изучал стилистику античного, китайского, классического и народного испанского, елизаветинского и других театров. Кроме того, в эпическом театре Б. Брехта дают о себе знать элементы поучительной пьесы (lehrstück) с ее провоцирующим, побуждающим к трезвому анализу пафосом, с ее рационализмом, восходящим в свою очередь к дидактической школьной драме XVI–XVII вв.
Из соотечественников-современников едва ли не самое большое влияние на Б. Брехта оказал режиссер Эрвин Пискатор, который еще в середине 1920-х годах ставил, согласно его же определению, «эпические драмы», а в 1929 г. издал книгу «Политический театр». В сущности, оба двигались по направлению к эпическому театру, но если Пискатора в большей степени занимала сценическая техника (сложные металлические конструкции, титры, кинокадры, хор и т. д.), то Брехта – актерская игра, что, однако, не исключало внимания того и другого авторов ко многим другим составляющим режиссуры. Пискатор тоже придавал новой актерской манере исполнения большое значение, считал необходимым присутствие в спектакле личности актера, его четкой гражданской позиции.
В брехтовской эстетике роль актера-гражданина, наряду с исполняемой ролью, еще более существенна; в продолжение спектакля актер должен демонстрировать очуждение от сценического образа и время от времени говорить от собственного имени. Так, из «массажиста» зрительских чувств, из «торговца наркотиками», каким актер, согласно Брехту, являлся в драматическом театре, он превращается в толкователя, учит публику дальше видеть, лучше понимать. В определенном смысле игра актера, как справедливо утверждают исследователи, напоминает в эпическом театре цитирование текста, является чем-то вроде такого цитирования, и ее уровень, ее стиль определяются не только и даже не столько способностью актера к перевоплощению, к лицедейству, сколько умением достигать эффекта очуждения.
С той же целью актер в большинстве случаев выходит на сцену эпического театра не в историческом костюме, который бы соответствовал воплощаемым на сцене событиям, а в обыкновенном трико и без грима; если же, согласно авторскому замыслу, необходимо было акцентировать определенное состояние героя, грим использовался, но преимущественно в конкретные моменты действия (например, чтобы подчеркнуть страх солдат перед боем, на лица актеров наносился белый грим). Для актера, как и для автора, предусматривались также специальные тексты-комментарии.
Помимо актерской игры, разрушению у зрителя иллюзии единственно возможной реальности, очуждению его от сценических событий, активизации его аналитических способностей служили и другие элементы спектакля, многообразные художественные приемы и изобразительно-выразительные средства. Кроме того что зрителю предлагались коллизии-модели, их сценическое воплощение не должно было совпадать с текстом пьесы. Предусматривалось наличие пауз, заполняемых комментариями, обращениями непосредственно к зрителю, зонгами (сонгами), демонстрацией кинокадров и даже опытов. Зонги (песни, куплеты для сольного исполнения), с одной стороны, действительно по-своему вступали в конфликт с сюжетом, приостанавливали его развитие, препятствовали эмоциональному вовлечению зрителя в драму событий, с другой – несли в себе обобщающий смысл, имели характер иллюстраций или комментариев к отдельным сценам и образам или к произведению в целом, позволяя проникнуть в его философию. На дезиллюзионизацию событий работал и монтаж мизансцен – в противовес последовательно-эволюционному принципу аристотелевской, драматической формы театра.
Не последняя роль в брехтовской эстетике отводилась художественному оформлению спектакля: оно должно было быть лаконичным, простым, но не упрощенным, совмещать в себе бытовые реалии с символическими, обобщающими штрихами. Смена декораций, установка софитов и тому подобные операции производились на глазах у зрителя. Использовалась разнообразная эмблематика: транспаранты с наиболее показательными цитатами, сентенциями персонажей, проекции на экран кино– и фотокадров, титры с содержанием следующей сцены (в результате зритель мог сосредоточиться не на поворотах сюжета или развязке действия, а на его ходе).
Функцию, как говорил Бертольт Брехт, «холодного душа» в какой-то степени выполняли и пародирование, гротеск, а также элементы эпатажа, особенно свойственные раннему Брехту – не только драматургу, но и поэту. (Эпатаж, как известно, вообще стал почти неотъемлемой частью европейского культурного ландшафта 1920—1930-х годов; красноречивые в этом смысле названия имели, например, известные немецкие кабаре того времени – «Одиннадцать палачей» в Мюнхене, «Дикая сцена» в Берлине и др.) Все эти художественные приемы и изобразительно-выразительные средства лишали загадочной завесы не только содержание произведения, но и его форму, раскрывали не только итог тех или иных событий, но и методы, механизмы достижения результата. Здесь художественный «шов» не прятался, не маскировался, он сознательно демонстрировался: вот каким образом построена пьеса, а вот каким образом осуществляется зло, разоблачению которого она посвящена. Нет художественной гармонии? А много ли ее в жизни? Так стоит ли создавать представление о гармонии – согласно достаточно сильному брехтовскому выражению – в «грязной конюшне»?
Одна из главных функций в достижении «эффекта очуждения» отводилась музыкальному оформлению спектаклей. Будучи от природы очень музыкальным, Брехт в начале своего творческого пути даже составил собственную систему нотации, заменявшую ноты, которых он попросту не знал (его многочисленные рукописи пестрят загадочными знаками). Молодой Брехт часто аккомпанировал себе на гитаре во время исполнения своих баллад в мюнхенских и берлинских литературных кабаре; он знал джаз, подсказавший ему некоторые правила зонга, часто обращался к исполнительской манере уличных певцов (Bänkelsänger). Композитор Ганс Эйслер, который наряду с Куртом Вайлем, Паулем Дессау воплощал музыкальными средствами идеи Брехта-драматурга, оценивал роль музыки в его театре как огромную, чрезвычайную. «Брехт придавал музыке в пьесах на удивление большое значение – не меньшее, чем костюмам, постановке или освещению. Это было чудесно для нас, музыкантов» (2, 211).
Музыковеды, как известно, выделяют несколько функций музыки в традиционном драматическом театре: во-первых, она соотносится с ходом сценического действия, соответствует ему и им мотивируется (так называемая инцидентная, или ситуационная, музыка); во-вторых, она – в виде музыкальных интермедий – делит спектакль на акты; в-третьих, звучит в сценах загадочных, фантастических; кроме того, музыкой, условно говоря, маркируются наиболее напряженные коллизии и эмоционально-психологические состояния героев и, наконец, гармонизируется спектакль в целом. Большинство этих функций музыка выполняет и у Брехта, за исключением, пожалуй, эмоционально-психологической; ее наличие шло бы в разрез с остальными слагаемыми эстетики эпического театра, препятствовало бы достижению эффекта очуждения. Брехт же относился к музыке, как и к другим сферам искусства, достаточно прагматично: он ценил в ней прежде всего то, что необходимо для решения собственных творческих задач. Отсюда брехтовская неудовлетворенность привычными концертными формами, «всей этой Musik», в противовес которой «свою» музыку, т. е. используемую им в спектаклях, писатель называл «Misuk». Г. Эйслер, к примеру, рассказывал: «Его Misuk не предназначалась для концертных церемоний в больших залах с господами во фраках… Я, надеюсь, правильно истолкую Брехта, если скажу, что Misuk стремится быть формой искусства, избегающей того, что часто можно встретить в концертах и в опере: путаницы чувств. Брехт считал, что посетители концертов и оперы сдают в гардероб вместе со шляпой и свой мозг» (3, 440–441).
Соответствовал другим компонентам эпической формы театра и язык драматурга – внутренне конфликтный. Обращенный к читательской и зрительской логике, он соединял в себе элементы, на первый взгляд, несоединимые, котрастные: подчеркнутый прозаизм – с лиризмом, шаржированность – с трагизмом, сдержанность – с драматизмом.
Одним из важнейших в категориальном аппарате Б. Брехта является понятие «жестовый» (gestlich). Имеется в виду не только традиционно существенная роль пантомимической техники в театре; понятие «жестовый» приобретает характер концептуальный, подчеркивает специфику эпического театра, его обращеность к разуму, а не к эмоциям. «Жест был прежде слова» – от этой сентенции Брехт отталкивается, с этим согласует ритмическую организацию своих произведений, на жестовый принцип, в конечном итоге, возлагает часть задач в надежде быть адекватно понятым зрителем.
Следует иметь в виду, что брехтовская эстетика – явление динамичное, мобильное, ее элементы могли и должны были меняться в зависимости от времени, обстоятельств, художнических целей. К примеру, согласно первой редакции (1938) пьесы «Жизнь Галилея», отречение ученого от собственного открытия объясняется хитростью, стремлением ввести в заблуждение инквизицию и получить возможность втайне продолжать работу; излишне говорить, что ситуация фашистского режима диктовала именно такой сюжетный ход. В редакцию же 1945 г. были внесены принципиальные коррективы, обусловленные, снова-таки, изменившейся ситуацией: японские города Хиросима и Нагасаки стали жертвами атомных бомб, и в свете этой трагедии было необходимо заострить проблему нравственности науки, вины и ответственности ученого за последствия своего личного поведения.
Одним из отличий брехтовских пьес является и то, что большинство из них представляют собой обработки чужих литературных произведений; согласно Брехту, именно обработка есть путь к очуждению, даже образец очуждения знакомых сюжетов, способ получения – посредством новых рецепций и интерпретаций – бездны художественного материала в целях актуализации их содержания. Впрочем, и новые варианты старых сюжетов часто были результатом творческого партнерства Бертольта Брехта с другими лицами (например, с Лионом Фейхтвангером, Элизабет Гауптман, Маргарет Штеффин, Рут Берлау и др.). Кроме того, пьесы Брехта в большинстве случаев – параболы, уже по своей жанровой природе ориентирующие реципиента на сравнение, сопоставление событий, на соотнесение возможного с реальным, на поиск взаимосвязей (греч. parabole – сравнение, уподобление), на различные смысловые прочтения; очевидно, структурно-содержательные особенности параболы сближают ее с притчей и как нельзя лучше соответствуют эстетике эпического театра, основная цель которого, как уже говорилось, – активизация интеллектуально-критических, аналитических способностей человека.
Закономерно, что эпический театр не однажды оказывался в эпицентре бурных споров о тенденциях развития драматургического искусства в целом и брехтовского, в частности. Одни его не принимали, другие вставали на сторону писателя; как бы там ни было, объективно эпический театр подтвердил свою безусловную жизнеспособность десятилетиями сценической практики, влиянием на многих знаменитых сегодня драматургов и режиссеров разных (не только немецкоязычных) стран.
* * *
К числу наиболее значительных драматургических произведений Брехта принадлежат пьесы «Чтот тот солдат, что этот» (1927), «Трехгрошовая опера» (1928), «Святая Иоанна скотобоен» (1932), «Мать» (1933), «Страх и отчаяние в Третьей империи» (1935–1938), «Винтовки Тересы Каррар» (1937), «Жизнь Галилея» (1938–1939), «Добрый человек из Сычуани» (1938–1940), «Карьера Артуро Уи, которую можно было бы предотвратить» (1941), «Кавказский меловой круг» (1944–1945), «Швейк во Второй мировой войне» (1941–1944) и др. В ряду знаменитых пьес писателя следует, безусловно, назвать и драму «Мамаша Кураж и ее дети» («Mutter Courage und ihre Kinder», 1941), работу над которой Брехт начал еще в Дании, а завершил в Швеции осенью 1939 г.
Произведение, очевидно, было задумано как отклик на политические события того времени: победой фашистов закончилась гражданская война в Испании, набирали мощь фашистские режимы в Германии и Италии, над человечеством нависла угроза новой мировой войны. Бертольту Брехту не давал покоя вопрос, почему немецкий народ оказался не способным к противостоянию нацистам и осудил себя на соучастие в невиданных преступлениях. «Когда я писал, – вспоминал позже автор, – мне представлялось, как со сцен нескольких больших городов прозвучит предостережение драматурга, предупреждение о том, что желающий обедать с чертом должен запастись длинной ложкой. Возможно, мои надежды были наивными, но я не считаю, что быть наивным – стыдно. Спектакли, о которых я мечтал, не состоялись. Писатели не могут творить с такой же быстротой, с какой правительства развязывают войны: ибо, чтобы сочинять, необходимо думать… «Мамаша Кураж и ее дети» – опоздала».
В жанровом отношении пьеса является хроникой Тридцатилетней войны 1618–1648 гг. («Eine Chronik aus dem Dreissigjährigen Krieg») – одной из величайших трагедий Европы и прежде всего Германии, на территории которой в основном и разворачивались события. Разорванной в клочья, одичавшей настолько, что в городах волки встречались чаще, чем люди, потерявшей около двенадцати миллионов населения из шестнадцати вышла страна из этой войны. «На протяжении жизни целого поколения по всей Германии хозяйничала самая развращенная солдатня, какую только знает история, – писал Ф. Энгельс. – Повсюду налагались контрибуции, учинялись грабежи, поджоги, насилие и убийства. Более всего страдал крестьянин там, где в стороне от больших армий действовали самовольно, на собственный страх и риск, мелкие вольные отряды, или, точнее, мародеры. Опустошение и обезлюженность были безграничными. Когда наступил мир, Германия оказалась почти дотла уничтоженной – беспомощной, растоптанной, растерзанной, истекающей кровью» (4, 341). Помимо немецких земель, в войну были втянуты Испания, Дания, Швеция, Франция.
Трагические события далекого прошлого были восприняты Бертольтом Брехтом сквозь призму их художественного изображения современником и участником Тридцатилетней войны Гансом Якобом Кристоффелем фон Гриммельсхаузеном (около 1621–1676). Из романа «Простаку наперекор, сиречь диковинное жизнеописание прожженной обманщицы и побродяжки Кураж» (1670), вместе со знаменитым романом «Приключения Симплиция Симплициссимуса» и другими произведениями вошедшего в цикл так называемых симплициссианских произведений Гриммельсхаузена, Б. Брехт позаимствовал и исторический фон для своей пьесы, и образ маркитантки Кураж, которая под давлением обстоятельств из скромной чешской девочки превратилась в несусветную пройдоху и авантюристку. Известно также, что позднее, уже в ходе работы над пьесой, драматург обращался также и к одному скандинавскому источнику. Шведская актриса Найма Вифстранд пересказала ему содержание «Сказаний прапорщика Столя» финского поэта Йохана Людвига Рунеберга (1804–1877), писавшего на датском языке. В состав «Сказаний» вошла и история превращения Лотты Сверд, которую «куражу» и ловкости тоже научила война.
Весной 1624 г., в разгар Тридцатилетней войны, мы встречаем брехтовскую героиню – маркитантку Анну Фирлинг по прозвищу мамаша Кураж: «Кураж меня зовут потому, фельдфебель, что я боялась разориться и сквозь пушечный огонь вывезла из Риги пятьдесят ковриг хлеба. Хлеб уже плесневел, того и гляди совсем пропал бы, выбора у меня не было» (Пер. С. Апта). Впрочем, торгует Анна Фирлинг не только хлебом, но и всем, что может пригодиться на войне:
Кому в войне не хватит воли, Тому победы не видать. Коль торговать, не все равно ли, Свинцом иль сыром торговать?Действие пьесы длится в течение двенадцати лет; следом за маркитантским фургоном Анны Фирлинг мы вынуждены колесить по дорогам Польши и Баварии, Италии и Саксонии… С помощью хроникальной формы автор придает событиям крупномасштабность, эпичность, а трагедию конкретной личности интегрирует во всенародную. При этом на всех уровнях без исключения – содержания, композиционно-стилевых составляющих поэтики, системы персонажей в целом и каждого отдельного образа, философии пьесы – Б. Брехт реализует разработанную им технику очуждения, последовательно воплощает на практике концепцию эпического театра.
Подобно всемирно известным художникам слова И.В. Гёте и Э.Т.А. Гофману, Ф. Достоевскому и Т. Манну, Брехт требует от читателя размышления над двойственностью человеческой природы, над ее «гибкостью», обещающей духовное совершенствование, развитие человека, но одновременно таящей в себе и перспективу его нравственной деградации, возможность манипуляции его сознанием. Внутренне конфликтна, «очуждена» и мамаша Кураж. Перед нами маркитантка, которая то и дело, обращаясь к публике, превозносит войну-кормилицу, «золотые времена» для маленького человека. Но натура героини не исчерпывается ипостасью торговки. Анна Фирлинг еще и по-житейски мудрая, рассудительная женщина, мать, «мамаша», для которой дети значат не меньше, чем нажитый на войне нехитрый скарб. Однако и скарб этот значит не меньше, чем дети – вот в чем дело!
Изо всех сил Анна Фирлинг стремится уберечь от кровавой бойни собственных детей, сыновей Эйлифа и Швейцеркаса («Ремесло солдата не для моих сыновей»), не понимая, что здесь главный распорядитель – не маленький человек, что на войне от войны не спрятаться: она кормит, но она же и сама испокон веков «кормится» детьми подобных Анне Фирлинг бесчисленных матерей. Драматическая коллизия пьесы достойна шекспировских сюжетов (недаром многие произведения Б. Брехта по заложенному в них трагическому накалу исследователи сравнивают именно с пьесами Шекспира). Фельдфебель, глядя вслед удаляющейся повозке Анны Фирлинг, произносит зловещее:
Войною думает прожить За это надобно платить, —и нам остается – в соответствии с брехтовской эстетикой эпического театра, когда развязка уже известна, – наблюдать, как это пророчество сбывается.
Еще одна сюжетная особенность, которая может быть осмыслена как проявление очуждения: несмотря на то что Бертольт Брехт не фаталист и все в его произведении обусловлено социальными причинами, он, тем не менее, обращается к мотиву гадания, столь характерному для драматического театра и в целом для мировой литературной традиции. В начале пьесы гадает мамаша Кураж: всем троим ее детям, а заодно и фельдфебелю достаются клочки бумаги, помеченные «черным крестом – смертью». «Ну вот, теперь вы всё знаете», – стоически констатирует Анна Фирлинг, однако теперь знает и она сама, и с этим знанием ей придется существовать, надеясь в глубине души, что, может быть, судьба смилуется хотя бы над кем-то из ее детей.
Дальнейшее содержание пьесы – это монтаж ситуаций, которые, в сущности, не несут в себе каких-либо сюжетных поворотов, а лишь демонстрируют, каким образом мамаша Кураж расплачивается за иллюзорные надежды нажиться на войне, на чужих смертях.
Первым оставляет мать Эйлиф. Он легко попадается в сети вербовщика, обещающего юноше военную романтику, почести и славу. Спустя год пути матери и сына сойдутся; сын, кажется, высоко взлетел: сам командующий принимает за своим походным столом «настоящего набожного воина», «молодого цезаря» Эйлифа, который в одиночку «во имя Бога» сумел убить четверых крестьян и захватить двадцать их волов на провиант для армии. Брехт сознательно подчеркивает грязный характер войны, показывая, что Эйлиф стал «героем» не в бою с противником, не во время профессионального исполнения своего солдатского долга, а благодаря убийству и грабежу мирных жителей.
И характер, и судьба Эйлифа основаны на очуждении: безусловно, он мужественный, находчивый юноша, в других обстоятельствах, вполне возможно, он действительно мог бы оказаться способным на подвиг во имя высокой цели, однако война ломает, искажает, уродует все представления человека, в том числе и о мужестве. И вот уже Эйлифа тащат на смерть буквально за то же самое, за что перед этим благодарили и хвалили.
Война отнимает у Анны Фирлинг и второго сына – Швейцеркаса. Он, полковой казначей, слишком честен, чтобы даже под угрозой смерти отдать противнику полковую кассу, и должен быть расстрелян. Правда, Анна может выкупить сына за взятку, но она слишком долго торгуется – в который раз маркитантка одерживает верх над матерью, а тем временем смертный приговор вынесен и приведен в исполнение («Ну, вот доторговались, фургон при вас. Он получил одиннадцать пуль, всего-навсего».) Над самой Анной Фирлинг тоже нависла угроза: ее подозревают в укрывательстве. Далее следует один из тех эпизодов, которые, так сказать, испытывают брехтовскую эстетику на прочность, – здесь зрителю либо читателю вряд ли удастся избежать потрясения, эмоционального напряжения: мамаша Кураж, которая только что – в какой-то степени и по собственной вине – потеряла сына, должна найти в себе силы отречься от него мертвого.
Фельдфебель. Вот человек, имя которого нам неизвестно. Но для порядка имя нужно вписать в протокол. Он у тебя обедал. Взгляни-ка, может, ты его знаешь. (Поднимает простыню.) Знаешь его?
(Мамаша Кураж качает головой.)
Ты что ж, ни разу не видела его до того, как он у тебя обедал?
(Мамаша Кураж качает головой.)
Поднимите его. Бросьте его на свалку. Его никто не знает.
(Солдаты уносят труп.)
Свое впечатление от сценического воплощения этого эпизода Еленой Вайгель во время гастролей «Берлинского ансамбля» в мае 1957 г. в Москве описывал известный театровед Г. Бояджиев: «Эта короткая, дважды повторенная ремарка: качает головой – раскрыта была актрисой с потрясающей силой. Нам не забыть, как Вайгель шла, шатаясь, к убитому, как Вайгель глядела огромными, воспаленными глазами на своего сына, как склонилась к трупу, замерла и порывисто задышала… Была долгая мертвая тишина – на сцене и в зале. Никто не мог оторвать взора от этого окаменевшего от горя лица; кажется, солдаты и фельдфебель забыли о своем замысле – вызвать материнское чувство и поймать в ловушку Кураж. Они, эти жестокие палачи, видя нечеловеческое страдание матери, были, как и мы, потрясены этим великим горем. Вайгель молчала, но не от упрямого расчета скрыть тайну родства, а по причине прямо противоположной: самое большое горе высушивает слезы и обрывает голос.
Вайгель медленно разогнулась, отошла в сторону, опустилась на бочку и только тут, запрокинув голову, открыла рот, чтобы страшно закричать, но ее открытый рот так и остался беззвучным…» (5, 335).
То же впечатление немого крика осталось и у известного историка театра Б. Зингермана: «…Она, откинув голову, безмолвно кричит распяленным ртом – этот момент, запечатленный, мог бы стать эмблемой Берлинского ансамбля. Актриса, начавшая свою карьеру в экспрессионистском театре, Вайгель сохранила его энергию и остроту, придав им широкое дыхание эпического театра. Она соединила в своем творчестве социальную конкретность мотивировок и почти библейское представление о народности…» (6, 164).
Очевидно, театр Бертольта Брехта в целом сохранил в себе элементы театра драматического, в том числе экспрессионистского. Экспрессивность особенно свойственна пьесам драматурга конца 1930—1940-х годов; в этот период его неприятие эмоционального, психологического воздействия на читателя и зрителя, противопоставление чувства разуму уже не были столь категоричными, как раньше.
Вернемся к событиям в брехтовской пьесе. Наступает очередь и дочери Анны Фирлинг, немой Катрин. Пожалуй, лишь ее смерть освящена высоким смыслом. Катрин случайно узнала о планах имперских войск глухой ночью уничтожить население протестантского города Галле. И она нашла способ, смертельный для себя, предупредить и тем самым спасти людей: всю свою жертвенность, не востребованную жизнью человечность, женственность, любовь она вложила в барабанный бой. Не знавшая ни настоящего детства, ни ласки, ни счастья материнства она гибнет ради спасения чужих детей. И здесь также, вопреки заявленному Б. Брехтом эстетическому кредо, вольно или невольно, эмоциональная сфера читателя и зрителя вряд ли может остаться незатронутой. Особенно потрясает эпизод с колыбельной, которую поет мамаша Кураж своей мертвой дочери. Но вот Анна Фирлинг спохватилась, пришла в себя, вот снова в убитой горем матери заговорила маркитантка: она отсчитала крестьянам деньги на похороны Катрин и двинулась дальше, за последним полком.
Катрин – это тоска о подлинности чувств, об адекватности человека самому себе, свой сути, это воплощенное в художественном образе утверждение, которое не однажды прозвучит в произведениях Б. Брехта и особую выразительность приобретет в пьесе «Кавказский меловой круг»: во все времена, даже самые скверные, встречаются хорошие люди.
Ни одного из детей Анны Фирлинг не остается в живых. Казалось бы, настало время пробудиться, очнуться, осознать, наконец, на какие «барыши» может надеяться маленький человек в кровавых играх сильных мира сего. Действительно, в моменты прозрения Анна Фирлинг проклинает войну со всеми ее победами и поражениями вместе взятыми. Однако буквально вслед за этим из ее уст звучит очередной дифирамб войне. Даже в финале, после всего произошедшего, звучит зонг – призыв воевать:
Война удачей переменной Сто лет продержится вполне, Хоть человек обыкновенный Не видит радости в войне: Он жрет дерьмо, одет он худо, Он палачам своим смешон. Но он надеется на чудо, Пока поход не завершен. Эй, христиане, тает лед! Спят мертвецы в могильной мгле. Вставайте, всем пора в поход, Кто жив и дышит на земле!Бертольт Брехт ясно осознавал, что в своей пьесе идет наперекор традиционному финалу с обязательной готовой моралью, и не раз вынужден был объяснять свою сверхзадачу: «Зрители иной раз напрасно ожидают, что жертвы катастрофы обязательно извлекут из этого урок… Драматургу важно не то, чтобы Кураж в конце прозрела… Ему важно, чтобы зритель все ясно видел». Почти гротескная слепота мамаши Кураж предельно обнажает замысел писателя, заостряет предупредительно-прогностическую функцию его произведения. Двойственно и авторское отношение к своей героине: это неприятие, беспощадность, возмущение и одновременно – безграничное сожаление и сочувствие.
Заметим, что тема матери занимает чрезвычайно важное место в творчестве Б. Брехта; она присутствует и в его одноименной свободной обработке горьковского романа «Мать», и в «Добром человеке из Сычуани», и в «Кавказском меловом круге», и в «Винтовках Тересы Каррар», и в «Днях Коммуны». Однако образ Анны Фирлинг – едва ли не самый трагический из всех созданных Брехтом образов матерей, ставший символом ужасного времени и жестокого мира. Неслучайно швейцарская критика восприняла премьеру спектакля в Цюрихе 19 апреля 1941 г. как вариацию известной трагедии Ниобеи. Ниобея в греческой мифологии – жена царя Фив Амфиона. Согласно мифам, судьба щедро одарила ее детьми: у Ниобеи было то ли семь дочерей и семеро сыновей, то ли шесть дочерей и шестеро сыновей, в то время как богиня Лета сумела родить всего двоих – Аполлона и Артемиду. Ниобея посмеялась над богиней, и дети последней жестоко отомстили за стыд матери, убив всех сыновей и дочерей Ниобеи, сама же Ниобея от горя окаменела и была превращена Зевсом в скалу, струящую слезы. Образ Ниобеи прочитывается как воплощение гордыни и заносчивости и одновременно – невыносимых материнских страданий. Как известно, Б. Брехт после цюрихской премьеры даже внес некоторые коррективы в образ Анны Фирлинг, чтобы заострить в нем ипостась именно торговки, маркитантки.
Вообще Брехт достаточно скептично относился к «вечным», «общечеловеческим» ценностям и отдавал предпочтение проблематике актуальной, злободневной, однако объективно (в том числе за счет многочисленных реминисценций и аллюзий на библейские и античные мифы) постоянно выходил за ее рамки, проецировал исторические события на современность, придавал конкретным ситуациям обобщенно-символический, философский смысл.
Важное место в структуре пьесы «Мамаша Кураж и ее дети» занимает образ-мотив дороги. Традиционно этот мотив выполняет в художественном произведении различные функции; полифункционален он и у Б. Брехта. В определенной степени мотиву дороги пьеса обязана эпичностью содержания, ритмико-интонационной организацией, композиционным единством. На дороге мы с Анной Фирлинг встречаемся, дороги войны слишком далеко во всех смыслах ее заводят, на дороге же мы с героиней расстаемся. Исследователи обращают внимание и на удачно найденный атрибут пьесы – маркитантский фургон: с одной стороны, он акцентирут пагубность войны, ее «продвижение», распространение; с другой – связывает брехтовскую драму с традицией народного зрелища, вызывает ассоциации с известной «колесницей Феспида», полумифического драматурга, основателя бродячего театра, сцены на колесах. Более того, читатель и зритель могли усмотреть в знаменитом фургоне мамаши Кураж «не только ее лавку и дом, но и гонимую по дорогам войны ее «колесницу судьбы», да и судьбы всякого человека. Большое значение этому образу-символу придавал сам драматург, недаром дню открытия театра «Берлинский ансамбль» (11 января 1949 г. именно спектаклем по пьесе «Мамаша Кураж и ее дети») Б. Брехт посвятил весьма характерное стихотворение:
Театр новой эпохи Открылся в тот вечер, Когда в разрушенном Берлине На сцену вкатился фургон Кураж (5, 331).Пьеса «Мамаша Кураж и ее дети» не исчезает со сцены театров мира, включая советское и постсоветское культурное пространство. Лион Фейхтвангер в свое время сказал: «Нетерпеливый Брехт написал первые стихотворения и первые пьесы тридцатого столетия» (7, 19). Судить о том, что произойдет в тридцатом столетии, трудно, но что в начале XXI в. Брехт продолжает быть актуальным – факт бесспорный.
Источники
1. Цит. по: Шумахер Э. Жизнь Брехта: Пер. с нем. М.: Радуга, 1988.
2. Цит. по: Bunge H. Fragen Sie mehr über Brecht: Hanns Eisler im Gespräch. München, 1972.
3. Eisler H. Bertolt Brecht und die Musik // Sinn und Form. 1957. 2 Sonderheft Bertolt Brecht.
4. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 19.
5. Бояджиев Г. От Софокла до Брехта за сорок театральных вечеров. М.: Просвещение, 1988.
6. Зингерман Б. Жан Вилар и другие. М., 1964.
7. BrechtB. Ein Lesebuch unserer Zeit. Weimar, 1958.
Эрих Мария Ремарк
В 1920-е годы в мировую литературу вошло поколение, получившее название потерянного, – поколение участников Первой мировой войны, несших в своем жизненном опыте тяжкий груз фронтовых переживаний. Жестоко обманутые фальшивыми лозунгами о «доблести», «борьбе за великое дело», «во имя великой нации», молодые люди, оказавшись в военной мясорубке, быстро начинали трезветь, ощущать себя жертвами чудовищной игры, затеянной сильными мира сего. Не без оснований считается, что чувства потерянности, обманутости были в определенной степени порождены самим характером войны – преимущественно позиционным, маневренным, когда солдатам приходилось в течение недель и месяцев оставаться в опостылевших окопах и гибнуть не только от пуль и снарядов, но и от мучительных болезней. Самое же главное – подавляло отсутствие нравственно оправданных целей войны. «Представители так называемого потерянного поколения… – справедливо заметил Б. Сучков, – с непоколебимой прямолинейностью и резкостью развеяли миф «о великой войне белых людей», сняв ореол героики с империалистической войны, которая поглотила миллионы человеческих жизней, показали войну как прямое порождение общественной системы, враждебной интересам и потребностям личности» (1, 59).
Психологические последствия участия в Первой мировой войне отзывались и в послевоенном существовании бывших фронтовиков: травмированное сознание, скептицизм, одиночество среди «нормальных», тех, кто сумел избежать непосредственного столкновения с военными ужасами, погруженность в собственную боль не давали приспособиться к мирным обстоятельствам и жить, будто не было этой бойни, будто еще вчера не гибли бессмысленно твои товарищи. Не случайно писатели «потерянного поколения» часто соединяли в своих произведениях военную фактуру с послевоенным опытом – своим и, соответственно, своих героев. Так война вырастала в эмблему времени, всей цивилизации, становилась символом действительности в целом. Единственной опорой для бывших фронтовиков оставалось фронтовое товарищество. В сущности, для этого поколения война так никогда и не закончится.
Понятие «потерянное поколение» ввел в литературный обиход знаменитый американский прозаик Эрнест Хемингуэй, использовавший слова «Все вы – потерянное поколение» в качестве одного из двух эпиграфов к своему роману «И восходит солнце (Фиеста)». Историю же этого понятия Э. Хемингуэй поведал позже, в книге воспоминаний «Праздник, который всегда с тобой» (1964); одна из первых ее глав так и называется – «Потерянное поколение».
20-е годы XX в. были особенно щедры на литературу «потерянного поколения»: вышли романы американских писателей Джона Дос Пассоса «Три солдата» (1921), Эдуарда Эстлина Каммингса «Огромная камера» (1922), Уильяма Фолкнера «Солдатская награда» (1926), Эрнеста Хемингуэя «И восходит солнце (Фиеста)» (1926) и «Прощай, оружие!» (1929), англичанина Ричарда Олдингтона «Смерть героя» (1929) и др.
Одним из самых талантливых, самых значительных писателей «потерянного поколения» стал немецкий прозаик Эрих Мария Ремарк (1898–1970). Определяющую роль в формировании его как личности и как художника сыграла Первая мировая война. Именно его роман «На Западном фронте без перемен» (1929) был воспринят современниками как своего рода художественный манифест целого поколения, манифест тех, о ком в произведении сказано: «Допустим, что мы останемся в живых; но будем ли мы жить? Мы беспомощны, как покинутые дети, и многоопытны, как старики…» «На Западном фронте без перемен» вместе с более поздними романами Э.М. Ремарка «Возвращение» (1931) и «Три товарища» (1938) составили своеобразную трилогию о судьбе «потерянного поколения».
Эрих Мария Ремарк родился 22 июня 1898 г. в небольшом городе Оснабрюке, в семье переплетчика книг. Позже, вспоминая о своем детстве, он писал: «Я вырос в маленьком вестфальском городке… Мои родители были католиками, я часто пел в церковном хоре. Ни дома, ни в церкви я не находил понимания, никто не разделял мои мечты… И никто здесь не мог представить иного будущего для меня, кроме как стать почтмейстером, учителем или аптекарем».
В 1916 г. Э.М. Ремарк добровольцем ушел на фронт, откуда вернулся с несколькими ранениями, разочарованный, духовно опустошенный, глубоко потрясенный пережитым. После войны получил образование на курсах для бывших фронтовиков, самыми разными занятиями зарабатывал на жизнь – был шофером, учителем, бухгалтером, продавцом надгробий, органистом, сотрудничал с рядом газет. Между тем юношу интересовало и влекло писательство. Начинал он со стихотворений, а в начале 1920-х годов вышли из печати два его романа – «Каморка грез» (1920) и «Станция на горизонте» (1927). Они не привлекли к себе особого внимания ни критиков, ни читателей. Зато уже следующий роман, «На Западном фронте без перемен», принес автору мировую славу.
За пределами Германии Эрих Мария Ремарк оказался еще до установления в ней фашистского режима: в конце 1931 г. писатель по состоянию здоровья переехал в Швейцарию. Здесь он узнал, что вместе с книгами многих других немецких писателей нацисты под возгласы «Против литературной измены!» и «За воспитание народа в военном духе!» бросали в огонь и его произведения. В 1938 г. Э.М. Ремарк покинул Европу и переехал в США, где во время Второй мировой войны нашли пристанище и другие немецкие художники слова, в том числе Томас Манн, Генрих Манн, Бертольт Брехт. Здесь писателя настигло известие о том, что его родная сестра Эльфрида, которая оставалась на родине, в октябре 1943 г. была арестована по доносу и казнена за «пораженческие» высказывания.
В 1947 г. Э.М. Ремарк получил американское гражданство, однако покинул США и снова поселился в Швейцарии, где и прожил до самой смерти (25 сентября 1970 г.). На вопрос о причинах невозвращения на родину писатель, в частности, отвечал: «Из изгнания не возвращаются. Мы все – поколение эмигрантов, независимо от того, выехали мы или оставались дома. Одних ноги несут из Германии, у других Германия сама уплывает из-под ног».
Произведения, написанные Э.М. Ремарком в эмиграции, отчетливо свидетельствуют о том, что ощущения потерянности, опустошенности постепенно начали уступать место антифашистским настроениям; подобную же эволюцию пережил и Э. Хемингуэй, влияние которого на немецкого писателя несомненно. В 1940 г. в США вышел первый роман Ремарка, посвященный драматическим судьбам немецких эмигрантов, их незавидной участи на чужбине, где они оказались в поисках спасения от нацистского «нового порядка». Эмигрантскую тему художник продолжил в романе «Триумфальная арка» (1946), в котором заметно усиливается критика фашизма, а также в послевоенных романах «Ночь в Лиссабоне» (1963) и «Тени в раю» (1971).
Весьма плодотворными были для писателя 1950-е годы. В круг его тем вошла тема фашистских концлагерей, особенно основательно разработанная в романе «Искра жизни» (1952). Ремарк так объяснял причины, побудившие его создать эту книгу: «За все, что случилось, я чувствую в какой-то степени и личную ответственность. Ибо я тоже немец. Я должен был что-то сделать. Я должен был написать «Искру жизни»…» Роман, основанный на фактах, на рассказах бывших узников, вошел в мировую литературу о лагерях смерти; в разное время к этой теме обращались и соотечественники Ремарка (романы Лиона Фейхтвангера «Семья Опперманн», 1933; Вилли Бределя «Испытание», 1935; Анны Зегерс «Седьмой крест», 1940; Бруно Апица «Голый среди волков», 1958), и писатели других стран (чех Юлиус Фучик – «Репортаж с петлей на шее», 1945; француз Робер Мерль – «Смерть – мое ремесло», 1953 и многие другие).
К событиям на советско-германском фронте Э.М. Ремарк обратился в романе «Время жить и время умирать» (1954), своеобразным продолжением которого стала пьеса «Последняя остановка» (1955). Если в романе разоблачается миф о монолитности немецкого народа и фашистской армии, показывается террор гестапо, преступления нацистов на оккупированной советской земле, то в драме события разворачиваются уже в последние дни войны, во время наступления советских войск на Берлин.
В продолжение всего творческого пути писателя волновала проблема социально-экономических и психологических истоков фашизма; к этой проблеме он обратился и в романе «Черный обелиск» (1957), созданном в русле сатирической традиции Генриха Манна. Действие происходит в Германии в 1923 году, когда в стране уже вызревала тенденция к развязыванию новой мировой войны. Автор нашел мрачный символ Веймарской республики – психиатрическую лечебницу, показал, что в Германии за десятилетие до того, как к власти пришли фашисты, уже царили цинизм, насилие и бездуховность.
Работал Ремарк и в жанровой форме социально-психологического романа; самым, пожалуй, значительным произведением такого рода стал его роман «Жизнь взаймы» (1959) – история трагической любви автогонщика и смертельно больной женщины.
Ремарк оставил немалое литературное наследие, но и по сегодняшний день едва ли не самым его известным романом остается «На Западном фронте без перемен». Ричард Олдингтон, один из представителей «потерянного поколения», в свое время сказал, что стоящая книга всегда возникает прямиком из жизни и писать ее ты должен собственной кровью. Имея в виду свой роман «Смерть героя», он подчеркивал: «Я описывал в этой книге только то, что наблюдал в жизни, говорил только то, что безусловно считаю правдой, и у меня не было ни малейшего намерения тешить чье-либо нечистое воображение. Для этого моя тема слишком трагична». Слова писателя как нельзя лучше подходят и к ремарковскому роману «На Западном фронте без перемен». Произведение сразу же приобрело огромную популярность. Д.В. Затонский совершенно справедливо констатировал: «…«На Западном фронте без перемен» – первая, по сути, книга Ремарка, написанная не очень умелой рукой, – оказалась его величайшим успехом, неожиданным, невиданным, небывалым, успехом, которого он никогда более не достигал, к которому даже никогда более не приближался» (2, 313). Сошлемся на цифры: только в Германии и только в первый год после опубликования тираж романа составил более миллиона, а вместе с переводами в разных странах – около пяти миллионов экземпляров. Автор мгновенно сделался знаменитостью. В 1930 г. роман был экранизирован («Западный фронт, 1918», режиссер Г.В. Папст).
Сюжет романа – это цепь смертей солдат одного отделения, в том числе семи юношей-одноклассников. Произведение (несомненно, во многом автобиографичное) воспринимается как художественное обобщение трагической судьбы целого поколения. Роман предваряется знаменательными словами: «Эта книга не является ни обвинением, ни исповедью. Это только попытка рассказать о поколении, которое погубила война, о тех, кто стал ее жертвой, даже если спасся от снарядов». Тем не менее роман прочитывается и как исповедь, и как, прежде всего, обвинение, бескомпромиссное разоблачение противоестественной, античеловеческой сущности войны.
Герой книги – массовый, собирательный, и все же самая рельефная фигура – девятнадцатилетний Пауль Боймер, вчерашний школьник, а сегодня солдат, один из тех, кто еще не успел узнать жизнь во всей ее полноте. Именно Пауль Боймер наиболее близок автору: как и сам Ремарк, его герой оказался на войне добровольно и прямо с гимназической скамьи; был, как и писатель, ранен; тоже мечтал о литературном поприще; наконец, совершенно неслучайно имя героя (Пауль) совпадает с настоящим именем автора – Эрих Пауль Ремарк.
От лица Пауля Боймера ведется повествование в романе, сквозь призму сознания Пауля читатель воспринимает окопное существование, оценивает характеры и поведение других персонажей, вместе с Паулем и его друзьями радуется их маленьким житейским радостям, сочувствует страданиям солдат. Герой – одновременно и весьма конкретная личность, и тип солдата Первой мировой, недаром так часто в своем рассказе он переходит от «я» к «мы», то и дело начинает говорить от имени поколения, лишенного юности, осужденного (даже если кому-то посчастливится выжить) на душевный разлад, неизбывную печаль, нравственную и физическую боль: «Железная молодежь! Молодежь! Каждому из нас не больше двадцати лет. Но разве мы молоды? Разве мы молодежь? Это было давно. Сейчас мы старики».
На примере Пауля Боймера и его товарищей Э.М. Ремарк показывает, как суровая необходимость вынуждает человека руководствоваться исключительно практическими соображениями. Это происходит, например, с солдатом Мюллером: его гимназический и фронтовой друг Кеммерих умирает, а мысли Мюллера целиком заняты добротными ботинками последнего, и вовсе не потому, что Мюллер равнодушен к судьбе товарища. «Для него это просто разные вещи. Если бы ботинки могли еще принести Кеммериху хоть какую-нибудь пользу, Мюллер предпочел бы ходить босиком по колючей проволоке…» Более того, под страхом смерти самые участливые и отзывчивые в мирной жизни люди превращаются на поле боя в «опасных зверей». «Мы не сражаемся, мы спасаем себя от уничтожения… мы бежим, подхваченные этой неудержимо увлекающей нас волной, которая делает нас жестокими, превращает нас в бандитов, убийц, я сказал бы – в дьяволов…»
Однако даже война не в состоянии истребить в человеке человеческое – тоску о доме, сердечную теплоту, нежность к родным, к женщине и, наконец, фронтовое товарищество. Испытанное на прочность под пулями и снарядами, оно оказывается сильнее всех других привязанностей. Одержимые желанием выжить, Пауль Боймер и его друзья тем не менее рискуют собой ради спасения друг друга. Вот на поиски Пауля отправляются под взрывами снарядов его товарищи; Пауль неожиданно слышит их голоса, и безграничная благодарность переполняет его сердце: «Они для меня дороже моей спасенной жизни, эти голоса, дороже материнской ласки и сильнее, чем любой страх, они – самая крепкая и надежная на свете защита, – ведь это голоса моих товарищей». Тяжело раненный Пауль прилагает неимоверные усилия ради спасения Ката: не подозревая, что шальной осколок достиг своей цели и довершил смертельное дело, он из последних сил тащит на себе уже мертвого друга. Таких примеров самоотречения, жертвенности немало в произведении. Пауль убежден, что фронтовое товарищество – «единственно хорошее, что породила война». В сущности, роман Э.М. Ремарка – гимн фронтовой дружбе, показанной чрезвычайно проникновенно и трогательно.
Доброта Боймера, солидарность с себе подобными, с обычными людьми, по воле обстоятельств оказавшимися «по ту сторону», засвидетельствован, в частности, в эпизоде с русскими военнопленными; оторванные от привычного крестьянского труда и брошенные в жерло непонятной и чудовищной войны, изнемогшие от голода, они вызывают у Пауля искреннее сочувствие. Особенно же сильное впечатление производит эпизод, когда Боймер, сам того не желая, убивает французского солдата, рабочего-печатника, ибо война не дает ему иного выбора: «Товарищ, я не хотел убивать тебя… Теперь только я вижу, что ты такой же человек, как и я. Я помнил только о том, что у тебя есть оружие: гранаты, штык; теперь же я смотрю на твое лицо, думаю о твоей жене и вижу то общее, что есть у нас обоих. Прости меня, товарищ! Мы всегда слишком поздно прозреваем… Если бы мы бросили наше оружие и сняли наши солдатские куртки, ты бы мог быть мне братом…»
До подлинного прозрения, до «ясности» героев французского писателя Анри Барбюса, автора знаменитых произведений «Огонь» и «Ясность», Паулю Боймеру и его товарищам еще далеко. И все же очень важно, что появляются хотя бы первые проблески понимания того, кто виноват в развязывании войны.
Существенное внимание в литературе «потерянного поколения» уделено исключительно важной роли школы и учителя в формировании взглядов молодых людей, в милитаризации и шовинизации общественных настроений. Тема школы вообще одна из магистральных в немецкой литературе. В изображении Э.М. Ремарка школа предстает как, в буквальном смысле, преддверие казармы с ее издевательствами над новобранцами, унижением человеческого достоинства, физической и моральной тиранией. Показательны в этом отношении образы учителя Канторека и фельдфебеля Химмель-штоса: милитаристская муштра последнего по сути своей – продолжение поведения первого в стенах гимназии. (Кстати, образ Хим-мельштоса при всей его гротесковости имел реального прототипа. Ремарк, в частности, писал по этому поводу: «Я достаточно долго был на фронте, чтобы все пережить самому. Химмельштос настолько мало является порождением моей фантазии, что я даже получил от друзей многочисленные письма с упреками в том, что я опустил самые омерзительные из его «героических свершений»».) Это Канторек и подобные ему «воспитатели» содействовали превращению юношей в пушечное мясо, вместо того чтобы, по мысли Пауля, «помочь нам, восемнадцатилетним, войти в пору зрелости, в мир труда, долга, культуры и прогресса, стать посредниками между нами и нашим будущим… Признавая их авторитет, мы мысленно связывали с этим понятием знание жизни и дальновидность. Но как только мы увидели первого убитого, это убеждение развеялось в прах… Первый же артиллерийский обстрел раскрыл перед нами наше заблуждение, и под этим огнем рухнуло то мировоззрение, которое они нам прививали». Постепенно тема школы перерастает в тему «отцов и детей», первые из которых обманывают вторых, навязывают молодежи свои фетиши, заставляют гибнуть, что называется, на заре жизни. Как гибнет в один из октябрьских дней 1918 г., незадолго до конца войны, последний из семи одноклассников – солдат Пауль Боймер. Выражение лица найденного убитого было таким, «словно он был даже доволен тем, что все кончилось именно так».
Основные составляющие поэтики романа – объективизм, эмоциональная сдержанность, динамизм батальных сцен, эффект присутствия как результат многоголосия (взрывы снарядов, свист пуль сливаются со стонами и криками раненых людей и животных). Особого мастерства автор достигает в изображении фронтовой повседневности; кажется, никакое, даже самое изощренное воображение не в состоянии создать такие чудовищные картины фронтового ада с парализованными от страха людьми, кровью, разбросанными по земле и повисшими на деревьях останками человеческих тел. Немецкий литературовед Г. Кестен имел все основания заметить: «Миллионы людей, никогда не бывших на фронте, в концлагере или в изгнании, …читая Ремарка, как будто все видели собственными глазами» (3, 100).
Натурализм у Ремарка – органичная часть художественной структуры романа – обусловлен желанием автора донести до читателя всю правду о мировой трагедии. Но стилевая палитра произведения не исчерпывается натурализмом; нередко натуралистическая деталь чередуется с глубоким лиризмом. Иногда повествование строится по принципу контраста: воспоминания о мирной жизни, мгновения затишья между боями, глубоко затаенные мечты о возможном будущем окрашены в яркие цвета (белые облака в голубом небе, пылающие маки), а в описаниях казарменного быта, фронта, госпиталей преобладают пепельные, грязно-серые оттенки (серые лица, серая земля, «серая смерть»).
Встречаются ситуации и детали, абсурдно-неожиданным образом соединяющие в себе жизнь и смерть и в известном смысле достойные кисти великого сюрреалиста Сальвадора Дали: «Бабочки отдыхают на зубах черепа». Особенно же впечатляют поистине импрессионистские пейзажи Ремарка, тем более трогательные, что эта «игра прозрачных теней и тончайших оттенков света» вкраплена в описания смертельно опасной для человека действительности, настоящей преисподней, порожденной самими же людьми: «Но самое красивое здесь – это рощи с их березовыми опушками. Они поминутно меняют свои краски. Только что стволы сияли самой яркой белизной, осененные воздушной, легкой как шелк, словно нарисованной пастелью, зеленью листвы; проходит еще мгновение, и все окрашивается в голубовато-опаловый цвет, который надвигается, отливая серебром, со стороны опушки и гасит зелень, а в одном месте он тут же сгущается почти до черного, – это на солнце набежала тучка. Ее тень скользит, как призрак, между разом поблекшими стволами, все дальше и дальше по просторам степи, к самому горизонту, а тем временем березы уже снова стоят, как праздничные знамена с белыми древками, и листва их пылает багрянцем и золотом». Невольно вспоминаются полотна французских художников-импрессионистов Клода Моне, Альфреда Сислея, Камиля Писсаро, «светоносная» поэзия Поля Верлена…
Эрих Мария Ремарк – настоящий психолог. Переживания его персонажей отличаются разнообразными нюансами: внешняя грубость героев как своеобразная защитная реакция сопровождается душевной неустойчивостью, бесконечная усталость от ожидания неминуемого и безжалостного конца – несмелыми надеждами на то, что «жизнь проложит себе путь».
Язык романа – образный и сочный, однако временами своей нарочитой суховатостью и лаконизмом напоминает язык делового отчета. Исследователи справедливо говорят, что местами возникает ощущение, будто читаешь нечто вроде летописи или репортаж с места событий. В самом романе повествователь однажды заметит: «Над нами тяготеет проклятие – культ фактов». Недаром за стилем Э.М. Ремарка и близких к нему по своей художественной манере писателей в немецком литературоведении прочно закрепилось определение «Hartstil» (жесткий стиль). Убедительность, обычно в такой степени свойственная документальной прозе, достигнута Ремарком за счет точности деталей, использования конкретных названий и т. п. Все это дает основания утверждать, что автор романа «На Западном фронте без перемен» продолжил традиции таких всемирно известных писателей, как Стендаль с его «Пармской обителью», Лев Толстой с его знаменитой эпопеей «Война и мир».
В свою очередь, тематика и поэтика литературы о Первой мировой войне, включая произведения Э.М. Ремарка и названных выше других художников слова, а также цикл романов немецкого прозаика Арнольда Цвейга «Большая война белых людей» (1927–1957), повесть белорусского писателя Максима Горецкого «На империалистической войне» (1925), романы Михаила Шолохова «Тихий Дон» (1928–1940) и француза Луи Фердинанда Селина «Путешествие на край ночи» (1932), нашли продолжение в книгах, посвященных событиям Второй мировой войны, и в первую очередь – в произведениях западногерманских писателей так называемого убитого поколения, или, иначе, «поколения руин», «поколения вернувшихся», «поверженного поколения» (Вольфганг Борхерт, Ганс Вернер Рихтер, Генрих Бёлль и др.).
Роман «На Западном фронте без перемен» вышел из печати, когда в Германии уже набирали силу фашистские тенденции и, соответственно, все шире распространялась милитаристская литература. Если авторы последней стремились воодушевить, увлечь фронтом молодое поколение, снова ввести его в заблуждение посредством идеализации войны, романтизации солдатской смерти «на посту», то книга Ремарка была предупреждением о последствиях очередного преступления против человечества, воспринималась и воспринимается до сих пор как суровый приговор агрессорам.
Источники
1. Сучков Б. Действенность искусства. М., 1978.
2. Затонский Д.В. Эрих Мария Ремарк, или Двадцать лет спустя // Д.В. Затонский. Художественные ориентиры XX века. М., 1988.
3. Kesten H. Gedenkwort für Erich Maria Remarque // Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung. Darmstadt, 1970–1971.
Лион Фейхтвангер
«Я познал… много горя и радости, большие успехи и тяжелые поражения, я пережил преследования гитлеровских лет, изгнание, сожжение и бойкот моих книг в некоторых странах, вторую мировую войну, концентрационный лагерь и авантюрный побег, каверзы бюрократии…», – говорил о себе в книге «Дом Дездемоны, или Величие и границы исторического сочинительства» (незаверш., опубл. 1961) знаменитый немецкий писатель Лион Фейхтвангер (1884–1958). Его перу принадлежат: трилогия «Зал ожидания» («Успех», 1930; «Семья Опперман», 1933; «Изгнание», 1939), исторические романы «Безобразная герцогиня» (1923), «Еврей Зюсс» (1925), «Иудейская война» (1925), «Лже-Нерон» (1936), «Лисы в винограднике» (1947), «Гойя, или Тяжкий путь познания» (1952), «Мудрость чудака, или Смерть и преображение Жан-Жака Руссо» (1952), «Испанская баллада» (1955) и др., а также пьесы, литературно-критические и публицистические статьи, очерки, эссе. Из-под пера Фейхтвангера вышла и книга «Москва 1937», написанная под впечатлением от пребывания в Советском Союзе в декабре 1936 – феврале 1937 г.
Эмиграция привела Фейхтвангера сначала во Францию, затем – в США. Именно в Америке Фейхтвангер написал, наряду с другими книгами, одно из лучших своих произведений – роман-памфлет «Братья Лаутензак» (1943). Впервые он вышел в переводе на английский язык и назывался строкой из шекспировского «Макбета» («Double, double, toil and trouble»), но уже в первом издании на немецком языке, осуществленном в 1944 г. в Лондоне, он получил название «Братья Лаутензак».
По собственным словам Л. Фейхтвангера, все свои романы он писал «в защиту разума, против мракобесия и насилия». К «Братьям Лаутензак» эти слова относятся едва ли не в первую очередь. Многие авторы до и после Фейхтвангера исследовали фашизм в самых разных его параметрах – социальном, политическом, историческом, экономическом; автор же «Братьев Лаутензак» анализирует прежде всего психологическую природу фашизма, его проявления в сфере, которую принято называть духовной, раскрывает нацистские методы овладения человеческой психикой – от апелляции к подсознанию, индивидуальному и коллективному, от гипноза и телепатии до циничного обмана и пропаганды. Одним из первых – и еще задолго до создания «Братьев Лаутензак» – Фейхтвангер понял, что восприятие и истолкование фашизма как исключительно политического феномена является слишком упрощенным, а от поверхностного его объяснения недалеко и до рецидивов в будущем. Кроме того, без учета воздействия фашизма на человеческую психику невозможно было бы уяснить, каким образом он сумел породить фанатизм такого масштаба, такое количество – не сотни и даже не тысячи, а миллионы – своих сторонников.
Писатель показывает сосуществование в человеческом сознании светлого и темного, разумного и варварского, рационального и иррационального, подчеркивая, что манипуляциям именно со сферой иррационального нацисты придавали огромное значение. Какой размах мракобесие приобрело в Германии и некоторых других европейских странах, свидетельствуют, в частности, воспоминания австрийского писателя Стефана Цвейга о том, что все не контролируемое разумом – оккультизм, теософия, спиритизм, антропософия, хиромантия, графология – переживало тогда «золотое время». Иррационализм стал поистине своеобразным символом, эмблемой времени.
Последствия фашистского насилия над человеческим сознанием были чудовищно-трагическими, что и показано детальнейшим образом в романе «Братья Лаутензак». Действие романа приходится на первую половину 1930-х годов; исторический фон, на котором оно разворачивается, представляет собой цепь печально известных событий, приведших в конце концов к победе нацистов во главе с Гитлером. Одно из самых зловещих событий – поджог рейхстага, имевший целью «инсценировать государственный переворот слева» и дать возможность нацистам «истребовать чрезвычайных полномочий для его подавления», в действительности же – раз и навсегда расправиться с законностью, утвердить свою безграничную власть, «новый порядок».
Как порождения мрачного времени воспринимаются главные персонажи романа – братья Ганс и Оскар Лаутензак; их головокружительная карьера и составляет сюжетную основу произведения. Младший, Ганс, из преступника, героя процесса о шантаже, мародера и убийцы превращается во влиятельную фигуру среди нацистов, которых полностью устраивают его неразборчивость в средствах и готовность беспрекословно выполнять все предписания «партии», оказывать ей любые, самые гнусные услуги. Его старший брат Оскар (прототипом для него послужил прорицатель и астролог Эрик-Ян Хануссен, настоящее имя которого – Гершель Штайншнайдер) становится «главным советчиком» Гитлера.
Свое «искусство ясновиденья» Оскар начал демонстрировать еще во время Первой мировой войны: он предложил Алоизу Пранеру (ныне – фокуснику по прозвищу Калиостро и лучшему другу, а тогда – почтовому цензору, который по роду своей службы ранее других узнавал обо всех событиях в тылу и в семьях сослуживцев) задерживать письма, чтобы иметь возможность, зная их содержание, тем временем «предсказывать» новости адресатам. Однако с окончанием войны и инфляции интерес обывателей к «искусству» Оскара упал; приходилось выступать уже не в престижных салонах, а в варьете и даже на ярмарках и в балаганах.
Сотрудничество с нацистами открывает перед Оскаром соблазнительную перспективу славы и богатства. «Теперешние берлинцы и слышать не хотят никаких ученых разглагольствований, они знать не желают ни логики, ни иных мудрствований. Подавай им непостижимое, подавай чудо… Сегодняшний Берлин и ты – вы подходите друг другу, как перчатка к руке», – уверяет брата Ганс. Фейхтвангер убедительно показывает, что карьера Оскара Лаутензака, знатока «германской мистики», совсем не случайно совпала с триумфом Гитлера и его идеей «тысячелетнего рейха». Так же закономерен и конец Оскара, раздавленного нацистской машиной, той самой, движению которой он содействовал своими «экспериментами»: нацизм – это не только заразная, но и смертельная «болезнь духа».
Роман Фейхтвангера «Братья Лаутензак», как и другие его произведения, книга густонаселенная; при этом не только главные персонажи (хотя они прежде всего) психологически разработаны, поданы, условно говоря, в достаточно разных красках. Тому же Оскару, «маленькому и очень ограниченному отклонению от нормы», плуту и шарлатану, нельзя отказать в умении разбираться в психологии людей, угадывать их слабые или больные места и наклонности, что в соединении с обыкновенным жульничеством и определенными навыками позволяло ему быть «ловцом человеков»; его карабкание по лестнице успеха – это путь ко все большему одиночеству, в пустоту, заполнить которую не могут никакие блага и связи. Пластичны и другие образы, в том числе, как и братья Лаутензак, безусловно отрицательные: проворные циники, умные и хитрые дельцы от политики Манфред Проэль и граф Цинздорф (имевшие, как известно, прототипами соответственно начальника штаба штурмовых отрядов Эрнста Рема и полицайпрезидента Берлина Вольфа Генриха фон Хельдорфа) и др.
Не впервые обратился Фейхтвангер к личности Гитлера; правда, в романе «Успех» он был изображен под именем Рупперта Кутцнера, маньяка и политического шарлатана, фюрера партии «настоящих немцев». В «Братьях Лаутензак» Гитлер действует под своим собственным именем; концептуально важную функцию выполняет в романе подчеркнутая параллель между Оскаром и Гитлером. (Здесь, несомненно, сказалась творчески переосмысленная традиция Генриха Манна с его «Верноподданным», в структуре изобразительно-выразительных средств которого мотив двойничества главного героя Дидериха Геслинга и кайзера Вильгельма II является одним из основных.) Сходство Оскара и Гитлера бросается в глаза едва ли не всем, кто так или иначе сталкивается с тем и другим: актеру Карлу Бишофу, дававшему в свое время уроки театрального искусства и Гитлеру, и Оскару; Гансу, убежденному, что его брат и фюрер обладают одной и той же «удивительной способностью», и другим. Как и Гитлер, Оскар происходил из баварско-богемской местности; так же, как и фюреру, Оскару трудно говорить на литературном немецком языке; как и Гитлер, Оскар когда-то оставил школу, надеясь не на знания, а на интуицию. «Оскар любил этого человека… он чувствовал его глубже. Им обоим даровано было «видение», способность проникать в чужие души. И это делало их единым существом – человека на трибуне и человека в зале. Гитлер говорил, а Оскар слушал его, или, может быть, наоборот: слушал Гитлер, а говорил Оскар?» Аналогия эта должна быть прочитана, осмыслена до конца: посредством мотива двойничества приземляются, развенчиваются, обретают пугающе-фарсовый оттенок «миссия», облик и поведение обоих «магов»; более того, смерть «волшебника» и «ясновидца» Оскара воспринимается как пророчество в отношении скорого и бесславного конца фюрера.
Художественная система произведения, как всегда у Фейхтвангера, сложна и разнообразна, насыщена историческими и культурными реминисценциями и аллюзиями (одна из многих проблем, поднятых в романе, – проблема нацификации гитлеровцами немецкого духовного наследия – философии, литературы, музыки, фольклора), символами, многие из которых становятся лейтмотивами, пронизывая весь роман. Это бронзовая маска Оскара, в которой скульптор Анна Тиршенройт воплотила свою надежду на его духовную эволюцию, веру в его «творческую искру»; северное, «поистине арийское» полное имя Ганса – Гансйорг; «звериные», «волчьи» его глаза; руки Оскара – белые, мясистые, грубые руки насильника, и др. Лейтмотивом становится и библейский стих (как, кстати говоря, и в романе Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея») – пожалуй, ключевая фраза в произведении: «Что пользы человеку приобрести весь мир, если при этом теряешь собственную душу?»
В июне 1935 г., выступая на Парижском международном конгрессе писателей в защиту культуры с речью «О смысле и бессмыслице исторического романа», Фейхтвангер, в частности, говорил: «Я писал и современные романы и исторические. И могу по совести заявить, что всегда стремился вложить в мои исторические романы точно такое же содержание, как и в современные»; «…единственное, к чему стремится художник, это выразить собственное (современное) мироощущение и создать такую субъективную (а вовсе не ретроспективную) картину мира, которая сможет непосредственно воздействовать на читателя. Если при этом он предпочел исторические одежды, то лишь потому, что ему хотелось поднять изображаемую картину над сферой личного, частного, возвысить над окружающим, поставить на подмостки, показать в перспективе». Очевидно, для Фейхтвангера не только события прошлого сохраняли актуальность, но и современные имели исторический смысл и, таким образом, уже на этапе осуществления должны были служить предостережением, уроком. Именно как предупреждение и воспринимается сегодня антифашистский, антитоталитаристский роман Лиона Фейхтвангера «Братья Лаутензак».
Стефан Цвейг
Классик немецкой литературы Томас Манн в свое время писал о Стефане Цвейге (1881–1942): «Его литературная слава проникла в отдаленнейшие уголки земли. Удивительный случай, учитывая небольшую популярность немецких авторов в сравнении с французскими и английскими. Может быть, со времен Эразма (о котором он поведал столь блестяще) ни один писатель не был так знаменит, как Стефан Цвейг». Особенно популярен, и не только среди немецкоязычных читателей, Цвейг был в 20—30-е годы XX в. Максим Горький, например, в 1926 г. писал: «Цвейг – замечательный художник и очень талантливый мыслитель».
Родился Стефан Цвейг 28 ноября 1881 г. в Вене в семье фабриканта, дела которого шли совсем неплохо, и семья могла себе позволить жить, что называется, в ногу со временем. И родители и дети были частыми посетителями театров и художественных выставок, участниками музыкальных вечеров, встреч с европейскими знаменитостями. После учебы в гимназии Стефан продолжает образование на филологическом факультете Венского университета, затем становится слушателем университета в Берлине. Жизнь Цвейга насыщена событиями – знакомствами и дружбой с интереснейшими, замечательными людьми, путешествиями по Америке, Азии, Африке, не говоря о Европе, которую он изъездил, кажется, вдоль и поперек. В 1928 г. в связи с торжествами, посвященными столетнему юбилею Льва Толстого, он побывал в Советском Союзе. Кстати, именно Льва Толстого и Федора Достоевского, а также бельгийского писателя Эмиля Верхарна (благодаря содействию которого Цвейг вошел в европейские литературные круги) и французского – Ромена Роллана он считал своими литературными наставниками.
Владея несколькими языками, Цвейг переводит на немецкий своих любимых авторов, прежде всего франкоязычных (Поля Верлена и Эмиля Верхарна, их предшественника Шарля Бодлера, своего «духовного брата» Ромена Роллана и др.). Пробует он и собственные силы в литературе: в 1898 г. один из берлинских журналов печатает его первое стихотворение, за которым в немецких и австрийских изданиях последовали новые. Итог начальному периоду своего творчества Цвейг подвел в 1901 г. (хотя писать стихи он продолжит и далее), опубликовав поэтический сборник «Серебряные струны».
В литературе Австрии в это время, помимо реализма, получили развитие различные нереалистические направления (символизм, импрессионизм, эстетизм), сторонники которых искали новые средства художественного воплощения действительности. Отразились эти поиски и на поэзии Цвейга. О сборнике «Серебряные струны» с похвалой отозвался Райнер Мария Рильке, некоторые стихотворения из книги были положены на музыку. И все же самое веское слово Цвейг скажет в прозе. Своего рода точкой отсчета стал для Цвейга-прозаика 1904 год, когда вышла из печати книга его новелл «Любовь Эрики Эвальд».
На рубеже XIX–XX вв. стало достаточно типичным явлением стремление творческой интеллигенции к объединению. Не столько австрийцем, сколько «европейцем», «гражданином мира» ощущал себя и Стефан Цвейг. Название одной из лучших своих книг мемуаров – «Вчерашний мир» – он не случайно сопроводил подзаголовком «Воспоминания европейца». Да и сама Австро-Венгрия, «гротескная» императорско-королевская монархия, в которой прошли детство и юность будущего писателя, была, по выражению его соотечественника, прозаика Роберта Музиля, своеобразной «моделью многоязычной и многоликой Европы». В одной из своих ранних заметок Цвейг делает весьма показательное замечание: «Многие из нас (а о себе самом могу сказать это с полной определенностью) никогда не понимали, что это значит, когда нас именуют «австрийскими писателями»». О Стефане Цвейге – разумеется, в определенном смысле – можно сказать словами из его же «Летней новеллы», адресованными главному герою этого произведения: «…он – в высоком смысле – не знал родины, как не знают ее все рыцари и пираты красоты».
Это отнюдь не исключало обращения художника к сюжетам из жизни Австрии, ностальгии по Вене, где бы Цвейг ни находился. В конце 1920-х годов он, в частности, скажет: «…старый citoyen du monde (гражданин вселенной) начинает мерзнуть в когда-то столь любимой беспредельности и даже сентиментально тосковать по родине». Еще более ощутимыми становятся его тоска, отчаяние и горечь через десятилетие, когда над Европой нависла фашистская ночь. «Литературный труд мой на том языке, на котором я писал его, обращен в пепел именно в той стране, где миллионы читателей сделали мои книги своими друзьями. Таким образом, я не принадлежу более никому, я повсюду чужой, в лучшем случае гость; и большая моя родина – Европа – потеряна для меня с тех пор, как уже вторично она оказалась раздираема на части братоубийственной войной. Против своей воли я стал свидетелем ужасающего поражения разума и дичайшего за всю историю триумфа жестокости; никогда еще… ни одно поколение не претерпевало такого морального падения с такой духовной высоты, как наше», – пишет Стефан Цвейг в книге «Вчерашний мир».
Убежденный противник всякой войны, он поддерживал любое антивоенное и антифашистское выступление, откуда и от кого бы оно ни исходило и какой бы характер ни имело – художественный или публицистический. О своем неприятии фашизма Цвейг говорил и накануне Второй мировой войны, и позже, когда оказался в эмиграции – в далекой Бразилии.
Судьба Цвейга во всех отношениях не была безоблачной. Он пережил немало личных драм и разочарований, изведал не только благодарность и восхищение читателей, но и периоды забвения. Не способствовали оптимистическому взгляду на будущее и исторические катастрофы, которыми время жизни Цвейга поистине было насыщено. В уже цитированном «Вчерашнем мире» он напишет: «Для нас… возврата не было, ничего не оставалось от прежнего, ничто не возвращалось; нам выпала такая доля: испить полной чашей то, что история обычно отпускает по глотку той или другой стране в тот или иной период. Во всяком случае, одно поколение переживало революцию, другое – путч, третье – войну, четвертое – голод, пятое – инфляцию, а некоторые благословенные страны, благословенные поколения и вообще не знали ничего этого. Мы же… чего мы только не видели, не выстрадали, чего не пережили! Мы пролистали каталог всех мыслимых катастроф, от корки до корки, – и все еще не дошли до последней страницы… Все бледные кони Апокалипсиса пронеслись сквозь мою жизнь…»
Постепенно усиливалась депрессия; очень болезненно воспринимались писателем известия об оккупации фашистами все новых территорий. 22 февраля 1942 г. Стефан Цвейг пишет свою прощальную «Декларацию»: «Мир моего родного языка погиб для меня, и моя духовная родина, Европа, уничтожила самое себя… Когда тебе за шестьдесят, нужны необыкновенные силы, чтобы все начать заново. Мои же силы исчерпаны… Я приветствую всех моих друзей. Возможно, они увидят зарю после долгой ночи. Я же, самый нетерпеливый, ухожу раньше их». 23 февраля в отеле Петрополиса, пригорода Рио-де-Жанейро, Цвейг и его жена Лота покончили жизнь самоубийством. Известный австрийский писатель Франц Верфель, кажется, точнее других определил причины добровольного ухода из жизни своего великого соотечественника: «Установившийся порядок вещей казался ему защищенным и огражденным системой тысячи гарантий… Ему были ведомы и бездны жизни, он приближался к ним как художник и психолог. Но над ним сияло безоблачное небо его юности, которому он поклонялся, небо литературы, искусства… Очевидно, помрачение этого духовного неба было для Цвейга потрясением, которое он не смог перенести…»
Творческое наследие Цвейга чрезвычайно разнообразно в жанровом отношении: кроме стихотворений и поэм, он оставил очерки, эссе, путевые заметки, репортажи. Глубокое представление о культурной и общественной жизни Европы первых четырех десятилетий XX в. дают посмертно опубликованные книги Цвейга «Время и мир» (1943), «Вчерашний мир: Воспоминания европейца» (1944), «Европейское наследие» (1960). Перу писателя принадлежат романы «Нетерпение сердца» (1939) и «Кристина Хофленер» (незавершенный, опубл. в 1982 г.). Проявлением любви к стране, в которой он, эмигрант, нашел гостеприимное прибежище, стала его книга «Бразилия – страна будущего» (1941).
Широкую известность приобрел также цикл исторических миниатюр Цвейга «Звездные часы человечества» (1927–1936), главные герои которых – не самые большие знаменитости в хрестоматийном понимании слова: прокладчик межконтинентального телеграфного кабеля Сайрус Филд («Первое слово из-за океана»), авантюрист-первопроходчик Иоганн Август Зуттер, чье намерение превратить долину Сакраменто в цветущий край привело в конце концов к знаменитой «золотой лихорадке» («Открытие Эльдорадо»), мужественный и благородный покоритель Южного полюса капитан Скотт («Борьба за Южный полюс») и др. При этом о чем бы ни шла речь – о рискованных приключениях или драматических обстоятельствах жизни, о почти всегда трагических финалах людских судеб – в повествовании, наряду с иронией, неизменно присутствуют своеобразная поэзия и глубокое авторское сопереживание.
Казалось бы, круг изобретений и подвигов, привлекших внимание писателя, мог быть иным, более современным. Например, на фоне внедрения в различные сферы человеческой жизнедеятельности масштабнейших научных открытий XX в. Стефан Цвейг обращается к техническому достижению середины XIX столетия – прокладке телеграфного кабеля между Америкой и Европой, результатами которого человечество продолжало пользоваться, уже, кажется, и не вспоминая, кому принадлежала заслуга осуществления проекта. Цвейг же в этой истории усмотрел материализованное стремление людей к единению, которое было, как известно, золотой мечтой австрийского художника – «европейца», «гражданина мира», представлявшего будущее как «грандиозный мировой союз», возросший на ниве «единого человеческого сознания».
Внимание к таким, на первый взгляд, негромким историческим событиям и именам можно, однако, объяснить не только дидактическими соображениями писателя. Характерно, что в миниатюрах мы обнаружим не одни лишь мгновения триумфа, но и мгновения трагические, часы, которые могли бы стать, но не стали звездными. В этой связи есть смысл привести высказывание Стефана Цвейга из книги «Вчерашний мир» об одной из своих ранних драм – «Терсит»: «… в этой драме сказалась уже определенная черта моего душевного склада – никогда не принимать сторону так называемых «героев» и всегда находить трагическое только в побежденном. Поверженный судьбой – вот кто привлекает меня…»
С учетом этих моментов значительно более понятным становится и смысл отдельных миниатюр из «Звездных часов человечества», в том числе миниатюры «Гений одной ночи». В сущности, и в ней писатель исследует свой постоянный объект, «беспредельный мир – глубину человека», причем как в типичном для его персонажей «горячем состоянии», так и в ином, уравновешенном, буднично-спокойном. Произведение имеет подзаголовок, содержащий указания на историческое событие, ставшее своего рода центром тяжести в рассказе, и на его точное время: «Марсельеза. 25 апреля 1792».
Главный персонаж Цвейга – молодой человек, капитан фортификационного корпуса Руже де Лиль. Исподволь, оставаясь верным своей новеллистической технике, автор ведет героя к кульминации его судьбы. Вот, кажется, мы физически ощущаем грозовую атмосферу, которая бесконечно долго царит в Париже, во всей стране, пока, наконец, Людовик XVI не объявил войну против австрийского императора и прусского короля. Мы становимся свидетелями всеобщего воодушевления, охватившего город Страсбург; правда, среди громких призывов и пламенных лозунгов слышны и голоса неудовольствия перспективой тяжелых военных испытаний. И вот прощальный вечер для уходящих на фронт генералов и офицеров. Кажется, совершенно случайно взгляд читателя падает на «не то чтобы красивого, но симпатичного офицера», к которому мэр Страсбурга барон Дитрих не слишком уважительно обращается с вопросом, не попробует ли тот написать для Рейнской армии «что-нибудь строевое». Руже, «скромный, незначительный человек», даже втайне не мнит себя великим поэтом и композитором, его произведения никому не нужны, но стихи «по случаю» ему даются легко – так почему бы не попытаться угодить высокому лицу? «Да, он хочет попробовать».
Зато куда девается авторская ирония, когда, наконец, настает тот самый звездный час и Руже поднимается, взмывает над своей обыкновенностью, над повседневностью – к сакральным высотам, на одну-единственную ночь встает вровень с «бессмертными». Экзальтация, вдохновение вырывают «убогого дилетанта» из его будничного, серого существования и, как ракету, возносят к небесам, «к звездам». Рождается необыкновенной силы произведение, «светлое чудо», бессмертная песня, которой с этого времени суждена особая, собственная судьба и которую ожидают непредсказуемые приключения. Впервые прозвучавшая в провинциальной гостиной между арией и романсом, она вырывается на простор, неисповедимыми путями достигает Марселя, становится походным маршем, зовом к победе, национальным гимном всего народа.
Разве не ради такого звездного часа и живет человек? Пусть вслед за этим он вернется в свою обычную незначительность, пусть умрет в нем творец, поэт, гений, но он изведал высокое счастье творчества, счастье победы! Именно такие взлеты духа всегда привлекали Цвейга-писателя. «В жизни человека, – пишет он в книге «Мария Стюарт», – внешнее и внутреннее время лишь условно совпадают; единственно полнота переживаний служит мерилом душе… в опьянении чувством, блаженно свободная от пут и оплодотворенная судьбой, она может в кратчайший срок узнать жизнь во всей полноте, чтобы потом, в своей отрешенности от страсти, снова впасть в пустоту бесконечных лет, скользящих теней, глухого Ничто. Вот почему в прожитой жизни идут в счет лишь напряженные, волнующие мгновения, вот почему единственно в них и через них поддается она верному описанию. Лишь когда в человеке взыграют все душевные силы, он истинно жив для себя и для других; только когда его душа раскалена и пылает, становится он зримым образом».
Однако «созидательный огонь» (Ромен Роллан) может угаснуть, так и не сумев или не успев зажечь человеческую душу. Об этом повествует С. Цвейг в миниатюре «Невозвратимое мгновение». Событие, на этот раз привлекшее внимание писателя, – поражение наполеоновской армии в знаменитой битве при Ватерлоо; конкретная дата: 18 июня 1815 г. История наполеоновских войн, бесспорно, изобилует фактами подлинной полководческой гениальности и талантливейших стратегических решений, однако героем Цвейга становится именно посредственность. Автор не обещает читателю никаких неожиданностей и изначально называет вещи своими именами. Он пишет о том, что иногда нить судьбы оказывается в руках ничтожных людей, которым это доставляет не радость, а страх перед возложенной на них ответственностью. Стоит им упустить шанс – и это мгновение утеряно безвозвратно.
Такое мгновение судьба даровала наполеоновскому генералу Груши – «не герою и не стратегу», а всего лишь «мужественному и рассудительному командиру». Но в решающий момент этого недостаточно; звездный час требует от личности инициативы, озарения, уверенности. Нерешительность, медлительность и ограниченность Груши разрушают то, что создавалось Наполеоном в течение двадцати лет.
Наиболее же существенное место в литературном наследии Цвейга занимают биографические произведения и психологические новеллы.
Биографическому жанру писатель придавал особое значение, разрабатывая самые разные его формы – от масштабных полотен до миниатюр. К значительным биографическим произведениям Цвейга исследователи относят цикл эссе из четырех книг «Строители мира» (о Бальзаке, Диккенсе, Достоевском, Стендале, Гёльдерлине, Клейсте, Ницше, Фрейде и др.), а также романы «Жозеф Фуше» (1929), «Мария Антуанетта» (1932), «Триумф и трагедия Эразма Роттердамского» (1934), «Мария Стюарт» (1935), «Кастеллио против Кальвина, или Совесть против насилия» (1936), «Магеллан» (1938), «Бальзак» (опубл. 1946) и др. Как в исторических миниатюрах, в своей биографической прозе Цвейг рядом со знаменитостями ставит людей, чьи «высокие устремления» вызывают сомнения. Впрочем, автор и сам вполне отдавал себе отчет в том, что, к примеру, авантюрист Казанова оказался среди «творческих умов» так же незаслуженно, как Понтий Пилат в Евангелии. Все дело в том, что Цвейга привлекали прежде всего неповторимость и драматизм человеческой судьбы, наличие «движущей стихии» – страсти, на что или на кого бы она ни была направлена, таланта, даже если это талант «мистического лицедейства», как у Казановы, или гения, пусть и «демонического», как у Наполеона.
Биографические повествования Цвейга необыкновенно занимательны для такого жанра, отличаются напряженно-драматическим характером. При всей погруженности в психологию и психику персонажей, в их личную жизнь Цвейг всегда оставался автором чутким и деликатным; он любил всех своих героев – с их достоинствами и талантами, подвигами и победами, но также с недостатками, слабостями и просчетами, ибо понимал, что только в совокупности противоречий рождаются гармония и цельность. В то же время он достаточно строго придерживался фактов. В одном из последних интервью писатель утверждал, что перед лицом исторических катастроф XX в. придумывание событий и фигур кажется ему легкомысленным, «фривольным», резко противоречит требованиям времени.
Все произведения, так или иначе связанные с изображением жизни и деятельности исторических личностей, он, как известно, предлагал разделять на три условные группы: исторический роман, романизированная биография и «правдивая биография». При этом Цвейг был решительно против того, чтобы его собственные произведения об известных людях интерпретировали как исторические романы или романизированные биографии, потому что обе эти формы допускают свободное обхождение с документом, он же стремился избегать подобных вольностей. В то же время Цвейг достаточно субъективен: например, в конкретной исторической личности, в ее поведении он искал созвучия со своим настроениям, духовным устремлениям. Некоторые исследователи упрекали писателя в том, что на человека, на индивидуума он смотрит как будто сквозь стекло увеличительное, а на общество, народ – сквозь стекло уменьшительное. Важно, однако, что Цвейг не только допускал возможность параллелей между прошлым и современностью, но и сознательно эти параллели, так сказать, провоцировал, побуждая читателя извлекать уроки из истории вообще и из историй отдельных исторических лиц в частности.
К примеру, книга «Кастеллио против Кальвина, или Совесть против насилия» посвящена малоизученным страницам истории европейской культуры XVI столетия, событиям эпохи Реформации – времени чрезвычайно противоречивого, когда пристальное изучение античности, вдохновенные дискуссии, с одной стороны, сопровождались проклятиями и отлучениями от церкви, террором инквизиции, преследованием и сожжением еретиков – с другой. Безусловно, это ужасающее «вчера» проецировалось Цвейгом на не менее ужасающее фашистское «сегодня» с его фанатизмом и тоталитаризмом, физическим и идеологическим насилием.
Во введении к книге автор подчеркивал, что по своей внутренней постановке задачи, по глубинной сути исторический спор между Себастьяном Кастеллио и Иоганном Кальвином выходит далеко за пределы своей эпохи. В заключительной же главе произведения звучит непоколебимая вера писателя в то, что «все деспотии очень быстро либо стареют, либо лишаются своего внутреннего огня… лишь идея духовной свободы, идея всех идей и поэтому непобедимая, вечно возвращается, ибо она вечна, вечна как дух. Если сторонними силами на какой-то отрезок времени она и лишена слова, то тогда она скрывается в сокровенных глубинах совести, недосягаемая для любого притеснения. Напрасно поэтому думают властелины, что, опечатав свободному духу рот, они уже победили. Ведь с каждым родившимся человеком рождается новая совесть, и всегда найдется кто-нибудь, готовый выполнить свой духовный долг, вновь начать старую борьбу за неотъемлемые права человечества и человечности, вновь против каждого Кальвина встанет Кастеллио и защитит суверенную самостоятельность образа мыслей против всех насилий».
Широко известны в культурном мире психологические новеллы Цвейга. Выходили они, помимо названной выше книги «Любовь Эрики Эвальд», в такой последовательности: сборник «Первые переживания» (1911), новелла «Страх» (1920), сборник «Амок» (1922), новелла «Незримая коллекция» и сборник «Смятение чувств» (1927). Последней по времени стала антифашистская «Шахматная новелла» (1941). В 1936 г. автор дал большинству своих новелл наименование «цепи», поделенной на циклы – «звенья».
Однажды устами героя «Шахматной новеллы» Цвейг сказал, что его «страсть разгадывать психологические загадки переросла в манию». С особой силой эта страсть проявилась именно в новеллах. Несмотря на то, что каждая из его новелл имеет собственный сюжет, есть основания говорить об их бесспорном единстве – проблемном и эстетическом. Во всех (за небольшим исключением) новеллах писатель использует общие художественные приемы. Подчеркнуто спокойно и неспешно начинает он повествование о ничем не примечательных событиях и поступках ничем как будто не примечательных, «незначительных» людей (таким началом может оказаться какой-нибудь спор, знакомство или даже пейзажная зарисовка и т. п.), чтобы затем неожиданно обрушить на читателя груз невыносимых душевных страданий, вовлечь его в мир сильных чувств и драматических столкновений, затаенных переживаний, показать своих героев, женщин и мужчин, молодых и зрелых, без привычных «масок».
Страсть, или фатальное мгновение, которое переиначивает человеческое существование, неизменно притягивает писательское внимание. При этом автор не обвиняет и не оправдывает, не осуждает и не одобряет, не объясняет и не оценивает, ибо страсть – проявление стихийных чувств и эмоций, и подходить к ней с выработанными обществом условными критериями, по мнению Цвейга, так же бессмысленно, как требовать отчета у грозы или вызывать в суд вулкан. В книге «Мария Стюарт» есть слова, весьма в этом отношении примечательные: «…когда чувства достигают такой чрезмерности, было бы неумно мерить их меркою логики и разума, ибо самое существо подобных необузданных аффектов в том и состоит, что они проявляются неразумно. Страсти, как и болезни… можно лишь описывать их со все новым изумлением, содрогаясь перед извечной мощью стихий, которые как в природе, так и в человеке разражаются порой внезапными вспышками грозы. И неизбежно страсти этого высшего напряжения неподвластны воле человека, которого они поражают…»
Особенность большинства цвейговских новелл – повествование от первого лица; это повествование составляет, как правило, центральную часть произведения, сопровождается глубочайшим самоанализом рассказчика и содержит в себе раскрытие той или иной «жгучей тайны», страсти – к творчеству, игре, конкретному лицу и т. д. Чаще всего Цвейг повествует о любви. Максим Горький, подчеркивая, что любовь – одна из тех сил, которые движут человеком и миром, направляют культурное развитие общества, считал Цвейга самым лучшим художником, наделенным редчайшим даром говорить о любви проникновенно, с «удивительным милосердием к человеку». Особенно импонировали русскому писателю цвейговские образы женщин: «Не знаю художника, который умел бы писать о женщине с таким уважением и с такой нежностью к ней». Страсть в изображении Цвейга доставляет человеку неимоверные душевные страдания, осуждает на нравственные испытания. Эпиграфом ко всем новеллам Цвейга могла бы послужить строка из его же стихотворения: «Кто любит страсть, ее мученья любит».
Лучшие новеллы Цвейга – «Гувернантка», «Амок», «Письмо незнакомки», «Улица в лунном свете», «Двадцать четыре часа из жизни женщины», «Лепорелла», «Мендель-букинист», «Шахматная новелла» и др. К числу подлинных шедевров относится, бесспорно, и новелла «Незримая коллекция», опубликованная в 1927 г.
Начинается новелла с банального разговора случайных попутчиков, по воле обстоятельств оказавшихся в одном купе. Неторопливое течение краткой вступительной части неожиданно прерывается и сменяется взволнованным рассказом одного из пассажиров, историей, которая буквально перевернула душу пожилого человека, знаменитого берлинского антиквара. Одна из первых же его фраз: «За всю мою тридцатисемилетнюю деятельность мне, старому торговцу произведениями искусства, ни разу не привелось пережить ничего подобного», – заставляет сосредоточиться и с нетерпением ожидать продолжения рассказа.
Выясняется, что антикварная лавка господина Р. совершенно опустошена «новоиспеченными богачами», которые во множестве появились в Германии после Первой мировой войны, в период инфляции, «с тех пор как, подобно легким газам, стала улетучиваться ценность денег». Эти «одержимые манией приобретательства люди» начали вкладывать свои капиталы в произведения искусства и скупали все, что попадалось под руку, мгновенно воспылав «страстью к готическим мадоннам, старинным изданиям, к картинам и гравюрам старых мастеров». Рассчитывая приобрести новый товар, хозяин лавки направился в провинцию, где, согласно имеющимся у него сведениям, жил один из самых давних его клиентов, который пользовался услугами еще отца и деда нынешнего антиквара, но никогда не наведывался в лавку лично и уже давно не обращался с заказом или каким-либо запросом. Этот старик за шестьдесят лет коллекционирования должен был бы собрать немалое количество гравюр, достойных стать украшением любого известного в мире музея.
И вот происходит знакомство со старым коллекционером; как оказалось, некоторое время назад он совершенно потерял зрение и теперь, немощный и беспомощный, находит единственное утешение в своей коллекции. Ежедневно он ее просматривает, точнее – ощупывает каждый эстамп, получая невероятное наслаждение от своего богатства, ощущая такую же безмерную радость, как и раньше, когда мог его видеть. Безмерно возбужденный визитом настоящего знатока искусства, он спешит показать гостю свое сокровище, собиранием которого был одержим всю жизнь, которое стало истинной его страстью и ради которого он во всем отказывал себе и своей семье.
Слепой старик, однако, не знает, что его бесценная коллекция – смысл жизни, самое дорогое для него – давно разошлась по свету, и теперь он с любовью переворачивает, ощупывает и пересчитывает не чудеснейшие оригиналы, не произведения Рембрандта и Дюрера, а ничего не стоящие, жалкие копии или чистые листы бумаги. От его дочери Анны-Мари гость узнает о судьбе сокровища: оказавшись в безвыходном положении, не имея средств к существованию, своему и своей сестры, потерявшей на войне мужа и оставшейся с малыми детьми на руках, они с матерью, чтобы не умереть от голода, начали продавать гравюры. Старенькая Луиза с дочерью делают это втайне, не желая разрушить последнюю иллюзию отца и мужа, лишить его веры и, наконец, жизни, ибо одно только подозрение, что гравюр нет, убило бы его. Девушка умоляет гостя поддержать «спасительный обман».
Наступает время своеобразного представления. Неслыханные по остроте чувства переживают все его невольные участники: владелец лжеколлекции – блаженство и упоение, гордость и душевно-духовное просветление; посетитель – «мистический ужас» перед страстной силой внутреннего видения слепого коллекционера, уважение к нему и одновременно стыд и горечь; дочь и мать – скорбь и горячую благодарность за подаренные старику мгновения счастья.
Новелла построена таким образом, что именно скромное мужество и исключительная жертвенность женщин вызывают у читателя сочувствие и уважение даже в большей степени, нежели страсть старика-коллекционера, ибо, в отличие от него, они посвятили себя служению живому и дорогому для них человеку, спасению жизней – его и своих близких. «Может быть, мы дурно с ним поступили, но ничего другого нам не оставалось. Надо же было как-то жить… и разве человеческие жизни, разве четверо сирот не дороже картинок…» Не случайно повествователь сравнивает жену и дочь слепого старика с библейскими женщинами на гравюре немецкого мастера, самоотверженными последовательницами Христа, «которые, придя ко гробу Спасителя и увидев, что камень отвален и гроб опустел, замерли у входа в радостном экстазе перед совершившимся чудом с выражением благочестивого ужаса на лицах»; «…то была потрясающая картина, подобной мне не привелось видеть за всю свою жизнь».
Совершенная по форме, насыщенная глубоким нравственно-этическим содержанием, новелла «Незримая коллекция» читается на одном дыхании. В ней, как и во многих других произведениях Цвейга, раскрылось его искусство реалистического повествования. Важнейшие составляющие художественной палитры произведения – тонкий психологизм, точная деталь, выразительные портретные и языковые характеристики, прием контраста, необыкновенная экспрессивность, эмоциональная напряженность, безупречная по своей строгости и стройности композиция, сильный социальный подтекст, благодаря которому частная и исключительная ситуация оказывается соотнесенной с трагическим временем, судьбами общества.
«Его космос – не мир, но человек», – сказал некогда Стефан Цвейг о Достоевском; бесспорно, эти слова справедливы и в отношении самого австрийского писателя.
Творчество писателей Германии и Австрии во 2-й половине XX в
Иоганнес Бобровский
Иоганнес Бобровский (1917–1965) прошел тот же путь воспитания войной, что и все его поколение. Немецкий литературовед В. Гирнус недаром назвал цветом его творчества темно-красный. И. Бобровскому довелось не только из преданий и легенд узнать о многократно проливавшейся крови народов, которую впитала в себя земля его родного края между Вислой и Неманом. Пришло время, и Бобровский стал участником очередного «Drang nach Osten». «Я пришел в Советский Союз как солдат германской армии, – говорил Бобровский в одном из интервью. – Собственными глазами я увидел там то, что вычитал в исторических трудах, свидетельствующих о столкновениях ордена немецких рыцарей с народами Востока, о прусской военной политике…»
Встреча Бобровского с Советским Союзом пробудила в нем поэта: свои первые стихотворения он написал в 1941 г. у Ильмень-озера. Но то были, по собственным словам писателя, «стихи чужака». Понадобились годы духовного возмужания, осознания вины, лежащей на совести немецкого народа, прежде чем И. Бобровский определил задачу всей своей жизни – «рассказать соотечественникам то, о чем они не имеют никакого понятия… сделать вину зримой…»
Крах фашистского государства и его армии не был концом немецкой нации. Для того, чтобы определить дальнейший путь Германии, чтобы в сознании миллионов немцев произошел коренной перелом, надо было вскрыть причины возникновения фашизма, его истоки, корни в далеком прошлом. Одним из тех, кто взял на себя осуществление этой огромной задачи в литературе ГДР, был Иоганнес Бобровский. Его приход в литературу был очень своевременным, его тема – остро актуальной. В стихах, рассказах и романах он за короткий срок своей литературной деятельности успел показать основные пункты, на которых история сворачивала на ложный путь, приведший к установлению на немецкой земле фашистского режима.
Все творчество И. Бобровского тесно связано с темой Второй мировой войны, а его книги о далеком прошлом – это одновременно книги и о прошлом недавнем, о фашизме и войне. Но есть в творчестве писателя произведения, которые непосредственно изображают события периода фашизма и войны. Это многие стихотворения и несколько рассказов: «Пророк» («Der Mahner»), «Плясун Малиге» («Der Tänzer Malige»), «Мышиный праздник» («Mäusefest»), «Темно, мало света» («Dunkel und wenig Licht»). Появление этих рассказов в творчестве И. Бобровского закономерно: вглядываясь в прошлое, он никогда не упускал из виду собственного опыта участия в кровавой войне.
Короткие рассказы, или истории («Kurzgeschichte»), И. Бобровского единой темой вины и ответственности немцев перед народами Востока теснейшим образом связаны с его романами «Мельница Левина» («Levins Mühle», 1964) и «Литовские клавиры» («Litauische Claviere», 1966), однако, бесспорно, имеют большую самостоятельную ценность. Каждый из них имеет сложную внутреннюю структуру. Рассказы Бобровского, «подобно зеркальной поверхности, отражают горизонт его творчества: соответственность… совиновность…» (1, 153).
В рассказе «Пророк» автор несколькими точными штрихами рисует нацистскую демонстрацию – картину настолько точную, что она может служить своеобразной моделью Германии 1932 года: «И тут… вдруг что-то нарушилось, вдруг заволновались и мы, три или четыре подводы свернули в боковые улицы, остановились машины, послышались режущая слух музыка, крики команды; и тут выехали конные полицейские, а вслед за ними нацисты, целая колонна, коричневые с головы до пят, только глазам надлежало быть голубыми…»
Вплотную к теме совиновности и соответственности И. Бобровский подходит в рассказе «Мышиный праздник». Молодой солдат вермахта, находясь на оккупированной польской территории, вроде не совершает никаких видимых преступлений. На первый взгляд, он безобиден, «немец нестрашный». Но писатель апеллирует к памяти свидетелей и участников войны и к разуму тех, кто не испытал ее ужасов, но знает о войне по рассказам и до сих пор видит ее последствия. Объективно и этот немецкий солдат виновен, ибо пришел на чужую землю как захватчик. «Теперь для нас все они одинаковы» – одинаковы, потому что участвуют в преступных планах Гитлера.
Немногословно, но убедительно показывает Бобровский, что и этот солдат прошел «школу воспитания» фашистской пропагандой, посулами приключений и соблазнами «романтики»: «Настало время повидать мир… Сегодня мы в Польше, а потом, может быть, прогуляемся в Англию…» В рассказе ни слова нет ни о концлагерях, ни о еврейских гетто, ни о руинах Варшавы, но все это приходит на ум, когда слышишь из уст местного жителя вопрос: «Если они заберут всю Польшу, что будет тогда с твоим народом?».
Еще менее похож на фашиста плясун Малиге из одноименного рассказа. Он – против войны, он даже не верит в нее, ведь «там, за Мазурами, есть города, которые хранят еще следы прошлой», а кроме того, «есть еще и пакт о ненападении». Он не смотрит на поляков как на «недочеловеков», а «в ответ на бравую речь лейтенанта о польской сволочи и мировом еврействе… солдат Малиге хочет ответить такое, что, как песок, заскрипит у лейтенанта на зубах». Да и весь рассказ посвящен протесту Малиге против издевательства лейтенанта Анфлуга над евреями.
Но и с Малиге (как и с самого себя) автор не снимает ответственности за происходящее. В этом убеждают заключительные строки рассказа, в которых ощущается сознание вины перед людьми, тревога и смутное беспокойство, вызываемые воспоминаниями о войне: «И еще я знаю, что наступает вечер. После всего, что было… И мы могли бы перейти мост и побродить по городу в этот ночной час, если бы нас не ждала неизбежная встреча с самим собой, именно тут, в этом польском городе, совсем необъяснимая встреча». Очевидно, для «Плясуна Малиге», как и для «Пророка», характерен взгляд в будущее: сама история с Малиге относится к началу войны, но читатель получает возможность узнать кое-что о дальнейшей судьбе героев и о войне, «которая продлится еще очень долго».
Рассказ «Темно, мало света» представляет собой своеобразный итог в малой прозе И. Бобровского. Здесь тема Второй мировой войны органически соединена с темой «непреодоленного прошлого» в Западной Германии.
Сам писатель указывал на особенности раскрытия этой темы в своей поэзии и прозе. «Это касается выбора изобразительных средств, который производится по своим особым законам». Большинство его прозаических произведений – именно рассказы; главное, что позволяет определить их жанр именно так, – это их разговорность, сказовость. По словам С. Залыгина, «рассказ в языке своем, во всем своем облике отражает наличие писателя не столько даже пишущего, сколько рассказывающего, собеседующего» (2, 325).
Разговорный характер рассказам И. Бобровского придает, в первую очередь, особый строй языка. Писатель предпочитает такое сцепление слов и предложений, которое не претендует на строгую логичность, а сообщает речи героев яркую выразительность. Интонация языка И. Бобровского – сказовая, житейская. От рубленых фраз он может неожиданно перейти к длинным предложениям, от точных, метких выражений-штрихов – к многословию; подчеркнутая дистанция между автором и героем, создаваемая с помощью иронии, сменяется фамильярным замечанием, вроде «славный человек наш П.».
Большую роль играет в создании разговорной речи выбор способа повествования: от третьего или от первого лица. У И. Бобровского эти два способа вообще трудно разграничить, они не существуют у него в чистом виде. В «Мышином празднике» повествование ведется от первого лица и с этой точки зрения, по сравнению с остальными тремя рассказами, наиболее объективно. Но и здесь присутствие автора обнаруживается введением фразы: «Что ж, посидим и посмотрим». В «Пророке» и «Плясуне Малиге» это «мы» встречается или подразумевается уже часто: «мы встанем…», «рядом с нами окажутся…», «наш знакомый…», «мы-то знаем», «мы расскажем» и т. п. Это усиливает эффект присутствия рассказчика, создает интимный, даже заговорщицкий тон его беседы с читателем и одновременно со своими героями. Но в этих двух рассказах есть моменты, когда «мы» переходит в «я», т. е. присутствие рассказчика уже не подлежит сомнению: «я думаю», «я сказать не берусь…» Таким образом, «я» повествователя – одно из слагаемых «мы», а это подчеркивает близость рассказчика и к читателю, и к герою. Следовательно, имеется повествователь, который от лица своего «я» ведет рассказ: «Я знаю только то, что рассказал…»
Рассказ «Темно, мало света» ведется от первого лица – от лица г-на Фенске, западноберлинского жителя, – конечно, до того момента, пока он не передоверяет повествование тому или иному посетителю «Охотничьего домика».
При этом позиция и взгляды автора и рассказчика ни в одном из рассказов полностью не совпадают. Автор знает больше, видит дальше и глубже. Но сближает их тревожное настроение, беспокойная совесть, заставляющая вновь и вновь вспоминать прошлое и вглядываться в настоящее. Автора и рассказчика роднят тонкое поэтическое восприятие мира, мечтательность, а главное – судьба, которую определила война.
От роли повествователя в определенной мере зависит композиция произведения. В рассказах И. Бобровского эта роль далеко не служебная, и ее наличие объясняется отнюдь не просто стремлением связать в единое целое разные события. Личная интонация является организующим началом, придает повествованию разговорность, сказовость.
Рассказчик родствен своим героям, родствен читателю, и это такое родство, которое превыше простого кровного. Порой кажется, что не он, а мы думаем и говорим, настолько нам понятны его мысли, настолько мы вовлечены в разговор. Что касается размышлений повествователя и героев, то они так тесно переплетены в рассказах И. Бобровского, что часто трудно определить, кому же они принадлежат: «Что ж, посидим и посмотрим. Войне исполнилось уже несколько дней. Страна называется Польшей. Она совсем плоская и песчаная. Дороги в Польше неважные, и везде много детей. О чем тут еще говорить? Сюда явились немцы, им нет числа, один из них сидит тут в еврейской лавчонке, совсем молодой, молокосос. В Германии у него осталась мать, и отец его пока что тоже в Германии. И две сестренки. Настало время повидать мир, так он, должно быть, думает. Сегодня мы в Польше, а потом, может быть, прогуляемся в Англию, а эта Польша – до чего же она польская». Где здесь мысли рассказчика, где – старика, а где – солдата? Создается впечатление непрерывного, устойчивого ритма повествования, что подчеркивается почти полным отсутствием тире и кавычек (за исключением рассказа «Темно, мало света»). В то же время повествование И. Бобровского воспринимается как диалог, беседа.
Не отождествляя себя ни с рассказчиком, ни с героями, автор способен между тем взглянуть на мир глазами каждого из них, оценить происходящее с разных точек зрения. Но, несмотря на возможность такого «перевоплощения», авторское «я» не теряется среди голосов множества персонажей и звучит вполне отчетливо. Такой способ повествования избран совершенно сознательно, о чем говорит сам писатель: «Видите ли, когда пишут и в процессе писания развивают образы, показывают их очертания, их профиль, их манеру действовать, их манеру ходить, то образы как бы обретают собственную жизнь, – это неоспоримо, но именно потому, что это так, и потому, что образы эти способны навязывать выводы, я считаю хорошим признаком, когда автор, так сказать, сохраняет за собой право хозяина в рассказе не только над языком, но и над фактами и образами. Так, чтобы он мог вернуть персонажи назад, если тем вздумается убежать от него в рассказе, когда, следовательно, рассказ приобретает собственные закономерности, которые не устраивают автора… или когда они угрожают внести хаос в авторскую концепцию. Автор, вводя себя в повествование, сохраняет тем самым за собой не только возможность комментировать… но и держать персонажей за руку».
Необычен и в буквальном смысле слова беспокоен поэтический язык И. Бобровского. Виртуозный, то напряженно-медлительный, то энергичный, красочный и – рациональный, скрывающий в себе глубокий смысловой подтекст и тонкую иронию, – он в то же время находится в постоянных поисках новых возможностей самовыражения. Язык для писателя – не просто материал, из которого он лепит свои поэтические фигуры, это прежде всего один из элементов воссоздаваемой действительности. Этим и обусловлены сложность речи, ее дифференциация. Поэтому читать И. Бобровского нелегко, читать его нужно вдумчиво – не только глазами, умом, но и сердцем.
Различные источники сформировали поэтический язык И. Бобровского: он обращался к славянским языкам и славянской поэзии, мягкость и песенность черпал в литовской речи, стремился проникнуть в тайное тайных немецкого народного языка, влить в литературу живительную свежесть фольклора: «Я с головой ушел в фольклорный материал… Я испытываю вполне обоснованную тревогу за состояние нашего языка. Если мы удовольствуемся сегодняшними литературными нормами, его развитию грозит застой.
Поэтому я старался употреблять народные выражения, народные обороты вплоть до жаргона, чтобы сделать язык более разнообразным, красочным и живым. С этой точки зрения я смотрел и на синтаксис. Я стремился к использованию укороченной формы предложения, конструкций, не очень распространенных у немцев, но зато очень удобных. Я должен хорошо читать и произносить все, что написал».
Тонкое языковое чутье, талант и упорная работа над постижением тайн народной речи привели к созданию неповторимых образов, наделенных индивидуальной речью, к созданию такого поэтического языка, о котором В. Гирнус сказал: «Фольклор на уровне мировой литературы» (3, 224).
И. Бобровский в своих произведениях еще и художник, и музыкант. Разносторонне одаренный, он сам рисовал, изучал искусство. Поэтому не удивительно, что свои произведения, в том числе рассказы, он строит по законам музыкального сочинения. Этим объясняется его тяготение к наполненным глубоким смыслом вариациям и лейтмотивам, к непрерывному, непринужденному ритму повествования, к свободному перемещению во времени и пространстве.
У И. Бобровского взаимопроникают реальное и нереальное, земное и сказочное. Он пишет зримо, а это редкий дар, признак настоящего таланта. И. Бобровский способен передать игру света, переливы цвета, колыхание воздуха, сливая эти «движения» природы с «движениями души» человека, приводя их в нерасторжимое гармоничное единство: «В лавке все залито белизной. Свет заполняет всю комнату, до самой двери в задней стене. К ней прислонился Мойзе, весь белый-белый, и кажется, что он все глубже и глубже уходит в стену – с каждым словом, которое он говорит». Любимыми художниками И. Бобровского были Анри Матисс, Марк Шагал, Франц Марк. С их полотнами по силе стихийной поэтичности и непосредственности, глубочайшей философичности можно сравнить его рассказы. Неповторимая индивидуальность в восприятии природы, окружающего мира роднит И. Бобровского (символическое родство!) с Чюрленисом и Красаускасом. Как и их полотна, рассказы Бобровского чрезвычайно лиричны, что не противоречит их внутренней напряженности, драматизму: тем контрастнее воспринимается зло, которое несет с собой фашизм.
Рассказы Бобровского содержат и сатирический элемент; достаточно вспомнить описание нацистской демонстрации в «Пророке» или историю о Бломке из «Плясуна Малиге», который глотал гильзы от сигарет, чтобы «они» – нацисты – подумали, что у него язва. Порой изображению придается гротескный характер: в таком духе сообщается о «геройской» смерти одного из немецких солдат – Кречмана, который во время войны «захлебнется пивом в подвале пивоваренного завода, проведя там две недели».
Язык И. Бобровского лаконичен; этот лаконизм объясняется авторским стремлением активизировать работу читательской мысли. При таком подходе к изображению действительности естественно преобладание иносказаний, намеков на не высказанный прямо или не договоренный до конца смысл: «И не только днем, в эту жаркую пору… прохожий жмется, тяжело дыша, поближе к низким островерхим домам… Но и по вечерам, когда неизвестно откуда потянет прохладой… все стараются не отходить от дома, куда можно в любое время войти отдохнуть… Мало ли есть причин, чтобы не выходить на рыночную площадь, да еще одному, в этом тридцать девятом году».
Каждый рассказ И. Бобровского – это система своеобразных стимулов к глубоким и долгим раздумьям. Недоговоренность и одновременно смысловая насыщенность повествования, соединение далеких во времени и пространстве событий и образов создают сложную архитектонику рассказов, несмотря на то, что сюжет в них или намечен пунктирно, или вообще отсутствует.
Весьма своеобразны у И. Бобровского способы нарушения «сюжетного затишья». Напряженность входит в атмосферу рассказа с появлением одного из героев. Как правило, это немецкий солдат («Мышиный праздник», «Плясун Малиге»). В «Пророке» спокойное течение рассказа нарушается с появлением колонны нацистов. Наибольшее напряжение в рассказе «Темно, мало света» наблюдается в те моменты, когда бывшие солдаты гитлеровской армии вспоминают случаи из времен Второй мировой войны. Здесь драматизм и напряженность даже усиливаются благодаря «наращиванию» историй и быстрой смене ситуаций. С нарушением спокойного повествования в «Пророке» и «Мышином празднике» совпадает кульминация, а в «Плясуне Малиге» (из всех четырех рассказов в нем наиболее четко обозначен сюжет) кульминационной точкой стал танец Малиге как своеобразный поединок искусства и человеколюбия с жестокостью нацизма.
Все четыре рассказа завершены, но все же многое остается недосказанным. Хочется отложить книгу в сторону и думать – не столько даже о литературе, сколько о жизни.
Сложность композиции в рассказах И. Бобровского во многом объясняется и обилием вставных историй и анекдотов. В «Пророке» – это «один забавный анекдотец» о «пьянчуге», который «обходит, что ни воскресенье, церковь за церковью и везде поспевает к причастию». В анекдот постоянно вклиниваются «разъяснения» рассказчика – их надо знать, чтобы понять всю соль истории. Эти разъяснения одновременно содержат краткие, но меткие характеристики персонажей. Эффект комического усиливается благодаря тому, что герои анекдота – это и герои рассказа, жители уже знакомого нам города, поэтому все, что о них говорится, воспринимается как-то близко к сердцу. Вставные истории расширяют временные рамки повествования и круг персонажей. К основному, обрамляющему изложению они присоединяются просто и естественно.
В особенности это характерно для рассказа «Темно, мало света», где вставные истории как будто нанизываются друг на друга, создавая своеобразные ступеньки, соединенные между собой своего рода «площадками» – авторскими комментариями. В рассказе семь вставных историй: одну (нечто вроде анекдота о «покойном Силланпяя») рассказчик сообщает своей жене, остальные шесть он выслушивает в «Охотничьем домике». Здесь уже вставные истории играют не вспомогательную роль – по сути дела, они и составляют рассказ, возвращая нас к недавнему прошлому: «Здесь любят потолковать о войне». Между всеми вставными историями, при том что они как будто случайно всплывают в памяти рассказчика, существует определенная идейно-тематическая связь.
В этих историях нет батальных описаний, но облик войны в них вырисовывается четко. Намеки и иносказательность превращают рассказ в притчу. Писатель не говорит прямо о жестокости войны – просто один из героев расскажет о профессоре, у которого во время войны сгорело 25 тысяч книг. Ничего не сказано об отношении гитлеровских солдат к народам оккупированных стран, но о нем красноречиво свидетельствует история о том, как немецкий солдат отнял у француза-беженца коллекцию марок и т. д.
В нескольких других историях предстает современность. Эти случаи (как, впрочем, и относящиеся к периоду войны) незначительны лишь на первый взгляд, на деле же в них хорошо просматривается западногерманская действительность. Особенно характерна история о том, как жена одного рассказчика сломала ногу «на слете землячества». Об этом говорится как бы между прочим, но в воображении читателя сразу возникает картина фашистского сборища в Западном Берлине (И. Бобровскому вообще было свойственно о самом значительном, о том, что его больше всего беспокоило, говорить намеками, на уровне подтекста). Так в рассказ настойчиво вводится тема «непреодоленного прошлого».
Большинство вставных историй рассказано их непосредственными участниками. Место для рассказывания выбрано, можно сказать, классическое – трактир. Каждая история, как правило, получает оценку со стороны слушателей, среди которых и основной рассказчик. Содержанию именно вставных историй придается большое значение, не случайно образы героев так выразительно обрисованы, многие названы по именам (профессор Шпирох, солдат Шейфф, унтер-офицер Барт) – в этом отношении автор уделяет им внимания больше, чем самим рассказчикам.
Интересен образ, так сказать, основного рассказчика. От других он как будто ничем не отличается, разве что поэтическим видением мира. И в трактире он, на первый взгляд, просто наблюдатель, которого привела сюда бессонница. Но вдумаемся в его слова, в отрывистые, бессвязные фразы разговора с женой, – и мы поймем, что он все принимает близко к сердцу, все рассказанное другими знакомо ему по собственному жизненному опыту, а сквозь его иронию пробиваются тревога и горечь.
При создании рассказа «Темно, мало света» перед И. Бобровским стояли две задачи: во-первых, показать тональную разницу всех шести вставных историй, во-вторых, сохранить единство авторского повествовательного стиля, не дробя его на отдельные языки. Писатель с честью выходит из трудного положения, создавая в рассказе многокрасочный смысловой спектр. При этом речь каждого героя индивидуальна, однако в целом произведение звучит как рассказ одного – но очень наблюдательного – человека.
Малые размеры рассказов, с одной стороны, и значительность предмета изображения, с другой, требуют от писателя полновесности каждого слова, выразительности каждого штриха. В этом смысле трудно переоценить значение каждой «счастливо увиденной» (Г. Ленобль) детали. И. Бобровский не только скрупулезно отбирает детали, но и умело располагает их, соотнося друг с другом и со всем произведением в целом. Эти детали могут быть как существенными, «лобовыми», так и косвенными. Их значимость зависит больше от точности, меткости. В рассказах они так мастерски расположены, что заметны и порознь, а в совокупности создают живой, легко представляемый образ. О манере писателя выделять необходимую фразу, жест, мысль можно сказать словами одного из его героев: «Сказано не громче обычного, но с таким выражением в голосе, что сразу повернешься на каблуках».
Об отношении Малиге к полякам И. Бобровский скажет буквально несколькими словами: «Он просто заходит в польский дом и играет на рояле». В двух-трех фразах писатель показывает поведение немецких солдат в оккупированной Франции: «Этот альбом я привез из Франции… Тогда я слабо разбирался в марках, но сразу смекнул, что коллекция очень ценная… Француз все равно бы не смог сохранить альбом». Или: «Солдат Шейфф из Кёльна… присел на мостки. Господи Боже, канал от этого грязнее не станет, что бы вы там ни болтали».
Глубокий смысл, несмотря на внешнюю скромность, заключен в заглавиях рассказов И. Бобровского. Но смысл этот открывается после внимательного прочтения произведений. Так, заглавие «Темно, мало света» лейтмотивом проходит через все содержание рассказа. «Везде тьма», – размышляет герой (он же рассказчик). Однако эта «тьма» вовсе не оттого, что «что-то случилось с газоснабжением или газопроводом, и уличные фонари не горят». «Тьма» – это недавняя война, это нынешние «слеты землячества», это в конечном итоге «непреодоленное прошлое» в Западной Германии.
Как кровь в человеческих жилах, пульсирует в рассказах И. Бобровского время. Через соединение прошлого, настоящего и будущего, через связь времен писатель приходит к заключению о закономерности исторического процесса, к мысли о пагубности забвения уроков, преподанных прошлым настоящему. «Время бродит в платье счастья и несчастья», и от человека, от народа зависит, каким этому платью быть.
Идейно-художественная сложность произведений И. Бобровского обусловлена не только их тематической объемностью, но и своеобразием авторского мировоззрения, вобравшего в себя элементы различных гуманистических культурно-философских систем, включая выработанные человечеством еще в эпоху Средневековья.
После смерти И. Бобровского литературовед из ГДР Вернер Лирш писал: «Эта способность к аккумуляции действительности, являющаяся отличительным признаком настоящей художественной силы, еще и еще раз заставляет нас мучительно сознавать, что со смертью Бобровского значительнейшее из нашей жизни осталось невысказанным» (4, 152).
О значении же того, что писатель успел нам поведать, лучше всего можно сказать стихотворными строками самого Иоганнеса Бобровского:
Но не хочет уйти темное время. И ржавый от крови, идет по земле дозором мой стих. (Пер. Г. Ратгауза)Источники
1. Roscher A. Bobrowskis Stimme // Neue deutsche Literatur. 1967. № 5.
2. Залыгин С. Рассказ и рассказчик: Заметки писателя // Литература и современность. Сб. 2: Статьи о литературе 1970–1971 годов. М.,
1972.
3. Гирнус В. Красные розы Иоганнесу Бобровскому // Иностранная литература. 1969. № 2.
4. Liersch W. Bewährung eines Themas // Neue Deutsche Literatur. 1967. № 5.
Франц Фюман
Перу Франца Фюмана (1922–1984) принадлежат стихи и рассказы, очерки и репортажи, переводы зарубежной лирики, художественные интерпретации творчества древних, путевые заметки. Но при обращении писателя к временам гитлеровского мракобесия неизменное предпочтение он отдает жанру новеллы («… я – прирожденный новеллист» – признается писатель). Свой тематический и жанровый выбор Ф. Фюман аргументировал следующим образом: «Я полагаю, каждый писатель должен снова и снова размышлять над тем, какие темы, материал и жанры наиболее соответствуют его способностям, его таланту, его происхождению и жизненному пути и где он с помощью только ему присущих изобразительных средств сможет принести наибольшую пользу и достичь художественного мастерства».
Жанр новеллы, как известно, требует напряженности действия, необычной, даже экстремальной ситуации. Основным источником таких ситуаций для писателя являются события Второй мировой войны – обстоятельства уже сами по себе исключительные. Таким образом, Ф. Фюман в главном для него жанре, новелле, развивает и главную тему своего творчества – беспощадного расчета с позорным фашистским прошлым. По-разному преломляется эта тема в новеллах писателя.
Уже в 1950-е годы Ф. Фюман изображает войну не только как страшный в своей бессмысленной жестокости акт массового истребления людей. Взор писателя проникает и в более сложные явления. В новелле «Суд божий» автор показывает изощренное глумление над честью и достоинством человека: фельдфебель, до войны школьный учитель истории, решил провести «эксперимент» с греческим поваром Агамемноном – «современный суд божий», который «мог бы послужить толчком к реформе всего германского правосудия». Эта «юстиция в её… праформе» заканчивается убийством ни в чем не повинного грека.
В новеллах 1950-х годов Ф. Фюман обращается к таким понятиям, как честь, верность, долг, преданность, которые извращались и фальсифицировались нацистами. Но в этих новеллах автор фиксирует свое внимание на отдельных, в основном внешних проявлениях сущности фашизма, в то время как в новеллах 1960-х годов он воссоздает весь сложный механизм фашистской военной машины, изображает жестокую силу, растлевающую человеческие души, показывает открытые и замаскированные манипуляции нацистов с индивидуальным человеческим сознанием.
Писатель, на самом себе испытавший губительное воздействие фашистской идеологии, отчетливо понимает, что нацизм обладал способностью пачкать и извращать все, к чему бы он ни прикасался. При этом фашисты учитывали все особенности «объекта», с которым им приходилось иметь дело: социальное положение, образование, интересы и, наконец, возраст. Даже ребенку фашизм делал заманчивые «предложения», и тем более охотно, что здесь он, как правило, не сталкивался с серьезным сопротивлением. Поэтому в новеллах 1960-х годов, наряду с изображением героев, физически уже вовлеченных в войну, писатель показывает, как на предлагаемые фашистами «соблазны» реагировал индивидуум, сознание которого только начинало формироваться.
Интересна в этом отношении новелла «Мой последний полет» («Mein letzter Flüg», 1969). В тот момент, когда начинает прозревать мать, особенно явственно обнаруживается, каким отравляющим было прежнее воспитание ее ребенка в семье, как глубоко запали в его душу семена человеконенавистничества и рабского преклонения перед «фюрером». За иллюзорным «полетом» десятилетнего мальчика «с тётей Марлис… над тремя горными вершинами в рейх, где правил фюрер», следует его «приземление» на скользком «поле» приспособленчества. Жестокие слова ребенка свидетельствуют о том, что детская невинность уже начинает отступать перед будущей совиновностью: «Да… необходимо уничтожить всех, кто не желает любить нашего фюрера».
Война против немецкого народа в самой Германии началась по сути, уже в 1933 г., а то и раньше. Расчет же с позорным прошлым невозможен без ясного понимания всей истории фашизма. Поэтому наряду с непосредственным изображением военных событий Ф. Фюман отводит большое место тому страшному, уродливому и уродующему явлению, имя которому – фашизм. Его ужасающий облик с документальной убедительностью воплощен писателем в новелле «Барлах в Гюстрове» («Barlach in Güstrow», 1963). Здесь истинный характер фашизма проявляется в его столкновении с подлинным искусством. Автор подошел к Эрнсту Барлаху как к литературному образу, преобразовал подробности внешних событий, уплотнил процессы, протекающие долгие годы, до нескольких часов. В рамки одного дня 24 августа 1937 г., когда из гюстровского собора неизвестные похитили «Ангела», самую дорогую, любимую бронзу Барлаха, – Ф. Фюман сумел вместить всю историю духовной и художественной эволюции скульптора, его путь к борьбе против нацизма. В новелле ощущается и дыхание самой войны. Она – в горьких воспоминаниях мастера, в его страшных предчувствиях. Правда, в новелле нет сражений и убийств, она воссоздает немецкую действительность предвоенного периода. Но «бескровный» террор в отношении художника-гуманиста содержит, в сущности, тот же смысл, что и фронтовые конфликты, изображенные в других произведениях Ф. Фюмана.
В новеллах Ф. Фюмана 1960-х годов наблюдается не просто расширение тематических горизонтов, но и изменение способа изображения действительности. Если в новеллах 1950-х годов на первый план выдвигается действие, четко прослеживается сюжетная линия, то теперь действие отступает на второй план, а главным объектом внимания становится сознание человека, его мировоззрение, которое не «подается» автором «в готовом виде», а изображается в процессе изменения. Исключением является новелла «Сотворение мира», которая по способу изображения действительности (четкая сюжетная линия, первостепенность действия) примыкает к ранним произведениям Ф. Фюмана. Если сопоставить ее с новеллой «Суд божий», то очевидно даже определенное сходство конфликтных схем, полюсы в которых можно обозначить следующим образом: с одной стороны, немецкий солдат (солдаты), с другой – представитель «неарийской» нации, никак не связанный ни с армией противника, ни с партизанами.
Говоря о том, что характеры героев даются в новеллах 1960-х годов в изменении, необходимо подчеркнуть, что в одних случаях этот процесс происходит по восходящей линии, в других – по нисходящей. Это значит, что одни из героев находят в себе силы идти в ногу со временем, даже если это связано с преследованиями и надругательствами (Барлах), начинают освобождаться от тяготеющего над ними прошлого (фрау Траугот в «Богемии у моря»). Другие, зараженные фашизмом, все глубже падают в пропасть. Они или бессмысленно, позорно гибнут (Фердинанд В. в «Сотворении мира», капитан Н. в «Эдипе-царе»), или, спустя много лет после войны, продолжают вынашивать кровавые планы (барон фон Л. в «Богемии у моря»).
Расширение и особенно углубление тематики естественно влечет за собой накопление изобразительных средств, прежде всего таких, благодаря которым отчетливее проступают мировоззренческие стороны изображаемых конфликтных ситуаций. Значительную роль в этом отношении играют античные предания, легенды и сказки, используемые автором для изображения современности. Если в «Богемии у моря» сказочные мотивы проклятия, кажущегося вечным, колдовства и, наконец, избавления от злых чар, воплощенные некогда Шекспиром в «Зимней сказке» и по-новому переосмысленные Ф. Фюманом, служат средством достижения объемности новеллы, широты охвата событий, помогают раскрыть характер человека, преодолевающего свое прошлое, то в новелле «Эдип-царь» писатель показывает, как злоупотребляли мифом нацисты, наполняя его реакционным содержанием.
Образы и коллизии античной литературы используются Ф. Фюманом в поэзии. В стихотворении «Никос Белоянис» (1953) греческие борцы за свободу уподобляются Прометею и Гераклу. К стихам Сапфо обращается автор в поэме «Поездка в Сталинград» («Fahrt nach Stalingrad»). В прозу Фюмана мотивы древнегреческих мифов входят далеко не сразу.
В новелле «Однополчане» («Kameraden», 1955) писатель разоблачает ложь и показывает жестокость фашистов, их манипуляции с человеческим сознанием. Эти же проблемы решаются и в «Капитуляции» («Kapitulation», 1958); здесь мы имеем возможность не только проследить процесс растления человеческого сознания, но и увидеть гибельный результат этого процесса.
В новелле «Суд божий» («Das Gottesgericht», 1958), а также в отдельных новеллах романа «Еврейский автомобиль» (1962) место действия переносится в Грецию, однако духовные традиции, используемые в этих произведениях, восходят не к греческому, а к германскому мифу: в «Суде божьем» – к мифу раннего Средневековья, в «Еврейском автомобиле» – к «Эдде». Действие новеллы «Сотворение мира» (1966) также происходит на греческой земле, однако и здесь замысел писателя берет начало не в античных преданиях, а в библейской легенде о происхождении мира. И только в новелле «Эдип-царь» («König Ödipus», 1966) древнегреческий миф находит свое глубокое воплощение.
Часть этой новеллы – история с зоопарком – восходит к биографии самого писателя; во время отступления из Греции подразделению Фюмана пришлось несколько дней провести в зверинце. Находясь в советском плену, Ф. Фюман задумал воплотить этот случай в художественном произведении.
Первый вариант был написан в середине 1950-х годов. Бывший солдат рассказывает, как поздней осенью 1944 г. его подразделение нашло приют в зоопарке маленького болгарского городка. Солдаты расположились прямо среди хищников. После того, как обезьяны искусали обер-лейтенанта, немецкие солдаты учинили кровавую резню среди болгар, а трупы людей бросали зверям.
В этом рассказе еще не было никаких мифологических мотивов. Лишь в 1966 г. Ф. Фюман соединяет историю со зверинцем и миф об Эдипе. Причем образ Эдипа не выглядит искусственно привнесенным, наоборот, он подчиняет себе все другие мотивы.
Ефрейтор П. и обер-ефрейтор З. в спорах друг с другом пытаются объяснить «мучительную проблему» вины Эдипа и всякий раз приходят к заключению в духе нацистской идеологии. Бессмыслен и вывод капитана Н. (до войны профессора классической филологии), который «нерушимое послушание» и благочестие Эдипа лицемерно сравнивает с «добродетелью» прусского солдата.
Диалоги двух солдат носят характер дебатов, но дискуссионная оболочка – лишь видимость: в основе диалогов лежит взаимное утверждение персонажами антигуманной интерпретации мифа. В действительности «загадка» Эдипа – не таинственная умозрительная проблема, это проблема самих солдат, и уже близится время, когда она потребует своего справедливого решения.
Капитан Н. понимает необходимость расплаты за совершенные преступления (одно из этих преступлений фашистов – казнь двух греческих партизан – изображается в новелле). Но его самоубийство (капитан «пустил себе пулю в лоб, а так как рука его дрожала, он раз за разом выстрелил себе в оба глаза»), хоть и напоминает добровольное решение Эдипа искупить свою вину путем ослепления, отнюдь не позволяет отождествлять эти два образа и не привносит в смерть капитана ничего величественного. Выстрел в глаза придает капитану лишь внешнее сходство с Эдипом, но означает не стремление искупить вину, а капитуляцию перед будущим, перед необходимостью настоящей расплаты за преступления.
Мотив царя Эдипа проливает свет и на ранние новеллы Ф. Фюмана. Хотя в них автор акцентирует свое внимание на разных аспектах, но в основе новелл лежит все та же тема Эдипа. Действительно, многие герои ранних новелл Ф. Фюмана – субъективно честные люди, обманутые Гитлером. Объективно же это преступники, ибо являются участниками фашистских злодеяний. Одни из этих героев еще не полностью утратили человеческий облик. Томас («Однополчане») постепенно приходит к пониманию лжи и лицемерия, толкнувших его на путь «соучастия». (Показательно, что уже в этой новелле Ф. Фюман использует сравнение персонажей с хищными зверями.) Бегство Томаса из фашистской армии явилось попыткой придать смысл своей жизни. К другим прозрение приходит трагически поздно, как было с Антоном Шельцем («Капитуляция»), который, умирая, понял, что отдал свою жизнь за убийц.
Таким образом, каждый из героев оказывается, по сути дела, в ситуации Эдипа. Разумеется, аналогия здесь не во внешнем сходстве, она выявляется через понимание сущности изображаемых событий, подсказывается самой действительностью. Не случайно «Эдип-царь» представляет собой своеобразный итог предыдущих произведений Фюмана о Второй мировой войне.
Из многочисленных образов писатель создает «групповой портрет» солдат вермахта. Многоликость героя подчеркивается и тем, что в новеллах о войне почти нет полных фамилий: называются лишь их начальные буквы. Этот художественный прием характерен для новелл и 1950-х (радист А., обер-ефрейтор Б., унтер-офицер В., фельдфебель Г. в «Суде божьем»), и 1960-х годов (обер-ефрейтор З., ефрейтор П., капитан Н. в «Эдипе-царе»). Иногда, как правило, один раз на протяжении повествования, фамилия героя как бы расшифровывается, что придает образам солдат и офицеров документальную убедительность и достоверность (Нейберт – капитан Н. в «Эдипе-царе», Лангенау – барон фон Л. в «Богемии у моря»).
Ситуации войны дают автору возможность проследить пути, которыми шли к фашизму представители разных социальных слоев. В одной казарме могут оказаться студент и чиновник, профессор и батрак, в то время как в мирной жизни такие встречи мало реальны.
Ф. Фюман не изображает героев непосредственно в бою, хотя все они находятся на фронте. И все же образы фашистских солдат раскрываются, как правило, в связи с актами убийств и насилия. Тем самым автор подчеркивает преступный характер войны со стороны Германии. Особенно остро ощущается грязный «климат» в «Сотворении мира»: эпизод, когда Фердинанд В. заставляет старую больную женщину ползком покинуть дом, следует непосредственно за изображением солдат, занятых чисткой уборных.
События, изображенные Ф. Фюманом как фон, по значимости приближаются к переднему плану повествования: партизанская борьба в Греции, отступление фашистских войск, капитуляция гитлеровской Германии. Специфика немецкой предвоенной действительности позволяет писателю создать контрастный фон, показать две Германии – фашистскую и народную («Барлах в Гюстрове»). На четком контрастном фоне разворачиваются и события в «Богемии у моря».
Для композиции новелл Ф. Фюмана 1960-х годов характерна обстоятельная экспозиция, в которой предварительно обрисовываются персонажи («Богемия у моря», «Барлах в Гюстрове», «Эдип-царь»). Но в новелле «Мой последний полет» первые строчки уже вводят читателя в богатый переживаниями мир героя. Отсутствие открытой экспозиции здесь можно, пожалуй, объяснить тем, что рассказ ведется от лица десятилетнего мальчика, не способного еще дать объективную оценку событиям и людям.
Развязка в новеллах Фюмана всегда глубоко логична. В финале многие герои гибнут, но это не просто роковое завершение судьбы человека на войне. В смерти Фердинанда В., капитана Н. и других проявился исторический характер обстоятельств, в которых персонажи становятся преступниками.
Для новелл 1960-х годов характерен разрыв действия, перенесение героев (мысленно или реально) из одного места в другое (например, в «Богемии у моря» действие развертывается то в рыбацкой деревушке на берегу Балтийского моря, то в Восточном или Западном Берлине, то в предвоенной Чехословакии, то на одном из островов Северного моря). Своеобразное осмысление получает этот художественный прием в «Эдипе-царе». Здесь читатель должен одновременно представлять нравственный мир древних греков и духовные «воззрения» солдат фашистской армии.
В связи с этим встает проблема времени в творчестве Фюмана. Писатель наделяет время «взрывчатыми» свойствами; он не воссоздает сплошной поток событий, а как бы высвечивает, выхватывает отдельные мгновения, но такие, которые нарушают спокойное течение жизни и знаменуют собой ее поворот. Такое изображение времени характерно для «Богемии у моря». Здесь время то стремительно несется, то длится неимоверно долго, то останавливается вообще («время давно остановилось: мне казалось, что здесь, между рассветом и сумерками, не существовало времени»), то вдруг движется вспять («пространство расплылось, поток времени оборвался и понес меня, как щепку»), возвращая героя в его прошлое («казалось, время остановилось, оно и в самом деле остановилось, словно вернулся 1938 год – мертвое время, отравленное трупным ядом!»). Время в новеллах Фюмана редко сближается с реальностью, настоящее и прошлое как бы вклиниваются друг в друга, причем прошлое всегда усложняет настоящее, не дает герою существовать спокойно, «отдавшись течению времени, как водоросль волне».
Использование двух или нескольких временных плоскостей обусловлено в новеллах Фюмана актуальностью военной темы, реальностью существования двух антогонистических государств на немецкой земле. Отсюда постоянный акцент на необходимости взаимно преобразующих отношений человека и времени. Эта мысль находит яркое воплощение в диалоге «спутников» Барлаха – Генриха-страстотерпца и Офферуса-работника, чей спор является внутренним спором Барлаха с самим собой. Если для Генриха все сущее – благо «только потому, что оно существует», то Офферус задается вопросом: «Разве наше время не в наших руках и разве не от нас зависит, стать ли ему временем добра или временем зла?».
С целью усиления художественной выразительности писатель использует прием персонификации. Так, в новелле «Барлах в Гюстрове» Нужда, Слава, Забота и Страдание обладают в сознании Барлаха качествами человека, а борьба в природе напоминает художнику законы общества.
Фюман, подобно древнегреческому рапсоду, заставляет читателя напрягать не только зрение, но и слух – ибо в интонации повествования звучит мелодия, ощущается ритм; и разум – ибо проза писателя очень сложна для восприятия. Эта сложность во многом определяется обилием в языке Фюмана периодов, т. е. пространных сложноподчиненных предложений, характеризующихся полнотой мысли, законченностью интонации. Синтаксическая конструкция периода представляет собой как бы замкнутую систему, создающую своеобразную рамку, в которую вставляются придаточные предложения и обороты. Постепенный накал атмосферы в периодах усиливает ожидание связующего конца фразы, мобилизует внимание читателя. Сложные периоды характерны именно для новелл Фюмана 1960-х годов («Барлах в Гюстрове», «Богемия у моря», «Эдип-царь»), в которых внимание концентрируется на напряженно работающей человеческой мысли.
Герман Кант
Литература рождается из пережитого отдельным человеком и целым народом. В этом как нельзя лучше убеждает роман Г. Канта (род. в 1926 г.) «Остановка в пути» (1977). В 1976 г. Г. Кант, отвечая на анкету журнала «Вопросы литературы», писал: «… я хотел бы, чтобы литература и писатель обладали силой и возможностью обеспечить для всего земного шара мир и объявить человеческую жизнь и человеческое счастье священным достоянием. Я знаю, такой силы никому не дано, и все же литература располагает возможностями оживлять воспоминания, открывать людям глаза, обострять их слух. А хорошее зрение, тонкий слух и исправная память необходимы всем нам, если мы хотим иметь будущее».
Что имел в виду Г. Кант, говоря о необходимости для человека «исправной памяти»? Ответить на этот вопрос можно словами самого писателя, адресованными его соотечественникам: «Знаю, знаю, у всех у нас есть родственники, которые время от времени рассказывают нам, что помогали пленным, невзирая ни на какие препятствия, и что наши отцы были сама доброта, когда этого никто не видел. Я не подвергаю сомнению то или иное доброе дело той или иной доброй тети, и я знаю, что среди наших отцов были и такие, что вели себя смело. Я только хочу напомнить, что необходимо было сверхмужество, чтобы перевязать истекающего кровью человека, если этот человек был родом из Киева или Ленинграда. И подобное мужество встречалось отнюдь не так часто, как хотелось бы верить, слушая нынче рассказы родственников. В принципе же… «народная общность», куда мы дали себя включить, была нацелена на уничтожение других народов. В принципе ее программой было – убийство».
Роман «Остановка в пути» представляется очень важным в том смысле, что он соединяет в себе углубленный философский взгляд на общее немецкое прошлое с суровым заострением на индивидуальной судьбе, с «нравственной жестокостью к самому себе», как писал А. Адамович.
Коротко тему произведения можно сформулировать как: «очеловечивание истории». Изображение связи исторических событий с конкретными людьми, с их конкретными действиями (или бездействием) крайне важно сегодня, поскольку, говоря словами Канта, «термин «фашизм» уже занял место в списке сверхъестественных сил, природных катастроф и мифических бедствий. Иные представляют себе фашизм чем-то вроде всемирного потопа или апокалипсиса».
Появление в творчестве Г. Канта романа, посвященного войне, не было неожиданным, предшествующие произведения писателя подвели его к созданию книги о том времени. Эпизоды из жизни военнопленного содержатся уже в первом сборнике рассказов Г. Канта «Немножко Южного моря» («Ein bisschen Südsee», 1962), в новелле «Шахматная история» («Kleine Schachgeschichte», 1972), в романе «Актовый зал» («Die Aula», 1964), в сборнике рассказов «Нарушение» («Eine Übertretung», 1975). В последнем сборнике помещен фрагмент романа «Остановка в пути». Этот же фрагмент («Жизнеописание, часть вторая») был напечатан в коллективном сборнике «Первый миг свободы», каждый из авторов которого попытался запечатлеть момент своего поворота к новой жизни. Примечательно, что Г. Кант – не единственный, кто исходную точку своего нового развития связал именно с началом плена (например, Ф. Фюман, М.В. Шульц).
Сюжет романа предельно прост: будучи призванным в самом конце войны и успев провоевать буквально несколько дней, Марк Нибур оказывается в плену сперва у русских, затем у поляков как обычный военнопленный. По ошибке, однако, польская женщина принимает его за немецкого солдата, убившего ее маленькую дочь, и теперь Марк содержится в тюрьме как военный преступник. Понадобились долгие месяцы следствия, чтобы с Нибура было снято обвинение в преступлении, которого он не совершал, и отныне он снова рядовой военнопленный. Это сюжет, а «душа и плоть» произведения, как пишет во вступлении к русскому переводу К. Симонов, «в глубочайшем всестороннем исследовании проблемы нравственной ответственности человека».
«Остановка в пути» имеет много общего с прежними книгами Г. Канта. Определяя степень родства Марка Нибура с главными героями других своих романов, Г. Кант говорил, что «их можно… рассматривать как братьев». По сути, во всех романах речь идет об одном поколении, к которому принадлежит и сам автор. Разумеется, повествование в новой книге Г. Канта носит автобиографический характер. Ведь то, что писатель сказал однажды о самом себе, можно с полным правом отнести и к Марку Нибуру: «Война… умирала медленнее, чем я рос. Я нагнал ее, она еще воспользовалась мною». Как и автор, герой его родом из Гамбурга, год их рождения 1926-й, оба четыре года провели в польском плену, оба носят знаменитые фамилии (Бертольд Нибур, 1776–1831; выдающийся немецкий историк, специалист по древнему Риму). В одной из статей писателя есть такое место: «Вспоминаю, что тогда (весной 1945 года) меня лечили отнюдь не с таким дружелюбием, но лечили, иначе у меня сгнили бы ноги». С этими словами ассоциируются эпизоды в романе, когда Марку спасают ноги – сначала польские крестьянки, затем советская женщина-врач. Да и тот факт, что в ответ на предложение рассказать именно о своем «первом миге свободы» Г. Кант передает в сборник рассказ, который он позже почти без изменений включил в роман о Марке Нибуре, тоже о многом говорит.
Но дело даже не во внешнем сходстве судеб автора и героя, еще важнее – типичность образа Нибура, ведь события, говорит сам Кант, «о которых повествует книга, касаются буквально всех в нашей стране – и тех, кто в них участвовал, как я сам, и даже тех, кто еще совсем молод». Видимо, отсюда проистекает настойчивое стремление Канта избежать однозначных формулировок в своих суждениях об «Остановке в пути». Например, в воображаемом интервью, помещенном на суперобложке книги:
«– Это автобиографический роман?
– Это роман».
В 1979 г. в интервью «Литературной газете» Кант говорил: «…мне кажется, знание того, что писатель опирается в своей книге на лично пережитое, дает читателю не так уж много: это побочная информация… личный опыт, разумеется, имеет значение, но он не всегда обязателен. Да, я был солдатом – четыре недели, да, я был в советском и польском плену – четыре года, и да – я очень хорошо знаю изнутри тюрьму в Варшавском квартале Мокотув, но те части книги, что особенно благоприятно оцениваются критиками, хотя и опираются на мои жизненные впечатления, созданы из пережитого при существенном участии фантазии».
Марк Нибур типичен не только для первых послевоенных лет, но и для современности, и причина этого в его способности «совершить усилие», открыть истину. Нибур постигал суть таких понятий, как соответственность и совиновность, – сегодня кто-то иной постигает суть других понятий, решает для себя другие проблемы, но зачастую так же трудно, в процессе такого же кардинального переосмысления прошлого. Именно «привычке думать» Кант учит молодое поколение.
«Остановка в пути» – «это немецкий роман воспитания», даже «очень немецкий роман воспитания», как иронически заметил Кант. Дидактический момент очевиден уже в эпиграфе – стихотворении Б. Брехта:
Так формируется человек — Когда говорит «да», когда говорит «нет», Когда он бьет, когда бьют его, Когда он присоединяется к тем, когда он присоединяется к этим. Так формируется человек, так он изменяет себя, Так является нам его образ, Когда он с нами схож и когда не схож. (Пер. Е. Витковского)Тема воспитания человека является стержнем романа, его идейной сердцевиной. И внесли свою лепту в воспитание героя самые разные лица. Именно в плену Марк Нибур впервые задумался над судьбами своей нации, и помогла ему в этом «русская врачиха». Она «мою жизнь изменила», – говорит Марк, ибо эта советская женщина заставила его пересмотреть свои взгляды, научила сомневаться, последнее слово в мысленных спорах предоставлять противнику; она помогла Марку в конечном счете разглядеть в самом себе человека.
«Немец. Этот человек – немец. Он немец, как Лютер, он немец, как Гёте. Он немец, как Гейне… Немец – это немецкий язык и язык Гитлера. Немец – это немецкая история, барон фон Штейн и Сталинград… Немец – это книгопечатание и Нюрнбергский закон, Генрих Птицелов и Генрих Гиммлер, Ульмский собор и разбомбленные церкви Роттердама, Роберт Кох и эвтаназия, сочельник и воскресенье двадцать второго июня 1941 года». Эта безмолвная речь, которую Марк угадывает лишь по движениям губ женщины, была обобщением всех ее бесед с ним.
Марка воспитывают «доброжелатели»: польские офицеры, работники тюремной администрации, польские женщины, с которыми он разбирает трофейное оборудование; но и «нелюди», фашистские офицеры и генералы, в одной камере с которыми он оказывается, тоже заставили его кое о чем задуматься: «Нет, солдат, не говори… Без тебя было бы не обойтись. Без таких людей, как ты, – это я тебе точно говорю – Кюлиш не смог бы поехать за колоколом, а пришлось бы ему стрелять вместо тебя. И господам генералам тоже пришлось бы это делать самолично, не будь тебя… Ты замещал многих… Без двух выстрелов из твоего автомата дело бы не обошлось – не работали бы почта, железная дорога, газовый завод… не было бы ни гетто, ни Треблинки – хороши бы мы были без тебя!..» Марк Нибур не хочет, чтобы эти слова были истиной, но понимает, что они – истина, не может с этим согласится – и соглашается: «Воевал с душегубами. С душегубами попался».
Эволюция, которую проходит Марк в плену, напоминает нечто вроде очень долгой, мучительной ампутации (в данном случае, наверное, точнее будет сказать – самоампутации): подобно тому, как постепенно отсекаются от тела его зараженные участки, так отделяются от сознания Марка страх, одиночество, отчаяние и сменяются уверенностью, чувством ответственности за себя и свой народ. Становится ясным глубинный смысл парадокса, на котором основан сюжет произведения: с одной стороны, Марк Нибур оправдан, с него снимается подозрение в убийстве, но, с другой стороны, – он сам себе выносит приговор: «Да, я давно уже понял: это вполне могло бы быть. И еще я понял, что каждый поляк, которому мы причинили зло, может думать, может обо мне думать, что это был я».
Вызывающе парадоксально и разнообразие стилистических элементов в структуре романа, казалось бы, вовсе не согласуемых между собой, включающих в себя лирику и сатиру, трагедию и гротеск, возвышенное и смешное. То, что «Остановка в пути» произведение 1970-х годов, чувствуется сразу. Все достижения литературы учтены Кантом умно и тонко. Автор не скрывает, что смотрит «туда» из 70-х, но грани времени при этом не стираются, не тускнеют. Наоборот, дистанция во времени позволяет ему острее увидеть правду прошлого.
В романе «Актовый зал» Г. Кант устами своего главного героя Роберта Исваля рассуждает о том, что хорошо бы иметь специальный аппарат, который помог бы «не перепутать всеобщие и объективные ценности с сугубо личными мелочами», отделить «типичные примеры» от «индивидуального мусора». С этой точки зрения в «Остановке в пути» все на своем месте – каждый штрих, каждый поворот. Повествование в романе носит, безусловно, субъективно-личностный характер, но любой структурный элемент произведения позволяет проследить тенденцию к размыканию субъективных рамок, благодаря чему тема воспитания, как основная, приобретает особую этическую глубину. Поражает многозначность всех структурных компонентов романа – композиции, стиля, конфликта и его художественного решения. Очень важно, что акцент делается не на внешней канве, не на развитии конфликта, а на его осмыслении. Прошлое намного труднее преодолевается в сознании человека, нежели в объективной действительности, но – преодолевается.
Фашизм и война дают множество поводов для их сатирического осмеяния. Роман «Остановка в пути» погружает в стихию комического, хорошо знакомую по предыдущим книгам Канта. Ироническое переосмысление действительности вообще характерно для немецкой литературы; глубокое воплощение находит эта традиция и в литературе ГДР (здесь нельзя не упомянуть И. Бобровского, Г. де Бройна, Э. Штритматтера, Ю. Брезана). Что касается Канта, то ирония – неотъемлемое свойство всего его творчества, в том числе публицистики.
А. Зегерс писала: «Я вовсе не хочу сказать, что глубина изображения обязательно подразумевает нечто тяжеловесное, нечто скучное. Нет, жизнь многообразна и многокрасочна; людям надо и посмеяться. Но шутки не должны быть плоскими, а смех и веселье – глупыми. Шутка не становится забавной и оттого, что она, больно раня друга, наносит ущерб его работе. Ранить можно и нужно противника, нанося ущерб его скверным делам». Шутка в романе Канта ранит именно противника, не только видимого, но и того, что скрывается в самом Марке Нибуре; поэтому часто мы имеем здесь дело с «самоиронией».
Палитра комического у Канта чрезвычайно богата оттенками, но по сравнению с прежними романами в ней стало больше горечи и резкости. Юмор «мрачноватый, с сумасшедшинкой», – говорит Г. Кант в предисловии к книге С. Хермлина «Вечерний свет», а кажется, что о своей «Остановке в пути». Действительно, когда мы читаем у Хермлина: «Вскоре стали пытать людей, распространяющих ложь, будто в Германии пытают», невольно вспоминается Г. Кант с его последним романом. Специфичен гротеск у Канта – один из основных приемов в системе изобразительных средств произведения, нечто, по мнению немецкого литературоведа Р. Мельхерта, «грубое, горькое, заостренное, нечто совершенно неслыханное, что не желает оставаться неуслышанным, неувиденным, непрочитанным…» (1, 891–892).
Следует обратить внимание на проблему, которая в самом романе определена как «проблема Первого Слова», она всегда занимала писателя. «Одна из характерных черт Германа Канта как художника и публициста – приверженность к многостороннему анализу семантики слова или понятия» (2, 195), – писала Е. Книпович. В романе «Остановка в пути» автор играет Словом, лелеет его, вот он его, кажется, на свет рассматривает, поворачивает так и этак, – он любит Слово. В романе представлены различные немецкие диалекты, немецкий литературный язык, немецкий ломаный, вульгаризмы, военный жаргон; звучит и польская речь, и русская, и иврит.
Богат язык произведения и в художественном смысле: повторы, лейтмотивы, рифмованная проза, разнообразные словесные сальто и т. п. Кроме того, язык романа до такой степени иносказателен, что произведение в целом можно смело назвать «Великим Словарем Кричащих Намеков».
В этой связи уместно привести высказывание А. Адамовича: «Обещали ему (немецкому народу. – Е.Л.) все, что угодно, чего только не обещали, но не дали, а отняли – все: даже доброе имя, даже язык, даже песни отняли. То, что всегда звучало как немецкое (равно как польское, французское, английское), зазвучало для всей Европы, да и всего мира, как фашистское» (3, 177). Кант в своей книге противопоставляет «фашистскому немецкому» истинный немецкий язык – единство «старонемецкого» (если воспользоваться определением из романа М.В. Шульца «Мы не пыль на ветру»), воплотившего в себе гуманистические идеалы немецкого народа, и «новонемецкого», на путь обретения которого только еще встает Марк Нибур, но которым уже прекрасно владеет автор.
Подчас повествовательная манера Канта напоминает сказочную; это впечатление усиливается благодаря неоднократным упоминаниям ситуаций и персонажей из сказок Гауфа, Гейбеля, братьев Гримм. Однажды герой Канта самоуподобляется знаменитому барону Мюнхгаузену. Иначе говоря, произведение изобилует литературными аллюзиями и реминисценциями. С одной из них непосредственно связан идейный замысел романа. Кант, по собственному признанию, действует «немножко вразрез с эпиграфом»: «дело в том, что речь идет не только о переменах, но о том, чтобы сохранить себя… я думаю, что к переменам способен лишь настоящий характер». Эта авторская мысль воплощена в романе посредством включения в его художественную ткань строки из стихотворения Пауля Флеминга: «Ты ж пребудь вовек собой!»
Иносказательность не в последнюю очередь обусловлена и многочисленными символами. У Канта есть и образы-символы («поезд», «рельсы», «весна»), и понятия-символы (например, «идентификация» или «опознание»), и даже ситуации-символы. Например, по причине дальтонизма Марк у себя в родном городе не был допущен к работе на железной дороге, а в плену он начинает прекрасно различать все цвета: он видит июньское синее небо, зеленые поля, серый гравий, а еще «цвета Польши» и «цвета русских». Если к тому же учесть, что свое исцеление Марк обнаруживает в пути, то смысл этого эпизода становится особенно понятен: герой хоть и «ехал не на родину, но впервые за долгое время ощутил, что она есть…» Или ситуация, когда Марк Нибур вдруг забыл свое имя, «оторвался от своего имени», а вспомнив его, осознал, что «так наступает зрелость», что «у кого нет имени, тот не существует, тому не нужно места, тот… не проходит в ворота, никуда не выходит, не приходит домой».
По-настоящему «имя» (собственное «я», индивидуальность, характер) возвращается к герою в финале книги, когда он освободился от подозрения в убийстве и в то же время уяснил свою вину и ответственность за миллионы убитых. Символична и следующая ситуация: во время идентификации Марк увидел надпись на польском языке, которую он лишь «нанес… на шиферную доску своей памяти, запечатлел в сознании как определенную последовательность знаков, как сложный узор, как… рисунок, как сплетение линий», и только в самом конце пребывания в тюрьме узнал смысл этой надписи: «Пленный, когда ты вернешься домой, борись против войны!»
Кант написал «бесстрашную правду», – говорил К. Симонов; это же умение немецкого прозаика «правду поставить превыше всего» подчеркивал А. Адамович: «Он знает, что вся правда нужна, необходима прежде всего и больше всего самим немцам, немецкому народу…»
Источники
1. Melchert R. Ein deutscher Bildungsroman // Sinn und Form. 1977. № 4.
2. Книпович Е. Историческая сознательность художника: Заметки о творчестве Германа Канта // Иностранная литература. 1979. № 10.
3. Адамович А. О современной военной прозе. М., 1981.
Ганс Вернер Рихтер
Ганс Вернер Рихтер (1908–1993), один из известных западногерманских писателей, является представителем поколения, важнейшей частью жизненного опыта которого стал «опыт смерти» и которое принято определять как «поколение руин». В унисон Генриху Бёллю с его статьей-манифестом «В защиту литературы руин» Г.В. Рихтер писал: «Отличительной чертой нашего времени являются руины… Руины живут в нас, а мы в них». Это цитата из статьи Рихтера, но о том же самом он не раз говорил в своих ранних романах. «У нас больше не осталось никаких чувств, мы были мертвы еще до того, как умерли», – говорит, например, главный герой романа Рихтера «Разбитые» (1949). Помимо этого произведения, писатель создал романы «Они вышли из длани Господней» (1951), «Не убий» (1955), «Линус Флек, или Утраченное достоинство» (1959), «Роза белая, роза красная» (1971) и др., книги рассказов (включая сборник «Путешествия по моему времени. Истории из жизни», 1989), мемуары (в том числе «В поселении бабочек. Двадцать один портрет членов «Группы 47»», 1986), сатирические параболы, радиопьесы, книги для детей, литературно-критические и публицистические статьи.
Чаще всего Рихтер писал о том, что пришлось пережить самому. Как и большинство его сверстников, он был мобилизован в вермахт; служил пехотинцем, в Италии попал в плен к американцам и таким образом оказался в США. Здесь, в лагере для военнопленных, по инициативе Г.В. Рихтера и некоторых других заключенных стал выходить антимилитаристский журнал «Der Ruf», который после репатриации Рихтера еще некоторое время (правда, недолго) продолжал издаваться в самой Германии (Мюнхен, 1946–1947). Его авторы достаточно критично относились к происходящему как в западных зонах оккупации, так и в восточной; в первых их не устраивали проявления реваншизма, в последней – перспектива «социализма советского образца». В конечном итоге журнал был закрыт американской военной администрацией.
Однако вокруг журнала успели сплотиться некоторые писатели «поколения вернувшихся»; они-то и составят ядро известного литературного объединения «Группа 47», названного так по году его создания (практически объединение прекратило существование в 1967 г., официально – в 1977-м). Одним из основателей и бессменным руководителем «Группы 47» в течение всего времени ее деятельности был именно Рихтер. В нее входили такие известные авторы, как Альфред Андерш, Вольфганг Кёппен, Пауль Шаллюк, Генрих Бёлль, Вольфдитрих Шнурре и др. Разные по возрасту, по уровню и природе таланта, по своим эстетическим взглядам, они одинаково ненавидели фашизм и войну и жаждали поведать суровую правду о недавнем прошлом – правду, условно говоря, документального свойства, свободную от многословия и эмоций. Один из критиков позже заметит, что первые произведения «вернувшихся» значительно точнее характеризуются не теми словами и категориями, которые в них наличествовали, а теми, которые отсутствовали; вера, долг, нация, преданность, любовь, честь – смысл этих понятий в сознании вчерашних фронтовиков оказался девальвированным, растоптанным, запятнанным в результате продолжительного использования для обмана миллионов людей.
Тенденция к развенчанию фашистских мифов, к дегероизации войны усиливается в 1950-е годы, когда в Западной Германии особенно явственно дает о себе знать «непреодоленное прошлое» – в политике реванша, неонацизме и неофашизме. Разоблачение фашистской демагогии и было основной целью одного из лучших романов Рихтера – «Не убий». Это роман своеобразного расчета с гитлеровским прошлым, подведение итогов войны, показанной от начала, нападения на Польшу, и до конца. Масштаб военных событий подчеркнут названиями трех частей романа: «Победа и оккупация», «Тотальная война и отступление», «Поражение и хаос». Заголовки отмечают три основные этапа небывалой в истории войны, поставившей на грань выживания все человечество и, едва ли не в первую очередь, – народ самой Германии. «Писатель представил панораму огромного исторического события сквозь призму восприятия его глазами простого обывателя, «маленького человека», вовлеченного в гибельную политику нацистов, безропотно позволявшего помыкать собой при сохранении некоей дистанции к преступному режиму и не упускавшего при этом возможности воспользоваться определенными материальными выгодами военного времени», – пишет Е.А. Зачевский (1, 98).
С точки зрения жанра перед нами хроника жизни семьи Лоренцев и людей, так или иначе с ними связанных. Каждого из героев ожидает трагический конец. Погибают все три сына старика Лоренца – Вальтер, Петер и Герхард, погибает жених их сестры Елены – Юрген Шиман. Бесследно исчезает сам старый Лоренц, призванный в фольксштурм в самом конце войны.
Важно отметить, что при всем сходстве судеб герои Рихтера – достаточно дифференцированные персонажи. Вальтер, который погиб во Франции, – одна из самых зловещих фигур, убежденный национал-социалист, террор и насилие – его стихия. Петер, погибший под Сталинградом, в отношении войны и фашизма придерживается прямо противоположных взглядов. «Он всегда был против», – говорит Герхард. Сам Герхард, по его собственным же словам, «был всегда лишь подпевалой, всегда шел за другими, иногда верил, иногда не верил и всегда старался все использовать как можно лучше для себя». Слишком поздно приходит к Герхарду осознание того, что «все было ошибкой», для исправления которой судьба не даст ему времени: «без пяти 12», как говорят немцы (что значит – в последние дни войны), Герхарда как дезертира вешают эсэсовцы на глазах его матери. Юрген Шиман, убитый в Польше, был человеком по-своему честным и совестливым, но «ко всему равнодушным. Он только исполнял, как и его отец в Первую мировую, свой долг…» Таким образом, все они – вольные или невольные соучастники гитлеровских преступлений, в лучшем случае – жертвы, но борцов среди них нет.
Не менее трагичны судьбы женщин: Елена искалечена; изувечены жизни сестер Нихаген – Карлы и Эрны, обе нравственно деградируют, теряют достоинство и честь и сами пропадают в сплошной неразберихе конца войны. От большого семейства остаются только старуха Лоренц с маленьким внуком, и неизвестно, что их ожидает впереди, – без родных, которых поглотила ненасытная война, без дома, сожженного во время чудовищной бомбардировки, без средств к существованию.
Ганс Вернер Рихтер сознательно стремится обойтись констатацией фактов, без лишней аллегоричности и символики, оставляя читателя перед необходимостью самому делать выводы. И все же мы имеем дело не с сухим отчетом, а с художественным изображением военных событий, поэтому совершенно закономерно трагическая история одной семьи воспринимается как символическое воплощение трагедии всего немецкого народа. Слова Антуана де Сент-Экзюпери: «Война – это болезнь, эпидемия, вроде сыпняка», использованные Бёллем в качестве одного из двух эпиграфов к роману «Где ты был, Адам?», не раз приходят на ум и в процессе чтения книги Рихтера. Автор погружает нас в атмосферу абсурда, аномальности и преступности, заставляет задуматься, в первую очередь – соотечественников, о том, что вина и ответственность лежат не только на тех, кто «призывал» и «вел», но и на тех, кто покорно шел за ними.
В то же время автор стремится опровергнуть известный миф, в распространении которого нацисты были чрезвычайно заинтересованы, – о пресловутом единстве немецкой нации. Особую роль в развенчании этого мифа играет мотив смерти немца от руки немца. Он встречается не только в романе «Не убий», но, пожалуй, в каждом произведении западно– и восточнонемецкой литературы о Второй мировой войне (именно так погибает на пороге отчего дома герой романа Г. Бёлля «Где ты был, Адам?»).
Для литературы Германии о фашизме и войне характерно также обращение к библейским темам, в том числе к христианским заповедям. В частности, в конце 1960-х гг. вышел коллективный сборник рассказов западногерманских писателей под названием «Десять заповедей»; каждый автор посвятил свое произведение той или иной заповеди. Рихтер в качестве заглавия для своего романа тоже избрал известную библейскую заповедь – «не убий», показывая, какие бедствия отдельному человеку, целому народу и всему человечеству несет отступление от этого древнего божественного завета.
Источники
1. Зачевский Е.А. «Группа 47»: Страницы истории литературы ФРГ: 1954–1957. СПб., 2007.
Генрих Бёлль
Западногерманские писатели, пришедшие в литературу вскоре после Второй мировой войны с собственным (в большинстве случаев) опытом участия в ней на стороне вермахта, хорошо осознавали, какие трудные и ответственные задачи возложены на них самой историей: глубоко и бескомпромиссно осмыслить недавнее трагическое прошлое своей нации, показать социально-экономические корни и психологические истоки фашизма, донести до читателей, прежде всего – своих соотечественников, правду о преступлениях нацистов, приложить все усилия ради духовно-нравственного возрождения родины. Среди художников слова, которые никогда не отделяли свои творческие устремления от злободневных забот общества, а послевоенную реальность неизменно осознавали в свете национальной катастрофы, в одном ряду с Гансом Вернером Рихтером, Альфредом Андершем, Вольфгангом Кёппеном, Гансом Эрихом Носсаком, Зигфридом Ленцем, Гюнтером Грассом необходимо назвать и одного из самых талантливых писателей Германии и Европы – Генриха Бёлля (1917–1985).
Родился Генрих Бёлль 21 декабря 1917 г. в Кёльне в семье католиков, Виктора и Марии Бёлль. Семья была достаточно состоятельной, но во время экономического кризиса в конце 1920-х годов разорилась и вынуждена была поселиться в пригороде Кёльна – Радертале, где Генрих посещал народную школу (1924–1928). По возвращении семьи в Кёльн он учится в гуманитарной греко-латинской гимназии (закончил в 1937 г.). Позже Бёлль вспоминал о своем гимназическом детстве: «Нас было около двухсот учеников… Только четверо или пятеро не принадлежали перед выпуском к гитлер-югенду». Среди этих немногочисленных подростков, чье сознание не удалось отравить нацистским идеологам, был и Генрих Бёлль.
Получив аттестат зрелости, он работает учеником продавца в букинистической лавке, пробует свои силы в литературе. В 1938 г. Бёль мобилизован для несения обязательной трудовой повинности, после чего, летом 1939 г., поступает в Кёльнский университет, но всего через несколько месяцев оказывается в гитлеровской армии. В 1961 г. на одной из встреч с советскими читателями в Москве Бёлль на вопрос о его собственом участии в войне отвечал следующим образом: «Участвовал с 1939 по 1945 год. Был и во Франции, и в Советском Союзе (а также в Румынии, Венгрии, Польше. – Е.Л.). Был пехотинцем. Иные отвечают на этот вопрос: был, мол, на войне, но не стрелял и даже не знаю, как устроено ружье. Я считаю такие ответы лицемерием. Я так же виноват и так же не виноват, как любой другой, кто стрелял в этой войне» (1, 561). Между тем известно, что Бёлль как мог уклонялся от фронта; трижды раненный, он каждый раз старался по возможности затянуть свое пребывание в госпитале. В конце войны дезертировал, попал в плен к американцам, после освобождения и возвращения домой снова поступил в университет. Зарабатывал на жизнь помощником столяра, позднее служил в статистическом ведомстве.
Литературный дебют Бёлля состоялся в 1947 г., когда был опубликован его рассказ «Весть». Первым значительным произведением стала повесть «Поезд пришел вовремя» (1949) – о немецких солдатах, возвращающихся после короткого отпуска на фронт в свои части, навстречу смерти. Настоящую же известность Бёллю принёс роман «Где ты был, Адам?» (1951), главный герой которого, пройдя всю войну, незадолго до капитуляции дезертирует и погибает от немецкого же снаряда на пороге родного дома. После выхода в свет этого романа Бёлль целиком посвящает себя литературной деятельности.
Писатель оставил большое и в жанровом отношении весьма разнообразное наследие: романы «И не сказал ни единого слова» (1953), «Дом без хозяина» (1954), «Бильярд в половине десятого» (1959), «Глазами клоуна» (1963), «Групповой портрет с дамой» (1971), «Поруганная честь Катарины Блюм, или Как возникает насилие и к чему оно может привести» (1974), «Заботливая осада» (1979), «Женщины на фоне речного пейзажа» (опубл. в 1985 г.), «Ангел молчал» (1992) и др.; сборники рассказов (в том числе «Путник, когда ты придешь в Спа…», 1950; «Город привычных лиц», 1955), повести («Хлеб ранних лет», 1955; «Самовольная отлучка», 1964 и др.); пьесы и радиопьесы, публицистические и литературно-критические статьи, эссе, дорожные заметки и дневники, переводы. В 1972 г. Бёллю была присуждена Нобелевская премия «за творчество, в котором широкий охват действительности соединяется с высоким искусством создания характеров и которое стало весомым вкладом в возрождение немецкой литературы».
Бёлль неоднократно бывал в Советском Союзе, его охотно переводили, однако примерно с середины 1970-х годов перестали издавать; этот своеобразный бойкот немецкому писателю продолжался до середины 1980-х годов и был связан с его выступлениями в защиту Андрея Сахарова, советских писателей-диссидентов В. Некрасова, В. Гроссмана, В. Аксенова, И. Бродского, А. Солженицына и др. Социальной функции слова Бёлль вообще придавал огромное значение. В статье «Язык как оплот свободы» он, в частности, обращает внимание читателей на то, что «слово действенно, нам это известно, мы испытали это на собственной шкуре. Слово может подготавливать войну… Слово, отданное бессовестному демагогу, может стать причиной гибели миллионов людей; создающие общественное мнение машины могут выплевывать слова, как пулемет пули. Слово может убивать, и вопрос нашей совести – не позволить языку уйти в сферы, где он становится убийственным». Не случайно, предостерегает писатель, всегда и везде, где свободный дух представляет опасность, прежде всего запрещают книги, как это было в фашистской Германии. «Во всех государствах, где властвует террор, слова боятся едва ли не больше, чем вооруженных восстаний, и нередко их вызывает именно слово. Язык может стать последним прибежищем свободы».
Большой резонанс получили речь Бёлля «Образы врагов», произнесенная в 1983 г. в Кёльне на Международном конгрессе в защиту мира, и «Письмо моим сыновьям», опубликованное незадолго до смерти, в связи с 40-летием капитуляции фашистской Германии. В «Письме» он, в частности, заметил: «Вы всегда сможете различать немцев по тому, как они называют 8 Мая: днем поражения или днем освобождения». Необходимо было иметь немалое гражданское мужество, чтобы в продолжение десятилетий напоминать соотечественникам: многие из них «так и не поняли, что их никто не звал под Сталинград, что как победители они были бесчеловечны и человеческий облик обрели только как побежденные».
Умер Генрих Бёлль 16 июля 1985 г. Смерти предшествовала тяжелая болезнь, повлекшая за собой частичную ампутацию правой ноги. Похоронен Бёлль недалеко от Кёльна, в Борнхайме-Мертене. В родном городе именем писателя названы площадь и несколько школ.
В самом начале своей литературной деятельности Бёлль предупреждал, что «человек существует не только затем, чтобы им управляли, и разрушения в нашем мире бывают не только внешние; природа же последних не всегда столь безобидна, чтобы обольщаться, будто поправить их можно за какие-нибудь несколько лет». В этом его единомышленниками были и остаются писатели других стран. Алесь Адамович, который, как известно, сам подростком воевал в партизанском отряде, а позднее немало душевных и физических сил положил на создание книг-напоминаний о фашизме и войне, совершенно в унисон вышеприведенным словам Бёлля писал: «…надо, чтобы как можно больше людей осознали наконец смертельную угрозу загрязнения не одной лишь природной среды, но и человеческой души» (2, 138).
Бёлль как художник был очень популярен у нашей интеллигенции советского и постсоветского периода. Так, известный белорусский прозаик Василь Быков, присутствовавший в составе советской писательской делегации на упомянутом конгрессе в Кёльне, вспоминал в своей последней прижизненной книге «Долгая дорога домой» (2002), что «с самой яркой речью выступил на нем Генрих Бёлль». Чтобы послушать знаменитого соотечественника, на площади перед библиотекой, где проходил конгресс, собралось множество людей, которые вместе со слушателями в зале аплодировали писателю. В. Быков, тогда уже знакомый с биографией Бёлля, знал, что во время войны судьба сводила их в одних местах, в Молдавии и под Ясами, и что, скорее всего, они принимали участие в одних и тех же боях. «Там я, – пишет В. Быков, – контуженный, вернулся в свой батальон, а Бёлль, симулируя болезнь, добился отправки в тыл – такова была разница наших позиций в той войне!» (3, 362). Состоялся и разговор между Быковым и Бёллем о пережитом. По словам белорусского писателя, Бёлль «смотрел на мир Божий иначе – широко и независимо» и имел продолжительное и неоспоримое влияние на сознание европейцев. Вспоминает Быков и высказывание Бёлля о языке как «последнем прибежище свободы» (3, 538).
Некоторые произведения Бёлля и других западногерманских писателей конца 1940-х – 1950-х годов получили наименование «литература руин». К этим произведениям относится и роман Бёлля «Дом без хозяина». Сами авторы считали определение «литература руин» вполне обоснованным. Бёлль в статье «В защиту литературы руин» (1952) писал: «Мы не протестовали против такого названия, оно было уместно: люди, о которых мы писали, действительно жили на развалинах, в равной степени искалеченные войною, мужчины, женщины, даже дети… И мы, пишущие, ощущали нашу близость к ним настолько, что не могли отличить себя от них – от спекулянтов черного рынка и от их жертв, от беженцев, ото всех, кто так или иначе лишился родины, и прежде всего, разумеется, от поколения, к которому сами принадлежали и которое по большей части находилось в необычной и памятной ситуации: они вернулись домой… Вот мы и писали о войне, о возвращении, о том, что мы видели на войне и что застали, вернувшись, – о руинах». Разумеется, Бёлль имел в виду не только руины в буквальном понимании (хотя и их тоже); фашизм изувечил, разрушил немецкий народ в духовном смысле, и преодолеть это состояние было гораздо труднее, нежели возвести новые здания.
Действие романа (как и многих других произведений Бёлля) происходит в родном городе автора, старинном надрейнском Кёльне. «Кёльн – мой материал, – говорил писатель. – Я показываю горечь и отчаяние, скопившиеся в этом городе, как и во всей послевоенной Германии». В центре повествования – две семьи, каждая из которых в результате войны осталась без хозяина. Соответственно, главные герои романа – одиннадцатилетние мальчики, выросшие без отцов, Мартин и Генрих, и их матери – Нелла и Вильма. По своему социальному статусу это разные семьи: в то время как Вильма с детьми едва сводит концы с концами, Нелле не приходится думать о куске хлеба: мармеладная фабрика, ранее принадлежавшая ее отцу, не останавливала производство во время войны (наоборот, из-за такого ненасытного нового потребителя, как война, дела пошли просто блестяще) и после нее продолжает приносить немалую прибыль. Между тем в смысле духовно-нравственном существование обеих семей является одинаково неустроенным, разрушенным недавней войной.
Нормальная жизнь Неллы оборвалась с гибелью на фронте мужа, молодого талантливого поэта Раймунда Баха. Нелла в свое время тоже поддалась фашистской пропаганде и вступила в гитлер-югенд, но встреча с Раймундом изменила ее взгляды. Его смерть, в сущности, сломила Неллу, она живет как в полусне, плывет по течению, лелея свою «мучительную мечту» о любви, которой больше не суждено стать реальностью. Реальность – это та «почва, на которую она менее всего любила вступать» (роман цитируется в переводе С. Фридлянд и Н. Португалова); снова и снова она «склеивает фильм из обрывков, которые стали снами», прокручивает его в памяти, силясь «обратить время вспять». Сама мысль о том, что жизнь продолжается и живые должны думать о живом, для нее невыносима. Новых серьезных отношений, возможного нового замужества она страшится, ибо убеждена, что никакие атрибуты последнего – ни венчание, ни гражданская регистрация – никого и ничего не спасут, стоит только появиться очередному «ничтожеству, наделенному властью посылать на смерть».
Сына Неллы, Мартина, осиротевшего еще до рождения, одного из «первоклассников 1947 года», мысли об отце не оставляют никогда. От Раймунда ему передалось живое воображение, и долгими ночами мальчик мысленно путешествует по пройденным отцом дорогам «этой грязной войны» – по Франции и Польше, Украине и России, чтобы в конце концов оказаться «где-то под Калиновкой», где в 1942 году и погиб Раймунд Бах.
Даже одиннадцатилетний Мартин сознает, что «рядовой и поэт» – нечто совершенно несовместимое. Бах – один из тех, кого принято называть «невольными виновниками» войны. Антифашист по своим убеждениям, он по доносу еще до фронта попадает вместе с другом, художником Альбертом Муховым, в «частный концлагерь», оборудованный штурмовиками в старом каземате. Здесь их избивали, топтали сапогами, здесь над ними издевались «немцы до мозга костей». Ненавидя Гитлера и военщину, не желая идти в армию, даже имея возможность избежать призыва и эмигрировать, он тем не менее не предпринимает ничего, чтобы освободиться от службы в вермахте. Нелле кажется, что Раймунд «сам хотел умереть»: того же мнения, в сущности, и Альберт: «В нем убили душу, опустошили; за четыре года он не написал ничего, что могло бы его порадовать». Тридцать семь стихотворений – все, что осталось от него вдове, сыну и немецкой поэзии.
Судьба Вильмы Брилах сложилась иначе, но во многом напоминает историю Неллы. Ее сегодняшняя реальность – тяжелый физический труд, нищета, полуголодные дети, но все это не мешает и ей жить, подобно Нелле, жизнью призрачной, иллюзорной, на грани сна и яви, мысленно переносясь в то время, когда ее муж Генрих Брилах, помощник слесаря, еще не сгорел, не превратился в «черную мумию» в своем «победоносном» танке «где-то между Запорожьем и Днепропетровском». «Разница между его матерью и матерью Мартина, собственно, не так уж велика, – приходит к выводу Генрих, – пожалуй, она только в деньгах».
Сын Вильмы, в сущности, не знает детства: появившись на свет на грязных нарах бомбоубежища в момент, когда на дом посыпались бомбы, он в три месяца осиротел, а едва успев подрасти, взвалил на свои детские плечи заботы о матери и маленькой сестренке, о хлебе насущном для них. «Дяди», поочередно появлявшиеся в жизни матери, отнюдь не спешили взять на себя ответственность за нее и детей, да и сама Вильма, не уверенная в завтрашнем дне, боялась лишиться мизерного государственного пособия за погибшего кормильца, а потому и не слишком стремилась к официальному замужеству. Не по годам смышленый и рассудительный, Генрих учится жизни не столько в школе, сколько на черном рынке, выгадывая каждый пфенниг. Как и Мартина, его отнюдь не привлекает мир взрослых, в котором так много несправедливости и грязи. Мальчику кажется, что все живое и доброе похоронено под непроницаемым льдом, и даже святые не в состоянии пробиться сквозь него к человеку.
Не полагаясь на взрослых, но при этом пристально наблюдая за ними, дети сами пытаются найти ответы на вопросы, вовсе не простые даже для людей с житейским опытом: что такое нравственность и безнравственность, грех и вина, надежда и обреченность, о каких людях говорят, что они «отчаянные» и что значит – «переломить человека»… Именно с образами мальчиков связывает повествователь (а вместе с ним и читатель) надежду на будущее, в котором не будет места уродливым проявлениям прошлого.
Существенную роль в формировании сознания детей играет Альберт Мухов – один из самых притягательных персонажей романа. Талантливый художник, Альберт до войны работал лондонским корреспондентом немецкой газеты, которая поспешила от него избавиться – вероятнее всего, из-за его антифашистских убеждений. Имея возможность остаться за границей, он после смерти жены возвращается в Германию. Отец Неллы устроил Альберта на свою мармеладную фабрику, где он вместе с Раймундом занимался рекламой.
Смерть жены, «частный концлагерь», фронт, гибель друга, немецкая военная тюрьма в Одессе из-за пощечины, которую он дал лейтенанту Гезелеру, пославшему Раймунда Баха на неминуемую смерть, – все это надломило Альберта. Мир его души разрушен, быть художником он не в состоянии, к тому же не дает покоя сознание своей собственной принадлежности к «бывшим», хотя и «невольным», ибо он тоже воевал и даже еще до фронта успел поработать в определенном смысле на войну: «Победный путь немецкой армии был усеян не только снарядами, не только развалинами и падалью, но и жестяными банками из-под повидла и мармелада…»; «…не сладко нам было всюду натыкаться на это добро, это просто изводило нас…»
Тем не менее он считает, что «начать новую жизнь можно и нужно». Альберт сумел сохранить в себе человечность и сострадание, помогает Нелле, как о родном сыне заботится о Мартине, неравнодушен к судьбе Генриха. Он убежден, что чудовищное прошлое не должно исчезнуть из памяти потомков, ибо только так можно избежать его повторения. Ради сохранения сыновней и исторической памяти он и приводит Мартина на место пыток его отца: «Запомни, здесь били твоего отца, топтали его сапогами и меня здесь били: запомни это навсегда!» Альберт хорошо понимает, что возвращение к обычной жизни – единственный выход для нации и для каждого немца, но отнюдь не через забвение трагического прошлого.
Алесь Адамович в свое время писал: «Похмелье бывает тяжелое, и тогда «сверхлюди», как высшего признания, сильнее всего жаждут, чтобы забыли, кем они хотели стать, и чтобы смотрели на них просто как на людей, на обыкновенных. Оказывается, это так много, это самое великое благо и признание – быть обыкновенным, считаться обыкновенным!.. Надо, оказывается, еще заслужить, чтобы тебя приняли в разряд «просто людей». После того как крысолов увел тебя от них, поманив в «сверхлюди», возврат дается нелегко. И не через забвение прошлого, а через самоочищение правдой, через суд над прошлым» (4, 177–178).
Применительно к роману Бёлля, его персонажи действительно стремятся в разряд «просто людей», но многие – отнюдь не «через суд над прошлым», не «через самоочищение правдой», а именно «через забвение прошлого». Этих «бывших» совесть не слишком мучает из-за их связей с фашизмом, причем в таких случаях речь идет, как правило, не о косвенных, а о настоящих соучастниках фашистских злодеяний. Гезелер, еще недавно самый преданный нацист, уверен, что войну необходимо изгнать из памяти; ему самому это отлично удается. Когда-то он сознательно послал на верную смерть Раймунда Баха, а сейчас «трудится над антологией лирической поэзии», которую «не представляет» без его стихов. «В наши дни нельзя говорить о лирике, не говоря о вашем муже!» – без тени смущения (ведь он «забыл, все забыл») заявляет он вдове Раймунда.
То же можно сказать и о Шурбигеле, который в 1934 г., после прихода Гитлера к власти, защитил докторскую диссертацию на тему «Образ фюрера в современной лирике», а заняв должность главного редактора крупной нацистской газеты, горячо призывал немецкую молодежь пополнять ряды штурмовиков. После войны, когда возникла досадная необходимость как можно дальше запрятать свои нацистские взгляды, он внезапно «познал безграничное обаяние религии», стал «христианином и первооткрывателем христианских дарований», «открыл» и Раймунда Баха, начав печатать его еще во времена нацизма. После войны он – «специалист по современной живописи, современной музыке, современной лирике», «неподкупный критик», автор «отважнейших мыслей» и «рискованнейших концепций», исследователь темы «Отношение творческой личности к церкви и к государству в наш технический век». Каждое свое выступление он начинает с критики «пессимистов» и «еретиков», «не способных уразуметь поступательное развитие духовно созревшей личности». Сын парикмахера, он сполна овладел искусством «умащать и массировать», только, в отличие от отца, делает это не с головами, а с душами людей.
Есть в романе и другие подобного рода персонажи, как, например, католический священник, который во время войны возносил «торжественные молитвы за отечество», вселял «в души патриотический подъем» и «вымаливал победу», поэтизируя фашизм и питая ложным пафосом не одно поколение сограждан; или школьный учитель, который и после поражения не устает убеждать детей, что «не столь уж страшны наци, как страшны русские». Таких «вечно вчерашних» немало было в Западной Германии 1950-х годов, и Бёлль как человек мужественный и совестливый стремился показать, что фашизм все еще оставался (согласно распространенному в немецком литературоведении определению) «непреодоленным прошлым», «реальностью не только вчерашней, но и сегодняшней». В своих «Франкфуртских лекциях» (1964) Бёлль был еще более категоричен: «Слишком много убийц открыто и нагло разгуливают по этой стране, и никто не докажет, что они убийцы. Вина, раскаяние, прозрение так и не стали категориями общественными, уж тем более – политическими».
Роман «Дом без хозяина» достаточно сложен по своей художественной структуре. Его композиция отмечена фрагментарностью, внешней неупорядоченностью, отдельные эпизоды сцепляются по принципу киномонтажа, и эти качества уже сами по себе являются смыслоносителями, соответствуют атмосфере духовной неупорядоченности и материальной разрухи, царившей в западногерманском обществе первых послевоенных лет и даже десятилетий. Персонажи живут в нескольких временных измерениях, прошлое и настоящее напластовываются, иногда почти сливаясь и демонстрируя обусловленность сегодняшнего положения вещей вчерашними катастрофическими событиями.
Ракурсы повествования то и дело меняются, для романа характерна так называемая множественность точек зрения (вероятно, не обошлось без влияния американского писателя Уильяма Фолкнера): на все происходящее читатель смотрит глазами то Неллы, то Вильмы, то Альберта, то одного мальчика, то другого. Реальность для них – общая, но для каждого в чем-то своя; в итоге истории героев лишаются единичности, камерности, образуют объективную панораму жизни послевоенной Германии.
Многомерно и название романа, несущее в себе, помимо конкретного содержания, еще и глубоко символический смысл: Германия, сначала поделенная союзниками на «зоны», а вскоре расколотая на два государства, тоже представлялась «домом без хозяина».
Погруженность персонажей в прошлое или в определенные проблемы передается посредством слов и выражений, выделяемых – с целью активизировать читательскую мысль – курсивом. Роман насыщен символами-лейтмотивами, над диалогическим рассказом преобладает монологический. Важное значение придается точной и выразительной детали (это может быть название книги или уличная надпись, киноафиша или рекламный плакат, описание этикетки или нюансы произношения и т. д.), а также поэтике цвета (например, появление Неллы всегда сопровождается упоминанием зеленого цвета, который вообще часто встречается в произведениях Бёлля; известно, что это был любимый цвет его жены).
Существенную функцию в создании художественного мира романа выполняют библейские мотивы, образы, цитаты, слова молитв, пронизывающие повествование. Незабываемое впечатление оставляют урбанистические пейзажи Бёлля – описания Кёльна, в которых воздух города отдает то солоноватым запахом, то горьким – свежепросмоленных барж, он наполнен протяжными гудками пароходов, проплывающими над купами прибрежных деревьев.
Бёлль блестяще владел искусством тонкого проникновения в психологию героев, в том числе детей. Не случайно Алесь Адамович, признаваясь, что ценит тех авторов, чей ум направлен «на глубины человеческой психологии» (5, 323), в одном ряду с именами Ф. Достоевского, Л. Толстого, И. Бунина, У. Фолкнера называл имя Генриха Бёлля.
Источники
1. Мотылева Т.Л. Генрих Бёлль: Проза разных лет // Г. Бёлль. Самовольная отлучка: Романы, повести. Минск, 1989.
2. Адамович А. Хатынская повесть. Каратели. М., 1984.
3. Выкау В. Доугая дарога дадому. Мшск, 2002.
4. Адамович А. О современной военной прозе. М., 1981.
5. Адамович А. Додумывать до конца: Литература и тревоги века. М., 1988.
Гюнтер Грасс
Карлик Оскар Мацерат, главный герой романа Гюнтера Грасса «Жестяной барабан», задолго до собственного рождения возненавидел гнусный, смрадный, коварный «мир взрослых», участи жить в котором он решил избежать во что бы то ни стало: завершив духовное развитие еще в материнском чреве, он в три года принимает кардинальные меры к тому, чтобы прекратить и свой физический рост. Несмотря на всю мощь презрения и ненависти к людям, Оскар все же время от времени ощущает потребность заново утвердиться в своем о них мнении. Обладая удивительной способностью пением превращать в осколки любые стеклянные предметы, он с наступлением темноты выходит на охоту: расколов витрину очередного магазина, он со злорадным наслаждением наблюдает, как господа преклонного возраста и юные парочки, приказчики и горничные, чиновники и светские дамы, все эти безупречные в своем дневном, публичном существовании бюргеры неизбежно попадаются на его провокацию и превращаются в заурядных мародеров.
Именно провокация, по мнению известного российского германиста А.В. Карельского, является «определяющей реакцией Оскара на всё, что связано со сферой морали» (1, 364). При этом возникает логический вопрос, не является ли творчество Грасса в целом своеобразной провокацией сограждан, сплошным срыванием масок с так называемых нормальных, добропорядочных жителей прежде всего своей страны – ради их же скорейшего духовного исцеления?
В сущности, во всех своих произведениях Грасс вскрывает аномалии немецкой действительности и немецкого характера, и делает это настолько беспощадно и бескомпромиссно, что заслужил у соотечественников прочную репутацию «осквернителя родного гнезда». Доставалось Грассу и в ГДР, где его обвиняли в конформизме, антикоммунизме, «антиреволюционном политическом прагматизме» и тому подобных грехах. Например, его роман «Из дневника улитки» подвергся в ГДР резкой критике по причинам идеологическим. В. Райнхольд, один из авторов трехтомной «Истории немецкой литературы» (в 1986 г. переведенной на русский язык), в частности, писал: «Для Грасса улитка – символ движения к прогрессу… он (Грасс. – Е.Л.) не останавливается перед исторической компиляцией, отождествляет немецкое рабочее движение в целом с реформистской социал-демократией и замалчивает историческое банкротство правых кругов СДПГ накануне и после Первой мировой войны» (2, 275).
Доставалось писателю и в ФРГ, где он в течение всего своего творческого пути был и остается главным раздражителем как для правых, так и для левых, проявляющих редкое единодушие, когда дело касается Грасса. «Богохульство», «склонность к порнографии», «фальсификация немецкой истории» – далеко не полный перечень «преступлений», вменявшихся писателю западногерманской критикой. Грасс не отмалчивался и за словом в карман не лез:
Мои необычайно взволнованные друзья, Которые когда-то меня обгоняли слева, Теперь отстают И перерезают мне путь справа. Пожалуй, скоро Они будут взирать на меня сверху вниз, Паря в поднебесье?Сопротивление какой бы то ни было несправедливости, неприятие любых форм насилия – национальных, социально-политических, психологических – неотъемлемая часть жизненной философии и творческой позиции Грасса. Достаточно вспомнить, что в знак солидарности с Салманом Рушди (как известно, англоязычный индийский писатель Салман Рушди в 1989 г. был приговорен к смерти иранскими фундаменталистами за оскорбление ислама, якобы содержащееся в романе «Сатанинские суры»; вынужден жить в эмиграции под чужим именем) Грасс сложил с себя полномочия президента Берлинской академии изящных искусств (к слову, шведка Керстин Экман по той же причине покинула шведскую Академию, которая позже удостоит Грасса Нобелевской премии). Кстати говоря, присуждение Грассу Нобелевской премии в 1999 г. оказалось тем редким случаем, когда имя лауреата не вызвало не только негативной реакции, но даже удивления, причем как у мировой общественности, так и у большинства немцев. Это означает, что Грасса можно упрекать в чем угодно, только не в отсутствии подлинного таланта.
Родился Гюнтер Грасс 16 октября 1927 г. в Данциге (теперь принадлежащий Польше портовый город Гданьск) в семье владельца небольшой бакалейной лавки. Данциг стал для Грасса феноменом вроде Дублина для Джеймса Джойса или Бомбея для Салмана Рушди: о чем бы ни повествовал Грасс, какие идеи ни овладевали бы его художественным сознанием, в качестве неизменного топоса во всех его произведениях так или иначе присутствует Данциг. «… К прочим причинам, побуждающим писателя создавать книгу за книгой, – говорил писатель в Нобелевской лекции, – добавилась еще одна: сознание непоправимой потери родины. Рассказывая истории, я пытался – нет, не вновь обрести разрушенный, потерянный город Данциг, но хотя бы вызвать его заклинанием… я желал показать самому себе и читателям, что утраченное не должно погрузиться в пучину забвения, но, напротив, способно через искусство литературы получить новое воплощение – в величии и жалком ничтожестве; с церквами и кладбищами; с шумом верфей и запахом ленивого балтийского прибоя; с языком, давно пошедшим на убыль; … с грехами, отпускаемыми на исповеди, и преступлениями, которые невозможно искупить».
Мать Грасса была кашубкой, представительницей небольшой в количественном отношении этнической группы славян, издавна населявших устье Вислы, народа вольнолюбивого и непокорного, всегда, вопреки неблагоприятным историческим обстоятельствам, стремившегося сохранить свою самобытную культуру, язык, менталитет, но сегодня, в сущности, вымирающего («прискорбным для маленького исчезающего народа» назовет писатель XX век). Сам Грасс не однажды говорил о плодотворности собственного происхождения, своего разноязычного и разнокультурного окружения (кашубско-немецко-польского) и языческо-католических, согласно грассовскому определению, традиций, распространенных в Данциге и на прилегающих к нему территориях.
Мобилизованный в 1944 г. под знамена вермахта, Грасс провоевал около года. В 1945 г., будучи раненным, оказался в американском плену, из которого вернулся в 1946-м. О судьбе своей и своих сверстников писатель позже скажет: «Мое поколение – о себе я это могу утверждать с полной ответственностью – постоянно осознает, что оно по чистой случайности получило возможность писать, ибо люди моего года рождения – 1927-го, как и более преклонного возраста (идя назад от 1926 года к 1920-му), знают – они понесли огромные потери. Война сделала своеобразный негативный отбор, уничтожив множество талантов, возможно, значительно больших, нежели все мы, вместе взятые. И когда я пишу, я ощущаю – не всегда, но часто ощущаю, – что я пишу от имени энного количества людей, которые по небезызвестным причинам никогда не смогут высказаться».
Вернувшись из плена, Грасс некоторое время работает наемным рабочим в деревне, шахтером на калийном руднике, затем – учеником каменотеса, мастера по изготовлению надгробий. С 1948 г. Грасс – студент Академии искусств в Дюссельдорфе, с 1953 г. продолжает образование в Институте изобразительных искусств Западного Берлина. Став художником, он работает в самых разных сферах – живописи, графике, скульптуре; его выставки в Нью-Йорке, Токио, европейских столицах имеют огромный успех и широкий резонанс. Грасс – неизменный иллюстратор собственных литературных произведений, в которых, как на его полотнах и гравюрах, преобладает гротеск. Сальвадор Дали мог, как известно, расположить пианино на задворках скотного двора, а в торсе Венеры Милосской устроить выдвижные ящички; Грасс в определенном смысле – продолжатель традиций великого сюрреалиста: его акулы курят, его камбалы – о двух головах, а рука писателя что есть мочи сопротивляется погребающей ее каменной лавине.
В литературе он дебютирует в середине 1950-х. Творчество Грасса-писателя, как и Грасса-художника, с самого начала чрезвычайно многообразно: стихи, рассказы, пьесы-абсурды, эссе, литературно-критические статьи, повести и романы. Уже в 1955 г. он читает свои стихотворения на заседании знаменитой «Группы-47», основанной Гансом Вернером Рихтером (известным нашему читателю прежде всего своим романом «Не убий»). В 1957 г. Грасс был принят в «Группу-47» и в течение последующего десятилетия активно участвовал в ее работе. Г.В. Рихтеру, с которым отныне Грасса будут связывать дружеские отношения, он позже посвятит повесть «Встреча в Тельгте» и одно из своих эссе.
В 1950-х годах Грасс много путешествует, посещает Италию, Францию, Испанию, Польшу. Постоянным местом жительства во 2-й половине 1950-х годов стал для Грасса Париж, где он поселился с семьей – первой женой, швейцарской балериной Анной Шварц, и детьми. Именно в Париже он создает свой роман «Жестяной барабан» («Die Blechtrommel», 1959), шедевр, прнесший автору мировую славу. Затем появятся повесть «Кошки-мышки» («Katz und Maus», 1961) и роман «Собачьи годы» («Hundejahre», 1963), образующие вместе с «Жестяным барабаном» «Данцигскую трилогию», а также романы «Под местным наркозом» («Örtlich betäubt», 1969), «Из дневника улитки» («Aus dem Tagebuch einer Schnecke», 1972), историческая повесть «Встреча в Тельгте» («Das Treffen in Telgte», 1979), романы-антиутопии «Камбала» («Der But», 1977) и «Крысиха» («Die Rättin», 1986), а также другие прозаические произведения. Грасс пишет многочисленные поэтические книги, исполненные беспредельной фантазии, населенные необыкновенными, немыслимыми предметами и существами: «Преимущества воздушных кур» (1956), «Рельсовый треугольник» (1960), «Опрошенный» (1967) и др. Но, кажется, и по сегодняшний день, когда достоянием мирового читателя стали новые книги писателя, включая «нобелевскую» «Мое столетие», грассовской визитной карточкой, знаковым грассовским произведением остается «Жестяной барабан» – гротескно-натуралистическая, отчаянно-эпатажная история карлика Оскара Мацерата. Писатели «Группы-47» оценили роман еще до опубликования и, более того, до его завершения: в 1958 г. Грасс за прочитанные на ее заседании восемь с половиной страниц был удостоен премии «Группы-47». Так возник прецедент, когда премия, причем весьма престижная, присуждалась за маленький фрагмент незаконченного произведения (всего роман будет насчитывать более 700 страниц).
Центральный персонаж густонаселенного произведения – Оскар Мацерат, на время нашего знакомства с ним пациент психиатрической лечебницы, где он оказался не без собственных усилий. Исходная точка повествования – 1954 год, канун тридцатилетия героя. Год этот, однако, для Оскара – то же, что один конкретный день для джойсовского Леопольда Блума или для героев фолкнеровского романа «Шум и ярость»: это дата-трамплин, повод обозреть пройденный путь, возобновить в памяти сложную мозаику из более и менее удаленных во времени ситуаций и лиц, остановиться на «этапных», кульминационных событиях своей жизни и вместе с этим воссоздать картину жизни Германии в течение трех десятилетий.
Таким образом, Оскар – свидетель происходившего в стране с 1924 года (когда уже начинал набирать силу фашизм) до периода западногерманского «экономического чуда». Мацерат пережил страшные погромы штурмовиков в Данциге, Вторую мировую войну, на которой погибли многие его ровесники, послевоенные годы официального «преодоления прошлого», и, наконец, признанный душевнобольным, он нашел тихое убежище в сумасшедшем доме. Об обстоятельствах становления личности Оскара выше упоминалось – оно завершилось на момент рождения, физический же рост героя остановился на 94 сантиметрах в момент достижения им трехлетнего возраста. Произошло это в соответствии с точным расчетом Мацерата: имитируя несчастный случай, он бросился в открытый погреб и получил желаемую травму, вследствие которой он жизни не лишился, зато раз и навсегда возвел непреодолимый барьер между собой и «другими» – сделался, как и задумал, калекой, карликом, уродом и, соответственно, посторонним, чужаком, аутсайдером. С этого времени Оскар, «вечно-трехлетний, но трижды умный», займет удобную позицию наблюдателя за «взрослыми», что называется, «снизу», то и дело испытывая их на добропорядочность, всякий раз осуществляя дьявольскую замену себя-жертвы на себя-прокурора, судью и палача в одном лице.
Следует заметить, что Оскар вообще не стремился в этот мир и, скорее всего, побрезговал бы жизнью, если бы не подслушанное еще во время его нахождения в материнской утробе обещание матери сделать ему на трехлетие подарок – жестяной барабан. В продолжение трех десятилетий барабан будет его единственным преданным другом, спутником и участником всех его приключений, своего рода духовником и доверенным лицом. Заметим, что все перечисленные аспекты отнюдь не исчерпывают содержания заглавного образа; жестяной барабан в романе Грасса – это, в частности, еще и способ символического воплощения барабанной, маршевой (читай: милитаристской, военизированной) атмосферы Германии предвоенных и военных лет. Сам писатель в одном из интервью заметил: «Широту романа никак нельзя определить тем, что действие в нем переносится из одного мирового города в другой, а объектом изображения являются великие исторические события. Задача литературы как раз и заключается в том, чтобы найти в деталях общие закономерности; деталь я, к примеру, воспринимаю как описание провинциального города или пригорода провинциального города…» Далее Грасс подчеркивает: «В романе «Жестяной барабан» я сознательно выступаю против тенденции литературы, возникшей сразу после войны, то есть литературы, которая считала себя внепространственной и вневременной и, вольно или невольно, была эпигонской, подражающей Кафке».
В целом структура прообраза грассовского Оскара Мацерата чрезвычайно сложна: в ней узнаются сказочной злой гном и гриммельсгаузеновский пикаро Симплиций Симплициссимус, славный идальго из Ла-Манчи Сервантеса и герои многочисленных немецких «романов воспитания»… Оскар одновременно комичен и трагичен, умник, но и сумасшедший, мудрец и искатель истины, но и злодей и циник, сверхпрагматик, но и эксцентрик. Однако прежде всего в грассовском герое просвечивает один из трансцедентных образов мировой литературы – шут, скоморох, клоун, который испокон веков обладал исключительной привилегией говорить правду в лицо королям, сколь бы неприглядной она ни была.
В послевоенной немецкой литературе мотив клоунады встречается достаточно часто. Он звучит уже в драме трагически рано ушедшего из жизни Вольфганга Борхерта «На улице перед дверью», позднее – в романах «Глазами клоуна» Генриха Бёлля, «Дело д'Артеза» Ганса Эриха Носсака, «Охота на сурков» немецкоязычного писателя Ульриха Бехера и др. Возможна, к примеру, аналогия между Оскаром и героем Носсака Эрнстом Наземаном, который, будучи известным комическим актером, автором и исполнителем остросатирических пантомим, берет в качестве псевдонима имя одного из персонажей «Утраченных иллюзий» Бальзака. Как и он, Оскар Мацерат по-своему стремится сохранить «экстерриториальность» (если воспользоваться д'артезовским определением личной суверенной позиции), т. е. проводит четкую границу между собой и враждебной действительностью со всеми ее «свинцовыми мерзостями».
Физическое уродство для героя Грасса – своего рода «оберег», гарант независимости от куда более уродливого и уродующего мира. В связи с этим вспоминается место из книги Виктора Ерофеева «В лабиринте проклятых вопросов», где автор, имея в виду русскую литературную традицию (хотя, думается, то же самое можно констатировать и в отношении всякой иной), акцентирует наличие в ней, наряду с исполненными гармонии образами, персонажей, наделенных всевозможными символически содержательными физическими дефектами; последние, считает В. Ерофеев, «ни в коей мере не нейтральны, они свидетельствуют против героя» (3, 82). Что касается уродливой внешности Оскара Мацерата, то ее символический смысл и есть полный разрыв с окружением, создание ореола изолированности персонажа и, соответственно, право на беспощадное разоблачение добропорядочных членов общества – «нормальных», «здоровых», «недураков», которым, при ближайшем рассмотрении, как раз самое место если не в психушке, то в тюрьме.
Кажется, всю жизнь Оскар Мацерат только то и делал, что сознательно утверждался в давнишней сентенции Селина: «Человек настолько же человечен, насколько курица умеет летать». Стоит ли после этого удивляться грассовской репутации «осквернителя тридцати лет немецкой истории», «сочинителя свинств», «врага немецкого народа», как называли писателя неонацисты во время затеянного ими символического сожжения его книги в 1965 г. в Дюссельдорфе. Сам писатель определил свои произведения, включая «Жестяной барабан», как «обвинения, брошенные стране из любви к ней».
В 1978 г. роман был экранизирован (реж. Фолькер Шлёндорф, в ролях – Дэвид Бенетт, Марио Ардорф, Даниэль Ольбрыхски, Ангела Винклер, Шарль Азнавур) и получил Золотую пальмовую ветвь в Каннах. Были экранизированы также повесть «Кошки-мышки» (1966; реж. Хансюрген Поланд) и другие произведения Грасса.
Свою стилевую родословную Грасс ведет, по его собственному признанию, от «мавро-испанской школы плутовского романа», влияние которого в XX столетии отразилось в творчестве и Томаса Манна, и Ярослава Гашека, и Эрвина Штритматтера. «На протяжении веков, – говорил писатель в своей Нобелевской лекции, – моделью ему служила борьба с мельницами. Пикаро и живет комизмом поражения», видя смысл своего существования в разрушении дворцов и переворачивании тронов при одновременном осознании безнадежности подобных намерений. По словам опять же самого Грасса, его стиль – это юмор, который «отвоеван у отчаяния», это театр, где «трагедия и комедия ходят рука об руку», где даже «отточенные до цинизма шутки полны трагизма», а «смех имеет свойство застревать у нас в горле», где сквозь пародийно-анекдотический антураж ясно виден драматизм человеческого существования.
Проза Грасса – это нечто, напоминающее трагический стоицизм Сизифа, каковым он, по крайней мере, видится писателю в интерпретации французского экзистенциалиста Альбера Камю. Не случайно именно к Сизифу взывает Грасс в своей Нобелевской лекции: «Мне… не остается ничего иного, как преклонить колени перед святым, который неизменно меня выручал и который способен сдвинуть с места самую тяжелую глыбу. Итак, я взываю: о святой Сизиф, …молю, позаботься о том, чтобы тот камень не залежался на вершине, дай нам сил своротить его с места, дабы нам с нашим камнем посчастливилось так же, как тебе с твоим…»
В соответствии с пикарескной традицией грассовский рассказчик, как правило, «держит бинокль перевернутым»: смешивает временные пласты, повторяет-толчет одни и те же истории, насыщает их масками и двойниками, гиперболизирует характеры и поступки, придает персонажам качества «карликов и великанов», сам при этом оставаясь совершенно неуловимым или, как минимум, «множественным», разным. Повествование от первого лица постоянно сопровождается рассказом от третьего лица – и не следует надеяться, что эти «лица» как-то будут разведены: они сталкиваются лбами не только в одном абзаце, но даже в одной фразе. Как, например, в «Жестяном барабане»: «Его, то есть Греффа, я не любил. Он, то есть Грефф, не любил меня. И позднее… я его не любил. Впрочем, и по сей день, когда у Оскара уже не осталось сил для столь устойчивых антипатий, я недолюбливаю Греффа, хотя его и на свете-то больше нет». Или: «Мне было неприятно половиной фигуры сразу оказаться против зеркала, однако Оскар не стал уклоняться от встречи со своим зеркальным и потому навряд ли полезным для него отражением, ибо предметы на туалетном столике… очень меня заинтересовали и заставили Оскара подняться на цыпочки»; «Не спрашивайте Оскара… У него больше не осталось слов. Ибо то, что раньше сидело у меня за спиной, целовало мой горб, отныне и впредь будет неизменно выходить мне навстречу». (Здесь «я» и Оскар – одно и то же лицо, как будто раздвоившееся физически и душевно.) Особый грассовский стиль можно, пожалуй, определить как непосредственное воспроизведение сознания. Известный германист А.А. Гугнин характеризует стиль Грасса следующим образом: «Специфика же его повествовательной манеры состоит в том, что гротескно-абсурдный и неправдоподобный сам по себе сюжет или эпизод разворачивается на фоне совершенно конкретных (и поддающихся проверке) социально-исторических, политических, географически-топографических, психологических и прочих подробностей, которые легко соотносятся с непосредственным опытом читателей и заставляют их прилагать интеллектуальные и духовные усилия… для овладения содержанием текста в целом» (4, 97–98).
Вообще же определить грассовскую художественную манеру без всевозможных уточнений и оговорок в принципе невозможно: в ней счастливо уживаются сатира Рабле и Свифта с экзистенциализмом, натурализм и экспрессионизм – с элементами «потока сознания» и тонким лиризмом, европейский театр абсурда – с новым романом, пародия и фарс – с трагедией, виртуозная языковая игра – с точностью и выверенностью детали. Среди своих литературных учителей Грасс называет, помимо уже упоминавшихся Гриммельсгаузена и Сервантеса, еще Гёте и Стерна, Мелвилла и Джойса, Дос Пассоса и др. Из соотечественников безусловным его предшественником является Альфред Дёблин с его романом «Берлин, Александерплац» прежде всего, но не только («…потом я учился на каждой книге этого автора»).
При этом очевидное присутствие названных и неназванных, близких и далеких по времени писателей и литературных традиций сопровождается в творчестве Грасса, как ни парадоксально, ощущением некоторого авторского пренебрежения всякими канонами, включая авангардистские. Не говоря уж о реализме, который – с его принципом мимезиса – малопригоден, согласно Грассу, для воплощения неслыханно сложной событийной стихии XX столетия, тем более в ее немецком варианте. Недаром кто-то назвал Грасса «хиппи от литературы».
К слову, литература XX в. в целом отмечена чрезвычайно мощным взаимопроникновением авангардистских, реалистических и постмодернистских тенденций, мощным до такой степени, что часто не представляется возможным их размежевать. Есть все основания говорить о наличии в мировой литературе XX в. (особенно во 2-й его половине) авангардистско-реалистического синтеза, именно синтеза, а не механического соединения, не конгломерата. Грасс, думается, как раз тот случай, когда писатель слишком авангардист для реалиста и слишком реалист (при всей грассовской антипатии к реалистическому художественному методу), чтобы называться авангардистом.
Родная стихия Грасса – рефлексия; впрочем, рефлексивностью отмечена немецкая литература в целом, и не только XX в. При этом Грасс чрезвычайно внимателен к отдельной, самой, казалось бы, незначительной детали, к вещи в широком смысле слова; А.В. Карельский справедливо говорил о грассовском «потоке ощутимой и зримой вещности жизни» (1, 359).
Каждая книга Грасса содержит разветвленную систему символов, часто приобретающих значение символов-лейтмотивов. В «Жестяном барабане», например, таким символом, помимо заглавного образа, становится психиатрическая лечебница, известная в качестве метафоры действительности по многочисленным произведениям мировой литературы (можно вспомнить Ремарка с его «Черным обелиском», Кизи с его «Полетом над гнездом кукушки» и др.). Многоуровневым символическим смыслом насыщены названия большинства грассовских произведений. К примеру, название романа «Под местным наркозом» по-немецки (на что обращали внимание многие литературоведы) несет в себе семантику не строго научного понятия Lokalanasthesie (местная анестезия), а собственно немецкого словообразования Örtlich betäubt (от Ort – место и taub – глухой).
Язык произведений Грасса – отдельная и, кажется, неисчерпаемая тема. Грассовский язык неожиданен и непредсказуем. Писатель сопротивляется привычным грамматическим формам, категорически не приемлет штампов и стереотипов. И не только потому, что таков его стиль, такова природа его таланта. Для Грасса, согласно его Нобелевской лекции, принципы повествования – нечто большее, нежели «формы искусства» в обычном понимании, это «формы выживания» немецкой речи, немецкого народа, немецкой литературы. «Пророческое предупреждение Адорно, словно начертанное на стене, остается действенным и по сей день (имеются в виду широко известные слова немецкого философа, социолога и музыковеда Теодора Адорно: «Писать стихи после Освенцима – варварство…»; в феврале 1990 г. во Франкфурте-на-Майне Грасс читает студентам лекцию под характерным названием «Писательство после Освенцима». – Е.Л.). Литераторы моего поколения открыто с ним боролись. Мы не хотели и не могли молчать. Нам предстояло освободить немецкий язык от шага в ногу, вызволить его из пут идилличности и романтически мечтательной замкнутости. Нам, детям, обожженным войной, выпало на долю отвергнуть абсолютные величины, устранить идеологическое деление на черное и белое. Сомнения и скепсис стали нашими родителями: разнообразие оттенков серого преподносилось нам как подарок».
Отсюда доминирование в раннем творчестве Грасса эксперимента, окрашенного подчеркнутым аскетизмом. С течением времени Грасс откроет для себя неизведанные глубины немецкого языка, «его соблазнительную мягкость, его задумчивую тягу к глубокому смыслу, его гибкую твердость, да и его диалектные переливы, его простодушие и многозначность, его чудачества и его цветущую сослагательными оборотами красоту. Заново обретенный капитал стоило пустить в рост – вопреки Адорно и вынесенному им вердикту. Только так могло продолжаться писательство после Освенцима – будь то поэзия или проза. Только так, становясь памятью и не позволяя прошлому окончиться, могла немецкоязычная послевоенная литература оправдать применительно к себе и новым поколениям повсеместно узаконенный канон писательства «Продолжение следует…» Только так можно было держать рану открытой…» («Продолжение следует» – название Нобелевской лекции Грасса).
Писатель продолжает работать на рубеже XX–XXI вв.; его имя остается одним из самых значимых в «после-послевоенной литературе» (Nach-Nachkriegsliteratur – так принято в литературоведении ФРГ определять отечественное искусство слова последнего десятилетия XX – начала XXI в.). В 1992 г. Грасс публикует повесть «Крик жерлянки» («Unkenrufe») – о поздней любви немца Александра и польки Александры. В 1995 г. выходит роман «Необъятное поле» («Ein weites Feld»; иногда, с учетом символико-аллюзивной структуры произведения, его название переводят то как «Долгий разговор», то как «Все еще впереди» и даже «То ли еще будет»). Роман вызван к жизни таким эпохальным событием, как объединение Германии; писатель размышляет о прошлом, настоящем и будущем страны, о социально-экономических, историко-политических и психологических последствиях объединения. Один из западногерманских критиков, М. Эверт, определил роман как диалог «между прожитым и проговоренным настоящим и цитируемым прошлым», осуществляемый благодаря художественно реализованной авторской концепции «четвертого времени» – «Vergegenkunft».
«Vergegenkunft» (нечто вроде «прошнастодущее») – грассовский неологизм, производное от немецких слов, обозначающих время: Vergangenheit (прошлое), Gegenwart (настоящее) и Zukunft (будущее). Сам Грасс в беседе с писателем Зигфридом Ленцем излагал суть своей концепции «четвертого времени» следующим образом: «Настоящее (Gegenwart) – довольно проблематичное понятие. Даже начало нашего разговора уже кануло в прошлое. Нет ничего более преходящего, ничего более мимолетного, нежели настоящее. Оно ускользает, подобно мгновению, не оставляя свободы действий. У настоящего ограниченное пространство. Поэтому в последнее время – несколько играя, но по сути весьма серьезно – я отдаю предпочтение понятию Vergegenkunft. Это четвертое время, позволяющее преодолеть наше школьное размежевание «прошлое – настоящее – будущее», использовать их параллельно или приблизить к себе, в особенности будущее. Поскольку такая возможность есть, она может быть – во всяком случае, в книгах – предложена читателю, не желающему, как и автор, мириться с редукцией нашей действительности» (5, 261–262).
Само понятие «Vergegenkunft» Грасс вводит в обиход в романе «Головорожденные, или Немцы вымирают» (1980), но концептуально внедряет в собственной художественной практике гораздо раньше, по сути, начиная с «Жестяного барабана», оставаясь верным этому принципу изображения реальности (вызывающему настойчивые ассоциации с манерой письма Уильяма Фолкнера) во всех последующих своих произведениях.
Гениально проста по замыслу и композиции книга Грасса «Мое столетие» («Mein Jahrhundert», 1999): она состоит из ста новелл, каждая из которых посвящена одному году XX века – века мировых войн, кровавых революций и государственных переворотов, глобальных экологических бедствий, угрозы ядерной катастрофы. Следует заметить, что грассовское произведение – отнюдь не первая попытка немцев подвести итог XX столетия в общечеловеческом и прежде всего отечественном масштабе; назовем такие книги, как «Немецкий комплекс» («Der deutsche Komplex», 1991) публициста Рольфа Штольца, «Немецкие обстоятельства» («Deutsche Zustände», 1992) хорошо известного советскому и постсоветскому читателю прозаика Гюнтера де Бройна, монография Б. Хауперта и Ф.И. Шефера «Молодежь между крестом и свастикой: Реконструкция биографии как история повседневности фашизма» («Jugend zwischen Kreuz und Hakenkreuz: Biographische Rekonstruktion als Alltagsgeschichte des Faschismus», 1991) и др. В определенном смысле эти и подобные им исследования подготовили книгу Грасса – синтез документально-публицистического и собственно художественного, «большого» и «малого», ментального и социально-политического, объективно-системного и субъективно-индивидуального.
Сердцевина замысла «Моего столетия» – постижение общего через частное. Автор «воскрешает» известных немецких писателей, политических деятелей, наконец – родных и близких, предлагая личный взгляд каждого и свой собственный на результаты исторического развития Германии, на перспективы ее и Европы в целом. Сменяя друг друга, перед читателем проходят молодой солдат-баварец (1900), производитель грампластинок из Ганновера (1907), швейцарская журналистка и ее собеседники, писатели Эрих Мария Ремарк и Эрнст Юнгер (1914–1918), женщина из Гамбурга, трое сыновей которой – полицейский, коммунист и нацист – оказались по разные стороны баррикад (1928), художник-еврей (1933), офицер, выполняющий свой «долг перед фюрером» в концлагере Ораниенбург (1934), гимназисты, играющие в войну (1937), нацистский фотограф, в составе пропагандистской бригады оказавшийся в уничтоженном Варшавском гетто (1943), жительница Берлина, участвующая в расчистке руин (1946), молодожены из Франкфурта (1964), старики и молодые ребята из Оберпфальца, до которого тоже добралось «облако из Чернобыля», «приплыло» и «нависло», пропитывая цезием лес и землю (1986), священнослужитель (1992), покойная мать писателя (1999)… Дети и пенсионеры, гражданские и военные лица, домохозяйки и узники лагерей, высокопоставленные чиновники и панки… Есть в книге и ситуации воображаемые, отнюдь не противоречащие исторической правде, но уплотняющие ее, выводящие на уровень непреходяще-универсального (такова, например, встреча Готфрида Бенна с Бертольтом Брехтом на могиле Генриха фон Клейста в 1956 г.).
Разумеется, нашлось в книге место и для самого Грасса – размышляющего, любящего, переживающего; более того, он как бы растворен почти в каждом очередном персонаже-рассказчике. «Я, подменяя себя самого собой самим, неизменно, из года в год при этом присутствовал», – вот повествовательный принцип Грасса, на что, собственно, указывает и само название книги. По словам немецкого критика И. Аренда, герои «Моего столетия» снова и снова, от этюда к этюду, «излагают историю «снизу» – в противовес устоявшемуся взгляду на историю «сверху»»; таким образом, писатель (опять-таки, со времен «Жестяного барабана») остается верен себе, своей мировоззренческой позиции и философско-эстетическому кредо.
Кстати говоря, на восприятии «нобелевского» произведения Грасса, как и более ранних, не замедлили сказаться расхождения публики в культурно-литературных и общественно-политических предпочтениях: если реакция восточных немцев была преимущественно положительной, то отношение западных в какой-то степени символизировала обложка журнала «Шпигель» с изображением мэтра критики М. Райх-Раницки, в прямом смысле разрывающего книгу в клочья.
О живучести тоталитаристской идеологии, об опасности замалчивания и, тем более, мифологизации трагических событий, о преступлениях немецкого нацизма против немецкого же народа, а не только против населения оккупированных территорий, Грасс повествует в новелле «Траектория краба» («Im Krebsgang», 2002). В числе других проблем речь идет о многочисленных жертвах среди гражданского населения, бежавшего с востока Германии с приближением Советской Армии (историк Андреас Хильгрубер, опубликовавший в 1986 г. книгу «Двойной обвал» – «Zweierlei Untergang: Die Zerschlagung des Deutschen Reiches und das Ende des europ?ischen Judentums», – исследовательские материалы, посвященные заключительному периоду Второй мировой войны, пишет о гибели четвертой части беженцев, или почти двух миллионов человек).
Вот характерный фрагмент из «Траектории краба»: «Старика гложет что-то. Собственно, говорит он, именно его поколение должно было поведать о страданиях беженцев из Восточной Пруссии: о потоках людей, движущихся по зимним дорогам на Запад, о закоченевших трупах в сугробах, о людях, погибавших в придорожных кюветах или в проломленном льду, когда замерзший залив Фришес-Хафф начинал крошиться под бомбами или трескаться под тяжестью перегруженных конных повозок, но, несмотря на это, все больше людей, начиная от Хайлигенбайля, срывались с места, гонимые ужасом мести, который несли русские… О таких страданиях, говорит он, нельзя было молчать все эти годы только потому, что важнее казалось признание собственной огромной вины и горячее покаяние, нельзя было отдавать то, что замалчивалось, на откуп правым и реваншистам. Это упущение безмерно…»
Скандальный резонанс в Германии и мире вызвала автобиографическая книга Грасса «Луковица памяти» («Beim Häuten der Zwiebel», 2006), беспощадная прежде всего по отношению к самому себе исповедь писателя; в ней он рассказывает о детстве и юности, включая несколько месяцев службы в войсках СС, о послевоенной жизни, частной и общественной, о вступлении в литературу, об обстоятельствах создания своего первого романа и многом другом. Книга, по словам автора, вызвана желанием дополнить воспоминания и устранить имевшиеся в них пробелы. «Память, – объясняет Грасс суть названия и содержания своего автобиографического произведения, – если донимать ее вопросами, уподобляется луковице: при чистке обнаруживаются письмена, которые можно читать – букву за буквой. Только смысл редко бывает однозначным… Под первой, сухо шуршащей пергаментной кожицей находится следующая, которая, едва отслоившись, открывает влажную третью, под ней, перешептываясь, ждут свой черед четвертая, пятая… И вот уже опровергается то, что еще недавно претендовало на правду: ведь ложь и ее младшая сестра подделка составляют наиболее устойчивую часть воспоминаний… У луковицы не одна пергаментная кожица. Их много. Снимешь одну – появляется новая. Если луковицу разрезать, потекут слезы. Луковица говорит правду только при чистке».
В 2001 г. в одном из интервью Грасс, вспоминая прошлое, говорил: «Я не задаюсь целью сравнивать все ситуации, но вместе с тем не хочу и скрывать, что для множества национал-социалистов 45-й год стал шоком, многие изменились. Я и себя причисляю к таковым. Я состоял в гитлерюгенде. Я был доверчив, прозрение для меня наступило лишь в 45-м, причем частичное и медленное. Я становился другим. И это право необходимо признать за каждым…» Этот процесс становления нового сознания и стал одной из важнейших тем книги «Луковица памяти».
Гюнтер Грасс, таким образом, продолжает создавать художественные парадигмы современности, прилагая все усилия к тому, чтобы «продолжение следовало» и чтобы «повесть о наших земных трудах не имела конца».
Источники
1. Карельский А.В. От героя к человеку: Два века западноевропейской литературы. М., 1990.
2. Райнхольд У. Литература ФРГ // История немецкой литературы: В 3 т.: Пер. с нем. Т. 3. М., 1986.
3. Ерофеев В. В лабиринте проклятых вопросов. М., 1990.
4. Гугнин А.А. Пророк в своем отечестве: О творчестве Гюнтера Грасса // Проблемы истории литературы: Сб. статей. Вып. 13. М.,
2001.
5. Grass G. S. Lenz. Existenznotwendigkeit // G. Grass. Werkausgabe in 10 Bänden. Bd. 10. Gespräche. Neuwied, 1987.
Патрик Зюскинд
Патрик Зюскинд родился 26 марта 1949 г. в семье профессионального публициста в небольшом западногерманском городе Амбахе. Здесь он окончил гимназию, получил музыкальное образование, начал пробовать себя в литературе. Позже, в 1968–1974 годах, Зюскинд изучал в университетах Мюнхена и Эксан-Прованса историю Средневековья и Нового времени. Работал в патентном отделе знаменитой фирмы «Сименс», тапером в танцбаре, тренером по настольному теннису. В настоящее время живет попеременно в Мюнхене и Париже, новые его произведения появляются исключительно в Швейцарии (в цюрихском издательстве «Diogenes»). Писатель ведет достаточно замкнутый образ жизни, отказывается от публичных выступлений и интервью; впрочем, демонстративное нежелание приоткрыть завесу над своей жизнью только привлекает к его личности и творчеству дополнительное внимание, как это бывает почти всегда в подобных случаях. Немалую роль в поддержании массового интереса к Зюскинду сыграла и экранизация в 2006 г. его самого известного произведения – романа «Парфюмер» (реж. Том Тыквер, в главных ролях – Бен Уишоу, Дастин Хоффман и Алан Рикман). В театрах многих стран роман получил сценическое воплощение; например, весьма вольная его интерпретация (мюзикл «Viva, Парфюм!») была осуществлена в Москве на сцене Театра киноактера (реж. Марк Розовский).
Начинал Патрик Зюскинд в жанре миниатюры. Подлинным же его дебютом можно считать монопьесу «Контрабас», завершенную летом 1980 г. Изданная в 1984 г. она получила известность гораздо раньше: к этому времени пьеса уже была поставлена на сценах многих театров мира, а в Германии на некоторое время вообще стала наиболее популярным произведением драматургии. Была она и экранизирована в 1990 г. мексиканским режиссером Карлосом Хагерманом. В соавторстве с Хельмутом Дитлем Зюскинд создал два киносценария – ««Россини», или Убийственный вопрос, кто с кем спал» (1997; реж. Хельмут Дитль) и «О поисках любви» (2005).
Большой интерес у читателя вызвали повести Зюскинда «Голубка» (1987) и «История господина Зоммера» (1991), короткие рассказы «Тяга к глубине», «Сражение», «Завещание мэтра Мюссара», «Amnesie in litteris» (1995), а также эссе «Германия, климакс» (1999), «О любви и смерти» (2005), «Кино – это война, мой друг!» (2006) и др. Патрик Зюскинд – лауреат многочисленных телевизионных, кинематографических и литературных премий.
Роман «Парфюмер» (1985; в другом переводе на русский язык – «Аромат») долгое время держался в мировой десятке бестселлеров, переведен более чем на тридцать языков и по сей день пользуется большой популярностью у читателя.
Не много найдется в мировой литературе произведений, в отношении которых есть основания говорить не только о поэтике, символике запаха, но даже о его философии. Среди исключений – знаменитый Шарль Бодлер, о чьей склонности к постижению мира именно посредством запахов свидетельствует, например, его соотечественник и современник Теофиль Готье: «Относительно запахов у Бодлера была такая удивительно-изощренная впечатлительность, какая встречается только у жителей Востока. Он с наслаждением проходил всю гамму благоуханий и мог с полным правом применить к себе фразу: «Моя душа порхает в волнах благовоний подобно тому, как душа других парит в музыке»». И еще: «Много раз появляется этот интерес к благоуханиям, как тонкое облачко окружающим существа и предметы. У очень немногих поэтов найдем мы эту заботливость; они обыкновенно довольствуются введением в свои стихи красок, музыки; но редко случается, чтобы они влили в них эту каплю тонкой эссенции, которой муза Бодлера никогда не упускает случая смочить губку своего флакона или батист платка». Подтверждения мы найдем во множестве произведений автора «Цветов зла».
П. Зюскинд в определенном смысле – последователь Бодлера: его художественный космос – мир запахов, его роман – подлинная «библиотека запахов», богатейший «словарь запахов»; метафора запаха концентрирует вокруг себя романное действие, синтезирует многочисленные подтексты, трансформирует частную, даже условно-исключительную коллизию в масштабную по смыслу ситуацию. Максимально обобщенная, эта метафора вызывает ощущение почти что материальности. В «летучем царстве запахов», созданном воображением Зюскинда, возможно все: падения и взлеты, соперничество и плагиат, беспомощность и гениальность, маниакальная страсть и даже убийства.
О личности главного героя писатель высказывается недвусмысленно: он принадлежал «к самым гениальным и самым отвратительным фигурам этой эпохи, столь богатой гениальными и отвратительными фигурами… Его звали Жан-Батист Гренуй, и если это имя, в отличие от других гениальных чудовищ вроде де Сада, Сен-Жюста, Фуше, Бонапарта и т. д., ныне предано забвению, то отнюдь не потому, что Гренуй уступал знаменитым исчадиям тьмы в высокомерии, презрении к людям, аморальности, короче, в безбожии, но потому, что его гениальность и его феноменальное тщеславие ограничивались сферой, не оставляющей следов в истории, – летучим царством запахов» (роман цитируется в переводе Э. Венгеровой).
И хронотоп (самое смрадное место в Париже XVIII в. – рынок, возведенный вблизи Кладбища невинных, куда 800 лет подряд свозили трупы со всех окрестностей и «укладывали слоями, скелетик к скелетику»; топос, заметим, исторический), и обстоятельства рождения Гренуя (его мать, торговка рыбой, рожала в пятый раз, и четверо ее предыдущих детей, мертвых или полумертвых, вместе с рыбьими потрохами и иным мусором были увезены прямиком на кладбище-свалку; точно такая же судьба ожидала и пятого ребенка) неизбежно ориентируют читателя на осознание того, что это существо представляет собой некий символ, эмблему действительности того времени в самых жутких ее проявлениях: «В городах… стояла вонь, почти невообразимая для нас, современных людей… Воняли реки, воняли площади, воняли церкви, воняло под мостами и во дворцах. Воняли крестьяне и священники, подмастерья и жены мастеров, воняло все дворянское сословие, вонял даже сам король – он вонял, как хищный зверь, а королева – как старая коза, зимой и летом…»
Появление героя на свет влечет за собой первую смерть – матери, и с этого времени не одному человеку придется проститься с жизнью, если он так или иначе соприкоснется со зловеще-трагической личностью Гренуя, не говоря уже о тех двадцати пяти несчастных, которых Гренуй умышленно лишил жизни, стремясь одному ему известным способом овладеть их запахами.
Как известно, одна из прописных истин Хосе Ортего-и-Гассета гласит: «Я есть Я плюс мои обстоятельства». В случае с героем Зюскинда первое слагаемое этой формулы является (по крайней мере, в значительной степени) следствием второй: чем еще могло обернуться это «я», если путь его пролег через настоящий ад, через целый ряд чистилищ – от уличной свалки, через приюты для подкидышей с гнилой пищей, жестокими побоями, оспой и холерой до дубильни Грималя, где Гренуя ожидали все мыслимые и немыслимые ужасы и где выжить ребенку, по человеческим меркам, не было никакого шанса… Здесь самое время обратить внимание на одно исключительно важное обстоятельство. То и дело встречаем мы уподобление главного персонажа «порождению ада», да только с каждым новым эпизодом усиливается ощущение, что сам ад – творение рук человеческих.
С одной стороны, инфернальная природа необычайной способности Гренуя не вызывает сомнения. Действительно, фабульные перипетии романа могут быть прочитаны едва ли не на эсхатологическом уровне. Перед нами еще один дьявол в ряду созданных писательской фантазией Ф. Достоевского и Б. Шоу, Т. Манна и А. Камю, Ж. – П. Сартра и многих других. Дьявольское присутствует в обстоятельствах, сопровождающих – и одновременно порождающих – Гренуя; как жуткие пародии на преисподнюю воспринимаются и пансион мадам Гайар, и дубильная мастерская Грималя, и, наконец, весь Париж – огромная клоака, смрадный морг, и особенно каменный склеп внутри самой одинокой горы Франции, куда загнали Гренуя безграничная ненависть к людям, к «человеческому чаду», и неизмеримая жажда одиночества.
Нечто ощутимо дьявольское есть и в загадочной повторяемости одного и того же обстоятельства смерти многих персонажей и самого Гренуя; по сути, мы имеем дело с вариациями одной смерти, одной гибели. Все, кто так или иначе Гренуя использовал, бесследно исчезают с лица земли: «под толстый слой негашеной извести» уложили на вечный покой мадам Гайар; ни трупов, ни дома, ни денег, ни сырья не осталось от «лучшего парфюмера Европы» Джузеппе Бальдини и его жены; «не нашлось никакого следа – ни обрывка одежды, ни кусочка тела, ни косточки» после таинственной гибели «ученого» авантюриста маркиза де ла Тайад-Эспинасса; сознательно превратив себя в трапезу для каннибалов, «до последней косточки исчез с лица земли» и сам Гренуй. Сомнение в земном происхождении неуловимого убийцы овладевает жителями Граса: «Он явно обладал сверхъестественными способностями. Он, конечно, состоял в союзе с дьяволом, если не был самим дьяволом… упоминание о хромоте усиливало подозрение, что преступником был сам дьявол».
В романе как своего рода притче инфернально-дьявольская координата имеет огромное значение, она многое традиционно объясняет. Но не все. Ибо как бы далеко ни простирались наши ассоциации с иррационально-темным, мы ни на мгновение не покидаем мир реалий, сферу прагматично-рациональную, которую еще Достоевский считал главной опорой губительных, разрушительных тенденций. «Ад – это другие люди», – сказал как-то один из персонажей Сартра. И поведение героя Зюскинда в значительной степени определяется поведением окружающей его «человечины». Ад – земля – ад – такова символическая траектория судьбы героя, только границы между землей и адом совершенно стерты. По сути, созданный в «Парфюмере» зловещий паноптикум имеет природу именно социальную, и первое, импульсивное восприятие его как безусловно условного вскоре опровергается иным – уже как безусловно реального.
Когда-то персонаж романа «Калеб Уильямс» У. Годвина (1794) сожалел о свойстве талантов и чувств («благородных ростков») превращаться в развратной пустыне человеческого общества в белену и ядовитые волчьи ягоды. Очевидно, Гренуй – совсем не «благородный росток» («Для тела ему нужно было минимальное количество пищи и платья. Для души ему не нужно было ничего… Он был с самого начала чудовищем»). Да вот только рядом с цитированным, как будто иронично-вскользь, будет замечено: «Хотя… он мог… выбрать путь от рождения до смерти без обходной дороги через жизнь, тем самым избавив мир и себя от огромного зла». И себя. Как видим, зло мистифицируется и тут же демистифицируется; оно убивает в Гренуе, пусть всего лишь как гипотезу, человека, и оно же проклятым гением Гренуя репродуцируется, копируется.
Показательно, что антипода у Гренуя нет, ни одного. Есть жертвы, но не антиподы. Мир, где злу никто не противостоит, где все – только убийцы или жертвы, неизбежно превращается в сплошное ядовитое болото.
В сцене вакханалии во время ожидания казни повествователь, уже не оставляя ни тени сомнения насчет этимологии зла, скажет о толпе людей, или, скорее, каких-то зомбированных мутантов: «Это был ад». Сцена с вакханалией отсылает нас ко многим произведениям, включая гетевского «Фауста» (Вальпургиева ночь), а также к знаменитому роману Р. Музиля «Человек без свойств», персонаж которого, представитель военного ведомства Какании генерал Штум, убежден в необходимости диктата: «Масса не имеет логики… Чем ею действительно можно управлять, так это единственно внушением!» Вакханалия в день «казни», а затем оргия каннибализма на Кладбище невинных выглядит как воплощенная в жизнь жуткая мечта генерала Штума, как образец полнейшего очуждения личности от собственной воли, массового сумасшествия, которое принимается с готовностью, вот в чем суть! Ведь и на ту же казнь толпа валит в ожидании не столько справедливой мести, расплаты, сколько – сенсационного представления, «ярмарки», торжественного зрелища, «известной пьесы в неожиданно новой постановке», ради наслаждения которой нужно обеспечить себе комфортные места и прихватить с собой не только «стулья и скамейки», но и «подушки для сидения, провизию, вино и… детей».
В романе множество аллюзий и реминисценций. Однако особо необходимо остановиться на присутствии в «Парфюмере» литературной традиции Э.Т.А. Гофмана. Заметим, что не только Гофман, но и в целом эстетика романтизма в определенной степени обусловила художественную специфику «Парфюмера»: апелляция к человеческой природе, в том числе к иррациональному в ней; исключительность героя (гений-злодей), его гипертрофированная отчужденность; внимание к «ночным» аспектам сознания, – при том что немецкие романтики никогда не порывали с реальностью. Как известно, они предлагали две формы художественного преобразования действительности: выход за ее рамки и ее гротескную деформацию. Именно последняя нашла развитие в романе П. Зюскинда.
Более того, художественной структурой «Парфюмера» ассимилируются образы, мотивы, сюжетные коллизии конкретных произведений романтизма, например, гофмановских. Как и Крошку Цахеса, Гренуя уже при появлении на свет не ждет ни сострадание, ни сочувствие; как и «маленький альраун» Цахес, Гренуй от природы наделен противной, отвратительной внешностью и напоминает замкнувшегося в своей оболочке «клеща», не дающего миру «ничего, кроме своих нечистот», «огромного паука, которого не хочется… давить», – слишком он омерзителен, чтобы к нему прикасаться.
Благодаря трем магическим волоскам Цахес способен присваивать чужие достоинства; Гренуй достигает того же посредством магической способности комбинировать отобранные у жертв запахи: «И десять тысяч собравшихся мужчин, и женщин, и детей, и стариков испытывали то же самое: они стали слабыми, как маленькие девочки, неспособные устоять перед обаянием совратителя… они любили его… Человек в голубой куртке предстал перед всеми самым прекрасным, самым привлекательным и самым совершенным существом, которое они могли только вообразить; монахиням он казался Спасителем во плоти, поклонникам Сатаны – сияющим князем тьмы, людям просвещенным – Высшим Существом, девицам – сказочным принцем, мужчинам – идеальным образом их самих».
Несомненна и ориентация П. Зюскинда на новеллу Гофмана «Мадемуазель де Скюдери», которая считается одним из первых произведений детективного жанра (принимая во внимание детективную интригу «Парфюмера», это немаловажно). Герой ее также совершил не одно преступление, и тоже в состоянии маниакальном. Определенным образом соответствуют друг другу хронотопы новеллы и романа: действие у Гофмана разворачивается в том же Париже, время действия, как это будет позже и у Зюскинда, отнесено в прошлое, да и сам город у Гофмана («Как раз тогда Париж стал местом омерзительнейших преступлений…») выглядит прототипом Парижа П. Зюскинда.
Вообще интертекстуальность Зюскинда имеет форму, по выражению Л.Г. Андреева, «кровосмесительных связей, слишком тесных связей близких родственников» (1, 317), а именно романтиков. Но не только.
Существенное место в романе занимают парафразы библейских ситуаций; все они, однако, приобретают характер пародийно-траве-стийный. Уже эпизод появления Гренуя на свет вызывает ассоциации с воскрешением библейского Лазаря. Накопленные запахи Гренуй мнит своей империей, а себя – всесильным императором, сверхчеловеком, великим и единственным Творцом Мира: «И Великий Гренуй видел, что это хорошо, весьма, весьма хорошо. И он ниспосылал на страну ветер своего дыхания». Вспомним библейское описание Сотворения мира, лейтмотивом через которое проходит: «И увидел Бог, что это хорошо». В конце Сотворения: «И стало так. И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма» (Быт., 1: 31).
Пародийное обыгрывание известного библейского топоса имеет место в эпизоде оглашения вынесенного Греную приговора: «Жан-Батист Гренуй должен быть в течение сорока восьми часов выведен за заставу Дю-Кур и там, лицом к небу, привязан к деревянному кресту и ему будет нанесено двенадцать ударов железным прутом по живому телу, каковые удары раздробят ему суставы рук, ног, бедер и плечей, после чего он останется прикрученным к кресту до его смерти». И снова вспомним библейское, хотя бы место из Евангелия от Матфея: «Пилат сказал им, что же я сделаю Иисусу, который называет себя Христом? Говорят ему все: пусть будет распят» (27: 22). Таким образом, внешняя атрибутика смерти мученика за людей Христа должна сопровождать уход из жизни существа, в котором персонифицировано само человеконенавистничество.
Имеет Жан-Батист Гренуй и множество других литературных «родственников», например, главного героя романа А. Камю «Падение» Жана-Батиста Кламанса (случайно ли они тезки и соотечественники?). Роман П. Зюскинда вызывает ассоциации и с «Посторонним» Камю, а также с «Шагреневой кожей» О. де Бальзака, «Портретом Дориана Грея» О. Уайльда, «Необычайной историей Петера Шлемиля» А. Шамиссо, «Человеком без свойств» Р. Музиля, «Доктором Фаустусом» Т. Манна, «Игрой в бисер» Г. Гессе и другими произведениями мировой литературы.
Роман вполне может быть прочитан как детектив: автором действительно строго выдержаны каноны детективного повествования. Но есть в произведении и элемент условного; хоть и подчеркнуто локализованный, он требует поиска отдельных точек соприкосновения с романом философско-символическим и даже фантастическим. Ювелирная психотехника Зюскинда позволяет интерпретировать произведение как роман психологический. С другой стороны, разве социальная патология не кричит о себе буквально с каждой страницы?
В достаточной степени соответствует содержанию «Парфюмера» и его предупредительно-прогностической функции форма антиутопии. Очевидно, определяющая константа антиутопического художественного (и не только художественного) мышления связана с раскрытием технологии тоталитаризма. Об угрозе прогрессирующего манипулирования человеческим сознанием, «неодолимого обаяния тоталитаризма» (слова автора известной книги «Происхождение тоталитаризма» Ханны Арендт) предостерегали Дж. Оруэлл и С. Лем, К. Воннегут и Р. Мерль, К. Кизи и Э. Бёрджесс, А. Адамович со своей «Последней пасторалью» и многие другие, каждый по-своему. Гренуевский флакон с чудодейственными духами может уступить свою роль манипулятора атомной бомбе, власти денег, той же «мозгобойке» в руках сестры Гнуссен из романа К. Кизи «Над кукушкиным гнездом», – не это главное. В любом случае действует один и тот же, говоря словами В. Гроссмана, «закон сохранения насилия». Не об этой ли опасности повествует и П. Зюскинд в своем романе? Единственное, что не позволяет безоговорочно отнести «Парфюмера» к антиутопии, – это время действия, прошлое, XVIII век, тогда как в собственно антиутопии действие происходит в более или менее отдаленном будущем.
Жанровый и стилевой полифонизм, интертекстуальность, сочетание занимательности и философской глубины, наличие своеобразно интерпретированной специфической символики (библиотека как «библиотека запахов», словарь как «словарь запахов» и т. п.) позволяют соотносить роман П. Зюскинда с литературным постмодернизмом.
В любом случае нельзя не согласиться с Э. Венгеровой, которая блестяще перевела роман на русский язык: «История Жан-Батиста Гренуя читается как предостережение о преступлении, таящемся в разрыве с природой, в бесстыдном и безжалостном насилии над ней, в стремлении человечества присвоить, высосать, поглотить ее красоту, в забвении заповедей смирения и воздержания, в самодовольном и ненасытном тщеславии обладания, разъедающем нашу цивилизацию, – будь то притязания тирана (любого) на мировое господство, экологическая нечистоплотность или обыденная уголовщина. Поистине, все зло мира проистекает из одного источника, и этот источник – вакуум человеческой любви к Богу и ближнему» (2, 8).
Источники
1. Андреев Л.Г. Чем же закончилась история второго тысячелетия? (Художественный синтез и постмодернизм) // Зарубежная литература второго тысячелетия: 1000–2000 / Под ред. Л.Г. Андреева. М., 2001.
2. Венгерова Э. От переводчика // П. Зюскинд. Парфюмер: История одного убийцы. СПб., 2001.
В общем доме: роман в немецкой литературе 1990-х годов
Следует сразу же оговориться, что пока не приходится претендовать на всеохватное, всеобъемлющее рассмотрение немецкого романа последних десятилетий – время еще не все расставило по своим местам; как сказал поэт, «большое видится на расстояньи». Ограничимся лишь своего рода мозаичной картиной того, что происходило и происходит в общем немецком доме.
Вот уже скоро двадцать лет, как Германия является для немцев общим домом в прямом смысле слова. Правы те исследователи, кто считает, что и до октября 1990 г. между писателями ГДР и ФРГ было все же больше объединяющего их, чем разъединяющего.
И дело не только в общем языке, общей ментальности, общей многовековой истории. Известный белорусско-российский германист А.А. Гугнин, задаваясь вопросом «Современная немецкая литература – одна или две литературы?» и совершенно справедливо замечая, что «литература ГДР существовала вовсе не эфемерно (как это уместно утверждать о самом государстве), а на самом деле» (1, 181), в то же время подчеркивает, что целый ряд обстоятельств не позволяет проводить резкий и безоговорочный водораздел между восточнонемецкой и западногерманской литературами. К числу этих обстоятельств относятся, в частности, «встречная» эмиграция, хотя, совершенно очевидно, что эмиграция из ГДР в ФРГ была гораздо более массовой на всех ее этапах; обращение восточнонемецких писателей к западногерманской проблематике и наоборот; многочисленные факты издания писателей ФРГ в ГДР, а писателей ГДР – в ФРГ (иногда едва ли не исключительно в ФРГ, как это было, например, с произведениями Стефана Гейма или Рольфа Шнайдера).
Насколько явствует из материалов различных литературных и культурологических немецких изданий, главный вопрос (или, по крайней мере, один из главных), волнующий немецких писателей (прежде всего бывшей ГДР), – это вопрос, который можно сформулировать, использовав название рассказа Кристы Вольф «Was bleibt» («Что остается»), написанного еще в 1979 г., но опубликованного лишь в 1990 г. во Франкфурте-на-Майне. Рассказ, как известно, имел огромный резонанс среди читателей и критиков и повлек за собой бурные дискуссии о послевоенной немецкой литературе в целом, о роли писателя в формировании нравственного и эстетического облика своего времени и общества; эти дискуссии вылились в целую книгу (2). Название рассказа ассоциируется со строкой философского гимна Фридриха Гёльдерлина «Andenken»: «…was bleibet aber, stiften die Dichter» («…но то, что остается, устанавливают поэты»). Впрочем, немецкая литература, какие бы темы ни разрабатывала, традиционно воспринималась как олицетворение философичности, философской глубины; таковой, по большому счету, она и была. Характерно ли это для немецкой литературы последнего времени? Думается, да, при том что к концу XX в. она стала – нет, не мелкомысленной, не облегченной, не легковесной – но более коммуникабельной, раскованной. Она остается литературой большой и в качественном, и в количественном отношении. По сведениям из немецкой печати, по количеству издаваемых книг и по объему выручки от книготорговли сегодня с объединенной Германией могут сравниться только США. Ежегодно в течение последних десяти – пятнадцати лет на одного немца приходится около 20 книг. Издаются многочисленные литературные и культурологические журналы, всевозможные юбилейные сборники (Festschrift) в честь памятных дат или юбилеев конкретных писателей. (При этом тиражи литературных журналов невелики – от 1000 до 5000 экземпляров, и сохранение этих изданий является довольно серьезной проблемой.)
Литературный процесс в Германии настолько многообразен, что ни один журнал не способен отразить его полностью даже в совокупности номеров. Соответственно чрезвычайно пестр литературный рынок. Как утверждает прозаик, поэт и издатель журнала «Акценты» Михаэль Крюгер, более 50 % всей литературной продукции составляют переводы с других языков. Большое значение придается модернизму в самых разных его направлениях и школах, как зарубежному, так и отечественному; это делается, говорит М. Крюгер, из стремления противостоять «уравнительному смыслу» постмодернистской литературы (споры между модернистским и постмодернистским искусством слова были особенно яростными в 1980-е годы).
Из прозаических жанров чрезвычайно распространен именно роман, хотя в последнее время он, кажется, не столь дерзок и нов, как прежде. Наблюдается возвращение романа к традиции, что в некоторой степени может быть объяснено реакцией писателей на изменившееся читательское сознание, ищущее чаще не замысловатой техники, а доступного и увлекательного сюжета. Среди почтовой корреспонденции в адрес литературных журналов попадаются письма, авторы которых настаивают даже на исключении из культурного обихода литературных произведений, ускользающих от «навешивания ярлыков», подчиняющихся только законам фантазии, а вовсе не потребностям массового читателя. «Сегодня человек, – считает М. Крюгер, – еще больше растерян «перед жизнью», чем раньше, когда ему приходилось со всеми своими проблемами справляться самому. Эта «новая необозримость» (понятие введено в обиход немецким философом и социологом Юргеном Хабермасом в его книге «Новая необозримость», 1985. – Е.Л.) …приводит к тому, что человек ищет в литературе идентификационные пространства, в которых жизненные процессы протекали бы разумно, понятно и логично. А это опять же может предоставить не эксперимент, а история со счастливым концом» (3, 258). При этом, хотя немецкая проза сегодня и стала менее изощренной технически, вкуса к экспериментированию, к поиску новых средств художественной выразительности она отнюдь не утратила. А главное, что отмечается большинством критиков, ей удалось избежать грубого «идеологи-зирования», которое сразу после объединения ожидалось почти как неизбежность.
Ориентироваться в современной романной прозе довольно сложно: она пестра, непредсказуема, многотемна и многоконфликтна. Можно выделить в ней некоторые тематические пласты; при этом вполне возможно, что при ближайшем рассмотрении они в иерархии тем и проблем современного искусства слова окажутся не самыми главными.
Прежде всего, это традиционная для немецкой послевоенной литературы тема судеб Германии. Генрих Бёлль еще в 1969 г. в статье «Мир под арестом», посвященной роману Александра Солженицына «В круге первом», написал, что XX век, чем бы он еще ни был, навсегда останется веком лагерей и заключенных. Но и спустя десятилетия многие немецкие писатели создают свои произведения, условно говоря, «leiden nach Deutschland» («страдая Германией»).
Тема фашизма и Второй мировой войны так или иначе дает о себе знать в творчестве писателей разных поколений. Г. Бёлля не стало в 1985 г., но ранее не известные его произведения продолжали выходить в таком количестве, что иногда можно было поймать себя на ощущении некоей мистификации со стороны писателя; как известно, даже 25-томное собрание сочинений так и не вместило всех его сочинений. Только в Кёльнском архиве Г. Бёлля осталось около ста произведений, не опубликованных при жизни писателя. Это и роман «Крест без любви», завершенный еще зимой 1947 г., и многочисленные рассказы, часть из которых вошла в сборник «Бесцветная собака» (1995).
К этим произведениям относится также роман «Ангел молчал» (1992), первый послевоенный роман Г. Бёлля, над которым он работал в 1949–1951 гг. Главный герой романа, фельдфебель Ханс Шницлер, дезертировавший из армии, добирается до родного города (в нем без труда узнается Кёльн) как раз в день капитуляции Германии – 8 мая 1945 г. Как и вся страна, город лежит в руинах, среди которых в поисках крова и съестного бродят люди. Среди развалин происходит знакомство Ханса с Региной Унгер, ставшей для бывшего солдата вермахта опорой и спасением – не только от голода и холода, но и от душевной, нравственной опустошенности. В произведении звучат мотивы и узнаются образы, нашедшие воплощение в знаменитых бёллевских романах «Где ты был, Адам?», «Глазами клоуна», в особенности – «И не сказал ни единого слова»; в последний вошли целые фрагменты не изданной в свое время книги.
Память о прошлом не дает покоя герою романа «Защита детства» Мартина Вальзера, одного из фаворитов среди современных немецких писателей. Согласно авторскому определению жанровой формы книги, это «историография будней» целых шести десятилетий – с 1927 по 1987 г. Протяженности во времени соответствует топос произведения: местом действия в нем становятся разные немецкие города. Связь времен, обусловленность настоящего и будущего прошлым – так можно определить основные проблемы романа. Сюжет книги необычен и прост одновременно: ее главный герой Альфред Дорн прилагает всевозможные усилия по сохранению своего детства от посягательств неумолимого времени. В будущем же он мечтает законсервировать свое прошлое в «музее Дорна», заполнив его документами, фотографиями и иными свидетельствами детских лет.
Оказывается, страх утраты прошлого имеет вполне конкретную причину: 13 февраля 1945 года, в день бомбардировки Дрездена, погибли соседи пятнадцатилетнего Альфреда по бомбоубежищу, сгорели и фотоальбомы семьи мальчика. Таким образом, восстановление прошлого – это дань памяти погибшим. В своем протесте «против исчезновения» он этим не ограничивается: в 1953 г. Альфред покидает ГДР с ее политическим лицемерием и охотой на «нечистых». Однако проекту «защиты детства» не суждено было осуществиться. Не состоялась и жизнь самого героя – ни личная, ни профессиональная.
К теме нацизма и исторической памяти немцев обратился М. Вальзер и в своем ставшем бестселлером автобиографическом романе «Бьющий фонтан» (1998). Кстати говоря, именно М. Вальзер сетовал в 1990 г. на то, что немецкой литературе о фашизме и Второй мировой войне недостает философской основательности, философского осмысления свершившейся трагедии. В пример писателям-соотечественникам он ставил Льва Толстого, которым в «Войне и мире», согласно М. Вальзеру, была постигнута «некая парадигма национальной жизни», так и не созданная немецкими писателями. Вряд ли есть основания утверждать, что подобная парадигма нашла свое воплощение в произведениях последнего десятилетия, тем не менее, думается, ближе всех к ее созданию оказался Гюнтер Грасс.
Поистине парадигматическим по замыслу и воплощению явился «нобелевский» роман Г. Грасса «Мое столетие» (1999), состоящий из ста новелл, каждая из которых посвящена одному году прожитого человечеством XX века – века мировых войн, глобальных экологических бедствий, в том числе чернобыльской трагедии («… а потом на нашу голову свалился Чернобыль… цезий, который приплыл к нам в облаке из Чернобыля… и завис, и не уходит»), опасности ядерной катастрофы. Воскрешая в книге знаменитых немецких художников слова, политических деятелей, собственных родных и близких, большие и малые события в жизни своей семьи, Германии и мира, повествователь, «сомневающийся и в то же время призванный засвидетельствовать», предлагает свой личный взгляд на прошлое и настоящее, на перспективы исторического развития своей страны и Европы, стремится ответить, говоря его словами, на вопросы: «Кем я был тогда? Кто я теперь?».
Продолжают выходить и книги немецких писателей о трагическом прошлом, написанные в достаточно традиционной манере. Судьба писателя Конрада Нишлага типична для бывших солдат гитлеровской армии: в самом конце Второй мировой он попал в советский плен, где и пробыл до 1950 г. Спустя полвека он размышляет о том периоде своей жизни в автобиографической книге «…И завтра снова будет хлеб: Пять лет в русских лагерях» (1993), как размышляли в разное время и в разных художественных формах другие немецкие писатели – Франц Фюман, Макс Вальтер Шульц, Герман Кант… Книга названа парафразом библейского изречения – интерпретация библейских мотивов весьма характерна для произведений немецких писателей о войне. Знакомы нам и переживания героя, воплощенные в книге: с одной стороны, тяжкий труд, болезни, голод, духовная и душевная опустошенность, с другой – вера и надежда, трудное обретение нового мировидения. В итоге пережитого Конрад возвращается в родной город иным человеком – более зрелым нравственно, со сложившимися взглядами на события, в которые волею обстоятельств он оказался втянутым совсем юным.
Трагическое прошлое Германии предстает перед читателем и в романе известной немецкой писательницы Моники Марон «Письма Павла: Семейная хроника» (1999). Но, как и в книге К. Нишлага, возвращение к прошлому героини М. Марон происходит через пятьдесят лет после войны: в руках женщины оказывается сохранившееся на чердаке письмо ее отца, переданное им из гетто в 1943 г. Так начинается путешествие в историю для нее и ее дочери Моники. Моника – внучка польского еврея, принявшего христианство, и дочь человека, преданного коммунистическим идеям; для нее, однако, не приемлемы позиции ни того, ни другого. В очередной раз, таким образом, М. Марон обращается к извечной теме отцов и детей, к проблеме поисков «корней» всего происходящего, мимо которой мало кто прошел в немецкой литературе 2-й половины XX столетия.
Впрочем, эти же проблемы волнуют и авторов произведений, сюжеты которых не связаны напрямую с фашизмом и войной, – в частности, лауреата многих литературных премий Клауса Кордона, опубликовавшего в 1999 г. роман «Сто лет и одно лето», своеобразную хронику жизни берлинской семьи. Роман написан в эпистолярной форме: его героиня, наша современница, студентка, ощущающая гораздо большее духовное родство не с живыми, а с давно умершей прапрабабушкой, пишет ей письма, исполненные вопросов, забот и тревог о прошлом, настоящем и будущем. Соответственно сюжету и композиции книги в ней совмещаются различные временные пласты, в целом и составившие XX столетие в его немецком варианте. Показательно, что роман вышел в одном году с созвучным ему и по замыслу, и по названию романом Г. Грасса «Мое столетие».
Так называемая женская проза в последние два десятилетия достойно представлена на немецкой литературной арене. Впрочем, в творчестве Хельке Зандер (помимо литературы, она работает в кинематографе как сценарист и режиссер, поставила много художественных и документальных картин, является профессором Высшей школы изобразительных искусств в Гамбурге) преобладает еще и достаточно распространенная в прозе Германии «женская» проблематика; здесь можно вспомнить Кристу Вольф с ее «Кассандрой» и «Медеей», с предыдущими произведениями «Размышления о Кристе Т.», «Расколотое небо» и другими, при том что их содержание только к «женским» проблемам ни в коем случае не сводится.
Характерно, что сама Х. Зандер активно участвует в женском движении. Ее книга «Истории трех дам К.» (1991) повествует о трех женщинах, чьи фамилии по странному совпадению начинаются на К, но, что важнее, во многом совпадают их судьбы и психологические состояния: все они – женщины деловые, хотя их финансовое положение оставляет желать лучшего; все три одиноки и по-женски несчастливы. Во время рождественских каникул обстоятельства сводят их в высокогорной альпийской деревне, где они отдыхают, катаются на лыжах, готовят, читают, а по вечерам, в преддверии ночей, когда особенно остра тоска по мужчине – любовнику, другу, опоре, они рассказывают друг другу истории своей жизни.
Немецкой писательнице Наташе Водин принес известность ее роман «Однажды я уже жила» (1989), вскоре после выхода переведенный на ряд языков. А в 1993 г. вышел ее роман «Изобретение любви» в традиционной для мировой литературы форме дневника героини-писательницы, чья судьба во многом автобиографична. Например, как и сама Наташа Водин, ее героиня происходит из семьи русских эмигрантов, общий у них и год рождения – 1945-й. Вкратце сюжет книги таков: героиня вступает в переписку с больным СПИДом русским балетным танцовщиком. Самая большая ее мечта – встретиться с ним; наконец, это происходит. Забыв об опасности, охваченная страстной любовью, героиня добивается близости с Сергеем. Трагическая история, в определенном смысле «придуманная», «изобретенная» героиней и, наконец, осуществленная, имеет не менее трагический финал: он и она принимают решение покончить самоубийством.
Один из последних романов известного у нас писателя Зигфрида Ленца (на русский язык переведены его романы «Урок немецкого», «Краеведческий музей» и др.) «Наследие Арне» (1999) вызывает ассоциации с популярными в свое время в Германии и в нашей стране «Новыми страданиями юного В.» Ульриха Пленцдорфа. Книга З. Ленца «Наследие Арне» – это история столкнувшегося с недетским горем подростка Арне, неординарного, не похожего на ровесников, не встречающего поддержки и сочувствия ни у них, ни у взрослых. Характерно, что повествование автор доверил тоже ребенку, двенадцатилетнему Хансу, сквозь призму сознания которого читатель воспринимает все произошедшее. В результате в изображении мира детской души достигается глубочайший психологизм, которым отмечены и прежние произведения З. Ленца.
В начале 90-х годов известный культуролог и искусствовед А. Якимович поделился любопытным наблюдением над немецкой литературой конца XX в.: «Итак, ближе к концу века художники начинают все более уверенно говорить о том, что тоталитарное безумие прошедшей эпохи – это не просто безумие в смысле «потери разума», а скорее какая-то особая форма разума, употребленного определенными способами. Размышление о безумии разума – это характернейший атрибут художественной культуры Германии в конце XX века…» (4, 229). Далее делается примечательное и справедливое уточнение: современное «здоровое» и «нормальное» общество в лице своих правильных и благопристойных граждан при ближайшем рассмотрении обнаруживает очевидную тенденцию к «разволшебствлению» (Entzauberung) всего рационального и разумного. В этом смысле достаточно любопытными представляются детективы Ингрид Нолль, в том числе известный у нас роман «Аптекарша». Его героиня – некто вроде, условно говоря, младшей сестры Жана-Батиста Гренуя, центрального персонажа ставшего бестселлером романа Патрика Зюскинда «Парфюмер» (1985). В строго конкретном смысле она – «вполне человеческих размеров», без всякой примеси условности и мистики, усердный работник аптеки и рачительная хозяйка, ничего плохого никому не желает и не замышляет, ну разве что слегка «подталкивает» события (возможное исключение – за рамками книги, в перспективе ее открытого финала), действуя в этом смысле почти сомнамбулически. Даже маневрировать, манипулировать людьми и обстоятельствами ей почти не приходится, а между тем она воспринимается как «исчадие ада» совсем не меньшее, чем зюскиндовский Гренуй.
Впрочем, и собственно антиутопия продолжает оставаться одной из распространенных жанровых форм в немецкой литературе XX в. Например, в 1998 г. молодой писатель Тим Штаффель, начавший активно издаваться уже после воссоединения Германии, опубликовал роман «Терродром». Перед глазами читателя – жуткие картины массовых беспорядков и бандитизма, перед которыми беспомощны продажные политики и которые на руку нравственно нечистоплотным телевизионщикам. Место действия романа – Берлин недалекого будущего, погруженный в бездну хаоса после экологической катастрофы. Совершенно очевидно, роман Т. Штаффеля возник не без влияния мировой (Робер Мерль, Курт Воннегут и др.) и немецкой антиутопической литературной традиции, в русле которой (но в разных темах) во 2-й половине XX в. в Германии писали и Г. Грасс, и В. Херцог, и Х. Мюллер. Вероятно, все они могли бы мотивировать свои антиутопические замыслы словами Х. Мюллера: «Увы, современный прогресс все более смахивает на регресс, контуры будущего пока еще расплывчаты, но в них угадываются знакомые очертания первобытного леса».
В заключение еще раз заметим: немецкая литература, как и всякая другая, создаваемая, что называется, на глазах, для объективного своего осмысления требует большей временной дистанции, более тщательного проникновения во взаимосвязи искусства слова с общекультурной ситуацией. Однако немногие представленные здесь произведения романного жанра позволяют сделать вывод о несомненной индивидуальности их авторов, может быть, не в последнюю очередь обусловленной тем, что их исходный опыт перестал быть общим – при том что к общему трагическому прошлому своей страны они как художники отнюдь не утратили интереса.
Источники
1. Гугнин А.А. Современная немецкая литература – одна или две литературы? // Новые проблемы, новые решения: Актуальные аспекты изучения современных литератур Румынии и других стран Центральной и Юго-Восточной Европы. М., 1992.
2. Es geht nicht nur um Christa Wolf: Der Literaturstreit im vereinigten Deutschland. München, 1991.
3. Интервью с М. Крюгером // Иностранная литература. 1994. № 9.
4. Якимович А. Пансион мадам Гайар, или Безумие разума: Проблема тоталитаризма в конце XX века // Иностранная литература. 1992. № 4.
Петер Хандке
Петер Хандке (род. в 1942 г.) начал печататься в 1964 г., но точкой отсчета его творчества принято считать роман «Шершни» («Die Hornissen», 1966). Фрагментарно-калейдоскопическая, причудливо соединившая в себе реальность с вымыслом, житейскую фактуру с впечатлениями от чужих произведений, эта книга вышла, по собственному признанию автора, «довольно неуклюжей», тем не менее она осталась для него «одной из самых любимых». Вероятно, не в последнюю очередь потому, что основной ее пласт составили воспоминания о детстве, которые отныне не раз будут возникать в творчестве писателя.
Родился Петер Хандке 6 декабря 1942 г. в Гриффене, на юге Каринтии. В 1944–1948 гг. жил с родителями в Берлине, затем учился в Народной школе в Гриффене, в 1954–1959 гг. воспитывался в интернате католического колледжа. В 1961–1965 гг. Хандке изучал юриспруденцию в университете г. Граца. Тогда же, активно участвуя в работе авангардистского объединения «Форум Штадтпарк», начал писать; сборник созданных в студенческие годы рассказов Хандке издаст в 1967 г. под общим названием «Приветственное слово наблюдательному совету» («Begrüssung des Aufsichtsrats»). Несколько раньше, с выходом в свет романа «Шершни», Хандке решает избрать карьеру профессионального писателя. С этого времени он подолгу живет за пределами Австрии – в Дюссельдорфе, Кёльне, Западном Берлине, Париже; в начале 90-х годов он поселился в небольшом французском городе Шавиле.
В 1966 г. Хандке пишет несколько коротких «разговорных пьес» («Sprechstücke»), или «вступлений» («Vorreden»), как автор определил их жанровую форму. Западногерманские зрители, первыми увидевшие его ранние драматургические произведения на сцене, к тому времени имели отчетливое представление о «театре абсурда», тем не менее были буквально эпатированы пьесами Хандке. Поистине сенсационным стал театральный дебют писателя – пьеса «Поругание публики» («Publikumbeschimpfung»), поставленная 8 июня 1966 г. Клаусом Пайманом. Лишенная, как и другие «вступления», конкретных пространственно-временных координат, сюжета и персонажей, исполняемая четырьмя чтецами (Sprecher) – то порознь, то хором, она должна была избавить зрителей от зашоренности во взглядах на театральное действо, вызвать эффект его резкого несоответствия зрительским ожиданиям.
Хандке предваряет пьесу подробнейшими инструкциями для актеров и режиссера, согласно которым перед началом собственно спектакля на затемненной сцене должна создаваться видимость подготовки к традиционному представлению, чтобы в тем больший шок повергло публику представшее перед ее глазами. Текст не распределен по ролям, он лишь разбит на отдельные фрагменты и обращен в одинаковой степени ко «всем» и «каждому». «Поругание» же, «оскорбление» публики сосредоточено преимущественно в финале пьесы: «вы, осквернители собственного гнезда, вы, внутренние эмигранты, вы, пораженцы, вы, ревизионеры, вы, реваншисты, вы, милитаристы, вы, пацифисты, вы, фашисты, вы, интеллектуалы, вы, нигилисты, вы, индивидуалисты, вы, коллективисты, вы, политические сопляки…» Временами же текст начинает походить не столько на «поношение», сколько на сеанс гипноза, в процессе которого «внушаемые» должны увидеть себя с неожиданно разных сторон: «Вы не думаете ни о чем. Вы думаете ни о чем. Вы соразмышляете. Вы не соразмышляете. Вы непосредственны. Ваше сознание свободно. Вы в замешательстве»; «Вы находитесь в состоянии покоя. Вы находитесь в состоянии ожидания. Вы здесь не в качестве субъектов. Вы здесь объекты. Вы объекты наших слов. Но вы также и субъекты».
Всячески педалирующая тавтологическую, «уточняющую» стилистику, построенная на абсурдизме, «самоотрицании» каждого очередного утверждения, пьеса несла на себе отпечаток не только брехтовского «эпического театра» с его техникой очуждения – при одновременном его развенчании (достаточно сравнить с эстетикой Брехта некоторые места из «Поругания», например: «Мы ни о чем вам не рассказываем. Мы не действуем. Мы не изображаем действия. Мы ничего не представляем… Мы только говорим»), но и экспрессионистской «драмы-крика», дадаизма и других художественных явлений.
Уже в этой первой пьесе Хандке постарался устранить границу между сценой и зрительным залом; чтецы обращались непосредственно к слушателям, в том числе по поводу реальных общественных явлений и событий. Подобные художественные приемы были весьма распространены в театре 1960-х годов, тем не менее поиски Петером Хандке собственного драматургического языка были небезуспешными: его экспрессия, суггестивность, напряженная ритмика не оставляли равнодушными ни зрителя, ни читателя. Эти качества будут свойственны и другим «разговорным пьесам» Хандке.
Пьесе «Предсказание», рассчитанной на исполнение, опять-таки, четырьмя чтецами (обозначенными a, b, c, d), предпослан эпиграф из Осипа Мандельштама:
…Wo beginnen? Alles kracht in den Fugen und schwankt. Die Luft erzittert vor Vergleichen. Kein Wort ist besser als das andere, die Erde dröhnt von Metaphern… …С чего начать? Все трещит и качается. Воздух дрожит от сравнений. Ни одно слово не лучше другого, Земля гудит метафорой…В этой пьесе, внешне напоминающей пародию на некий лингвистический опус с математическим оттенком, «роли» уже распределены, хотя и достаточно относительно: согласно авторскому предписанию, текст должен в одних случаях произноситься, что называется, соло, в других – дуэтом (ab, ac, ad, bc…), трио (bcd, abc…) или хором. Примечательно, что последовательность буквенных обозначений при этом меняется, что, вероятно, подразумевало не одновременность, а определенную очередность вступления в «партию» того или иного чтеца; в любом случае, постановщик получал возможность внести и свою лепту в задуманный автором эксперимент.
Суть произведения – утверждение извечной неизменности и принципиальной неизменяемости всего сущего; этой мыслью пронизано все содержание пьесы, подытоженное последней, хором произносимой фразой «Каждый день будет днем как все другие» («Jeder Tag wird ein Tag sein wie jeder andere»). Позже сам автор отнесет «Предсказание» к чисто формалистическим опытам, однако при всей «сделанности», быть может – от противного, в ней прозвучала подспудная надежда, что не всегда поэт будет оторван от жизни, от мира (weltfremd), что человек отыщет противовес унифицирующему воздействию обстоятельств и вовсе не обязательно другой «как ты и я будет оставаться таким же как ты и я».
Пьеса «Саморазоблачение» («Selbstbezichtigung») предназначена, опять-таки, для исполнения чтецом и чтицей. Авторского разделения ролей, как и в «Поругании публики», в ней нет; в соответствии с авторскими рекомендациями, чтецы работают с микрофонами на сцене, свободной от каких бы то ни было декораций. Голоса актеров должны звучать то громко, то тихо, то сливаться, то перебивать друг друга, в результате чего и возникнет своеобразный «акустический порядок». И сцена, и зрительный зал постоянно освещены, никаких «событий» на протяжении всего «чтения» не происходит. Пьеса воспринимается как некий единый монолог, смысл которого, вначале предельно обобщенный, в своем роде экзистенциальный («Я пришел в мир…»), к концу несколько конкретизируется, направляя читательскую и зрительскую мысль от человека вообще, творимого и самотворящегося, к человеку-творцу в более узком смысле – актеру, драматургу, самому автору, наконец («Я слушал эту пьесу. Я читал эту пьесу. Я эту пьесу писал»).
Вербальный эксперимент Хандке достигает апогея в скетче «Крики о помощи» («Hilferufe», 1967): здесь он простирается даже на авторское предисловие, не говоря о собственно тексте, где язык в конечном итоге доведен до пароксизма.
В «Разговорных пьесах» Хандке диалог отсутствует как между самими чтецами, так и между чтецами и публикой; торжествует стихия предельно субъективированной рефлексии; символика ситуаций и произносимых (точнее, бросаемых в зал) реплик многозначна и многозначительна; метафорика максимально усложнена; внешняя и внутренняя логика оказывается разрушенной посредством различных форм абсурдизма. «Ставить вещи с ног на голову» – таково одно из положений авторского «Манифеста» («Manifest»).
Неизменно важен для Хандке язык – не только и не столько даже как средство реализации той или иной темы, но и как сама тема. Комментируя «Саморазоблачение», автор, в частности, специально подчеркивает, что «Я» этой пьесы – «не «Я» повествования, а всего лишь «Я» грамматики». В уже цитированном «Манифесте» драматург ставит перед собой цель использовать «не действительность языка, а язык действительности», который должен «говорить за себя». Нередко Хандке прибегает к непривычной грамматической и стилевой организации своих текстов. Но и в тех случаях, когда он строит фразы грамматически правильно и синтаксически правильно же их оформляет, они – подобно тому как это происходит у Ионеско – могут быть исполнены таких кричащих смысловых противоречий, что, условно говоря, «опрокидываются», оборачиваются полной противоположностью заключенному в них буквальному содержанию. Имея в виду разрушение драматургом именно языковой системы, многие критики и литературоведы предостерегали об опасности разрушения культурных ценностей вообще, говорили о дегуманизирующей тенденции в искусстве.
Следует, однако, признать, что языковой авангардизм не был для Хандке самоцелью. «Мы играем, говоря с вами», – звучит из уст чтеца в «Поругании публики», «Я высказывал то, что уже подумали другие», – в «Саморазоблачении» и т. д. Язык, таким образом, помогает обратить внимание читателя и зрителя на вопиющий коммуникативный кризис в современном обществе, а также выразить свой взгляд на состояние драматургии и театра и собственное представление о возможных путях их реформирования.
В 1967 г. увидела свет новая пьеса Хандке – драма «Каспар». Начавшая сценическую жизнь 11 мая 1968 г. одновременно во Франкфурте-на-Майне и Оберхаузене, она, согласно театральной статистике, только в сезоне 1968/1969 гг. была показана в 21 театре 508 раз. Шла или идет она и в театрах других стран, в том числе на постсоветском пространстве (например, в киевском театре «Колесо» ее поставил французский режиссер Пьер-Жан Валентен). В основу драмы положена история знаменитого дикаря, объявившегося 26 мая 1828 г. в Нюрнберге. Таинственная фигура Каспара (1817? – 1833) в разное время привлекала к себе внимание многих писателей – Поля Верлена (стихотворение «Поет Каспар Хаузер»), Георга Тракля (стихотворение «Песнь о Каспаре Хаузере»), Якоба Вассермана (роман «Каспар Хаузер, или Леность сердца») и др.
Хандке придает истории Каспара смысл экзистенциальный, интерпретируя ее как ситуацию «каждого», «всякого», используя исключительный случай как повод для обнажения подоплеки жестокого в своей сущности процесса социализации человека. «Взрослый ребенок» с девственно чистым сознанием для этой цели оказался идеально пригодным. Проведший все шестнадцать лет своей жизни в заточении, лишенный возможности общаться с другими людьми, с трудом способный говорить и передвигаться, он появляется на сцене с одной-единственной заученной им фразой: «Я хотел бы быть тем, кем кто-то уже был до меня». Именно эти слова получат в пьесе статус ключевых, станут своеобразным стержнем, в течение всего ее действия испытываемого на прочность и гибкость одновременно.
Подчеркнуто необычно на сей раз даже типографское оформление пьесы. Начиная с середины 8-й сцены (всего в «Каспаре» 65 сцен) по 50-ю включительно последовательно выдержан принцип размещения текста в две колонки, причем иногда заполнена одна из них, чаще – обе. В следующих десяти сценах возобновляется традиционная типография, как в начале произведения; в финальных 61– 65-й сценах она вновь сменяется двухколончатой, но в 64—65-й – с частичными включениями обычного расположения текста.
Вероятно, в какой-то степени подобное размещение материала пьесы было подсказано графикой «конкретной поэзии», получившей в 1950—1960-х годах широкое распространение в немецкоязычных литературах. По крайней мере, сам Хандке десятилетием позже признавался, что среди «смущавших» его воображение явлений – наряду с Марксом, Фрейдом, структуралистами и др. – была в 1960-е годы и «конкретная поэзия». В Германии в ее русле активно работали Ойген Гомрингер, Франц Мон, Герхард Рюм, Тим Ульрихс и др. Из австрийских представителей этого направления следует назвать Эрнста Яндля, Ганса Карла Артмана, Конрада Байера, Освальда Виннера и других основателей «Венской группы», продолжением практики которой и стала «конкретная поэзия».
Поэт и теоретик Э. Яндль исходил, как известно, из того, что в углублении, уплотнении содержания поэтического произведения, в придании ему смысловой емкости велика роль не только целых фраз и отдельных слов и даже не только букв и звуков, но и их графического изображения и расположения. Графика есть не только оболочка для содержания, она сама по себе может быть смыслоносителем. Совершенно закономерно обращение поэтов-конкретистов к разнообразным символам, штрихам, пунктирам, иероглифам, элементам рисунка, предназначенным определенным образом редуцировать предмет, ситуацию, состояние человека.
В качестве эпиграфа к пьесе «Каспар» как раз и использовано стихотворение Эрнста Яндля «16 лет» («16 jahr»):
thechdthen jahr thüdothdbahnhof wath tholl wazhtholl der machen thüdothdbahnhof thechdthen jahr wath tholl wath tholl der bursch wath tholl der machen wath tholl wath tholl der machen thechdthen jahr thüdothdbahnhof wath tholl der machen der bursch mit theine thechdthen jahrРазумеется, смысл его присутствия не сводится драматургом к намеку на сходство своей художественной манеры со стилем Яндля, он гораздо глубже: Каспар Хаузер в том же возрасте, что и подразумеваемый лирический герой стихотворения, и ему, вынужденному начинать освоение мира, что называется, с чистого листа, тоже предстоит поиск собственного языка и, значит, собственного «я».
Причины использования необычного типографского оформления в некоторой степени объяснены в начале 8-й сцены. Во-первых, Каспар постепенно привыкает к окружающей его обстановке и, соответственно, меняет свое поведение; он уже не обходит вещи стороной, а прикасается к ним, ощупывает их, даже пытается расставить по местам, следовательно – обнаружить между ними связь. Во-вторых, новые движения, прикосновения к предметам всякий раз влекут за собой новое проговаривание все той же известной фразы «Я хотел бы быть тем, кем кто-то уже был до меня». В-третьих, в дело вступают Суфлеры (die Einsager), чью речь необходимо было отделить от высказываний Каспара.
Суфлеры, по замыслу драматурга, на сцене не появляются, звучат только их голоса, записанные на пленку, – прием, уже знакомый, например, по «Последней ленте Крэпа» Беккета, с чьими произведениями «Каспар» имеет и другие точки соприкосновения. Надо сказать, прием этот весьма удачен. С одной стороны, пьесе придается динамизм, с другой – не нарушается ее психологическая атмосфера, тема одиночества не только не отодвигается, но даже акцентируется: Каспар не один, но одинок, одинок и беспомощен еще больше, чем прежде.
Разнесению пьесы по колонкам сообщена некоторая система: левая колонка – это, условно говоря, «текст Каспара» (курсивом выделены авторские описания «моторики» персонажа – его жестов, мимики, движений, поступков), правая – «текст Суфлеров», т. е. их высказывания и описания их реакций. Так посредством своеобразного оформления читатель получает дополнительное представление о биполярности ситуации: Каспар и Суфлеры находятся одновременно в оппозиции и во взаимодействии. По словам западногерманского литературоведа Г. Хайнца, «по одну сторону – обучающий, инструктор, по другую – ученик, инструктируемый» (1, 54).
Процесс обучения-воспитания Каспара далеко не прост и не линеен. Суфлеры буквально вбивают, вколачивают в него избитые выражения, штампы обыденной речи вроде «Каждый должен мыть руки перед едой», «Маленькое, да мое», «У дверей – две створки, у правды – две стороны» и т. п. В сознании героя воцаряется сумятица, его фраза «Я хотел бы быть тем, кем кто-то уже был до меня» разлагается в его же устах, «распредмечивается», ее составные части на разные лады перераспределяются, возникают неожиданные звукообразы, готовые так же быстро ускользнуть, как и вынырнуть. Язык становится поистине героем пьесы, демонстрируя Каспару (и читателю, зрителю) свою над ним власть и силу. Все держится на слове, все вращается вокруг слова; все, что происходит с сознанием и в сознании Каспара, отражается в его говорении. Он не просто учится слово произносить – он его в буквальном смысле переживает, обживает, как целый неведомый мир. По-прежнему бессобытийное в традиционном смысле течение драмы приобретает подлинную напряженность и даже своего рода интригу. Все настойчивее в изначальной фразе Каспара на место «другого» претендует «я» («Ich bin, der ich bin. Ich bin, der ich bin. Ich bin, der ich bin»). Пройдя через замешательство, пытки языком, неудачи и умолкания, то простодушно восторгаясь собой, то ощущая безысходность, Каспар постепенно начинает доверять себе, преодолевать пропасть между собой и «другими».
Однако с трудом обретенное внутреннее равновесие оказывается недолгим. Хандке дает понять, что всякая навязанная извне упорядоченность, подчинение стереотипам чреваты нивелировкой жизневосприятия, утратой идентичности. Именно эта опасность угрожает Каспару, в подтверждение чего автор «расщепляет» личность персонажа – на сцене появляется целых шестеро Каспаров. В финале герой трижды бросает в зал нелепую фразу «Козы и овцы», выражая таким образом свое отчаяние и ненависть к «воспитателям». Реальный Каспар Хаузер, как известно, пал от руки убийцы в 1833 г. (что нашло отражение в литературе, например – у Г. Тракля: «Склонилось серебряно долу чело нерожденного», пер. О. Бараш); будущее Каспара в драме Хандке не менее смутно, чем его прошлое. В авторском разъяснении замысла пьесы – заметке «Шестнадцать фаз Каспара» («Kaspars sechzehn Phasen») – последняя фаза представляет собой сплошные вопросы: «Кто Каспар теперь? Каспар, кто теперь Каспар? Что теперь Каспар? Что теперь Каспар, Каспар?» («Wer ist Kaspar jetzt? Kaspar, wer ist jetzt Kaspar? Was ist jetzt Kaspar? Was ist jetzt Kaspar, Kaspar?»).
Фигура Каспара в изображении Хандке подчеркнуто условна; «его лицо есть маска», заметит автор и сам же сравнит его со знаменитым литературным созданием Мэри Шелли – монстром Франкенштейном и не менее знаменитым Кинг Конгом. Исследователи драматургии Хандке не без оснований усматривают в ней (как и в творчестве в целом) влияние Людвига Витгенштейна: иные места в том же «Каспаре» могут быть прочитаны почти как развернутые иллюстрации к некоторым положениям «критики языка» австрийского философа. В частности, к следующему: «Язык переодевает мысли. Причем настолько, что внешняя форма одежды не позволяет судить о форме облаченной в нее мысли…» (2, 18). Какова «форма мысли», зависит от многих факторов, и прежде всего – от социально-общественных отношений. Последние же складываются, считает Хандке, таким образом, что единственно поощряемым и даже диктуемым результатом языкового образования человека становится конформизм.
Влияние Витгенштейна на свои художественные принципы признавал и сам Хандке. Впрочем, контекст анализа языка его пьес и языка как темы его пьес, включая драму «Каспар», может быть гораздо более широким. Восприятие языка как предписывающей, предопределяющей инстанции в XX в. было достаточно распространенным и свойственным не только философам, но и многим писателям. Словотворчество, эксперименты с грамматикой и синтаксисом рассматривались как возможный способ изменения действительности (Витгенштейн тоже полагал, что язык не только зеркальным образом отражает мир, но и посредством изменения своих структур может этот мир изменять), но прежде всего – как путь к ее постижению и адекватному художественному воплощению. У О. Мандельштама в стихотворении «Нашедший подкову» (1923), из которого Хандке как раз и позаимствовал эпиграф к «Каспару», есть и такие характерные слова: «…То, что я сейчас говорю, говорю не я…» Уместно вспомнить яростных ниспровергателей традиционного литературного языка – представителей разного рода авангардистских и неоавангардистских явлений, отдельные из которых уже упоминались (дадаизм, сюрреализм, «конкретная поэзия» и др.). Можно сослаться и на близких Хандке по духу неороманистов и антидраматургов. «Театральное действие, – считал Эжен Ионеско, – это крайнее преувеличение чувств – преувеличение, расчленяющее повседневную реальность. И расчленение, расстройство речи» (3, 48); более того, «каждое произведение значимо в той мере, в какой оно создает свои собственные правила» (3, 26).
Поиском новых форм, языковых и композиционных, отмечены и последующие пьесы Хандке, созданные в конце 1960-х – начале 1970-х годов: «Опекаемый хочет стать опекуном» («Das Mündel will Vormund sein», 1969), «Всякая всячина» («Quodlibet», 1970), «Верхом по Боденскому озеру» («Der Ritt über den Bodensee», 1971), «Неразумные вымирают» («Die Unvernünftigen sterben aus», 1973). Они более зрелищны, в немалой степени за счет разнообразия движений и жестов, которые занимают все большее место в системе изобразительно-выразительных средств Хандке. (Впрочем, существенная нагрузка возлагалась на них уже в «Каспаре».) Пьеса же «Опекаемый хочет стать опекуном», название которой подсказано шекспировской «Бурей», вообще является пантомимой.
Не с «чтецами», как это было в «разговорных пьесах», а с персонажами имеет дело читатель и зритель в своего рода трагикомедии «Верхом по Боденскому озеру». Ее название восходит к балладе Густава Шваба, поведавшей о человеке, который якобы принял покрытое льдом Боденское озеро за равнину, занесенную снегом, и безбоязненно проскакал по нему верхом; когда же он неожиданно обнаружил, какой опасности себя подверг, его сердце не выдержало.
Значительно большая роль отведена на сей раз и декорациям, которые, согласно авторским указаниям, должны создавать ощущение подлинности – обстоятельств, костюма, дома, его обитателей. Имена последних тоже подлинны – это имена известных в 1920– 1930-х годах актеров кино и театра Эмиля Яннингса, Хайнриха Георге, Элизабет Бергнер, Эриха фон Штрохайма, Хенни Портен. На деле же все в этой пьесе поставлено с ног на голову: одни диктуют другим некую ситуацию, эти другие вынуждены подчиниться, в результате «положения» героев оказываются вывернутыми наизнанку. Критики и литературоведы, немецкие и российские, отнеслись к произведению по-разному. Одни сочли, что социальный подтекст в нем ощутим еще меньше, чем в ранней драматургии Хандке. Так, автор содержательных публикаций о его творчестве Н.С. Павлова писала, в частности, о том, что в этой пьесе «опасность слов, сейчас же заводящих персонажей в искусственные, нарочитые ситуации, рассматривается как нечто абсолютное и всегдашнее, исключающее возможность серьезного отношения к проблеме. Слова опасны независимо от того, кто говорит и какие они» (4, 121). Другие находили аналогии с Чеховым, засвидетельствовавшим в своих пьесах закономерность и неизбежность крушения старого жизненного уклада; ту же идею иными художественными средствами реализует Хандке.
Более «социальна» пьеса «Неразумные вымирают», главный герой которой – предприниматель Герман Квитт. Это своего рода художник от бизнеса: он движим страстью не столько к наживе, сколько к ярким и острым ощущениям и потому в глазах окружающих неразумен. Жаждущий громкого публичного внимания, Квитт своими махинациями разоряет друзей-предпринимателей. Конец катастрофичен: его, и без того разочарованного в жизни, потерявшего вкус к делам, друзья в отместку за разорение наводят на мысль о самоубийстве, и Квитт кончает с собой. Разумеется, пьеса не является апологией Квитта; в ней разоблачена жестокая сущность общественных отношений, подавляющих личность, основанных на погоне за прибылью, лжи и лицемерии.
В начале 1970-х годов Хандке вновь обращается к прозе, и теперь надолго. Именно с прозой 1970-х связывают исследователи постепенный поворот Хандке к личности, к сюжетике, к реалистической традиции. Еще в 1967 г. Хандке опубликовал статью «Я – обитатель башни из слоновой кости» («Ich bin ein Bewohner des Elfenbeinturms»), в которой попытался обосновать свое неприятие, по его же определению, «маньеристского реализма», т. е. эксплуатацию писателями давно открытых художественных приемов, скорее лишающую искусство слова реалистичности, и собственный поиск «новых возможностей и новых методов» в литературе, новых моделей изображения «действительной действительности».
В статье шла речь и о новом произведении, в котором Хандке собирался реализовать свои эстетические представления: «Для романа, над которым я теперь работаю, я избрал схему распространенного вымысла. Я не изобрел историю, я нашел ее. Нашел внешний каркас действия, уже готовый, восходящий к детективной схеме с ее изобразительными клише, в виде убийства, смерти, испуга, страха, преследования, пыток. В эту схему я вложил собственные размышления, способы существования, поведения, жизненные привычки. Я понял, что эти автоматизмы изображения когда-то возникли из действительности, когда-то были реалистическими. Если я добьюсь, что эта схема смерти, ужаса, страдания и т. д. оживет именно во мне, в моем сознании, то смогу с помощью такой пропущенной сквозь рефлексию схемы показать действительный ужас и действительное страдание».
Роман вышел в 1970 г. под названием «Страх вратаря перед одиннадцатиметровым». Именно его критики называют переходной книгой Хандке; «…еще не реализм, но уже не авангардизм» (5, 46), – констатировал позже Ю.И. Архипов. Изложить содержание романа и легко и сложно одновременно: в традиционном смысле в нем мало что происходит (герой потерял работу, убил, скрылся), да и происходит уже на первом десятке страниц; зато рефлексиями и переживаниями произведение насыщено предельно.
Итак, монтеру Вальтеру Блоху, когда-то известному футбольному вратарю, объявили, что он уволен. Некоторое время после этого Блох слоняется по городу, куда-то заходит, с кем-то заговаривает, чем-то механически заполняет время, проводит ночь с фактически незнакомой женщиной, кассиршей кино, которую наутро неожиданно душит в ее же квартире. Пытаясь замести следы, уезжает в городок на южной границе, где, как он знал, бывшая приятельница содержит пивную. И здесь Блох блуждает по городу, заводит случайные знакомства и разговоры. Вот, в сущности, и весь внешний событийный план, или, говоря словами автора, «схема», «каркас действия». Но есть в произведении и иной, внутренний, повествовательный план. Погружаясь в рефлексию, читатель становится свидетелем неимоверного психологического напряжения, переживаемого героем. Оно неуклонно возрастает в предчувствии развязки, по мере того как Блох из газет узнает о следах убийцы, обнаруженных полицией, т. е. своих собственных.
Что же такое это убийство, казалось бы, абсолютно немотивированное? Ведь должны же быть причина или хотя бы повод, почему один человек лишает жизни другого, не причинившего ему даже невольного зла. Быть может, всему виной увольнение, в результате которого Блох оказался выброшенным на обочину существования и теперь выместил обиду и злость едва ли не на первом подвернувшемся? Не случайно в один из кульминационных моментов в голове беглеца возникает фраза – «заключительная» (т. е. все объясняющая), как ему кажется, которая затем повторится: «Слишком он долго оставался без работы». Ответ, однако, столь же скор, сколь и относителен. Во-первых, после увольнения прошли считанные дни, во-вторых, при внимательном чтении не ясно, действительно ли Блоха уволили или он, по сути, сам «уволился»: на работе он почему-то появляется в обед; на его появление почти никто не реагирует (привыкли к его отсутствию?); более того, об увольнении ему никто даже не сообщает, он сам именно таким образом истолковывает всеобщее молчание. Стройплощадку он покидает сразу же, беспрекословно, следовательно – либо воспринимает увольнение как ожидаемое и вполне логичное, либо сам решает поставить, наконец, крест на опостылевшем занятии.
Так что суть, вероятно, не в этом увольнении; по мере развития сюжета гораздо более важным представляется тот факт, что когда-то раньше Блох лишился своего любимого, настоящего дела. В бытность вратарем на нем лежала ответственность, он имел возможность самовыражения: мог рисковать, импровизировать, принимать решения, приковывать к себе взоры, в немалой степени способствовать триумфам команды. Игра была не просто работой, а призванием, и с ее потерей жизнь утратила краски, остроту ощущений, праздник сменился обыденностью, примитивной и монотонной, свыкнуться с которой, преодолеть ее он оказался не в состоянии. Тоска и бесконечное одиночество, предельная отчужденность, ощущение самоутраты полностью завладели его личностью. Вольно или, скорее, невольно Блох и совершает убийство из безотчетного желания сыграть в новую, на сей раз «страшную и преступную игру, чтобы вновь привлечь к себе внимание, как когда-то на футбольном поле в момент одиннадцатиметрового удара», «как-то обогатить собственную жизнь, театрализовать свое бесцветное существование» (6, 195).
Почему же именно эта женщина становится жертвой Блоха? Ведь случаи для совершения преступления ему представлялись многократно: он то и дело лез на рожон, ввязывался в драки, затевал ссоры… Вероятно, дело еще и в том, что обида на весь мир до поры до времени придает видимость смысла его рутинному существованию. Показательно, что, с одной стороны, поступки Блоха имеют характер коммуникативного, так сказать, намерения, а с другой – всякая коммуникация самим же персонажем на корню пресекается, стоит только произойти очередному соприкосновению с кем-то, забрезжить перспективе хотя бы непродолжительного, ни к чему не обязывающего общения. Достаточно было позволить незнакомой женщине приблизиться к себе, как она стала казаться необычайно навязчивой, присваивающей даже его слова и его истории, в то время как он подчеркнуто выдерживает дистанцию; иначе говоря, посягающей на последнее, что у него осталось, – непроницаемое одиночество. И вот уже в восприятии Блоха гротескным образом деформируется реальность, так что безобидные чаинки на дне посуды кажутся ему кишащими муравьями. Общих тем для разговора нет, обмен фразами напоминает диалог глухонемых. Внутренний взрыв назревает; чашу терпения Блоха переполняет обращенный к нему, только что оставшемуся без места, вопрос Герды, не пойдет ли он сегодня на работу. Так парадоксально сошлись в одной точке случайно допущенная Блохом максимальная физическая близость с другим человеком и максимальная же от этого другого душевно-духовная удаленность. В результате накопленные в течение долгого времени злость и раздражение выливаются в убийство. Кстати, именно в беседе с Гердой впервые всплывает фамилия Штумм (нем. stumm – немой, безмолвный), затем это слово лейтмотивом пройдет через все повествование; символично, что немецкое словосочетание stumm machen означает «убить».
Однако даже таким ужасным образом Блоху не удается привлечь к себе внимание. Более того, своему поведению после убийства он придает, в сущности, лишь видимость заметания следов, как бы идя на уступки детективному клише – убийце положено стараться скрыться: все вещи в комнате убитой протирает полотенцем, но оставляет подле трупа американский цент, подобные которому затем выронит в увозящем его из города автобусе, причем отнюдь не поспешит их подобрать, а позволит это сделать соседке да еще объяснит грязный вид монет тем, что их бросали на землю перед футбольным матчем, разыгрывая ворота. Найдут возле убитой и газету с каракулями Блоха – все с той же фамилией его приятеля-футболиста Штумма.
Сложить отдельные фрагменты в общую картину, даже получить словесный портрет Блоха и выйти на убийцу для полиции, кажется, не составит труда. Мало того, уже вроде как укрывшись в чужом городке, Блох звонит бывшей жене, по старой привычке отправляет неизвестно кому открытки, то и дело снова нарывается на ссоры и драки, т. е. только что не идет сдаваться в полицию. Иными словами, Блох продолжает затеянную им новую игру; не случайно его преследуют впечатления театральности, некоего облеченного в «шутовской реквизит» нелепого фарса, карикатурности людей, событий и вещей («будто для смеха»), «притворности и ломания», неестественности происходящего с ним и вокруг него, даже собственных своих слов.
Блох, тем не менее, продолжает оставаться неузнанным, даже опубликованные в газете описание и портрет убийцы не привлекают к нему внимания. Вопрос, почему его не узнают, безусловно, из числа самых существенных в романе, и ответить на него однозначно вряд ли возможно. Скорее всего, окружающие Блоха люди в большинстве своем ему же подобны и потому не в состоянии выделить его из общей массы. Разумеется, отнюдь не каждый из них – убийца в буквальном смысле, как Блох, но они равнодушны и близоруки, не способны к диалогу, немы.
Общество поражено духовной немотой – таков поставленный автором диагноз и, одновременно, вынесенный им вердикт. Этот свой диагноз-вердикт Хандке воплощает недвусмысленно, избегая однако, откровенного декларирования, делая это посредством символически значимых образов и ситуаций. Так, городок, куда прибывает Блох, занят поиском пропавшего немого школьника; две девушки, с которыми заводит знакомство Блох, уговариваются с ним о свидании вчетвером, «потому что вдвоем не о чем говорить»; сторож народной школы забредшему на ее территорию Блоху сообщает, что дети «даже говорить толком не учатся… если их не спрашивают, то и вовсе молчат». «В сущности, – заключает сторож, – все более или менее немые» (курсив во всех случаях наш. – Е.Л.). Не случайно у Блоха при этом возникает ощущение, что сторож «куда-то клонит» и что его слова имеют какое-то отношение к нему, Блоху. Показательно, что ответить он не рискнул, т. е. опять-таки «онемел», и счел за лучшее незаметно ускользнуть. Перечень примеров можно продолжить; очевидно, в процессе развертывания романного действия происходит метафоризация мотива немоты, развитие его коннотации, его ассоциативное наращивание.
В нравственно неблагополучном обществе люди тотально разобщены, отчуждены друг от друга, не только немы, но и глухи, в чем Блох убеждается на обоих этапах своего аутсайдерства – до убийства и после него. Ведь попытки убедить себя в наличии хоть каких-то еще остающихся связей неизбежно проваливаются (нечто подобное довелось испытать Гансу Шниру, герою романа Г. Бёлля «Глазами клоуна»; кстати, происходящее с Блохом тоже имеет своеобразный оттенок клоунады, и в этом смысле «Страх вратаря перед одиннадцатиметровым» соприкасается не только с данным произведением Г. Бёлля, но и с романами других западногерманских писателей – «Жестяным барабаном» Г. Грасса, «Делом д'Ар-теза» Г.Э. Носсака). Никто не слышит Блоха, не утруждает себя даже видимостью участия – ни бывшая жена, которая в ответ на его телефонный звонок сообщила, что «у нее все в порядке, но сама его ни о чем не спросила», ни те же девушки-парикмахерши, столь напоминающие героинь антидрамы. Люди друг для друга в романе Хандке – нечто вроде привычных атрибутов, не более того. Символичен в этом отношении эпизод, когда киоскерша, у которой Блох постоянно покупал газеты и которая поэтому хорошо его знала, не узнает его при встрече вне киоска.
Преступник ли Блох? Безусловно. Аутсайдерство не оправдывает, а всего лишь объясняет совершенное им бессмысленное убийство. Но Блох – не убийца по натуре; каково ему быть убийцей, свидетельствуют многочисленные описания его состояния и сразу после содеянного («…ему представлялось, будто у него из всего тела сочится сукровица»), и позднее, когда он ощущает невыносимую физическую боль, «будто его стамеской стесали с того, что он видел, или, наоборот, что вещи вокруг соструганы с него». Совершенное персонажем жестокое насилие над другим человеком теперь мучит его собственное тело и душу.
Необходимо отдать должное Хандке-психологу; повествование в романе ведется от третьего лица, но в данном случае это своего рода обманный ход: читатель на все происходящее смотрит глазами главного героя, точнее – сквозь призму его катастрофически-кризисного сознания, выписанного настолько тщательно, что обнажаются все скрытые механизмы его функционирования.
Если учесть, что персонаж находится в состоянии имманентного душевно-духовного недуга, острейшего внутреннего разлада и смятения, вряд ли покажется столь уж странной противоречивость, даже абсурдность поведения Блоха, дающая о себе знать с первого с ним знакомства. Примеров же этой противоречивости не счесть. Вот Блох поднимает руку, вовсе, однако, не собираясь останавливать такси; вот он собирается повидать кассиршу кино, но удовлетворяется созерцанием афиши; в кафе он буквально заставляет себя перелистывать журналы, но ни один из них не отложит, не перелистав до последней страницы; просит официантку включить телевизор, но совершенно не интересуется передачей; уговаривается о встрече с давней знакомой, но, не дожидаясь ее, уходит с другой женщиной, которую тоже неожиданно оставляет; достает из кармана газету и пытается читать, не видя ни строчки; имея квартиру и будучи ограниченным в средствах, тем не менее снимает гостиничный номер; оставляет его за собой, но отправляется в общественную душевую на вокзал… Тоска и одиночество отовсюду гонят его – на улицу, рынок, городской стадион, в кафе и трамваи, подобно тому как это некогда было с джойсовским Леопольдом Блумом.
Апогей этого состояния абсурда – убийство, после которого парадоксальность поведения, а вместе с ним и судьбы Блоха лишь усиливается. Абсурдностью пронизаны, собственно, все содержание произведения, вся его художественная система. Достаточно вспомнить, что пытаясь не столько скрыться (о чем речь уже шла), сколько оттянуть конец страшной игры и своей вновь обретенной роли вратаря в ней, Блох, сам пока об этом не подозревая, направляется навстречу другой смерти, к которой отношения не имеет, но которую, кажется, тоже не прочь использовать. Создается впечатление, что и в этой драме он ищет для себя место игрока, все того же вратаря. При этом стремление во что бы то ни стало привлечь к себе внимание, почти сознательное желание вызвать в свой адрес подозрения и пережить острые ощущения борются в нем со страхом быть уличенным. Не случайно Блох слоняется в окрестностях города, где пропал немой школьник; не случайно именно он находит сначала велосипед исчезнувшего мальчика, а затем и сам труп, обнаружить который не сумела полиция; не случайно бродит возле границы, демонстративно имитируя нечто вроде намерения совершить побег; не случайно провоцирует таможенника, заводя разговор о своеобразных отношениях, складывающихся между нарушителем и его преследователем. Последняя ситуация – из числа несомненно символических; по широко используемому в романе принципу почти зеркального взаимоотражения обстоятельств и образов, одному из существеннейших в структуре произведения, этот разговор эхом отзовется в финальной (опять-таки символической) беседе Блоха с торговым агентом о бьющем пенальти игроке, вратаре и зрителях.
Символично и обилие происшествий со смертельным исходом, которые повсеместно настигают Блоха и определенным образом замыкают событийное пространство, окрашивая в трагические цвета судьбу не только конкретного персонажа, но и вообще всякого человека. Помимо совершенного Блохом убийства и гибели немого мальчика, это и эпизод с издающим запах тления трупом, покоящимся на катафалке в соседнем с пивной доме; и сообщение хозяйки этого дома о случившейся в нем предыдущей смерти («У нас ведь одного ребенка завалило тыквами… Вдруг захрипел и умер»); и произнесенная привратником из замка цитата о «трупе в гостиной», которая тотчас в сознании Блоха ассоциируется с иным трупом и иной гостиной; и обнаруженная Блохом старинная запись из хранящейся в замке домовой книги о непокорном крестьянине, вынужденном оставить свое жилище и найденном позднее «в лесу, повешенным на суку за ноги и головой в муравейнике» (вот где неожиданным образом всплыли те самые, показавшиеся Блоху муравьями, чаинки); и рассказ об убитом цыгане, найденном в городской купальне, к которой как магнитом тянет Блоха; и упоминания о заминированной границе, вышках и концлагерях, вызывающих в сознании зловещий образ войны… Даже многочисленные составляющие зооморфного ряда (рога подорвавшегося на минном поле оленя, примостившаяся возле катафалка с покойником кошка, раздавленная ласка и проч.) приобретают метафорический смысл и усиливают драматизм романа.
Предельно густо насыщено повествование и другими знаками, которые мгновенно связываются Блохом с совершенным им преступлением, а затем и с грядущей расплатой. На что бы ни упал его взгляд, к чему бы он ни прикоснулся, кто бы о чем ни говорил, во всем ему мерещится скрытый смысл, западня, намек на неотвратимость конца игры, по логике которой (и в соответствии все с той же – повторим ранее приведенные слова самого Хандке – «детективной схемой с ее изобразительными клише») он будет неизбежно уличен и призван к ответу. «Лицом вниз», – звучит, например, в мозгу Блоха при виде висящих корешками кверху телефонных книг, а в безобидных пояснениях жандармов вместо «сдать в срок» и «побелить» ему чудится «дать срок» или «обелить» и т. п. Обилие в романе единонаправленных намеков и символов, с одной стороны, подчеркивает очевидную сконструированность, заведомую экспериментальность текста, с другой – достаточно оправданно и закономерно в психологическом отношении; в соответствии с замыслом автора этот прием, наряду с другими, и должен был превратить «действительную действительность» в «мою», т. е. глубоко личностную реальность, исполненную, говоря словами писателя, «подлинных ощущений», продуманную, искусную, но не искусственную.
То же касается и кричащей предметности романа, вещности и вещественности его художественного мира, в трансформациях которого тоже есть своя логика. Поначалу окружающая Блоха реальность предстает перед ним предельно детализированной; соответственно, в поток сознания-зрения героя вовлекаются не только люди и здания, но и выплюнутая на тротуар виноградная кожура, и упавший в лужу лист. Видимой упорядоченностью предметного ряда как бы замещается отсутствие порядка внутри Блоха, по отношению к предметам он еще в состоянии ощущать себя сторонним наблюдателем. После убийства и отъезда Блох и себя самого начинает воспринимать как нечто постороннее, как предмет в ряду других предметов: «Он был тут, на опушке, там была трансформаторная будка, там была молочная палатка, там было поле, там было несколько фигурок, там, на опушке, был он. Он сидел очень тихо, пока не перестал сам себя замечать».
Постепенно вещи вообще утрачивают досягаемость, настолько герой удален от всего вокруг него происходящего: «сам он во всем, что видел или слышал, даже не присутствовал… Как аэрофото съемка, подумал Блох». Теперь детализация, предельная конкретизация не просто фрагментирует мир, но лишает его реальности и достоверности – уже не мир дробится на мельчайшие, но все еще сохраняющие форму слагаемые, а сами эти слагаемые расщепляются на отдельные части, одни из которых вообще оказываются исключенными из поля зрения Блоха, другие – угрожающе и неестественно укрупняются, форсируются, замещая собой целое, теряя привычные очертания и пропорции. Все реже удаются Блоху попытки восстановить окружающий мир, вернуть собственным действиям уверенность, различить «контуры, движения, голоса, возгласы и людей в целом». И все чаще читатель ловит себя на впечатлении, что персонаж перемещается не среди людей и предметов, а среди их отдельных частей, а то и вовсе предметы перемещаются вокруг него. Чем в большей степени вещи теряют свою вещность, тем чаще овеществляются и встраиваются в предметный ряд ощущения и переживания Блоха. Мир распадается в глазах одного из его обитателей, или, как сказал А. Камю в своем «Мифе о Сизифе», «декорации рушатся», рушится, соответственно, и их чувственный адекват.
На эксперименты лингвистического толка в романе «Страх вратаря перед одиннадцатиметровым», осуществленные не без влияния Людвига Витгенштейна, обращали внимание многие критики и литературоведы. Д.В. Затонский справедливо говорит о лингвистической мании Блоха, сближающей роман с некоторыми пьесами Хандке, в особенности с «Каспаром» (7, 414). Проблемы Блоха со словом, как и с предметной средой, проистекают, разумеется, из внутреннего состояния персонажа. Читатель оказывается свидетелем процесса поиска Блохом сначала нужного слова, а затем и просто слова, хоть какого-то. Оно все труднее дается герою («Целых девять слов, с облегчением подумал Блох»), лишь в результате огромных усилий «одно слово все еще послушно порождало другое», но часто и оно распадается или утрачивает функцию наименования, вербальной оболочки для вещи.
Роман «Страх вратаря перед одиннадцатиметровым», как и проза Хандке в целом, монологичен и в этом отношении вполне соответствует представлениям многих западных писателей XX в. о монологе как о почти единственно возможной форме современной литературы, ибо только он, по словам известного западногерманского прозаика Г.Э. Носсака, «отражает состояние человека, потерявшегося в чаще абстрактных правд». Однако в случае Хандке речь идет о достаточно своебразной форме монолога: он включает вставные сюжеты, пространные описания (например, церковной фрески, содержание которой преломляется у Блоха в свете его собственной истории), исполнен полифонии звуков, шумов (тем более выразительных, что они составляют очевидный контраст безъязычию, немоте героя), простой перечень которых, как и всевозможных запахов, занял бы не одну страницу.
Так же разнообразны отмеченные механичностью движения Блоха, выстраиваемые (иногда в пределах одной фразы) в некий перечислительный ряд. («Почему он все время садится, встает, уходит, топчется на месте, возвращается? – спросила арендаторша».) Для литературы XX в. этот прием не нов; так, он нередко встречается в прозе Э. Хемингуэя, в частности, в его рассказе «На Биг Ривер», герой которого Ник, например, берет спички, вытаскивает одну из них, зажигает, подносит к хворосту, раздувает огонь и т. д. – вероятно, затем, чтобы элементарными действиями отвлечь себя, защититься от душевной тревоги. Но движения Блоха часто лишены упорядоченности, последовательности, связи с намерениями и, подобно его поступкам и мыслям, производят впечатление абсурдности, что объясняется невероятно обострившимся осознанием тупиковости своего положения, утратой идентичности.
Продолжая экспериментировать с графикой текста, Хандке использует в романе элементы рисунка, воспроизводит отдельные предметы или их части, как это делали «конкретисты»; нечто подобное будет иметь место и в романной прозе, например в повести Макса Фриша «Человек появляется в эпоху голоцена», опубликованной в 1979 г., т. е. спустя девять лет после выхода в свет романа Хандке.
Весьма обширен хронотоп вызываемых романом аллюзий и аналогий с литературной традицией на всех уровнях – проблемно-тематическом, событийно-сюжетном, образном, стилевом. В упоминавшемся эссе «Я – обитатель башни из слоновой кости» Хандке пишет также, что он «решил избрать безличную литературную схему и сделать ее нелитературной и личной. Не в том было дело, чтобы «разоблачить» клише (это заметит всякий чуткий человек), а в том, чтобы с помощью клише, взятых в действительности, достичь новых результатов в представлениях о (моей) действительности: почти уже автоматически репродуцирующий метод сделать вновь продуктивным». Таким образом, сознательно предпринятая автором цитатность сводится преимущественно к событийно-сюжетному уровню, что, впрочем, не лишает читателя благодатной возможности узнавания. Тем более это касается аллюзий на стиль и героев произведений, созданных предшественниками Хандке.
Достаточно ощутимо влияние Джойса: «блумждание» его знаменитого персонажа по-своему отзывается в неприкаянности Блоха, а джойсовский поток сознания не раз напомнит о себе в повествовательной манере Хандке. Переживаемое Блохом состояние после совершенного убийства вызывает некоторые аналогии с ситуацией одного из знаковых героев Достоевского – Родиона Раскольникова.
Многими своими составляющими роман Хандке восходит к Кафке с его «Замком», «Процессом», «Превращением». Достаточно вспомнить эпизод, когда Блох ощущает себя «выпавшим из себя самого», «уродом» и «выродком», или, как он выражается, «нетранспортабельным». «Он был не сообразен ни с чем; как бы неподвижно он ни лежал, весь он был одно сплошное ломание и судорога; и виделся так ярко и отчетливо, что нельзя было от этого уйти, спрятаться за какое-либо сравнение. Он был таков, каким себя видел, чем-то похотливым, непотребным, неуместным, оскорбительным… с отвратительно вывернутым наизнанку нутром; не посторонний, а лишь до омерзения другой. Произошел какой-то толчок, и он разом утратил естественность, выпал из общей связи». Этот эпизод, совершенно очевидно, отсылает к превращению кафковского Грегора Замзы. В «Идиоте» Достоевского с Ипполитом нечто подобное происходит во сне, т. е. подчеркнуто абстрагируется от реальности, хотя и помогает герою уяснить всю унизительность своего положения и высшую степень отчуждения от жизни, но с Блохом, как и с Грегором Замзой, дело обстоит иначе. «Это был не сон», – заключает Кафка памятную сцену своей новеллы. «Он… очнулся», – предваряет Хандке сцену осознания Блохом самого себя. Значит, происходящее с Блохом тоже не сон, но, конечно, и не «явь» в том смысле, в каком она предстала в «Превращении» Кафки. У Хандке, при всей временами ощущаемой размытости между реальным и воображаемым, даже намека нет на присутствие элементов фантастического. Блох отдает себе отчет в том, что он «до невозможности реальный», но – совершенно беззащитный перед ясностью, с какой он видел собственное, обернувшееся мерзостью, существование. При всех подтекстах образа Блоха он все же гораздо более социален, нежели его кафковский прототип, однако обнаруживает и элемент притчевости. Перефразировав дневниковую запись Кафки «Писательство как форма молитвы», в отношении творчества Хандке можно сказать: писательство как форма самоидентификации, как ее поиск личностью.
Много общего в поведенческих моделях героя Хандке и персонажей экзистенциалистской литературы. Фраза из произведения Л.Ф. Селина «Церковь», предпосланная Ж. – П. Сартром роману «Тошнота» («Это человек, не имеющий никакой значимости в коллективе, это всего-навсего индивид»), вполне могла бы предварять и повествование Хандке. Подобно сартровскому Антуану Рокантену, Блох неприкаян и одинок, его существование редуцировано до минимальных потребностей, а внутреннее болезненное состояние предельно овеществлено, переживания опредмечены. Преследуемый своим же преступлением Блох испытывает мучительные приступы тошноты и рвоты подобно тому, как это происходило с героем Сартра.
Поразительно много совпадений (или специально предусмотренных автором аналогий все с той же целью опрокидывания литературных стереотипов) в романе Хандке и «Постороннем» А. Камю. В обоих произведениях главный персонаж совершает убийство, причем и в том и в другом случаях совершает его в состоянии некоего наваждения, аффекта; в обоих речь идет о личностях, ничем не примечательных на момент знакомства с ними читателя, и в обоих романах эта маргинальность не изначальна – как Мерсо, так и Блоха приводят к ней объективные и субъективные обстоятельства. В обоих случаях достаточно непросто решить, где заканчивается обвинение и начинается оправдание героев, какова в происшедшем степень личной вины и какова – общества; оба персонажа проходят после убийства через соприкосновение с церковью…
В романе Хандке есть также отдельные сцены и эпизодические, но существенные персонажи, «рифмующиеся», условно говоря, с аналогами из «Постороннего». К примеру, у Хандке есть эпизод, когда Блох заглядывает в раскрытое окно соседнего с пивной дома: «На катафалке он увидел покойника; рядом уже стоял гроб. В углу на табуретке сидела женщина и макала хлеб в кружку с сидром; на скамье позади стола лежал на спине молодой парень и спал…» Здесь же вошедшего Блоха чуть позже пригласят поужинать. Этот эпизод напоминает ситуацию, когда у катафалка с гробом матери Мерсо сиделка вяжет, сам Мерсо и обитатели богадельни, пришедшие проститься с умершей, пьют кофе и засыпают. Есть у Хандке персонаж, который ассоциируется со странной женщиной из «Постороннего», своим поведением смахивающей на автомат, – это налоговый инспектор, который обо всех вещах судит по их товарной стоимости и узнает их не по внешнему виду, а исключительно по цене. Немало точек соприкосновения и в стиле, художественном языке романов Хандке и Камю. Но главное заключается в концептуальном созвучии произведений.
Можно провести аналогии и со многими другими литературными влияниями. В поэтике Хандке узнаваемы немецкий вариант натурализма с его «секундным стилем»; «новый роман» в обоих ответвлениях, но в первую очередь – «шозизм» с его демонстративно-бесстрастным кадастром вещей и жестов (Алена Роб-Грийе Хандке тоже называл среди писателей, повлиявших на его творчество); неслыханная предметность стилистики Элиаса Канетти с его «Ослеплением», герой которого, лишившись доступа к своей библиотеке, «складирует» необходимые книги в голове, на ночь выгружая их в гостиничном номере. В статье «Я – обитатель башни из слоновой кости» Хандке писал также о «своего рода возвращении на новом витке к положениям Клейста, изложенным в его статье о театре марионеток».
При всей смоделированности романа смысл его достаточно прозрачен: помочь людям преодолевать отчуждение, находить общий язык, по словам автора – «сенсибельнее существовать», «лучше… ладить» друг с другом.
В 1972 г. вышел новый роман Хандке – «Короткое письмо перед долгим прощанием» («Der kurze Brief zum langen Abschied»), суть которого, пожалуй, уместнее всего передать немецким «Eigensinn» – «путь внутрь», к себе подлинному. Своеобразной же формой осуществления этого процесса самоидентификации явился путь буквальный: преследуемый женой Юдит, герой прибывает из Европы в Америку, перемещается по ней из штата в штат, из города в город, преодолевая немалые расстояния. Но и этими двумя значениями – метафорическим и прямым – не исчерпывается содержание мотива пути; мысленно персонаж то и дело совершает еще и обратный путь. В рассказ о злоключениях сегодняшних постоянно вклиниваются раздумья о родине – Австрии, воспоминания о собственном прошлом, и более всего – о безотрадном детстве, очевидно, обусловившем характер героя, его мировосприятие.
Собственно действие достаточно непродолжительно, но благодаря активной ретроспективе его временные и пространственные рамки расширяются. Снова и снова, с каждым усилием героя разобраться в своих переживаниях, в его сознании оживают минувшие события, которым некогда постоянно сопутствовали чувства тоски и непреодолимого страха. Страх, изведанный во время войны («…меня вносят в дом, укрывая от американских бомбардировщиков…»), постепенно усугублялся полнейшим одиночеством и заброшенностью, именно в детстве ощущаемыми особенно остро: ребенок «говорил сам с собой, чтобы выдумать себе общество и собеседников». Приступы депрессии у матери, опасения за нее, когда внутри «все обрывалось», безумный страх смерти, не своей даже, а смерти как таковой, одна мысль о которой открывала «черный, зловещий простор безмолвной, бездыханной подводной равнины… без единого живого существа вокруг», – подобные обстоятельства детства, разумеется, не могли вселить ни уверенности в себе, ни доверия к людям. Ощущения неуюта и несвободы сопровождали ребенка, а потом и подростка прежде всего на природе, ибо даже она принадлежала «другим, тем, от кого приходилось убегать», и общение с ней, неприятной и зловещей, чревато было «вероятностью совершить недозволенное». Да и учиться видеть природу за постоянной изнурительной работой на этих других было некогда.
Именно в Америке, вдали от родины, предаваясь бесконечным воспоминаниям, герой начинает понимать, почему его «память удерживает только мгновения страха», – ничего иного-то он в детстве, в сущности, не испытал. Не только его семья, но и большинство знакомых жили бедно. Дело даже не в материальном положении – жизнь была скудна событиями. Ни новых лиц, ни новых впечатлений, ни даже тем для разговоров, только повторение известного и пройденного. В таких условиях нетрудно было прослыть фантазером и мечтателем: «любая мечта воспринималась и вправду как пустые бредни, в этой жизни невозможно было найти соответствие никакой мечте, ничто не напоминало о мечте и не оставляло никаких надежд на ее свершение». Только в страхе немыслимым образом совершалось слияние мечты и жизни, ибо в свете мечты яснее виделась безнадежность реальности, а предвестие любой перемены тотчас окрашивалось в цвет страха. Совершенно не случайно в системе образов романа появится образ ребенка – маленькой дочурки давнишней приятельницы героя; ребенок, панически боящийся любого открытого пространства, – в сущности, двойник рассказчика, тридцать лет прожившего в постоянном ожидании боли, с ощущениями грозящих ему пустоты и пропасти.
По признанию героя-повествователя, он долгое время «видел мир будто в кривом зеркале», а всех без исключения окружающих – гротескно-уродливыми, почти сплошь неприкаянными беглыми каторжниками или физически ущербными существами, «калеками, слепцами и слабоумными». Даже их внешность не поддавалась в его сознании адекватному описанию, ибо памятью фиксировались только чужие аномалии и скверные привычки, остальное непроизвольно и неизбежно ускользало от глаз. Вероятно, подобный избирательный взгляд на мир был самым надежным способом утвердиться в обоснованности своей от него удаленности, бережно сохраняемой дистанцированности, подозрительности по отношению к любому вторжению в собственную жизнь.
Как ни парадоксально, но, скорее всего, именно как вторжение, как покушение на самодостаточное, изолированное от всех и вся существование, ставшее привычным и по-своему удобным, было воспринято героем появление в его жизни Юдит. Хотя именно к ней он некогда впервые испытал подлинное чувство, она побудила его сделать первый шаг навстречу «другим», начать «учиться терпеливому созерцанию». Остается лишь догадываться, что же извратило настоящие чувства – его и ее, почему любовь обернулась ненавистью, что вернуло героя в привычное русло страха и обособленности, а Юдит превратило в некую фурию, следящую за каждым его движением, опережающую любые его намерения, устраивающую ему ловушки и угрожающую убийством. Возможно, в нем и Юдит было нечто общее, что принималось в себе, но отвергалось в другом. Вероятнее же всего, герой так и не сумел (или не пожелал) до конца преодолеть в своем роде комфортную удаленность, даже по отношению к любимому человеку, и поэтому радость, душевно-духовная открытость так и не стали мерилом их отношений. «Я слишком долго с удобствами располагался во всех мыслимых позах отчуждения, – сознается рассказчик, – слишком долго обосабливался от всех, низводя их в ранг «существ». Это существо, говорил я про Юдит, эта тварь. Этот, эта, это» (курсив автора. – Е.Л.).
«А я… в Америке только и делаю, что вспоминаю», – признается рассказчик. Почему именно Америку избирает автор в качестве пространства для самоидентификации своего персонажа? Почему именно в этой стране герой, знавший прежде только «страдательную память», открывает в себе память «действенную», способность к обнаружению в своем прошлом «крохотных ростков надежды», которым он теперь пытается дать жизнь?
Как известно, европейские предшественники Хандке – Кнут Гамсун, Максим Горький, Франц Кафка и другие – акцентировали в американской действительности материально-прагматическое начало. Не все так однозначно у Хандке. Посредством своеобразно преломленного приема двойного зрения он соотносит американский и европейский образы мышления и поведения, показывая абсурдность, противоестественность, алогизм крайностей того и другого. В первом, американском, варианте жизнь может быть начисто лишена индивидуально-личностных оснований, в другом, европейском, человек оказывается погруженным в свой, так сказать, принципиальный индивидуализм, распространяющийся на все сферы жизнедеятельности, включая сокровенно-интимные. Предельно приземленным, обескрыленным предстает американец в восприятии Клэр: «А мы здесь о будущем совсем не думаем, даже и не пытаемся представить, какое оно. Если с чем и сравниваем нашу жизнь, так только с прошлым. У нас и желаний нет никаких…» Правда, движимая идеей «неамериканского воспитания» своей маленькой дочери, не желающая, чтобы та «вела себя так, будто ей принадлежит мир, или, хуже того, чтобы она считала всем миром только то, что принадлежит ей», чтобы она пристрастилась к вещам и руководствовалась собственническими инстинктами, Клэр постепенно начинает понимать: истолковывать все в соответствии с трафаретами немыслимо, а за моделями и стереотипами можно не разглядеть живого человека. Можно не разглядеть его и в ребенке, за чьей привязанностью к вещи часто скрываются потребность в надежности и постоянстве, желание утвердиться в прочности мироздания, естественный страх возможной пустоты.
Созерцая американский образ жизни, получив возможность познакомиться с ним, что называется, изнутри, герой Хандке неожиданно открывает для себя, что в этой стране отсутствуют даже живописные полотна с вымышленным сюжетом – только копии «взаправдашних» пейзажей или воспроизведения эпизодов американской истории. Художникам, американской «любовной паре», невдомек, что имеет в виду их европейский гость, толкуя о работе «для души». «Мы ведь все учились смотреть на мир только по картинкам из истории… Вот мы и не замечаем в ландшафтах природу, глядя на них, мы видим только свершения пионеров, тех, кто для Америки эти ландшафты завоевывал… Под каждым видом какого-нибудь каньона впору подписывать параграф конституции Соединенных Штатов», – признается женщина. И продолжает: «Сколько я ни пыталась подавить в себе это чувство, ничего не выходит: стоит увидеть кизил, меня тут же охватывает необъяснимое воодушевление… И вовсе не потому, что я родилась в Джорджии, а потому, что кизил – эмблема штата Джорджия»; «…мы просто не можем думать иначе, – вторит ей муж, – к любой картине мы мысленно сразу подставляем гордую фразу из конституции. Каждая птица для нас – национальная птица, каждый цветок – символ национального отличия».
Более того, рассказчик вдруг обнаруживает, что не встречал среди американцев человека, способного предаваться «бескорыстному созерцанию», место которого прочно заняло «механическое восприятие»; степень отчуждения в обществе такова, что даже селения выглядят не погруженными в ландшафт, а норовящими над ним возвыситься, отстраниться от него.
Неестественной кажется герою взаимная нежность «любовной пары», и точно такой же пафосно-театральной, хотя и «полной боли», предстает в его глазах вся история Соединенных Штатов – с их пресловутой «американской мечтой», величием просторов и техническим прогрессом. «Миссисипи театрально стремила вдаль свои воды, пассажиры театрально шествовали с одной палубы на другую…», – замечает герой в ожидании прогулки на пароходе с знаменательным названием «Марк Твен».
Безусловно, созерцание демонстративно подчеркнутой принадлежности американцев своей стране обостряет переживания героя по поводу собственных сложных отношений с родиной. С другой стороны, может быть, по контрасту с театральностью во взаимоотношениях американцев, он начинает испытывать не натужно-лихорадочную, а настоящую жизнерадостность, замечает перемены в своем мироощущении: «Я уже больше не разговаривал сам с собой и радовался дню, как прежде радовался ночи».
Приходит, наконец, ощущение обретенности «ИНОГО ВРЕМЕНИ» (выделено автором. – Е.Л.), поиском которого было заполнена предыдущая жизнь героя и которое теперь распахнулось, раскинулось перед ним целым «ИНЫМ МИРОМ» (выделено нами. – Е.Л.). Принципиально важно, что принимая этот новый мир, герой осознает не только собственную в нем экзистенциальную потребность, но и потребность мира в нем, обычном человеке со своими бедами и проблемами, и в то же время неповторимой личности; теперь он должен только «найти… такой образ жизни, чтобы можно было просто жить по-хорошему и по-хорошему относиться к другим людям». Делать свою работу, принимать людей такими, каковы они есть, любить и прощать. «Однажды, к примеру, я слышал, как одна женщина сказала: «Помню, я тогда еще очень много овощей на зиму законсервировала», и при этих словах я с трудом сдержал слезы».
В новом свете видится теперь герою и его конфликт с Юдит. Суть его проясняется на фоне взаимоотношений той же «любовной пары», у которой они с Клэр и ее ребенком останавливаются во время путешествия. Эти взаимоотношения представляют некий гротескный симбиоз американского собственничества и европейского индивидуализма. Прожившие лет десять «буквально не сводя друг с друга глаз», он и она так и не смогли (или не захотели) подладиться друг к другу, что-то переиначить в себе. Они не мыслят своей любви без раздражения и ссор до белого каления; в орбиту их поглощенности друг другом оказываются втянутыми элементарнейшие мелочи быта, предметы утвари и мебель, которые «были им дороги, словно частицы собственного тела», будто ни в каком другом интерьере их любовь не смогла бы состояться, а разбитый чужим ребенком стакан или невозвращенная книга образовывали зияющую брешь не на кухонной или книжной полке, а в самом существовании их хозяев. В их искусственном напряжении чувств, «судорожной нежности», в приемах гостей, постоянно устраиваемых единственно ради того, чтобы найти в них «новые подтверждения неуместности постороннего вмешательства в их жизнь», в разделении собственности, от салфетки до последнего угла в доме, – во всем этом рассказчик узнает драму своего с Юдит превращения из любящих друг друга людей в откровенных врагов, а совместного существования – в изощренную пытку, в «немыслимый, исступленный танец, хореографом которого была ненависть». «Как и наши хозяева… мы тоже поделили все вещи на сферы влияния. Но поделили не от избытка нежности, а от лютой вражды: перенесли вражду и на вещи». На публике же они играли распределенные роли, что вполне устраивало посторонних, ибо не требовало от них душевного участия. «Я понял, наконец, – скажет герой Хандке, – какая цель гонит Юдит по моему следу… нас манило само ожесточение смертельной схватки…»
Роман «Короткое письмо перед долгим прощанием» при всей преемственности проблем и мотивов – в гораздо большей степени, чем другие произведения Хандке, оставляет впечатление некоего палимпсеста. Возникает оно не только из-за имманентного включения прошлого в настоящее, австрийских и европейских реалий – в американские, но и благодаря предельной насыщенности повествования разнообразнейшими аллюзиями и реминисценциями: музыкальными, живописными, кинематографическими, историко-культурными.
Совершенно особое место в романе принадлежит литературным произведениям европейских и американских писателей. Семантика цитат, источники которых в одних случаях многократно оговариваются автором, в других – угадываются читателем, весьма сложна, их эстетическое присутствие многофункционально. Так, в качестве эпиграфа к обеим частям произведения Хандке использует цитаты из романа Карла Филиппа Морица (1757–1793) «Антон Райзер» (изданного в переводе на русский язык под названием «Путешественник»), в жанровой форме которого сам автор подчеркнул в свое время свойства психологического романа и биографии, а современники (включая Гёте) и потомки справедливо усматривали вариант «романа воспитания». Посредством эпиграфов, таким образом, Хандке уже задает своему повествованию специфическую жанровую форму – синтез «романа путешествия» с «воспитательным романом»; кроме того, кладет начало разветвленной системе образов-лейтмотивов («дом», «дорога», «перемена мест», «даль», «забвение», «явь») и создает исполненное символики своеобразное «хронотопное» обрамление. Помимо этого, каждый эпиграф содержит метафорический смысл одной из двух частей романа и ее основной пафос: если в первой преобладают мотивы неотвратимости дороги и поиска, то вторая дополняет их мотивом душевного исцеления, небходимого для начала качественно нового этапа жизни.
Обилие цитат в романе в некоторой мере объяснимо профессией рассказчика и состоянием творческого кризиса, в котором он оказался: ранее подвизавшийся на драматургическом поприще, теперь он тяготеет к прозе, и его обращение к опыту предшественников вполне логично. В этом смысле путешествие героя-писателя получает еще одно измерение – вглубь литературной и культурной традиции, сознательное «примеривание» себя к ней, своей истории – к опыту знаковых для Хандке литературных персонажей и их «отцов». Особенно велика в художественной системе произведения роль одного из классических «романов воспитания» – «Зеленого Генриха» Готфрида Келлера, развернутые отсылки к которому и даже фрагменты текста, переживания его заглавного персонажа Генриха Лее постоянно соотносятся героем Хандке с перипетиями собственной жизни. Перефразировав слова Гёте в адрес автора «Антона Райзера», герой Хандке вполне мог бы сказать о персонаже Келлера: он мне словно старший брат, мы оба одного полета.
Не менее значимы и аллюзии на романы Фрэнсиса Скотта Фицджеральда и Эрнеста Хемингуэя. Поселившись в отеле, в котором некогда останавливался Фицджеральд, герой Хандке читает его «Великого Гэтсби» – историю неистовой, безоглядной любви, пробудившую в нем стремление, пусть преходящее, «наяву пережить прочитанное», потребность преобразиться, не «подавать себя», а быть собой, преодолеть одиночество и потерянность, заселить, наконец, свое «безлюдное» сознание дорогими лицами: «Я попробовал представить, возможно ли в нынешнем моем положении выказать и применить те чувства, что поселил во мне Великий Гэтсби, – сердечность, предупредительную внимательность, спокойную радость и счастье. И вдруг понял, что с помощью этих чувств смогу навсегда вытравить из сознания свой страх, свою вечную готовность к испугу… Но где же, где те люди, которым я смог бы наконец показать, что я умею быть другим?..»
Точно так же показательно участие в создании повествовательной стихии романа Хандке аллюзий на судьбу и произведения Хемингуэя. Д.В. Затонский, имея в виду «Короткое письмо перед долгим прощанием», отметил сходство художественной манеры австрийского прозаика с хемингуэевской техникой, «потому что описание непосредственнее соотносится с настроением повествующего героя» (7, 417), и в этой связи вспомнил о таких персонажах раннего Хемингуэя, как Джейк Барнс из «Фиесты» и Фредерик Генри из «Прощай, оружие!» Подобно им, герой-путешественник Хандке «заслоняется вниманием к внешним мелочам от боли, которую приносят мысли» (7, 418). Наблюдение точное, но связь Хандке с Хемингуэем, при ближайшем рассмотрении, оказывается более глубокой, закрепленной посредством аллюзий, прежде всего, на роман «Иметь и не иметь». В произведении Хандке под этим названием фигурирует поставленный по роману Хемингуэя фильм Говарда Хоукса с известной американской актрисой, на мюзикле с участием которой оказался герой. Упоминание романа «Иметь и не иметь», разумеется, не случайно, ведь его герою, Гарри Моргану, потребовалась целая жизнь, чтобы перечеркнуть свой анархический индивидуализм. Его предсмертные слова: «Человек один не может. Нельзя теперь, чтобы человек один…» – эхом отзываются в сознании героя Хандке: «Не хочу больше быть один», в его тоске по сопричастности.
Интегрированы в структуру романа и аллюзии на другие произведения мировой и австрийской литературы – от Библии (в частности, ветхозаветная история о Юдифи и Олоферне проецируется в сознании персонажа, опять же, на его отношения с Юдит; символично и совпадение имен) до Фридриха Гёльдерлина с его «воспитательным романом» «Гиперион, или Отшельник в Греции», Адальберта Штифтера, Фридриха Шиллера с его «Дон Карлосом» и многих других. Кроме того, роман дает основания для аналогий с «Тошнотой» Жана-Поля Сартра, «Превращением» Франца Кафки, эстетикой Марселя Пруста и других художников слова. Например, как и у Сартра, имеют место – в продолжение поэтики романа «Страх вратаря перед одиннадцатиметровым» – опредмечивание переживаний, мотивы буквально и метафорически понимаемых тошноты, отвращения и грязи; как и у сартровского персонажа, не человек, а природа – в отсутствие житейской стабильности и прочности уз – вызывает у героя Хандке ощущения приобщенности к вечности, надвременности, гармонии и взаимосвязи, когда перемены уравновешиваются постоянством и лишь подтверждают ценность непреходящего. Это особенно важно, если учесть, что оба героя – и рассказчик у Хандке, и Антуан Рокантен у Сартра – писатели, переживающие острейший внутренний разлад.
Проблематика и техника романа «Короткое письмо перед долгим прощанием» нашли продолжение в книге «Нет желаний – нет счастья» («Wunschloses Unglück», 1972). Толчком к ее созданию послужило самоубийство матери Хандке: в возрасте 51 года она свела счеты с жизнью, приняв смертельную дозу снотворного. В «Коротком письме» содержится немало свидетельств того, какой страх за мать испытывал герой с самого детства, какая бездна пустоты открывалась перед ним при одной мысли о ее возможной смерти. Следующее произведение показало, что подобное психологическое состояние переживалось не только безымянным, хотя и, безусловно, автобиографическим героем Хандке, но и самим писателем.
Определить жанровую принадлежность книги весьма сложно: ей присущи черты и лирической исповеди, и психологической новеллы, и эссе. Но прежде всего – это биография матери, описание невзгод и лишений, типичных для женщины ее времени и ее сословия. Для Хандке важно было показать, что трагедия его матери имеет природу не только индивидуально-психологическую, но в первую очередь социальную и уходит корнями в прошлое. Отец матери и дед рассказчика, словенец по происхождению, появился на свет вне брака. Рассчитывать на средства для обзаведения семьей или на собственное жилье он не мог – уделом крестьян-бедняков во многих поколениях были изнурительный труд на чужих людей и жалкая смерть в чужом же углу. Новое время не принесло особых изменений: фактически, заметит автор, здесь и в начале XX в. сохранялось положение, существовавшее еще до отмены в 1848 г. крепостного права.
Впрочем, к деду судьба оказалась несколько благосклонней: его мать была дочерью зажиточного крестьянина и получила кое-какие средства на приобретение небольшого хозяйства. Так ее сын, первым в длинной череде неимущих и бесправных в своем роду, обрел возможность вырасти в родном доме. Удалось разорвать порочный круг полной материальной зависимости, но не зависимости психологической. Осознание себя хозяином пробудило у деда «волю к свободе», понимаемой им, однако, исключительно как стремление к приумножению своей мизерной собственности. В его случае возможен был только один путь достижения этой цели – копить и еще раз копить, отказывая себе в удовлетворении малейших желаний и, что еще печальнее, полагая их полное отсутствие в детях. И он копил, копил и терял из-за социально-общественных потрясений – инфляции 20-х годов, Второй мировой войны, послевоенной безработицы.
Гораздо страшнее, однако, были «вековые страхи голи перекатной», нищета духовная, вошедшая в плоть и кровь и самого деда, и его сыновей. Когда одному из них вдруг представилась возможность получить гимназическое образование, он не выдержал и нескольких дней в непривычной обстановке. Таков был результат разлагающего воздействия на человека бедности, в зародыше убивавшей в нем всякое душевное движение, желание подняться, изменить свою жизнь.
Женщина в такой среде была изначально обречена. У нее не было не только будущего, но даже страха перед ним, ибо не предвиделось никаких отклонений от привычной колеи, следовательно – не предвиделось и «своего» будущего. Никакой надежды на счастье и даже никакого предположения о его возможности, никакого права на инициативу, никаких эмоций, кроме вызываемых естественными причинами – темнотой или холодом, грозой или физическим недомоганием. Дети от разных отцов, унизительное замужество, унылое однообразие бесцельного существования, лишающие сил повседневные заботы о хлебе насущном, «глухота к ней окружающих, ее глухота к окружающим», тяжелые болезни, неизбежная ранняя старость и, наконец, «со смертью исполненное предопределение» – такова была участь матери, мало чем отличавшаяся от участи любой другой женщины. Подлинные события успешно замещались обрядами и обычаями, живые люди и подлинные чувства – «утешительными фетишами». О сохранении человеком индивидуальности нечего было и думать – само слово «индивидуальность» воспринималось как ругательство. Быть приличной женщиной означало быть как все.
Между тем смириться, «преодолеть себя» матери – с ее природным любопытством, стремлением к знаниям, жаждой общения – было совсем не просто. Пятнадцатилетней девочкой она решилась на бунт и ушла из дому. Жизнь, однако, скоро обломала ей крылья, заставила подавить свои душевные порывы, принять правила игры в «жестоком спектакле», в котором человек был всего лишь «реквизитом». Она вынуждена была надеть маску, дабы «не выделяться», освободиться «от собственной биографии» и «приобрести типичность».
Политикой мать интересовалась меньше всего, воспринимая ее как одно из бесчисленных абстрактных понятий, некий «неодушевленный символ», но никак «не то, что можно видеть». Зато, как показывает Хандке, политика интересовалась людьми, подобными матери. Речи фюрера, аншлюс («На автомашинах знак «А» заменили знаком «Г»»), триумфальный въезд Гитлера в Клагенфурт, «ликование масс», знамена со свастикой, призывы, марши, приказы внесли некое разнообразие в скуку буден, создали иллюзию «приобщенности», воспринимались как встреча со «сказочным миром». «Впервые появились какие-то общие переживания… Наконец-то обнаружилась великая связь между всем, что до сих пор было непонятным и чуждым; всему словно нашлось свое место, и даже отупляющая, механическая работа стала осмысленной. Движения, которых она требовала, внезапно обрели – ибо человек сознавал, что их одновременно выполняют множество других людей, – бодрый спортивный ритм, тем самым человеку казалось, что он хоть и в сильных руках, но все-таки свободен». Впервые появилась и возможность гордиться – «не чем-то определенным, но вообще». Политика наконец-то обрела знакомые формы «ритуала». Разумеется, с воем сирен, бомбежками, поисками спасительного укрытия, похоронками с фронта иллюзии разрушатся, но свою существеннейшую лепту в процесс, который ближе к финалу рассказчик назовет «ВЕЛИКИМ ПАДЕНИЕМ» (выделено автором. – Е.Л.), «политика» внести успеет.
Так история матери превратилась под пером Хандке во фрагмент истории Австрии, излагаемой косвенно, но производящей от этого не менее удручающее впечатление. Художник, не раз заявлявший, что скептически относится к так называемым литературным типам и характерам, в книге «Нет желаний – нет счастья» не избегает ни типизации, ни характерологии: отношение матери к «новому порядку» в известной мере отражало дезориентированность очень многих. Имея в виду это произведение, Н.С. Павлова справедливо заметила: «Писатель, сосредоточенный (вопреки самым противоречивым автохарактеристикам) на анализе связей частного сознания и идеологии, частного сознания и истории, Хандке предлагает задуматься над необходимостью пробуждения этого сознания, его ответственности за свои реакции» (8, 271). Символичность образа матери подчеркивал и Ю.И. Архипов (см.: 5, 52). Впрочем, на это обращал внимание и сам автор; создавая жизнеописание матери, он движим был желанием осмыслить ее самоубийство именно как показательный случай: «Она жила; пыталась стать чем-то; не стала». Есть в немецкой литературе понятия «человека возможного» (Mõglichkeitsmensch) и «человека действительного» (Wirklichkeitsmensch); история матери Хандке – это как раз история «человека возможного», которому так и не суждено было состояться.
Рассказывая о матери, Хандке одновременно рассказывает о себе и своей литературной работе, делится сомнениями и тревогами, ищет способа избежать опасностей, подстерегающих его как писателя: с одной стороны, излишне абстрагировать образ матери, подчинить неповторимо-личностное в нем литературным канонам, с другой – растворить его «в лавине поэтических слов». Он посвящает читателя в механику и в суть вербальных поисков: решив исходить «из общечеловеческого словарного запаса», из языка «общеупотребительного, а не подысканного», он всякий раз соотносит лексику, пригодную для создания любой женской биографии, с особенностями характера и судьбы своей матери, обнаруживая и учитывая «соответствия и противоречия». Вообще проблеме слова, языка, как и в прежних произведениях, отведено в книге очень важное место. Но здесь язык выполняет функцию, не только предназначенную ему искусством, но и подкрепленную «личным поводом», – вырвать дорогой образ из круга обреченных на забвение, навсегда ушедших в небытие; быть может, хотя бы посредством слова осуществить подавленную при жизни мечту матери «быть».
Комментируя собственные «технологические проблемы», вынося их на обсуждение, Хандке тем самым дает представление о своем художественном методе. Суть же его, по словам Ю.И. Архипова, в том, что «авторское сознание, подобно фильтру, отбирает из традиции все ценное и жизнеспособное и отбрасывает клишеобразные, стертые от многократного употребления образования. Это, таким образом, не реставрация прежних реалистических форм художественного письма, но использование старого метода применительно к новым условиям, к новой фазе художественных поисков истины» (5, 54).
На продуктивность соединения традиционного и новаторского в стилистике книги обращали внимание и многие другие исследователи. Об этом, в частности, писал австрийский литературовед В. Вайс: «В «Нет желаний – нет счастья» Хандке сочетаются личность и структура, повествование от первого лица и рефлексия о языке как общем достоянии, о речи в самых разных ее ипостасях – от простой разговорной до литературной. Вероятно, в данном случае есть основания говорить не столько о возвращении к старому реализму, сколько о возникновении нового реализма, который не отказывается полностью от всего, что принято… ругать формализмом, а включает в свою палитру» (9, 445).
Действительно, многие приемы Хандке, знакомые по его предыдущему творчеству, так или иначе узнаются и в этой книге. Это и использование графических возможностей (курсив, разрядка, выделение слов и оборотов прописными буквами), рассчитанных на визуальное восприятие и дополняющих смысловой спектр отдельной фразы, эпизода и произведения в целом. Это и фрагментарность, не затемняющая, однако, общей картины, а придающая естественность запечатленному в книге процессу воспоминаний. Как и прежде, чрезвычайно важна деталь (иногда натуралистическая), с помощью которой достигается зрительная конкретность, своего рода «овеществленность» изображаемой действительности, состояния человека. Важные составляющие поэтики книги – сдержанный, без надрыва, драматизм, сознательная, иногда даже «оговариваемая» рассказчиком цитатность, насыщенность аллюзиями, символами и лейтмотивами, обилие поводов для всевозможных аналогий с предшественниками и современниками – от реалистов XIX века, сумевших, как никогда раньше, показать крушение «больших надежд» и «утраченные иллюзии», до писателей XX века – Кафки, Камю, Томаса Бернхарда и др.
В русле «нового реализма» (по другим определениям – направления «самоуглубленности», «новой сокровенности») Хандке продолжал работать и дальше, о чем свидетельствуют его романы «Час подлинных ощущений» («Die Stunde der wahren Empfindung», 1975) и «Женщина-левша» («Die linkshängige Frau», 1976), каждый из которых по-своему рассказывает о попытке главного персонажа изменить собственную жизнь.
В романе «Час подлинных ощущений» в который раз (после «Страха вратаря», «Короткого письма» и др.) дало о себе знать влияние Кафки (прежде всего, его новеллы «Превращение»). Герою Хандке, культур-атташе австрийского посольства в Париже Грегору Койшнигу, во сне привиделось, что он совершил жестокое убийство. Все попытки Грегора прийти в себя, т. е. преодолеть свое ночное состояние, осознать совершенное во сне преступление как фикцию, оказываются тщетными. Приснившийся кошмар трансформировал сознание героя в такой степени, что он ощущает себя настоящим убийцей, преследуемым собственной ужасной тайной и страхом быть раскрытым. К Кафке здесь отсылают и имя персонажа, и сама ситуация, не исчезнувшая с пробуждением героя; причем, как справедливо полагают литературоведы, отсылают не только к «Превращению», но и к романам «Процесс» и «Замок».
Думается, есть основания и для других аналогий (причем не только с соотечественниками и европейцами), в частности – с романом японского писателя Кобо Абэ «Чужое лицо», опубликованным почти десятью годами раньше романа Хандке. Герой Кобо Абэ, как известно, в результате трагического случая в буквальном смысле лишается своего лица; решивший прикрыть свое внешнее уродство маской, он вдруг неожиданно для себя открывает, что трагедия только обнажила его подлинный безобразный облик, его «пиявок», скрываемых им и прежде, только «маской из плоти», а не искусственно созданной личиной. Но ведь нечто подобное происходит и с Грегором Койшнигом, которому сновидение раскрыло его истинную сущность (произошло – если воспользоваться названием ранней пьесы Хандке – «саморазоблачение») и который теперь прилагает неимоверные усилия, чтобы продолжать успешно играть привычные роли. Между тем роли больше не удаются: его оставляют и жена и любовница, на улице он теряет дочь. «Со времени прошедшей ночи… что-то остановилось. Это «что-то» нельзя было различить, от него можно было только отвернуться. Быть посвященным в нечто казалось теперь смешным, быть принятым назад казалось немыслимым, принадлежать к чему-то подобно было аду на земле… он оказался расколдованным».
Тем не менее Хандке оставляет герою надежду – но только надежду – на возвращение к подлинной, качественно новой жизни. Намек на возможное возрождение содержится в эпизоде, когда Койшниг присаживается у детской площадки и его взгляд падает на самые обыкновенные предметы – заколку для волос, лист каштана, осколок зеркала. По крайней мере, именно как начало очищения истолковывал этот эпизод сам автор в одном из своих интервью: «В это мгновение, в этот вечер, в продолжение одной-двух секунд он как будто обретает покой… в течение нескольких вздохов переживает счастье, согласие, удовлетворенность и тайну…»
Роман «Женщина-левша» некоторыми литературоведами был воспринят как определенное отклонение от магистральной линии в художественной эволюции Хандке 1970-х годов. Однако анализ романа убеждает в обратном: внутренне он теснейшим образом связан с предыдущими произведениями. И не только с «Часом подлинных ощущений», но и с книгой «Нет желаний – нет счастья», с которой его роднит женская тема, и с «Коротким письмом перед долгим прощанием», подобно центральному персонажу которого героиня нового романа решается пересмотреть жизненные ценности и разобраться в себе.
Все о своей героине рассказчик счел нужным сообщить на первой же странице произведения: ей тридцать, она замужем, домохозяйка, имеет восьмилетнего ребенка. Семья живет вполне обеспеченно, но в съемном коттедже: муж, сотрудник известной в Европе фирмы по производству фарфора, в любую минуту может быть переведен на новое место, и потому обзаводиться собственным домом не имеет смысла. Кажется, читатель узнает о героине действительно немало, но все эти сведения дают представление лишь о ее социальном статусе и ничего не говорят о ней как о личности. Быть может, только одна деталь – неожиданно вспыхивающие глаза женщины (эта деталь лейтмотивом проходит сквозь весь роман) – насторожит и настроит на ощущение того, что стабильность ситуации иллюзорна, что идиллия чревата взрывом, который вот-вот нарушит устоявшееся течение жизни. Даже имя героини станет известно позднее, но на протяжении всего повествования рассказчик предпочитает называть ее не по имени, а отстраненно-нейтрально: «она», «молодая женщина». Разумеется, это не случайно: имя (то есть лицо, индивидуальность, «самость») героине еще только предстоит обрести.
Самое мучительное в состоянии Марианны – это унылое однообразие существования. «Что мне здесь, в этом доме, мешает, – признается она, – так это повороты, когда переходишь из одной комнаты в другую: всегда под прямым углом, к тому же всегда налево. Не знаю сама, почему это меня так раздражает, но просто мученье». В сущности, это метафора ее жизненного уклада, мало в чем отличающегося (при всем различии обстоятельств) от существования матери в романе «Нет желаний – нет счастья». И то же одиночество, не исчезающее, а обостряющееся с возвращением мужа из длительной командировки, приобретающее такое знакомое по литературе XX в. форму одиночества вдвоем.
Свое послесловие к русскому переводу книги Н. Литвинец называет «Правдивая история об одиночестве» (10, 183). Не помешает оговориться: всеобщем одиночестве. Одинока не только Марианна, не менее одинок ее муж Бруно; для него дом, в котором обосновалась семья, – всего лишь «жилая ячейка» с «жутковато-зловещей» атмосферой, не случайно первую после долгой разлуки ночь с женой он предпочтет провести в отеле. Рассказчик обращает внимание на лицо Бруно – усталое, застывшее, напоминающее маску. Отчужденность стала не только стилем его обращения с клиентами, но и его образом жизни, более того – внутренним состоянием. Даже галстук по случаю праздничного ужина в ресторане он одолжит у швейцара («ведь мы всегда так делали»).
Казалось бы, вылепленный из совершенно иного теста, нежели Марианна, он тоже страдает, и его доходящая до бестактности прямолинейность, а то и грубость – всего лишь защитная реакция, способ скрыть собственную уязвимость и собственное одиночество. Одиночество преследует его не только в чужой стране, где «темно – днем и ночью», где «не с кем словечком перемолвиться», так что неожиданный «вой волков слышишь с радостью», и где его настигает испуг, что от одиночества можно сойти с ума, «да еще на какой-то особенный, жутко мучительный манер». Точно так же одинок он рядом с Марианной, несмотря на все его уверения об их «нерушимой связи на веки вечные». Скорее, благодаря им, этим клишированно-искусственным, лишенным живого чувства признаниям и обнаруживается вся мера его одиночества. Отсюда повелительно-властное обхождение с женой; это единственная для Бруно возможность утвердиться, пусть только в собственных глазах, и если не быть счастливым, то хотя бы на короткие мгновения создать для себя видимость счастья, перенестись, говоря его словами, «в обитель блаженства». Отсюда же – и потребность в оплаченной, почтительно-холодной услужливости кельнера, позволяющей на какой-то момент ощутить «защищенность», «микровечность», примириться с собой и «со всем родом человеческим».
Бесконечно одиноки герои так называемого второго ряда. И лишенный тепла, не по годам серьезный ребенок Марианны, и подруга, учительница Франциска с ее приятельницами по кружку, в котором они якобы «в полной мере раскрывают свои возможности», сознавая при этом, что «жизнь течет мимо», и отец, стареющий писатель («Я так одинок, что вечером, перед тем как заснуть, мне не о ком даже подумать… А как писать, если тебе не о ком думать?»). Одинок издатель, точно так же как и многочисленные переводчики, о которых он упоминает, и некий потерявший вкус и к писательству и к жизни автор. Одинок влюбившийся в Марианну актер, после знакомства с нею особенно остро ощутивший свою потерянность. Франциска с Марианной обсуждают только что показанный по телевидению репортаж об одиноких людях. Даже героиня книги, которую берется переводить молодая женщина, – в сущности, ее собственное зеркальное отражение.
Эти и другие «одинокие» придают истории Марианны значение множественности, даже типичности, но и по-своему ее оттеняют. При том что одиноки многие, не каждый способен попытаться инерцию одиночества преодолеть, как отважилась сделать это Марианна. Впрочем, и в этом она не исключение; не случайно ее взгляд останавливается на словах героини переводимой ею книги: «Если мечтать – это значит хотеть быть тем, что ты есть, тогда я хочу быть мечтательницей». Не случайно также в качестве своеобразного эпилога к своему роману Хандке использует цитату из «Избирательного сродства» Гёте: «Так все вместе, каждый на свой манер, продолжают эту будничную жизнь – кто с раздумьями, кто без оных; жизнь словно бы идет своим чередом – ведь даже в самых роковых случаях, когда все поставлено на карту, человек продолжает жить, как если бы ни о чем и речи не было». Показательно, что несколько позднее именно на гётевское «Избирательное сродство» Хандке сошлется как на образец прозы, идеально сочетающей в себе на уровне художественного языка частное и общее, субъективное и объективное.
Судьба Марианны остается незавершенной: с одной стороны, обнадеживают и направление мыслей героини («Я только сейчас почувствовала, что в каждую минуту одиночества мы упускаем что-то, чего нам вовек не наверстать. Вы понимаете – это смерть»), и предфинальный эпизод с льнущими друг к другу ее гостями (некоторой своей идилличностью, сказочностью напоминающий конец «Короткого письма» – достаточно, кстати, искусственный, по собственному признанию автора). С другой стороны, совсем уж последняя сцена, где одинокая Марианна изображена в своей качалке (так и напрашивается ассоциация с концом драйзеровской «Сестры Керри»), лишает финал однозначно оптимистического прочтения.
В сущности, открытый финал – это своего рода фирменный знак прозы Хандке. Верен себе и Хандке-стилист: роман подчеркнуто фрагментарен и в то же время на удивление целостен, ибо все слагаемые его поэтики подчинены теме произведения. Это касается и времени года (зима, традиционно ассоциирующаяся с монотонностью бытия, холодом и сном), и времени суток, когда читатель чаще всего имеет возможность наблюдать за героиней (вечер и ночь), и преобладающих в цветовой гамме романа красок (черная и белая, как на графическом рисунке; не случайно Марианна вспомнит о некогда виденных ею картинах, изображавших невыносимые муки Христа на его крестном пути исключительно посредством белого фона и черных штрихов), и символики (выброшенная рождественская елка, дрожащие от холода привязанные собаки, дальтонизм отца, безлистные ветви деревьев, открытое окно среди множества закрытых и проч., но прежде всего – само название романа). Графичен, подчеркнуто сух язык произведения, часто напоминающий язык сценария, а иногда и попросту в него переходящий; точна деталь; аутентичен душевному состоянию героини скупой лирический пейзаж с неизменными элементами импрессионизма.
Как одно из наиболее значительных произведений Хандке и по сегодняшний день воспринимается его роман «Медленное возвращение домой» («Langsame Heimkehr», 1979), посвященный теме поиска человеком своей родины, своего дома, долгого пути к его обретению и, в этом смысле, весьма показательный для австрийской литературы XX в. Характер образов дома и дороги (пути), а также сопровождающих их мотивов обретения, поиска и возвращения здесь таков, что побуждает рассматривать их в концептуальном русле.
Согласно мнению Д.С. Лихачева, настоящему художнику слова свойственно «чувство языка как концентрации духовного богатства культуры» (11, 7). Быть может, как никаким другим способом отчетливо эта сконцентрированная духовность заявляет о себе в произведении искусства на языке концептов, категорий многомерных и многозначных, реализуемых в двух основных плоскостных срезах – вертикальном (диахронном) и горизонтальном (синхронном). Иначе говоря, концепт несет в себе первичные (реальные) признаки образа и вторичные (базовые, архетипические), в совокупности своей составляющие так называемый диахронный срез. Но в каждом художественном произведении образы, участвующие в создании концептуальной картины мира, приобретают еще и признаки конкретно-исторические, конкретно-национальные и, наконец, конкретно-личностные, субъективные, представляющие срез синхронный. Таким образом, концепт – это сложный комплекс смыслов, определенным образом структурированная система универсальных и индивидуальных значений, позволяющая адекватно постичь логику авторского замысла, увидеть мир глазами писателя и как неповторимо-уникальной личности, и как представителя своей страны и своей нации, и как человека универсального, носителя прапамяти, праистории, пракультуры. По словам Д.С. Лихачева, «концепт не непосредственно возникает из значения слова, а является результатом столкновения словарного значения слова с собственным и народным опытом человека» (11, 7). В некотором роде концепт – это позиция художника по отношению к устоявшемуся смыслу словесного образа, привнесение в последний новых сущностей, возникших здесь и сейчас.
О том, что прочно укорененные в мировой литературной традиции образы дома и пути, мотивы поиска, возвращения, обретения в романе Хандке несут на себе основную смысловую нагрузку, свидетельствует уже само название книги; по сути, оно является своеобразной свернутой концептосферой произведения, ориентирует читателя на его главную нравственно-этическую проблему, формирует сознательную установку на «возвращение домой» как осуществление самоидентификации героя, как обретение им не только своего места, но и себя истинного.
О доме говорят как о колыбели жизни, он – топос начала, но и топос конца, завершения земного пути человека. В любой культуре он включает в себя значения здания, строения, а также жилища, домашнего очага, места единения близких и родных. Дом соотносится с миром так, как микрокосмос соотносится с макрокосмосом. Мой дом – мой мир, – могло бы (или, во всяком случае, желало бы) заявить большинство людей, закономерно усматривая в своем доме оплот душевного равновесия, гарантию самодостаточности, пространство для самотворения.
Все это совершенно справедливо и по отношению к австрийцам, с одной, правда, весьма существенной оговоркой: в австрийском контексте – крушение Австро-Венгерской империи, породившей, по замечанию Д.В. Затонского, «первую европейскую модель человеческой неприкаянности» (12, 8), а также распространение фашизма, аншлюс, послевоенная проблематичность австрийской самостоятельности – концепт «дом» почти неизбежно приобретает смысл не столько феномена состоявшегося, сколько искомого. «В той стране, откуда я родом, – скажет у Хандке его герой Валентин Зоргер, – невозможно было и помыслить себе, что ты принадлежишь к этой стране и к этим людям. Не было даже и самого представления «страна и люди»».
Концепт «дом» в произведении – ключевой, объединяющий все другие концепты, определяющий ход повествования. Его осмысление Петером Хандке достаточно созвучно новоевропейской метафизике современности М. Хайдеггера, который в бездомности, бесприютности усматривал судьбу человека XX столетия, а в обретении дома, родины – знак принадлежности каждого к человеческому сообществу, причастности к свершениям в мире, знак преодоления заброшенности. «Чтобы человек мог… снова оказаться вблизи бытия, он должен сперва научиться существовать на безымянном просторе» (13, 195).
Именно это происходит с персонажем Хандке – Зоргером. Впрочем, состояние бездомности героя легко объяснить вполне рациональным образом – его, по сути, скитальческой профессией геобиофилософа, не предполагающей ни «врастания», ни стабильности, ни комфорта. Но при ближайшем знакомстве с романом выясняется, что одиночество, бездомность героя, скорее всего, имеют и личные, и социальные, и экзистенциальные истоки.
Из Европы судьба забросила Зоргера «на другой конец земли», на Крайний Север, где поздней осенью, на закате дня и происходит наше с ним знакомство. Так ситуация отчужденности, изолированности закрепляется еще и символически, посредством топоса и гаммы переживаемых природой и передающихся человеку ощущений холода и увядания. Впрочем, дом имеется у Зоргера и здесь, но это всего лишь временное пристанище, которое он делит с коллегой. Характерно, что в сознании героя образ этого дома неизменно сопровождается уточнением («дом с высокой крышей»); постоянный, свой во всех отношениях дом, пока только воображаемый и в этой своей ипостаси побуждающий Зоргера к поиску, вызывающий «жажду бытия и ответственности», «потребность в исцелении», вряд ли нуждался бы в напоминании о чисто внешних приметах.
Бездомье – это бесформенность; обретение своего дома, своего места, укорененность, напротив, предполагают оформленность. В философско-эстетической стихии романа проблема поиска форм занимает чрезвычайно важное место и решается не только в мировоззренческом, но и в событийно-фабульном планах: профессиональная деятельность Зоргера протекает «в поле», «на местности» и подразумевает поиск форм ландшафтных, природных. При этом отношение героя к ландшафту отмечено математически точным расчетом, фиксацией таких слагаемых, как расстояние, угол наклона, материал, центр, углубления, «верхняя граница верхнего поля зрения», «параметры света и ветра, показатели широты и долготы, положение небесных тел» и т. д. Подобная детализация ландшафтных форм, обостренное внимание к мельчайшим фактическим подробностям с учетом рода занятий Зоргера совершенно естественны.
С другой стороны, и это принципиально важно, сам герой сознает, что вся эта математика обусловлена его внутренней потребностью в чувстве данного места, в чувстве своего действительного в нем пребывания и вовсе не случайно появилась «с тех пор как он стал жить почти что всегда один». Собственно, это возможность лишний раз удостовериться, что на сей раз почва не уплывет из-под ног. Очевидно, ландшафт, природа до поры до времени замещает Зоргеру дом, в отсутствие последнего в буквальном понимании, и замещает не только в северной глухомани, где только ландшафтные формы и могут остановить на себе человеческий взор, но, что важно, и потом, в городе, – месте, хорошо знакомом герою по нескольким годам прежней жизни, но все-таки не своем, не являющемся конечной точкой его пути, целью его «медленного возвращения». Повествователь не преминет поддержать и утвердить читателя в этой догадке, заметив, что «Зоргеру была нужна природа, но не только как чистое, природное пространство… так появлялись ориентация и жизненно необходимое пространство для дыхания (и тем самым уверенность в себе), одно вытекало из другого».
Понятия «пространство», «форма», «место» – из ряда наиболее часто используемых в романе; в природное пространство и его формы герой «вживается», их «призывает на помощь», «цитирует», в них видит предвестников будущих событий – «событий, которые еще только предстоит выдумать». Всякие новые пространства, будь то обозримо-монотонные или необычайно живописные, вызывают у него ощущение уже знакомых, обыкновенных и в то же время чужих, заставляют «терять равновесие», испытывать в довершение ко всему мучительное чувство вины, что и «здесь ты не на своем месте», чувство не только уже переживаемой, но и грядущей «пустоты» во всей ее угрожающей полноте и неодолимости. Вновь и вновь повествователь соотносит применительно к Зоргеру природу с домом, манящим гармонией и обещающим надежность: «…уже много лет бесприютный и не имеющий, стало быть, возможности… укрыться в своих собственных четырех стенах, он воспринимал каждое место здесь и сейчас как свой единственный шанс», как возможность собрать воедино, «укрыть» и прежние, прошлые пространства, и настоящие, «только что завоеванные». В результате поиска некоего «личного пространства», личной обители складывается глубоко философское восприятие мира, убежденность в том, «что эта земная планета бесконечно цивилизованная и какая-то удивительно родная».
И отношения с природой у Зоргера совершенно особые, в своем роде интимные. Однообразная на первый взгляд поверхность земли предстает перед ним в событийной динамике, во всей неисчерпаемости проявлений, тревожащих, будоражащих сознание и душу, взывающих об имени, «напоминающих человеческий мир (или предвосхищающих его)». К месту, в котором Зоргер работал последние месяцы, он испытывает глубокую благодарность и восторг, какие можно испытывать именно к дому. Ландшафт в представлении героя «обживается», наполняется «предметами», подобно тому как это происходит со «своим» домом и со «своим» городом – «с колоннами, воротами, лестницами, церковными кафедрами и башнями, со всевозможными чашками, плошками, мисками, поварешками, жертвенными котлами» (курсив автора. – Е.Л.).
Таким образом, герой совершает побег в природу от мира людей, а она его этому миру возвращает, солидаризирует с ним. Характерно, что названиям мест, сложившимся в период золотой лихорадки и напоминающим о чужих поражениях и разочарованиях либо ассоциирующимся с корыстью («Озеро Фиаско», «Полудолларовый ручей» и т. п.), он предпочитает романтические, исконно индейские наименования – «совершенные образцы для подражания» вроде «Больших Сумасшедших гор» или «Большого Неизвестного ручья». Любовь к лесу, реке, земле помогает Зоргеру почувствовать себя «среди нации», понять «свою собственную историю», поверить в возможность ее продолжения, рождает в нем надежду и радостное желание поделиться этим неожиданно обнаружившимся богатством, которое еще только предчувствуется, но уже переживается и путь к которому уже начат и еще только начат.
Из всех природных стихий наибольшее внимание героя приковывает к себе вода. Концепт «вода» весьма важен в романе: стихия воды задает тон повествованию, образуя атмосферу движения, динамики, перемещения. В «область безраздельного господства воды» читатель попадает с первых же страниц романа. Вода заполняет пространство «до самого горизонта», льется и извивается, струится и бьется, то тихо журчит, то гремит в бешеных водоворотах. Зоргер познает эту «большую воду, ее течение, ее кружение, ее стремительный бег», законы, в соответствии с которыми ее разрушительная работа оборачивается «доброй внутренней силой». Водное течение Зоргер не только легко представляет, но и способен – как часть своего места в мире – «прочувствовать»; он его многообразно нюансирует, замечает в нем малейшие процессы, завораживающие и «бурлескные», волнующие и развлекающие. В часы расставания поверхность реки открывает ему свой поистине человеческий, живой и одухотворенный облик, свое непрерывно меняющееся, «незабываемое удивительное лицо».
Будучи одной из основообразующих стихий космогенеза, вода символизирует катарсис, обновление и неудержимость изменений, ассоциируется с глубинными причинно-следственными связями. Как стремительно, хотя и не всегда заметно для постороннего взгляда, «несла свои воды… двигалась вперед» река, так стремительно работало сознание героя, происходило его душевно-духовное развитие, его обращение к вере в человека. Но в доминантном присутствии водной стихии у Хандке есть и дополнительная логика: как малый ручей вливается в более мощное водное течение, так и река жизни одного человека должна влиться в общее русло жизни людей. Две стихии – природная и душевная (вспомним знаменитые выражения Уильяма Джеймса «река жизни», «поток жизни», «поток сознания») – в романе, по сути, аутентичны. Наконец, в решающий момент, перед возвращением в Европу, к Зоргеру приходит осознание времени как «реки возвращения»; формула совершенно закономерная, соотносящаяся и с названием, и с темой произведения.
Мотив возвращения в свою очередь предполагает непременное наличие концепта путь, ибо только в результате пройденного пути, понимаемого и буквально, и философски, человек способен преодолеть кризис, состояться как личность, самоидентифицироваться, обрести желаемые ценности. Лексема путь / дорога очень часто используется в названиях художественных произведений. Имея природу архетипическую, топос «путь» несет в себе семантику поиска, что справедливо и в отношении романа Хандке. Крайний Север для его героя – некая отправная точка пути-поиска, пути-возвращения, и дается ему этот путь отнюдь не легко.
Вот Зоргер еще здесь, в северном безлюдье, но его, поглощенного потенциальным будущим, беспокоит уже иного рода безлюдье, некогда, вероятно, сюда его и погнавшее, – безлюдье среди людей, чреватое «неизбежным одиночеством». Он «здесь» и одновременно «в пути», и этот «путь» изображен настолько психологически убедительно, что сопереживается читателем почти физически. В этом смысле достаточно показателен эпизод с вынужденным (из-за непогоды) возвращением самолета назад, в северную деревушку; Зоргер успел настолько ввериться будущему, что это, казалось бы, незначительное происшествие рождает в нем ощущение «жертвы, отдающей себя на заклание», необычайно заостряет ситуацию «куда-пойти-податься», расколдовывает, разволшебствляет совсем еще недавно такой любимый, полный тайн и очарования ландшафт, теперь выглядевший неестественным, нелепым и неприглядным.
Символичны и две встречи Зоргера с незнакомцами – одна перед долгожданным отлетом, вторая после неожиданного «падения с небес». В первом случае встреча происходит в кромешном ночном мраке, но она обнадеживающе светла: незнакомец всячески демонстрирует «безобидность своих намерений», душевное расположение и к невидимому в черноте ночи «чужеземцу», и к местности, предостерегает, благословляет и желает доброго пути, как будто утверждая Зоргера в стремлении к людям, поддерживая его в этом выстраданном решении. Во втором случае встреча состоялась при утреннем свете, но она темна и тяжела, фальшивы прозвучавшие из уст пьяного незнакомца слова «Дорогой брат». Этот человек без возраста, без расы, с глазами «без центра», зато как недвусмысленно зло он повел себя, замахнувшись на Зоргера намотанной на запястье тяжелой цепью. Не удивительно, что в сознании Зоргера прорисовывается соответствующий силлогизм: незнакомец настолько безлик, что воспринимается как человек вообще; этот безликий незнакомец зол и безобразен; следовательно, человек вообще, всякий человек зол и безобразен, такова уж его сущность. «Когда существо замахнулось цепью, Зоргер на какое-то мгновение умер», ибо в очередной раз в нем умерло доверие к человеку. Состояние этой нравственной смерти преходящее, оно будет преодолено благодаря все той же природе – обрушившемуся на Зоргера снегопаду, вернувшему ему ощущения «благословенного детства», «светлой радости» и свободы.
Прощание с Севером – это еще не «Heimkehr», не «возвращение домой», а лишь Umkehr, поворот к дому. Путь Зоргера проляжет через знакомый по прошлой жизни университетский городок на западном побережье американского континента. Здешний дом Зоргера – тоже временный («жилище, оборудованное под рабочее место»). И снова мы имеем дело с целым рядом символических значений, закрепляющих оторванность персонажа от всех и вся в этом предельно «автоматизированном» городе, способном взрастить единственное искусство – искусство «дать-себя-забыть». Он прибывает в город, когда «было уже темно», дом его с наглухо зашторенными окнами расположен вблизи никем не заселенного «парка землетрясений»; здание аэропорта представляется Зоргеру «военной зоной», и сам он кажется себе «фигурой, излучающей анонимность», среди таких же космополитов, не живущих, а существующих между прибытием и отправлением. Предстоит пережить поистине апогей отчужденности, «внутренней немоты», исторгнутости «из чрева на безвоздушную планету», в «гротескную пустоту», в «безвременье»; «он был не один на свете, но один без света».
Характерно, что прибытие Зоргера в лоно цивилизации усилило, так сказать, социализацию его отчужденности, обнажило национально-исторические корни последней, почти мифическим образом явило ему «причину его застылости: он сидел далеко-далеко, в задних низких пустых «залах континента» и в «ночь века», будучи одним из тех, кто присутствовал при этом, собираясь по крайней мере оплакать себя и себе подобных вместе с проклятым веком, но ему было отказано в этом, потому что «он сам виноват во всем». Да, он даже не был «жертвой» и потому не мог собраться вместе с другими жертвами этого века на Великую Жалобу, чтобы в упоении совместного страдания вновь обрести голос. Он… был потомком преступников и сам себя считал преступником, а тех, кто в этом веке совершал преступления против народов, – своими прямыми предками». Ведь не случайно в сознании Зоргера возникает мысль: «У меня больше нет отца», а вслед за этим он вспомнит собственного, оставшегося в Европе ребенка; не затем ли он и покинул когда-то страну, чтобы попытаться на себе оборвать связь с ненавистным прошлым, с войной, которая цепко держала его «в окружении» даже тогда, когда он был далеко от Европы, чтобы хотя бы его сын не ощущал себя тем, чем ощущает себя он, – «олицетворением отцов», «насильников-уродов», «вечно преданной копией мастеров культа смерти», воплощением нежити.
Д.В. Затонский констатирует, что у австрийских писателей социально-историческое, общественно значимое «проникало в самые личностные, самые интимные сферы отражаемого ими бытия» (7, 3–4). Здесь, на этом «отрекшемся от нации» побережье, конкретизируется желание дома – именно как дома родного, здесь к Зоргеру возвращается вкус к элементарным житейским радостям – от общения с соседями, от застолья, от созерцания детских игр. Но главное – возвращаются «чувство собственного лица» и жажда «собственных небольших пространств», которые были бы отмечены уже не только элементами ландшафта, но и деталями личного житейского опыта; пробуждаются ни с чем не сравнимые переживания «красоты порогов» и «крыши над головой», «упоительного удостоверения» себя и своей возможности «причаститься к человеческому миру». Важно, что в урбанистическом пейзаже он узнает знакомые по северу черты, а «лицо» северной реки вдруг всплывает в «драме» женского лица; иначе говоря, он устанавливает связи между отдельными отрезками общего пути («Каждое отдельное мгновение моей жизни соединяется с каждым другим…»), из исследователя ландшафтов превращается в «исследователя мирной жизни мира». Приходит окончательное решение «вернуться, но не только в какую-то страну, не только в какую-то определенную местность, а в родной дом», где, пожалуй, только и возможны «гармония, синтез и радость» и где, наверное, больнее, но и полнее, глубже переживаются трагизм и величие эпохи: «Мне нужно к своим, я хочу к себе подобным… И моя эра – сейчас; сейчас – Наша Эра. Так вот, я претендую на весь мир и этот век – ибо это мой мир и мой век».
Наконец, состоится возвращение из Америки в Европу, хотя оно дискретно, тоже распадется на отрезки, ознаменованные дальнейшим уяснением связей между собой и своими живыми и умершими, единением с историей, момент которого осознается Зоргером как «законодательный» и «исторический». Теперь история предстает перед ним не только как последовательность злодеяний, но и как «миросозидающая форма», обязывающая человека к участию, вмешательству, ответственности. «Я только что впервые увидел мой век при свете дня, открытым другим событиям, и я согласился жить теперь. Я даже был рад быть современником вас, современников, и земным среди земных: и во мне поднялось… высокое чувство – не моего, но человеческого бессмертия. И я верю этому мгновению: я записываю его, и оно должно быть для меня моим законом (курсив автора. – Е.Л.)… никогда больше не буду один. Да будет так».
Библейская аллюзия прозрачна: Зоргер, подобно всякому мыслящему человеку, заново творит для себя мир, сотворенный Богом для всех, обретает сознание того, что все – во всем, что в простой царапине на столе повторяются «параметры внешнего облика земли», что смысл есть даже в отсутствии видимого смысла, ибо так появляется стимул к его отысканию. Фрагментарность, расщепленность в восприятии мира сменяется целостностью, случайность – закономерностью и упорядоченностью, искусственность – естественностью, ощущение чисто внешних «сцеплений» явлений и предметов уступает место пониманию глубинной связи всех процессов.
Возвращение Зоргера в Европу далеко, однако, от идиллической благостности, оно влечет за собой больше вопросов, чем ответов; финал романа (как многих прежних произведений Хандке) открытый, не завершенный ни в сюжетном, ни в философском отношениях. «Медленное возвращение домой» состоялось, чтобы продолжиться; и это единственное, что можно констатировать с полной уверенностью.
Итак, ключевые концепты в романе Хандке, со сложной внутренней структурой, отмеченные вариативностью, взаимоперетекаемостью, часто – амбивалентностью, образуют целостную систему, в контексте которой, во взаимообусловленности и взаимоотражении, они и раскрывают философскую глубину произведения. Посредством концептов, имеющих в процессе развертывания сюжета тенденцию к смысловому расширению, повествованию придается притчевость, частная история преодоления духовного кризиса выводится на уровень парадигматический, создается концептосфера особого австрийского и – шире – европейского сознания XX столетия.
Продолжением «Медленного возвращения домой» стала повесть-эссе «Учение горы Сен-Виктуар» («Die Lehre der Sainte-Victoire», 1980). Стержень произведения – «путь Сезанна», пройденный писателем-рассказчиком, потрясенным его картинами. Рассказчик соединил в себе автобиографические черты с опытом главного персонажа предыдущей книги («…Зоргер, исследователь земли, перевоплотился в меня, хотя он и без того продолжал присутствовать во многих моих взглядах»). Именно полотна Сезанна, по признанию рассказчика, сыграли на новом этапе его творчества роль «зачинательных вещей», открыли мир новых красок и значений, благодаря чему самые незамысловатые предметы и явления неожиданно предстали в своей онтологической сложности. Путешествие по следам картин Сезанна оборачивается своего рода «мыслительной атакой», цель которой – не только заново убедиться в необходимости «письма и повествования», но и утвердиться в своем личном праве писать, отыскать новые темы и образы, а главное – найти исполненные «великого духа» новые формы, способные соединить частное со всеобщим, воплотить в слове «созвучную нерасторжимость» вещей, характерную для великого живописца и оказавшуюся столь близкой писателю.
В своем эстетическом поиске, в стремлении противостоять трагическим издержкам цивилизационных процессов – исчезновению естественности, обезличиванию человека, утрате им собственного языка и неповторимого голоса – писатель обращает взгляд к первозданно-бесхитростной, «нетронутой природе», к первоистокам бытия, его «мирному первосмыслу», наконец – к литературной и культурной традиции. О значении этой традиции для Хандке свидетельствуют и эпиграф из гётевских «Разговоров немецких беженцев», и содержащаяся в первой же строке повествования недвусмысленная декларация («Вернувшись в Европу, я ощутил настоятельную потребность в насущных письменах и многое перечитал заново»), и высокая степень интертекстуальности. Повесть буквально вибрирует «чужим словом» (М. Бахтин) – аллюзиями (многие из которых являются лейтмотивами творчества Хандке) на произведения музыки и кино, высказываниями Сезанна и описаниями его полотен, а также урбанистических пейзажей Макса Эрнста, фантасмагорий Магритта, метафизических творений Де Кирико, картин Эдварда Хоппера с их «реальностью заброшенности».
Особое место в творчестве Хандке занимают его книги размышлений о себе, о мире, о литературе. Их появление представляется – в свете творчества этого писателя в целом – закономерным и даже предсказуемым, ведь и в своей художественной прозе он не ограничивается традиционными, преломленными через вымысел формами воплощения автобиографического. Стратегия, так сказать, личного присутствия чрезвычайно важна для Хандке и соответствует его пониманию предназначения художника, видению искусства, способного, как полагает писатель, изменять человека, как изменила его самого русская литература: «Был период, когда я жил в ней – не в Австрии, не в каринтийской деревушке, а в русской литературе. Горький, Достоевский и Чехов сформировали мой мир, меня самого».
В 1977 г. вышла в свет книга Хандке «Вес мира: Журнал (Ноябрь 1975 – март 1977)» («Das Gewicht der Welt: Ein Journal (November 1975 – M?rz 1977)»). Родившаяся из авторской потребности в философии, внешне она организована как дневник (хотя в иных случаях помечен только месяц года) и представляет собой «стихийную запись бесцельных восприятий», реакций на мир, утративший единство. Даже форма книги, по словам самого Хандке, демонстрирует «всеобщую разъединенность»: «Она состоит… из отдельных, как бы выброшенных в мир предложений и мыслей, отражающих эту неуверенность, изолированность. Поэтому я думаю, что эта книга особого жанра, отличного от распространенной традиции дневника писателя, известной, например, по книгам Геббеля, Кафки, Валери. Это вовсе не вечерние записи об увиденном и пережитом за день, о состоявшихся разговорах, пришедших в голову мыслях, планах и так далее, как, например, «Дневник» Макса Фриша. Я стремился сразу же, на месте фиксировать само зарождение образа или мысли, первоначальный импульс, стараясь быть максимально точным и честным. Получившаяся книга, таким образом, – что-то вроде репортажа о себе самом, причем я надеюсь, что в ней достаточно сказано и о времени». Зарисовки с натуры, спонтанно возникшие образы, мимолетные впечатления и переживания, раздумья о мужчине, женщине, ребенке, о Боге, о счастье и несчастье, суждения о произведениях литературы, внезапно оживающих в памяти и предстающих новыми своими гранями, цитаты из Новалиса и Гёте, Арно Хольца и Германа Гессе… Все в этой книге отрицает статику, неподвижность, все взывает к движению и развитию. «Встать и идти, какое счастье!» («Aufstehen und gehen, welch ein Glück!») – пожалуй, именно эти слова можно считать ключевыми в книге, выражающими и суть ее, и пафос.
Этот своего рода «репортаж о непосредственной жизни сознания» нашел продолжение в книгах Хандке «История карандаша» («Die Geschichte des Bleistifts», 1982) и «Писатель пополудни» («Nachmittag eines Schriftstellers», 1987).
В «Истории карандаша», лишенной каких-либо видимых принципов структурирования материала, собраны записи Хандке 1976–1980 гг. Помимо прочего, они проливают дополнительный свет на созданные в этот период произведения писателя. Особенно часто его мысли обращены к роману «Медленное возвращение домой», который он хотел бы видеть «радостно-меланхоличным», каким виделся Флоберу «Дон Кихот». «История Зоргера: драматизм развертывается в возникновении и исчезновении пространства, во враждебности и привязанности времени, – констатирует автор. – Посему это чисто философский рассказ». Повествует Хандке и о работе над романом «История детства», основанном на обстоятельствах воспитания им своей дочери Амины. «Не будь ребенка, – говорит он, – не дорожил бы предками, не вспоминал бы о них с такой теплотой».
Писатель рассуждает о живописи (Сезанна, Ван Гога, Пикассо, Швиттерса и др.), о музыке, мифологии и мифологизировании, о природе искусства, о соотношении в нем формы и содержания, о творчестве великих писателей – своих предшественников, среди которых неизменно фигурируют Гёте и Кафка. Обращается Хандке и к проблеме взаимоотношений с Австрией; и это, быть может, самая сокровенная составляющая книги. Кто он, если его мать была словенкой, отец немец, родился он в Австрии, но детство связано с Берлином, где он рос? «Временами я готов плакать от того, что не принадлежу никакой нации», – признается писатель; как мы помним, примерно этими мыслями мучим был и Валентин Зоргер, герой его «Медленного возвращения домой».
Особенно интересен взгляд Хандке на собственную художественную эволюцию, на «себя нового», для которого теперь важно «видеть других как целое, переживать и воплощать их как целое», ибо «только тогда способность писать оборачивается искусством».
Близка к «Истории карандаша» и эссеистическая книга Хандке «Писатель пополудни», посвященная Ф.С. Фицджеральду; это размышления об искусстве сочинять и об искусстве жить, о роли, которую может сыграть в возникновении нового замысла и его реализации какая-либо невзрачная вещь, незначительная деталь, о цене, которую приходится платить художнику за постоянное напряжение чувств и мыслей, о том, «что остается», когда оказывается пройденным новый отрезок жизненного и творческого пути.
К этим двум произведениям примыкают эссе Хандке 1980–1990 гг. В самом начале 1990-х отдельным изданием вышла его книга «Три опыта», которую составили эссе «Опыт познания усталости» (1989), «Опыт познания природы jukebox» (1990) и «Опыт познания счастливо сложившегося дня. Сон в зимний день» (1991). В первом из «эссе-опытов» исследуются различные виды усталости самых разных людей – сельских жителей и горожан, студентов и любовников, кино– и литературных героев, самого автора, наконец. Эссе «Опыт познания природы jukebox» (англ. – музыкальный автомат jukebox), как и два других, переведено во многих странах, а в испанской Сории, основном месте действия эссе, прошел даже международный симпозиум переводчиков этого произведения на разные языки. Кстати, образ музыкального автомата почти неизменно встречается в прозе Хандке и так же неизменно сопровождается мотивами одиночества, бездомья, странствия, ностальгией по родным местам и давним временам.
По обыкновению, содержит этот опыт воспоминания о детстве и юности, «которых, можно сказать, не было», описания сновидений, скитаний по разным городам и странам, отсылки к творчеству других писателей. Язык эссе ассоциативен, изобилует цитатами, художественными и культурно-историческими аллюзиями. Автор посвящает читателя в тайны собственного литературного труда, в сложный процесс поиска стиля – прежде чем приходят «физическое ощущение обретенной повествовательной формы», чувство гармонического единения «окрыляющего вымысла» с повседневной реальностью, с «обычными неприметными вещами, их формами и красками».
Непосредственное, «сегодняшнее» действие «Опыта познания счастливо сложившегося дня» происходит в Париже в один из зимних дней 1990 г. Фоном для мыслей и поступков Хандке являются тревожные политические события: Франция готовится к участию в военном конфликте в Персидском заливе, с военного аэродрома слышен гул взлетающих бомбардировщиков. Летом писатель покинет Париж, чтобы осуществить свое намерение – создать книгу о «счастливом дне». В повествовательной стихии эссе обнаруживается ассоциативная связь между весьма отдаленными явлениями и предметами, лицами и мотивами, образуется символическая цепь: путь – прямая – кривая – поворот – сон – явь – мгновение – день – счастье…
Таким образом, драматургия и проза Петера Хандке 1960– 1990-х годов свидетельствуют о его непрестанном эстетическом поиске, об эволюции от категорического отрицания действительности к ее философскому приятию, от крайностей эксперимента – к литературной и культурной традиции.
Источники
1. Heintz G. Peter Handke. Stuttgart, 1971.
2. Витгенштейн Л. Логико-философский трактат // Л. Витгенштейн. Философские работы. Ч. 1. М., 1994.
3. Ионеско Э. Противоядия. М., 1992.
4. ПавловаН.С. Студенческий «бунт» и новые формы драмы в ФРГ // Современный революционный процесс и прогрессивная литература. М., 1976.
5. Архипов Ю.И. После бунта: «Молодая» литература ФРГ и Австрии на переломе // Новые художественные тенденции в развитии реализма на Западе: 70-е годы. М., 1982.
6. Макарова Г.В. Некоторые черты героя немецкоязычной драмы и сцены 70-х годов // Современное западное искусство: XX век. М., 1988.
7. Затонский Д. Австрийская литература в XX столетии. М., 1985.
8. Павлова Н. Несчастная жизнь без желаний // Иностранная литература. 1978. № 6.
9. Weiss W. Peter Handke oder Formalismus und Realismus in der Literatur der Gegenwart // Austriaca: Beiträge zur õsterreichischen Literatur. Festschrift für Heinz Politzer zum 65 Jahrestag. Tübingen, 1975.
10. Литвинец Н. Правдивая история об одиночестве // Иностранная литература. 1982. № 2.
11. Лихачев Д.С. Концептосфера русского языка // Известия АН СССР. Сер. литературы и языка. 1993. Т. 52. № 1.
12. ЗатонскийД.В. Предисловие // И. Бахман. Избранное. М., 1981.
13. Хайдеггер М. Письмо о гуманизме // М. Хайдеггер. Время и бытие: Статьи и выступления. М., 1993.
Эльфрида Елинек
Лауреатом Нобелевской премии за 2004 год стала, как известно, австрийская писательница Эльфрида Елинек (род. в 1946 г.). Работает Э. Елинек в разных жанрах: она автор романов («Мы всего лишь приманка, бэби!», 1970; «Любовницы», 1975; «Отринутые», 1980; «Пианистка», 1983; «Похоть», 1989; «Дети мертвецов», 1995; «Алчность», 1999); пьес («Клара Ш.», 1982; «Вожделение, или Проезд открыт», 1986; «Облака. Дом», 1988; «Привал, или Этим все занимаются», 1994; «Спортивная пьеса», 1998; «Он как не он», 2000), новелл. Творчество писательницы признано во всех немецкоязычных странах: среди ее наград – премии имени Георга Бюхнера 1998 г. и имени Генриха Гейне 2002 г., а также имени Генриха Бёлля, приз Франца Кафки; она удостоена званий «Драматург года» и «Мировой драматург года». В г. Граце прошла конференция, посвященная международной рецепции ее творчества, завершившаяся изданием в 1997 г. сборника материалов «Elfriede Jelinek»; в 1998 г. программа Всемирного театрального фестиваля в Зальцбурге была целиком составлена из ее пьес.
Творчество Э. Елинек широко известно за пределами Австрии и Германии, о чем свидетельствуют переводы ее произведений на многие европейские языки, включая русский (в переводе А. Белобратова опубликованы в 1996 г. роман «Любовницы», в 2004 г. – роман «Пианистка», в переводе Т. Набатниковой в 2006 г. – роман «Алчность», в переводе М. Кореневой в 1997 г. – рассказ «Заведомо бессмысленная попытка описания пейзажа», в 2008 г. в переводе В. Седельника – повесть «Вавилон» и в переводе М. Куличихиной – роман «Бембиленд»; вышли на русском и другие ее произведения). В последние годы мировая известность писательницы возросла еще и благодаря успеху фильма Михаэля Ханеке «Пианистка», снятого по ее роману; в 2001 г. кинолента была удостоена Гран-при на Каннском фестивале, а в январе 2002 г. признана лучшим зарубежным фильмом на российском «Кинотавре».
Казалось бы, творческая судьба Э. Елинек складывается как нельзя лучше. Между тем, судя по прессе, отношения писательницы с рецензентами, прежде всего на родине, складываются непросто. Э. Елинек характеризует их типичные реакции на свое творчество словами: «взвинченность», «повышенное напряжение», «цензорский окрик», «откровенная злоба», «чрезмерная эмоциональность». «Что касается литературных критиков, – говорит она, например, в интервью известному литературоведу и переводчику А. Белобратову, – то меня всегда поражала ярость, с какой они реагировали на мои тексты… У меня возникает чувство, что к моим книгам мало кто подходит со спокойно-взвешенных позиций» (1, 287). Суровые вердикты при этом сопровождаются обильным цитированием ее произведений. Нужно признать, что приводившиеся фрагменты, вырванные из контекста, действительно могут повергнуть в шок даже далеких от эстетства читателей. Впрочем, произведения Э. Елинек и в своей первозданной целостности способны шокировать. Особенно тех, кто продолжает – несмотря ни на какие примеры и традиции – непоколебимо упорствовать в кардинальном разведении не столько даже тем и проблем творчества, сколько реалий человеческой жизни, одни из которых позволительно осваивать художникам, другие – обречены на бессрочные табу.
В чем же состоит суть, как говорит сама Э. Елинек, ее «вести», что представляет собой «эстетический код» (1, 287) писательницы? Попытаемся разобраться в этом на материале ее романа «Пианистка» («Die Klavierspielerin»), до последнего времени наиболее известного русскоязычному читателю, в немалой степени благодаря успешной экранизации Михаэля Ханеке.
В основу сюжета произведения положена история взаимоотношений матери и дочери, все остальное – можно смело утверждать – из этих взаимоотношений проистекает. Соответственно, и каркас фабулы составляют уходы дочери из дому и возвращения домой, под материнское крыло. Повествование обрамляется именно мотивом возвращения домой: оно начинается со слов «В квартиру, в которой она живет вместе с матерью, учительница музыки Эрика Кохут врывается как ураганный ветер. Матери нравится называть Эрику «мой маленький ураган», ведь ребенок порой неудержим и стремителен» (роман цитируется в переводе А. Белобратова) и заканчивается словами «Эрике известно направление, в котором она идет. Она идет домой. Она идет и постепенно ускоряет шаги». Впрочем, дом и «мамуля» никогда не оставляют Эрику, а она – их. Чем бы она ни занималась, в какой бы точке Вены ни находилась, она всегда на пути домой; в родной дом она спешит вернуться, даже не успев его покинуть. Так, буквально с четвертой-пятой фраз повествования, начинает выясняться подлинный смысл отношений между матерью и дочерью; содержание же первой фразы, своеобразной идиллической затравки, опрокидывается, оборачивается своей полной противоположностью и мгновенно встраивается в оппозицию «реальность – видимость». Не успев умилиться взаимной нежности матери и трогательно опекаемого ею чада, читатель вынужден с небес – нет, не спуститься – упасть, грохнуться, причем не на землю, а прямиком на ристалище, где в поединке не на жизнь, а на смерть сошлись непримиримые враги. Оказывается, дитяти уже за тридцать, и шустра Эрика по необходимости: в неведомо который раз она пытается ускользнуть от грозящей ей «расправы», и в неведомо который раз «мамочка», «инквизитор и расстрельная команда в одном лице», настигает дочь, «призывает ее к ответу», «прижимает к стенке», «допрашивает» и «распинает» свое «ускользающее из рук создание».
Беспощадно тщательно, во всех подробностях, обрисовывается действительное положение дел (так и хочется сказать – и тел, ибо Эрика с «вышестоящей инстанцией» нередко вцепляются друг в друга, чтобы затем, после очередной порции рыданий, площадной брани и новых проплешин на материнской голове, заключить перемирие). Сама автор конкретизирует ситуацию следующим образом: «В «Пианистке» в центре внимания мать, которая за неимением мужа берет на себя отцовские функции и стремится воспитать из дочери музыкального гения, совершенно подавляя ее личность. Гениальности в дочери не обнаруживается, и она терпит жизненное поражение» (1, 291). Однако чем отдаленнее заветная цель и утопичнее ее достижение, тем она соблазнительнее, тем ревностнее мать в своих усилиях оградить дочь от внешнего мира, от нормальной, естественной жизни, ограничить последнюю стенами «инкубатора, в котором они обе обитают». И тем настойчивее напрашивается мысль о том, что патологическое по масштабам желание матери «взрастить гения» и столь же патологическое желание подчинить дочь, единолично распорядиться ею, парализовать ее волю есть не что иное, как изощренная форма сублимации садистских наклонностей, сместившихся в сторону дочери после того, как под рукой не стало прежнего объекта – мужа, в результате супружества помешавшегося и заботливо помещенного женой в сумасшедший дом, более напоминающий полусвинарник-полутюрьму.
Снедаемая безмерным честолюбием, нравственно глухая и эгоистичная, превратившая дом – то есть то, что должно бы быть тихой пристанью, убежищем и надежным оплотом, – в западню для дочери, этакую домашнюю преисподнюю, подобие бездонной черной дыры, всасывающей малейшие проявления живого, мать в романе Э. Елинек всевластна и за пределами своего с дочерью жилища. Для нее нет непроницаемой материи, она вездесуща и – чаще незримо для посторонних – сопровождает дочь в классной комнате, зале филармонии, вагоне трамвая. О неизменном присутствии матери в сознании дочери, о разрушительном влиянии на ее существование повествуется ужасающе предметно. Едва увидев «выползающий из ее собственной утробы бесформенный кусок глины, она не мешкая принялась энергично месить и обрабатывать его» да так и не прекратила этого занятия: вот она «напяливает на ребенка музыкальную сбрую», вот «усердно принимается развинчивать на мелкие части» надежды Эрики, а вот «свинчивает крышку ЕЕ черепа, самоуверенно запускает в него руку и роется там, что-то выискивая. Она поднимает все вверх дном и ничего не кладет на свое место. Поперебирав немного, она достает часть вещей наружу, рассматривает под лупой и выбрасывает вон. Какие-то вещи мать расправляет, энергично трет щеткой, губкой и тряпкой. Затем все как следует протирает и снова ввинчивает крышку на место, словно вставляя нож в мясорубку».
Подобных примеров фантастической предметности, зримой конкретики в описаниях манипуляций человеческим сознанием не так уж много в мировой литературе, хотя в австрийской, кажется, она не столь редка; достаточно вспомнить литературные вершины – «Человека без свойств» Роберта Музиля и особенно «Ослепление» Элиаса Канетти, единственного австрийского писателя, удостоенного Нобелевской премии до Э. Елинек.
Совершая свой «карательный поход во имя Брамса», в конечном итоге именно мать препятствует дочери стать «человеком действительным» (Wirklichkeitsmensch), пусть не в исполнительском искусстве (но, возможно, и в нем, ибо то, что тотально насаждается, столь же тотально отторгается), так хотя бы во вполне доступных сферах обыденной жизни, в которой Эрика тоже – всего лишь «человек возможный» (Möglichkeitsmensch). В этой ипостаси мать в романе Э. Елинек вполне тривиальна и легко вписывается в созданную мировой литературой (Генри Миллером, Франсуа Мориаком и др.) галерею матушек-монстров, первенство которых, однако, успешно могли бы оспорить литературные папаши-монстры. И те и другие в художественном изображении часто утрачивают даже половые признаки, удовлетворяясь ролью семейных тиранов. Впрочем, порождены они отнюдь не только воображением писателей. Матушка Кохут – не исключение, да и сюжет в целом был, вероятно, подсказан некоторыми составляющими собственного жизненного опыта писательницы; сама автор назвала роман «Пианистка» «книгой, пожалуй, наиболее «автобиографичной», по крайней мере в том, что касается взаимоотношений матери и дочери, а также музыкального воспитания, вернее, музыкальной дрессуры» (1, 291). Разумеется, о полной идентификации героини романа с его автором говорить не приходится; «Пианистка» автобиографична в таком же смысле, в каком автобиографичен, например, «Процесс» Франца Кафки: личное, пережитое в обоих случаях эстетизировано, в определенном смысле даже мифологизировано.
Совершенно очевидно, однако, что слагаемые романной оппозиции «палач – жертва», соответствующей отношению матери к дочери, то и дело меняются местами. Образ Эрики амбивалентен, ее жалко, но она и страшна: в романе немало эпизодов, в которых эта истинная «дочь Франкенштейна» не только превращается в копию родительницы, но предстает в гораздо более зловещем свете; достаточно вспомнить эпизоды, когда учительница музыки Эрика Кохут насыпает в карман пальто своей ученицы битое стекло, чтобы та повредила пальцы, или исподтишка побольнее пинает своими музыкальными инструментами пассажиров трамвая, а то и вовсе злобно щиплет их и бьет по щиколоткам. Поведение Эрики закономерно: усвоившая в отношении себя только язык глумления и насилия, она только им в совершенстве смогла овладеть и, соответственно, только на нем изъясняться – с матерью ли, с приглянувшимся ей Вальтером Клеммером, другими людьми.
Своеобразную компенсаторную функцию в существовании Эрики, утратившей аутентичность, надежно защищенной матерью от «сетей любви», от общения с мужчинами, выполняют до поры до времени ее ночные вылазки в «джунгли» Пратера, сомнительного венского района, – ночные не столько даже в смысле времени их осуществления, сколько в смысле их сути, когда вполне приличный в своей «дневной», публичной жизни человек превращается в один сплошной сгусток инстинктивно-физиологического, целиком погружается в таинственно-инфернальную тьму своего и чужих тел, в необузданную телесно-тварную стихию. Ночной Пратер с его притонами и преступлениями, с его выброшенными «на обочину жизни и профессии» обитателями, – это гротескный образ «города на панели», где «венские нравы расцветают самым пышным цветом во всех своих неограниченных дурных качествах». В это «царство чувственности» Эрику гонит судорожный «поиск новых, невиданных зрительных впечатлений», потребность приобщиться к запретной для нее самой сфере, сорвать с себя все маски и условности, шагнуть, что называется, «за черту», посредством подглядывания и подслушивания создать иллюзию собственного участия в любовном акте. Описания этих «путешествий на край ночи» выполнены в пронзительно-натуралистических красках и отдают почти физически ощущаемыми горько-смрадными запахами, вызывают впечатление саморазрушения и тлена, распада личности, дисгармонии мира.
Однако «ночной» образ мысли свойствен также Эрике «дневной»; во всей буйной красе она являет его в сценах любовных встреч со своим учеником Вальтером Клеммером. Одержимая тайными сексуальными фантазиями и желаниями, «отвратительно неотвратимыми страхами и опасениями», она выходит из роли учительницы, пристойной молодой женщины, но совершенно логично остается в роли «предмета», «плотно увязанного пакета, совершенно беззащитного и полностью отданного на произвол», в роли привычно насилуемого и унижаемого существа, «рабыни», жаждущей «кары и наказания». Ибо то, что для Клеммера – «курьез», «клинический случай», для нее – норма существования, и предписанный ею Клеммеру список условий, «инвентарный перечень болей и пыток», всевозможных веревок, кляпов и ремней, угроз и пощечин есть не что иное, как следствие и продолжение «законной разрушительной деятельности» матери, ведущей с дочерью «ожесточенно-мстительный поединок», превращающей ее «в горстку пепла под жарким пламенем материнской горелки». К боли Эрика привыкла настолько, что даже нанесенный самой себе удар ножом в финале романа – то ли жалкая попытка самоубийства, то ли способ обратить на себя внимание окружающих – не дает ей ожидаемого ощущения.
При этом заметим, гротескно-откровенные сцены не являются самодовлеющими в романе, они помогают автору донести до читателя мысли о том, что попрание всяких проявлений свободы личности неизбежно оборачивается агрессией и разрушением, поражением и катастрофой, а загнанная в подполье естественная человеческая природа непременно за себя отомстит, обернется противоположностью – сплошной, если так можно выразиться, физиологизацией, уродующей чувства, извращающей мысли, поступки и, что еще страшнее, в свою очередь регенерирующей зло и аномалии в других. Все в жизни взаимосвязано, и героиня Э. Елинек сосредоточена на сексуальных переживаниях не только потому, что именно их-то ей и недостает, но и потому, что она начисто лишена вообще какой бы то ни было индивидуально-сокровенной, интимной жизни: мать решает, какой профессией заняться дочери, в какой одежде выйти из дому, кому иметь к ней доступ; даже кровать в течение тридцати лет Эрика делит с матерью. Сексуальная же жизнь, подсказываемая самой природой, как известно, предельно интимна, сокровенна, и этой своей сокровенностью – в отсутствие даже представления о каких бы то ни было иных формах индивидуальной жизни – влечет к себе героиню «Пианистки». Так крайность порождается крайностью.
Отдельного анализа заслуживает проблема преломления в художественной системе Э. Елинек психоаналитической теории Зигмунда Фрейда. Вообще, стоит заметить, что медицина человеческого сознания и подсознания – весьма примечательная часть научно-культурного ландшафта Австрии. Можно вспомнить Альфреда Адлера с его социальной психологией личности, психоаналитическую эстетику Отто Ранка, групповую психологию Якоба Леви-Морено, «логотерапию» Виктора Франкля, открытия психиатра Юлиуса Вагнера-Яурегга, ставшего лауреатом Нобелевской премии. Однако, как известно, совершенно исключительную роль в исследовании жизни человека «внутреннего» сыграл именно З. Фрейд.
«Искусство взаимного понимания, это наиболее важное в человеческих отношениях искусство и наиболее необходимое в интересах народов, – писал Стефан Цвейг, – единственное искусство, которое может способствовать возникновению высшей гуманности, в развитии своем обязано учению Фрейда о личности много больше, чем какому-либо другому методу современности; лишь благодаря ему стали понятными нашей эпохе, в новом и действительном понимании, значение индивидуума, неповторимая ценность всякой человеческой души» (2, 521). Сам Фрейд обоснованно сравнивал некоторые свои открытия с переворотом, осуществленным в науке и мировоззрении человечества Коперником. Психоанализ в большой степени обусловил появление в XX в. весьма существенного пласта, условно говоря, телесно ориентированной литературы с ее пристальным вниманием к «человеческому, слишком человеческому». Никогда прежде до психоанализа тело в художественной литературе не заявляло о себе так громко, не предъявляло свои права так демонстративно и требовательно, защищая человека во всей его целостности и сложности.
Впрочем, и для австрийской художественной литературы, современной Фрейду и более поздней, обращение к Эросу чрезвычайно характерно, при этом традиционно весомым в ней является элемент психолого-психического. Здесь кстати вспомнить Артура Шницлера, тоже медика, изучавшего психоанализ, занимавшегося гипнозом, испытавшего влияние Фрейда, но и на Фрейда, судя по всему, повлиявшего. Не случайно тот однажды назвал Шницлера своим «двойником», а на одной из подаренных тому книг оставил характерную надпись: «Артуру Шницлеру неравноценный ответный дар от автора». В одном из писем Фрейда, адресованных Шницлеру, есть, в частности, следующие строки: «В Ваших поэтических образах я всегда узнавал те же самые предпосылки, интересы и выводы, которые казались мне моей собственностью. Ваш детерминизм, как и Ваш скепсис – то, что люди называют пессимизмом, – Ваша увлеченность правдой бессознательного, природой человеческих инстинктов, развенчание Вами условностей нашей культуры, приверженность Вашей мысли к проблеме полярности любви и смерти… – все это было для меня свидетельством какого-то тайного родства между нами. Так возникло у меня впечатление, что все, открытое мною в ходе упорной работы, известно Вам благодаря интуиции и самонаблюдению». Стоит также напомнить, что впервые прозвучавшее в 1956 г. из уст швейцарского писателя и литературоведа Вальтера Мушга определение «Зигмунд Фрейд – писатель» многими современными исследователями воспринимается как аксиома. Так что, по аналогии с привычными рассуждениями о том, что в творчестве того или иного писателя первично – проза или поэзия, в австрийском случае иногда едва не столь же уместны рассуждения о том, что первичнее – литература или психиатрия.
Сказать, что Фрейд повлиял на проблематику и поэтику «Пианистки», – не сказать ничего. Его присутствие в романе самоочевидно и имманентно; в этом смысле произведение может быть поставлено в один ряд (если, в нарушение хронологии, не в его начало) с романами У. Фолкнера, Д.Г. Лоуренса, Г. Гессе и многих других. В шоковой эстетике Э. Елинек Фрейд узнается повсеместно: в почти анатомическом разъятии психологии и психики героини, в убедительном раскрытии причин ее психопатологического состояния, в изображении механизмов влияния совершенно определенных обстоятельств на ее сознание и подсознание. Если иметь в виду, что Фрейд в свое время ввел в перечень так называемых артефактов (казусов в повседневном поведении, сновидений, неврозов) еще и творчество, читатель вполне может ощутить себя в роли венского ученого и, располагая романом его соотечественницы как конкретным артефактом, попытаться реконструировать историю аффективного комплекса героини, пройти обратный путь от симптомов к истокам болезни, как это делал некогда сам Фрейд с литературными произведениями своих предшественников и современников, от Гёте до Достоевского и Стефана Цвейга (да и с самими авторами тоже). Более того, при чтении «Пианистки» иногда возникает впечатление, что имеешь дело с наглядным пособием к постулатам Фрейда, изложенным в его работах «Очерки по психологии сексуальности», «Я» и «Оно»», «Психопатические характеры на сцене» и других, названия же некоторых (в частности, «По ту сторону принципа удовольствия») откровенно обыгрываются в романе. При желании в «Пианистке» нетрудно обнаружить примеры инверсии и перверсии, садизма и мазохизма, сублимирования и вытеснения, «унижения любовной жизни», истерии и проч. И основан роман, в сущности, на «сексуальной метафоре», как основана на ней фрейдовская теория психоанализа.
Соотносимы содержание и смысл произведения Э. Елинек и с выводом З. Фрейда о том, что свойство фантазировать присуще человеку несчастливому, неудовлетворенному, непонятому. Человеку, который, говоря словами из романа, со скорбью на «ты». «Неудовлетворенные желания, – писал ученый, – это энергетический источник фантазий, а всякая отдельная фантазия есть осуществленное желание, исправление неудовлетворительной действительности» (3, 157). Наконец, повествование предельно насыщено специфической лексикой, характерной для работ З. Фрейда и в немалой степени способствующей читательскому восприятию романа как осуществленного литературными средствами психоаналитического эксперимента: женщина, мужчина, мозг, желание, влечение, страх, табу, фантазии, плоть, возбуждение, искушение, инстинкт, тело, индивидуальность, масса, насилие, боль… Плюс названия всевозможных органов и функций человеческого тела.
Кстати, стойкое предубеждение против литературных произведений, подобных «Пианистке» Э. Елинек, объясняется, вероятно, обращением авторов не столько даже к табуированным темам, сколько к табуированной лексике. И здесь мы оказываемся перед еще одной важной проблемой, над которой раздумывали многие писатели XX в., – проблемой слова в изображении всего, что связано с «материально-телесным низом» (М.М. Бахтин).
Жан-Поль Сартр в 1948 г., декларируя неприемлемость для литературы эвфемизмов и метафор-масок, писал: «Функция писателя состоит в том, чтобы все называть своими именами. Если слова больны, то именно нам (писателям. – Е.Л.) нужно их лечить. Вместо этого многие живут за счет болезни…»
Олдос Хаксли от лица героя своего романа «Гений и богиня», в частности, замечал: «До чего все-таки груб наш язык! Если умалчиваешь о физиологической стороне эмоций, грешишь против фактов. А если говоришь о ней, это выглядит как желанье прикинуться пошляком или циником. Страсть или тяга мотылька к звезде, нежность, или восхищение, или романтическое обожание – любовь всегда сопровождается какими-то процессами в нервных окончаниях, коже, слизистой оболочке, железах и пещеристой ткани. Те, кто умалчивает об этом, – лжецы. К тем, кто не молчит, приклеивают ярлык развратника. Тут, конечно, сказывается несовершенство нашей жизненной философии; а наша жизненная философия есть неизбежный результат свойств языка, абстрактно разделяющего то, что в реальности всегда нераздельно. Он разделяет и вместе с тем оценивает. Одна из абстракций «хороша», а другая «плоха»… Но природа языка такова, что не судить мы не можем. Иной набор слов – вот что нам нужно. Слов, которые смогут отразить естественную цельность явлений». Имеет смысл привести и еще одну сентенцию из того же романа английского писателя: «Благодать духовная, благодать животная, благодать человеческая суть три проявления одной и той же всеобъемлющей тайны; по-настоящему нам должны быть доступны они все. Практически же мы изолируем себя от благодати вообще, а если и отворяем двери, то лишь для одной из ее форм. Чего, разумеется, недостаточно».
Нечто созвучное давнишним рассуждениям О. Хаксли встречаем в одном из интервью известной белорусской писательницы Светланы Алексиевич в связи с ее работой над новым произведением – «Чудный олень вечной охоты», книгой невыдуманных рассказов-исповедей о любви, любви, которая может случиться где угодно – на фронте, в лагере, на вечеринке у приятелей. Писательница говорила о том, что мы – люди культуры целомудренной, но есть подпольная жизнь, которая тоже нуждается в описании, в «высказывании». У нас же для этого даже языка не существует. «Или матерный, или романтический… Человека разделили: здесь небо, а здесь помойка. А это одно».
Очевидно, изображение «дневной» и «ночной» (или «теневой») жизни подразумевает и существование вербальных адекватов, условно говоря, «дневного» и «ночного» стилей. Именно последний в «Пианистке» от страницы к странице набирает силу, и преодолеть его «фронтальную атаку» непросто (при том что в романе при наличии непристойностей в поведении героини, по сути, нет непристойной, ненормативной лексики; правда, и к эвфемизмам для обозначения физиологических явлений автор не прибегает). Однако приходится согласиться, что подобный язык – «язык тела», как сказано в самом романе, – для Э. Елинек важнейшее средство художественного воссоздания и внешней и внутренней естественной жизни человека в неурезанном виде: так физиологический аффект выливается в художественный эффект.
Вообще роман содержит разнообразнейший стилевой материал для психоаналитического исследования. Не чувство, но чувственность преобладает в произведении, и эта аффективная чувственность определяет и его атмосферу, и образность, и архитектонику, и, как уже отмечалось, язык.
Язык «Пианистки» не только экстремально телесен, но и, о чем выше говорилось, предельно веществен, предметен. Одна из причин этой вещности – замкнутость Эрики на собственных переживаниях и фантазиях, чудовищное одиночество среди окружающих ее и одинаково ей чужих людей, о ком бы ни шла речь – о матери, Вальтере Клеммере, учениках, пассажирах трамвая или любовных парочках в грязных лугах венского Пратера (один из которых, излюбленное место «охоты» Эрики, имеет характерное название – Иезуитский). Для них она вещь, предмет собственности, машина, посылка, в получении которой следует расписаться, «живой инструмент», на котором мать, подобно настройщику рояля, «потуже закручивает колки». «Собственность» («многоликая собственность», «неугомонная собственность») – одно из наиболее часто используемых в романе слов; «Главная мамочкина задача состоит в том, чтобы удерживать собственность в одном и том же месте, по возможности в неподвижном состоянии…»
Еще одна причина вещности языка – это невозможность для героини подлинного «осуществления», пребывание, что называется, по ту сторону жизни, все тот же аффективный комплекс. В романе множество предметов и вещей, являющих собой опредмеченные, овеществленные чувства и переживания Эрики. Как правило, это многослойные, многозначные символы; таков, например, образ платья в начале романа, не укладывающийся в рамки одной, даже самой развернутой, метафоры. Платья – это и обещание свободной от материнского «патронажа» жизни, красивой в своей естественности;
и «свидетели ее тайных желаний», этакая агентура в логове врага; и катализатор ее фантазий взамен вытесненых порывов; и заменитель друзей и близких. Платья ждут ее возвращения домой, дарят иллюзию тепла и очарования, которых ей нигде больше не найти, с ними «в дом будто врывается весенний ветер», они кажутся Эрике «поэмой из ткани и красок», голоса их расцветок и узоров вплетаются в крики ее желаний; но они – и материальный знак ее несостоявшейся карьеры, бесцельности и бесплодности лучших лет ее жизни… Что важнее всего, они – доказательство того, что не только ею владеют, но чем-то владеет и она: мать их может отобрать, продать, искромсать в клочья, но самой ей они не подходят, и уже поэтому они – собственность только Эрики, принадлежат только ей, даже если она никогда их не наденет. «Эрика хочет лишь владеть и созерцать». Думается, здесь прихотливо соединяются протест против матери и неосознанное стремление матери же уподобиться: платье для Эрики то же, что сама Эрика – для матери.
Аффективным состоянием Эрики, обусловленным целым букетом комплексов (в особенности комплексами семьи, подавленной сексуальной жизни), генерализуется лексический состав «Пианистки» в целом. В нем, помимо лексики телесной, отчетливо выделяются еще несколько пластов: лексика семейная («мамочка», «дочь», «ребенок», «отпрыск», «отец», «дом», «свое гнездо», «пока смерть не разлучит их», «Хватит с нее родной матушки, не нужно ей никакого женишка» и проч.); военная («заградительный огонь», «воинственный пыл», «в гущу битвы», «разведчицы сообщают», «карательный поход», «противницы сплелись в безмолвной схватке», «горячий боец», «с оружием «на караул»» и многое другое, даже общая с матерью кровать названа «двуспальной цитаделью»); охотничья («мужчины-охотники», «ее дома натаскивали», «дикая охота уносится прочь», «чуять добычу», «охотничьи угодья» и т. д.), а также отдающая каннибализмом кулинарная, тюремная и, наконец, зоо-лексика. Зооморфным кодом маркируются все аспекты содержания романа, а также все названные выше лексические пласты. Создается впечатление беспримерного и беспредельного зверинца, в котором человеческое все убывает, а животно-инстинктивное – прибывает. Подобная лексика, мотивы и символы, ею создаваемые, анализировались учеными в свете психоанализа (на ином литературном материале) неоднократно.
И еще одна лексическая группа – это клише и идиомы, из которых в романе вырастает целая непроходимая стена. Призванные закамуфлировать подлинную ситуацию, языковые клише суть порождение поведенческо-мировоззренческих стереотипов, неких правил игры, общественного сценария, требующего от персонажей всячески мимикрировать и существовать исключительно в масках.
Роман Э. Елинек монологичен, и эта форма в данном случае уже сама по себе является смыслоносителем. Ведь диалог предполагает если не взаимопонимание, то по крайней мере стремление к нему. Но монолог у Э. Елинек своеобразен; скорее, это поток сознания, вызывающий в памяти знаменитый заключительный эпизод романа Джеймса Джойса «Улисс», а еще точнее – талантливая художественная реализация фрейдовской «техники свободных ассоциаций». С изобилием совершенно непредсказуемых метафор, неожиданных персонификаций. С тавтологией, предназначенной не открыть, но спрятать, причем спрятать именно те тревоги, желания и фантазии, которые превратились в наваждение, из-под власти которых невозможно высвободиться. С чередованием письма вязкого, засасывающего, как трясина, и письма скачкообразного, импульсивно-лихорадочного. С почти медицинским препарированием физиологии ущербной личности в ее, так сказать, протестном состоянии и – одновременно – небыкновенно разнообразной нюансировкой ощущений и эмоций, глубиной подтекстов. С игрой словами и смыслами, с каламбурами и звукописью, с выраженным ритмическим рисунком. С конкретикой, экстремально достоверной и гротескной одновременно. С очевидным интеллектуализмом, с весьма объемным «цитатным» потенциалом, включающим, помимо психоаналитических, музыкальные, музыковедческие, литературные, мифологические и прочие аллюзии и реминисценции, ассоциации и аналогии (в числе последних особого внимания заслуживает аналогия с произведениями уже упоминавшегося Франсуа Мориака, не устававшего писать о темных страстях, кипящих в семье, этом «клубке змей», «клетке из живых прутьев», об уделе ребенка «под бременем цепей»). С кричащей антиномичностью, сцеплением несцепляемого, коллажем образов, какой встречается у людей с аномальной психикой, а еще разве что у детей и сюрреалистов (не случайно на одну из страниц романа «взбегает» «Андалузский пес» Бунюэля). С тиранией времени, преследующего, сверлящего сознание, дискретного (лейтмотивом проходит сквозь произведение образ «крошащегося», «рассыпающегося» времени) – в полном соответствии с состоянием героини. С горьким сарказмом, как бы парадоксально это ни звучало. И это только наиболее существенные (причем далеко не все) составляющие стилевой палитры Э. Елинек, каждая из которых может быть легко развернута в отдельное исследование.
Обращает на себя внимание и ряд других проблемно-содержательных и эстетических аспектов «Пианистки».
Так, чрезвычайно важные функции в ее замысле и поэтике выполняет музыка. Во-первых, эротика и музыка нередко сопровождают друг друга в литературе, в том числе австрийской. Во-вторых, содержание романа внутренне полемично по отношению к его музыкальной теме; в результате образуется демонстративная оппозиция духа и плоти. Как и язык произведения в целом, выражения вроде «небесная власть музыки», «служение искусству» и т. п. имеют изнаночное (или, говоря словами автора, «вертикальное, глубинное») измерение, они предельно травестированы. Эрика не играет на пианино – она «вколачивает в клавиши свою исполнительскую карьеру, давно и окончательно похороненную», «как злой дух реет» над музыкальными опусами; музыкальные инструменты для нее и ее матери – это «сосцы на вымени дойной коровы, именуемой музыкой»; «дочери предстоит умереть, надорвавшись от музыки»; «Учительница, эта убийца духа…»; «… с музыкой, пьющей из нее кровь, с музыкой, которую Эрика потребляет сама или скармливает другим…» и т. д.
Наконец, в-третьих, в контексте музыкальной темы роман «Пианистка» – это символ современной Вены, не рождающей новых талантов, а эксплуатирующей былую репутацию музыкальной столицы, паразитирующей на гениальном искусстве Гайдна, Бетховена, Шуберта, Иоганна Штрауса, Брамса, Брукнера и др. Нередко в романе говорится об этом прямым текстом: «Консерватории, музыкальные школы, частные уроки музыки терпеливо вбирают в себя тот материал, которому… место на свалке…»; «Эти насытившиеся дикари живут в стране, в которой вообще царит культурное варварство»; «Венский магистрат насильно останавливает эстафету передачи искусства от одного поколения к другому». Возможность именно такого прочтения романа подтверждает и сама Э. Елинек: «В определенном смысле эта история – притча об Австрии и ее обществе, живущих за счет славы своих великих композиторов, то есть за счет прошлого, которое оплачивается подавлением индивидуальности сотен и тысяч безвестных учительниц музыки, пианисток» (1, 291).
Роман интегрирует многие австрийские и европейские (и не только европейские) литературно-художественные традиции, тоже повлиявшие на специфический неопсихологизм писательницы (включая элементы натурализма, импрессионистскую фрагментарность, экспрессионистскую оптику, приемы дадаистов и сюрреалистов, эксперименты неоавангардистов «Венской группы», стилистику постмодернизма, массовой культуры и многое другое).
Что же касается мотива бездомности, неизменно присутствующего в парадигме австрийской словесности XX в. и, как правило, сопровождающего ее ключевую проблему – разлада действительного и видимого, то при всем очевидном и безусловном своеобразии интерпретации этого мотива Эльфридой Елинек «Пианистка» и здесь вписывается в отечественный литературный контекст (от Гуго фон Гофмансталя и Артура Шницлера до Ингеборг Бахман, Петера Хандке, Томаса Бернхарда, Норберта Гштрайна, Марианны Грубер и др.).
В заключение можно сделать два вывода. Художественный метод Э. Елинек следует определить как своего рода клинический импрессионизм (по аналогии с термином «клинический реализм», некогда предложенным В. Реем в отношении произведений А. Шницлера, Г. Бара и некоторых других писателей рубежа XIX–XX вв.). Или, если угодно, импрессионизм натуралистического толка, фиксирующий не впечатления, не переживания и чувства, а ощущения в нервных окончаниях. Это роман-выплеск, роман-состояние, роман-выговаривание.
Что же касается смысла романа «Пианистка», то, выражаясь словами соотечественника Э. Елинек, писателя Петера Хандке, вынесенными в название одной из его пьес, – это, конечно, «поругание публики». Однако, как сам он объяснял суть своего произведения, оно «не является пьесой, направленной против театра. Это пьеса против театра, каков он есть». Точно так же и роман Э. Елинек отнюдь не против морали, – он против морали, какова она есть. Против насилия над личностью, оказавшейся в вакууме общения, против тотального отчуждения, против катастрофического замыкания человека на одиночестве. Иное дело, что нам довольно трудно отказаться от мысли, будто откровенность в изображении физиологии, тем более аффективной, и подлинное произведение искусства – вещи несовместимые. Но, в конце концов, инстинктивно-биологическое в человеке имеет гораздо более продолжительную историю, нежели социальное, и уже хотя бы поэтому имеет право на высказывание.
Источники
1. «Высказать невысказываемое, произнести непроизносимое…»: С австрийской писательницей Эльфридой Елинек беседует Александр Белобратов // Иностранная литература. 2003. № 2.
2. Цвейг З. Зигмунд Фрейд / Пер. С. Бернштейна // С. Цвейг. Вчерашний мир. М., 1991.
3. ФрейдЗ. Поэт и фантазия / Пер. Ю.И. Архипова и А.А. Гугнина // А.А. Гугнин. Австрийская литература XX века: статьи, переводы, комментарии, библиография. Новополоцк; М., 2000.
Примечания
1
Согласно известному определению Ф. Энгельса, содержащемуся в его письме английской писательнице М. Гаркнесс, «реализм предусматривает, помимо правдивости деталей, правдивое воспроизведение типичных характеров в типичных обстоятельствах».
(обратно)
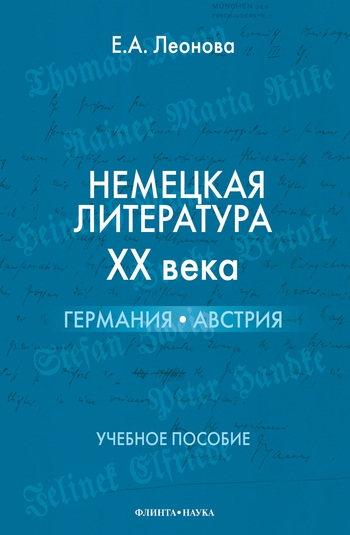

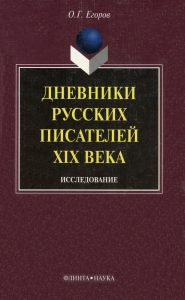

Комментарии к книге «Немецкая литература ХХ века. Германия, Австрия: учебное пособие», Ева Александровна Леонова
Всего 0 комментариев