Татьяна Витальевна Лошакова Александр Геннадьевич Лошаков Зарубежная литература XX века (1940-1990-е годы)
ВВЕДЕНИЕ
Новый этап в развитии литературы ХХ века, хронологические рамки которого определяются серединой его сороковых – девяностыми годами, характеризуется наличием чрезвычайно многообразных и сложных в своей идейно-эстетической сущности явлений, обилием крупных писательских имен. В едином хронологическом пространстве сосуществуют, взаимодействуют произведения, с одной стороны, уже приобретшие статус хрестоматийных, с другой – созданные сравнительно недавно, но оказавшиеся знаковыми для своего времени и, согласно оценкам критиков, по праву претендующие на статус классических. Данное обстоятельство во многом предопределяет сложность и специфику заключительного этапа знакомства с историей зарубежной литературы в рамках вузовской программы.
Основным критерием отбора произведений для пособия-практикума стали положения новейшей социально-гуманитарной науки о возрастающем взаимовлиянии литератур, об эволюции гуманизма на основе философских концепций ХХ века, о ценностном бытии человека как основании новой парадигмы социально-гуманитарного знания, о причастности человека к трансцендентным целям истории и культуры, о возникновении новых форм бытия социальности в современной культуре и новых способов их познания, об открытости и незавершённости истории.
В этом аспекте особо значимым является вопрос о воздействии на послевоенное искусство философии и художественной практики французского экзистенциализма, представленного именами Ж.-П. Сартра и А. Камю. Рассматривается также феномен так называемого стихийного экзистенциализма, который был вызван к жизни катастрофическим опытом Второй мировой войны и нашел яркое воплощение, в частности, в польской прозе 2-й половины 1940-х годов. Обращение к творчеству известных писателей – К. Вольф, П. Ф. Лагерквиста, Э. Бёрджесса, Э. Хемингуэя, Дж. Барнса и др. – позволяет рассматривать такие значительные особенности литературной жизни ХХ века, как движение художественной мысли от анализа к синтезу, обусловившее динамичную эволюцию «мифологического метода»; формирование нового романного мышления в латиноамериканских странах; возникновение и развитие постмодернизма и др., раскрывая при этом национальное своеобразие, а также взаимодействие и взаимообогащение различных литератур. Проза зарубежных писателей 2-й половины ХХ века, особенно последних его десятилетий, во всей ее сложности и многообразии не получает достаточного освещения не только в учебной литературе, но и в исследовательских работах. Данное учебное пособие призвано хотя бы отчасти восполнить этот пробел.
Учебно-методический комплекс, построенный по принципу литературной хронологии, включает в себя статьи к отдельным темам, выносимым на практические занятия, обстоятельно разработанные их планы и планы коллоквиумов, которые помогут организовать самостоятельную работу студентов. Каждая тема сопровождена списками рекомендуемой литературы, а также включает вопросы и задания, перечень тем для рефератов и докладов, справочные и другие материалы. В качестве иллюстративного материала приводятся художественные тексты или их фрагменты.
Важнейшей методической установкой данного пособия является нацеленность его материалов, системы вопросов и заданий на формирование у студентов принципов и приемов анализа и интерпретации художественного текста.
Не претендуя на обязательный характер включения предлагаемых тем и форм их изучения, авторы рассчитывают на сотворчество коллег, на расширение проблемно-полемического поля рассматриваемого раздела зарубежной литературы за счет включения новых имен, идей, концепций.
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ И КОЛЛОКВИУМЫ
Тема 1 Французский экзистенциализм (Коллоквиум)
Одно из характерных свойств литературы ХХ века – ее напряженный диалог с научной, гуманитарной мыслью эпохи, интенсивное восприятие различных социологических, психологических, культурологических и философских концепций. «Целые периоды художественной жизни в наше столетие, – писал по этому поводу А. Зверев, – проходят под знаком исключительно активного и заинтересованного овладения теориями или целыми философскими системами, оказывающими <…> самое непосредственное воздействие на искусство» [Зверев 1992: 32].
После Второй мировой войны статус влиятельной философской системы приобретает экзистенциализм как явление и философского, и литературного порядка. Сосредоточенный на «познании человеческого существования и познании мира через человеческое существование» [Бердяев 2004: 18], он оказался актуальным и максимально востребованным в контексте катастрофических событий эпохи[1]. Европейская литература, стремившаяся рассказать о потрясениях, каких история человечества еще не знала, была поставлена перед необходимостью заново осмысливать сложность и противоречивость такого феномена, как человек. Тем самым был дан толчок к сближению художественного мышления с философским экзистенциализмом.
Жан-Поль Сартр (Jean-Paul Sartre, 1905–1980), Альбер Камю (Albert Camus, 1913–1960), Симона де Бовуар (Simone de Beauvoir, 1908–1986) – эти имена представляют литературу французского экзистенциализма, которая оказала сильнейшее влияние на многих писателей 2-й половины ХХ века.
Экзистенциализм как одна из наиболее весомых составляющих литературного процесса Франции был ознаменован выходом в свет произведений Ж.-П. Сартра «Тошнота» (1938); «Мухи» (1943), А. Камю – «Посторонний» (1942); «Калигула» (1944), отличительной особенностью которых было воплощение философских идей в жанровой форме притчи, иносказания, в художественных образах. Таким образом, писатели-экзистенциалисты придавали философии статус искусства. Впрочем, Камю отказывался от приписываемого ему критиками звания философа, провозглашая себя моралистом. Однако он неоднократно утверждал, что сочинительство и есть настоящее занятие философа, а писательский вымысел – это «завершение философии, ее иллюстрация и венец».
Писатели-экзистенциалисты утверждали, что экзистенциализм – это не столько система понятий, сколько выражение определенного умонастроения, ощущения бытия в абсурдном, утратившем Бога мире, когда «все дозволено» (Ф. Достоевский). Они создавали свои произведения в эпоху, когда самым наглядным образом обнаружило себя отчуждение человека от подавляющего, враждебного государства, когда каждый для себя и наедине с собой должен был определять свою позицию и свое место, свое личное отношение к происходящему, к реальности [Денисова 1985: 23]. Сложившаяся «ситуация выбора» провоцировала вопрос о сопротивлении. Понятие «сопротивление» экзистенциалисты толковали весьма широко, сопрягая его с человеческой судьбой и свободой человека.
Главенствующей в произведениях Сартра и Камю становится проблема суверенности человеческого сознания, смысла, онтологического статуса и назначения личности, свободы индивида, его поступков, действий и ответственности за них. По убеждению экзистенциалистов, и философия, и литература должны помогать человеку, охваченному трагическим настроением, мироощущением, искать и находить свое Я, смысл своей жизни в «абсурдных», «пограничных» ситуациях.
В литературной жизни послевоенной Франции ярко проявилась тенденция к идейному единству и схожему пониманию задач искусства разными писателями. Наиболее заметным и обсуждаемым автором становится Сартр, который вместе с С. де Бовуар и М. Мерло-Понти начинает издавать журнал «Новые времена» («Les Temps modernes»). В послевоенные 40-е Сартр публикует несколько томов своих публицистических и литературно-критических очерков под названием «Ситуации», ряд пьес («Мертвые без погребения», 1946; «Почтительная потаскушка», 1946; «Грязные руки», 1948), а также трилогию «Дороги свободы» (1945–1949) и др.
В программной статье «За ангажированную литературу» (1945) Сартр выступил против писателей, не приемлющих социально значимого искусства – «ангажированную» литературу. Введенное Сартром в философский и общественный обиход понятие «ангажированность» (фр. engagement букв. "вовлеченность") обозначало социально-историческую ответственность любого человека, в том числе и художника, перед обществом и историей, принципиальную сопричастность проблемам своей эпохи. Человек, наделенный свободой, полагал Сартр, может «строить» себя посредством бесконечной последовательности актов нравственно-практического выбора. В силу этого он вовлекается «в поток истории, по отношению к которой в принципе не может занять позицию стороннего созерцателя, ибо даже сознательное невмешательство в события своего времени представляет собой, по мысли Сартра, также форму ангажированности» [Гречаная 1987: 313]. В полемическом запале Сартр писал: «Я считаю Флобера и Гонкуров ответственными за репрессии, которые последовали за Коммуной, потому что они не написали ни строки, чтобы помешать им».
Человек, по мысли Сартра, обречен быть свободным («он полностью и всегда свободен или его нет»); и если он абсолютно свободен, то он также абсолютно за все ответственен: «Первое воздействие экзистенциализма заключается в том, что каждого человека таким, каков он есть, эта философия отдает во владение самому себе и кладет всю ответственность за его существование на его собственные плечи. И когда мы говорим, что человек ответственен за себя, мы имеем в виду не только его ответственность за собственную индивидуальность, но и ответственность за всех людей <…> выбирая для себя, он выбирает для всего человечества» [Сартр 1989: 326].
Конец 1940-х был отмечен крушением послевоенных надежд, в литературе начала 1950-х распространяется ощущение внутреннего кризиса. Знаковым становится разрыв Сартра и Камю после выхода из-под пера последнего «Бунтующего человека» (1951).
Стержневые понятия экзистенциализма Камю – абсурд[2] и бунт. Идеалом «человеческого состояния», с точки зрения Камю, является человек «абсурдный» – отчаявшийся найти духовную опору в разуме, в Боге и начинающий осознавать, что источником всех ценностей и единственным судьей может быть только он сам, абсолютно свободный в выборе своей судьбы. Именно таким, равновеликим Богу, представлен французским философом «герой абсурда» Сизиф («Миф о Сизифе», 1942), обретший свободу в сознательном бунте: «Его судьба принадлежит ему самому. Обломок скалы – его собственная забота. Созерцая свои страдания, человек абсурда заставляет смолкнуть всех идолов. И тогда-то во вселенной, которая внезапно обрела свое безмолвие, становятся различимыми тысячи тонких чудесных земных голосов» [Камю 1997: 100].
История как таковая враждебна человеку: собой истинным он становится лишь тогда, когда «заставляет смолкнуть всех идолов», разрывает социальные связи. «История – земля бесплодная, – писал по этому поводу А. Камю, – вереск на ней не растет. А между тем современный человек избрал историю, он не мог, не имел права от нее отвернуться. Но вместо того, чтобы ее подчинить, он день ото дня безропотней становится ее рабом. Вот тут-то он и предает Прометея, юношу "с мыслью отважной и чуткого сердцем"» [Камю 1980: 189]. Лишь «Сизифов путь» позволяет человеку «возвыситься духом над своей судьбой» [Камю 1997: 100].
В «Бунтующем человеке» Камю звучит протест против бессмысленности бытия, против участи «человека толпы». Бунт, считает мыслитель, рождается вследствие осознания человеком абсурда несправедливой, непостижимой человеческой судьбы. Примечательно, что Камю перефразировал знаменитый афоризм Декарта Сogito («я мыслю») в «я бунтую, следовательно, мы существуем». (В 60-е годы бунтующая западноевропейская и американская молодежь, находившаяся под влиянием левых идей и философии экзистенциализма, использовала этот афоризм в качестве лозунга). Согласно концепции Камю, бунт – это радикальная форма преобразования мира, преодоления сложившихся обстоятельств. Эстетика бунта произрастает из эстетики абсурда, развивает и обогащает ее, она в своей сущности есть шаг от умодействований к непосредственному действию вовне. Метафизический бунт, утверждает философ в «Бунтующем человеке», – это восстание человека против своего собственного удела, против самого миропорядка, это вызов несправедливости и, следовательно, вызов абсурду.
Мир экзистенциалистски ориентированной личности – это свобода, на которую человек обречен, а право на свободу выбора – судьба человека, его ответственность и его трагедия. Сторонники экзистенциализма утверждали, что человек, находясь в «пограничной» ситуации, ощущая дыхание смерти, должен найти опору в самом себе, в своей экзистенции, и только при этом условии его приятие идеи сопротивления будет осознанным и упроченным и он сможет бороться за свободу, за свое сокровенное Я (свою экзистенцию). Путь экзистенциальной личности – это путь от экзистенции (человеческого существования) к миру, к той реальности, которую он воспринимает, оценивает и «выстраивает» вокруг себя. Человеку не дано знать, откуда он пришел и куда уйдет, но он вполне может решить для себя, в чем состоит его предназначение, человеческий долг. Испытывая страдания, осознавая неминуемую беду, он тем не менее должен продолжать сопротивляться.
В 1960 г. Сартр создает пьесу «крайних ситуаций» – «Затворники Альтоны», в которой, в частности, выражает свой протест против французской колониальной политики в Алжире, сравнивая ее с нацистскими преступлениями. Место действия пьесы Германия 1959 г., дом («крепость») семьи крупного немецкого промышленника Герлаха – деспота и настоящего «пруссака», не терпящего никакого проявления свободы, никакого прекословия со стороны детей или родственников. Для старика Герлаха главнейшей ценностью в жизни является собственность, и его родные – это всего лишь ее часть. «Семья Герлахов – не просто клеточка общества, но клетка, в которой живут добровольные затворники, хранители семейных традиций и семейных (это главное) денег. Привычка стала долгом, обязанностью – можно сказать, воинской обязанностью. И идеологией хозяев жизни, "сильных", которые считают своим призванием властвовать, подчинять» [Андреев 2004: 325]. В таком контексте философский пафос пьесы вовсе не сводится, как справедливо указывает Л. Андреев, «ни к Германии, ни к Алжиру. Германия и Алжир – подтверждение глобального вывода Сартра: "Факт, что мы живем в эпоху насилия и крови, в известном смысле мы вобрали в себя это насилие и эту несправедливость". <…>
«Что ты сделал со своей жизнью?» – вот, по Сартру, главный вопрос, поставленный пьесой и адресованный каждому человеку» [Андреев 2004: 321].
Таким образом, опыт военных лет послужил для Сартра, С. де Бовуар, А. Камю и других экзистенциалистов трагическим поводом для выявления самого смысла человеческого существования, сути процессов нравственного выбора, отношения к смерти, вере, для постановки и заострения тех вопросов, которые экзистенциалистско-персоналистская философия с самого начала ставила в центр философствования.
В 1950-е годы Сартр сотрудничал с Французской коммунистической партией и придерживался просоветских взглядов вплоть до советского вторжения в Венгрию в 1956 г. Он решительно осудил как это вторжение, так и оккупацию Чехословакии в 1968 г. Сартр выступал против американской агрессии во Вьетнаме, стал председателем организованной Б. Расселом антивоенной комиссии, обвинившей США в военных преступлениях. Он приветствовал китайскую и кубинскую революции, всегда был активным защитником интересов стран «третьего мира». В начале 1970-х годов последовательный радикализм Сартра проявился в том, что он стал редактором запрещенной во Франции маоистской газеты, а также принял участие в нескольких маоистских уличных демонстрациях. К числу поздних работ Сартра относятся «Слова» (1964), антисталинское сочинение «Призрак Сталина» (1965), первый том его автобиографии; три тома монографии о Флобере – «Гадкий утенок. Гюстав Флобер с 1821 по 1857 г.» (1971–1972 гг.) и др. До конца своих дней Сартр оставался оптимистом, «несмотря (как он сам говорил) на миллионы погибших в мировую войну, несмотря на гитлеровские лагеря, на атомную бомбу, на Гулаг» [Андреев 2004: 413]. В 1964 г. Сартр отказался от присужденной ему Нобелевской премии по литературе за идейно богатое, пронизанное духом свободы творчество, которое оказало огромное влияние на современников, заявив, что не хотел бы ставить под сомнение свою независимость. И в этом поступке был весь Сартр, который главнейшим смыслом деятельности всегда считал борьбу за свободу.
ПЛАН КОЛЛОКВИУМА
1. Антифашистская позиция писателей-экзистенциалистов.
2. Философские идеи Ж.-П. Сартра («Экзистенциализм – это гуманизм?»), его полемика с А. Камю («Ответ Альберу Камю», 1952).
3. Сущность «ангажированного экзистенциализма» Ж.-П. Сартра.
4. Проблематика и художественные особенности трилогии Сартра «Дороги свободы».
5. Творческая эволюция А. Камю – от повести «Посторонний» к роману «Чума» (тема «абсурда» и тема «бунта»).
6. Гуманизм антифашистской драмы Ж. Ануя «Антигона» и экзистенциальное влияние в ней.
7. Творческая рефлексия идей экзистенциализма в произведениях Б. Виана (1920–1959).
• Отражение идеи трагичной свободы, «заброшенности» человека в мире посредством фантастических и гротескных образов в романе «Пена дней» Б. Виана.
• Роль пародии в романе.
• Принцип «мерцающей эстетики» (В. Ерофеев) в творчестве Виана.
• Образ Жан-Соль Партра в романе.
8. Влияние французского экзистенциализма на европейскую литературу 1950—1960-х годов.
Вопросы для обсуждения. Задания
1. Как вы понимаете утверждение Сартра, что человек может существовать только преследуя трансцендентные цели, проектируя себя вовне?
2. Как интерпретируется в философии экзистенциализма известная фраза Достоевского о том, что «если Бога нет, то все дозволено»?
3. Какие смыслы в понятии «гуманизм» для Сартра актуальны, а какие неприемлемы?
4. Сартр определяет свою концепцию экзистенциализма как атеистическую. Значит ли это, что она направлена на доказательство того, что Бог не существует?
5. Прочитайте фрагмент из очерка французского философа Эмманюэля Мунье «Экзистенциалистские и христианские перспективы» (1949), посвященного философии экзистенциализма Сартра. В чем видит Мунье непреходящее значение французского экзистенциализма и в чем усматривает его двусмысленный характер?
>…несомненно одно: несмотря на усилия Мерло-Понти объединить идею о конечности истории и повседневную мораль существования и на попытки Сартра исследовать самые жгучие конфликтные ситуации, экзистенциалистские построения, где отсутствуют достаточно прочные онтологические обоснования, грешат всякого рода недомолвками: в них явно прочитывается обольщение крайним индивидуализмом, против которого не выдвигается никаких весомых доводов, кроме того, что в основе его лежит реальное осознание чувства вины. Мир Сартра, лишенный онтологической устойчивости, может привести экзистенциалистского человека как к горестной самоизоляции, так и к своего рода ослеплению деятельностью, которая лишается внутреннего пафоса и сущностных ориентиров, деятельностью, в которой не проводится четкого водораздела между тем, что человечно, а что бесчеловечно. «Экзистенциализм – это гуманизм». Разумеется, так оно и есть. Но для этого гуманизма явно не существует человеческой природы, заранее задающей пределы, в которых человек только и может быть человеком. Речь идет о том, чтобы диалектически преодолеть статичную концепцию человеческой природы, непригодную с точки зрения метафизической, а в практическом отношении страдающую от недостатка воображения и служащую консервативным силам, для которых слово «природа» заведомо связано с привычным, рутинным.
Современное мышление возродило вкус к авантюре – к необычному и непредвиденному, что лежит в основании самой человеческой истории; христианская рефлексия приходит к этому вопреки логическим и юридическим препонам, опираясь на патристику во всей ее изначальной свежести. Отказывая существованию в движении к универсальному, отвергая его собственную структуру, как бы сложна и изменчива она ни была, мы рискуем лишить существование той одержимости, которая только и делает его существованием. Правда, в ответ на это будут говорить о подлинности и неистовом активисте, который, несмотря на признание за другим права на свободу, лишается подлинного существования, если обращается к насилию, если опускается до садизма, вызываемого желанием сокрушать, когда человек уже не в силах совладать с собой. Пусть будет так. Но как иначе обозначить подлинность, не обращаясь к вопросу о коммуникации, о некой общности, в той или иной мере свойственной свободным существованиям? И разве одна свобода, уважающая другую свободу, не свидетельствует в пользу сущностной связи, которую не может содержать в себе свобода изолированная, возникшая на пустом месте?
Экзистенциализм оказывается здесь в сложном положении. Подвергнув сомнению старые – застывшие и весьма опасные – представления о вечном и пробудив вкус к полной риска духовной жизни и отношениям братства, он, изгнав из философии проблему сущностей, пришел к выводу о том, что Истина – это Путь и Жизнь; диалектика обращения, свойственная христианской жизни, идет по тому же пути. Но именно здесь обнаруживается непреходящее значение экзистенциалистской философии, ведущей к признанию того, что в коловращении существования необходимо присутствуют ценности и оно столь же необходимо опосредуется в своем самосозидании явлениями рационального и социального порядка, а также тем, что идет от воображения; можно, конечно, утверждать, что мысль Сартра делает лишь первые шаги в этом направлении или что он признает ценность только за окончательно сложившимся существованием и вольно или невольно распахивает дверь перед тем, что можно назвать упоением напряженностью бытия, или упоением могуществом; предоставленная сама себе, его свобода принципиально не способна определить, где проходит граница между человечностью и бесчеловечностью. Начиная с произведений Эрнста фон Саломона и Андре Мальро, эту тему стали активно использовать в анализе лишившегося надежды существования, решительно противостоящего самым жестким детерминизмам. Таково двусмысленное положение, в котором пребывает сегодня экзистенциализм, и от его выбора зависит, удастся ли ему противостоять угрожающему современности злу.
Некоторые вещи дают основание полагать, что Сартр, опираясь на собственную интуицию, сумеет оттолкнуть от себя беса. Что же касается его последователей, то мы видим, как между ними назревает раскол.
(Пер. И. С. Вдовиной)
Мунье Э. Надежда отчаявшихся.
М.: Искусство, 1995. С. 164–166.
6. Познакомьтесь с эссе Сартра «Что такое литература?» (1947), фрагменты из которого помещены ниже, и подготовьте ответы на следующие вопросы:
1) Какое содержание вкладывает Сартр в понятие «ангажированная литература»? В чем он видит ответственность писателя перед обществом, временем?
2) В чем, с точки зрения Сартра, проявляется ложный характер таких, например, высказываний литераторов: «Единственная задача – найти свой стиль, идея придет позднее» (Жироду)?
Из эссе Ж.-П. Сартра «Что такое литература?»
> «Если вы так жаждете ангажироваться, – пишет один молодой глупец, – то почему вы не в рядах компартии?» <…> Старый критик тихонько жалуется: «Вы же убиваете литературу: в вашем журнале беспардонно воцарился дух презрения к Изящной Словесности». <…> Воинственные же умы вопрошают: «О чем речь? Об ангажированной литературе? Так это все тот же социалистический реализм, а может быть, и обновленный популизм в его наиболее агрессивной форме».
Сколько чуши! И все из-за того, что читаем мы наскоро, плохо, да и судим прежде, чем поймем.
* * *
Функция писателя заключается в том, чтобы в результате его действия никто не мог сослаться на незнание мира, отговориться собственной невинностью перед ним. <…> Если писатель предпочитает умолчать о каком-либо аспекте жизни…мы вправе задать ему… вопрос: «Почему ты говорил о том, а не об этом и (поскольку ты говоришь, чтобы изменить) почему ты не хочешь изменить именно то, а не это?»
* * *
Писателем являешься не потому, что решил рассказать нечто, но потому, что решил рассказать это нечто особым образом. Стиль, само собой разумеется, – достоинство прозы. Но он должен оставаться незамеченным.
* * *
В прозе эстетическое удовольствие в чистом виде возможно лишь тогда, когда оно дополняет все остальное. Поневоле краснеешь, напоминая столь простые истины, но, кажется, сегодня их основательно позабыли.
* * *
Верно, что всякая тема предполагает определенный стиль, но она его не предопределяет полностью; нет и таких тем, которые априорно были бы заказаны литературе. <…> Короче говоря, прежде всего нужно знать, о чем собираешься писать. А когда этот вопрос ясен, остается решить, каким образом об этом написать. Зачастую оба эти выбора составляют единое целое, но никогда, у хорошего писателя, второй не предшествует первому.
* * *
…поскольку для нас писать – значит действовать, поскольку писатели живут во время своей жизни, а не после смерти, мы считаем, что писатель должен полностью ангажироваться в своих произведениях, воплощая в них не свою жалкую пассивность, когда выставляют напоказ пороки, несчастья и слабости, но твердую волю, выбор и то тотальное предприятие, которое называется жизнью и которое совершает каждый из нас, – именно поэтому необходимо заново обратиться к нашей проблеме и, в свою очередь, задаться вопросом: с какой целью мы пишем?
(Пер. А. К. Авеличева) Зарубежная эстетика и и теория литературы XIX–XX вв.: Трактаты, статьи, эссе. М.: Изд-во Московского университета, 1987. С. 313–331.
7. Прочитайте статью Сергея Фокина «Экзистенциализм – это коллаборационизм?» (см. список литературы). Чем вызвана инвектива американского исследователя, специалиста по французской литературе Д. Олье в адрес Сартра: «Я считаю, что Сартр несет ответ за репрессии, которые последовали за законами Виши 1940 г., поскольку он не написал ни строчки, чтобы воспротивиться этим законам или их применению», которую цитирует в своей статье С. Фокин, размышляя о «биографии мысли» Сартра?
8. Почему театр Сартра называют «театром обсуждения»?
9. Прочитайте статью Сартра «Республика молчания» и его пьесу «Мухи». Согласны ли вы с утверждением, что эта пьеса «столь же иносказание о Франции под сапогом захватчика, сколько и миф об одной из граней человеческого удела» (С. И. Великовский), обоснуйте свое мнение.
1) В чем проявляется экзистенциалистская трактовка образов Ореста, Юпитера, Клитемнестры?
2) Каким образом отражается в пьесе патриотическая, гражданственная позиция Сартра?
3) Какой философский смысл заключает в себе спор богоборца Ореста с Юпитером?
10. Определите, какие философские идеи Сартра нашли художественное воплощение в содержании его пьес «Мёртвые без погребения», «Затворники Альтоны»?
11. Прочитайте помещенные ниже высказывания А. Камю и подготовьте ответы на следующие вопросы:
1) Какие идеи Ф. М. Достоевского развивает писатель-философ?
2) С какими возражениями против философских идей Сартра (50-е годы), оправдывающих тоталитаризм посредством обоснования тотального характера истории, развития гегелевской идеи «феноменологии духа», выступил А. Камю?
3) Какие общественно-политические события конца 1940—1950-х годов обусловили появление «Бунтующего человека» (1951) А. Камю?
Из философского памфлета А. Камю «Бунтующий человек»
>…Бунт, оторванный от своих истинных корней, подчинившийся истории и потому предавший человека, стремится теперь поработить весь мир. Тогда начинается предсказанная в «Бесах» эпоха шигалевщины, восхваляемая нигилистом Верховенским, защитником права на бесчестие. Этот злосчастный и беспощадный ум избрал своим девизом волю к власти, ибо только она дает возможность руководить историческим процессом, не ища оправдания ни в чем, кроме самой себя. Свои идеи он позаимствовал у «филантропа» Шигалева, для которого любовь к людям служит оправданием их порабощения.
* * *
Но как избежать мучений для людей, если из них решено сделать богов? Подобно тому как Кириллов, убивающий себя в надежде стать богом, соглашается, чтобы его самоубийство было использовано для «заговора» Верховенского, так и обожествивший себя человек выходит за пределы, в которых держал его бунт, и неудержимо устремляется по грязному пути террора, с которого история так и не свернула.
Из выступления А. Камю 10 декабря 1957 г.
>…роль писателя неотделима от тяжких человеческих обязанностей. Он, по определению, не может сегодня быть слугою тех, кто делает историю, – напротив, он на службе у тех, кто ее претерпевает. В противном случае ему грозят одиночество и отлучение от искусства. И всем армиям тирании с их миллионами воинов не под силу будет вырвать его из ада одиночества, даже если – особенно если – он согласится идти с ними в ногу. Но зато одного лишь молчания никому не известного узника, обреченного на унижения и пытки где-нибудь на другом конце света, достаточно, чтобы избавить писателя от муки обособленности, – по крайней мере, каждый раз, как ему удастся среди привилегий, дарованных свободой, вспомнить об этом молчании и сделать его средствами своего искусства всеобщим достоянием.
(Пер. А. М. Руткевич)
Камю А. Бунтующий человек. Философия.
Политика. Искусство. М.: Политиздат, 1990.
С. 253–254; 259.
12. Прочитайте пьесу Ж. Ануя «Антигона» и подготовьте сообщение на тему «Аллегорический характер пьесы Ж. Ануя "Антигона". Конфликт Антигоны и Креона».
13. Подготовьте сообщение на тему «Экзистенциальные мотивы в творчестве Бориса Виана».
Рекомендуемая литература
Тексты
Ануй Ж. Антигона / Пер. В. Дмитриева. М.: Гудьял-пресс, 1999; а также: [Электронный ресурс]: www.lib-drama.narod.ru/anui/antigona.html – 96k.
Виан Б. Пена дней: Роман. Новеллы / Сост. и предисл. Г. К. Косикова. М.: Художественная литература, 1983.
Камю А. Бунтующий человек. Философия. Политика. Искусство / Пер. А. М. Руткевич. М.: Политиздат, 1990.
Камю А. Избранное. М.: Правда, 1990.
Сартр Ж.-П. Слова. М.: Прогресс, 1966.
Сартр Ж.-П. Пьесы. М.: Искусство, 1967.
Сартр Ж.-П. Избранные произведения. М.: Республика, 1994.
Сартр Ж.-П. Экзистенциализм – это гуманизм? // Сумерки богов. М.: Политиздат, 1989. С. 319–344.
Сартр Ж.-П. Что такое литература? // Зарубежная эстетика и теория литературы XIX–XX вв.: Трактаты, статьи, эссе. М.: Изд-во Московского университета, 1987. С. 313–331.
Сартр Ж.-П. Книги. Статьи. Рефераты: библиографический указатель// [Электронный ресурс] / Режим доступа: .
Критические работы
Андреев Л. Г. Французская литература // История зарубежной литературы (1945–1980) / Под ред. Л. Г. Андреева. М.: Высшая школа, 1989. С. 35.
Андреев Л. Г. Жан-Поль Сартр. Свободное сознание и ХХ век. М.: Гелеос, 2004.
Великовский С. И. В поисках утраченного смысла. М.: Художественная литература, 1979.
Великовский С. И. Грани «несчастного сознания»: Театр, проза, философская эссеистика, эстетика Альбера Камю. М.: Искусство, 1973.
Великовский С. И. Сартр – литературный критик // Умозрение и словесность: Очерки французской культуры. М.; СПб.: Университетская книга, 1998. С. 241–246.
Ерофеев В. Проза Сартра // [Электронный ресурс]: Журнал самиздат. Victor Vladimirovich Erofeev: Free for Everyone / Режим доступа: .
Ерофеев В. Мысли о Камю // [Электронный ресурс]: Журнал самиздат. Victor Vladimirovich Erofeev: Free for Everyone / Режим доступа: .
Ерофеев В. Борис Виан и «мерцающая эстетика» // [Электронный ресурс]: Журнал самиздат. Victor Vladimirovich Erofeev: Free for Everyone / Режим доступа: .
Зенкин С. Человек в осаде. О писательском творчестве Жан-Поля Сартра // [Электронный ресурс]: Лауреаты Нобелевской премии в области литературы. Режим доступа: :/noblit.ru/index2.php?option=com_content&task=view&id=202&pop=1&page=0&Itemid=33.
Косиков Г. К. О прозе Бориса Виана // Б. Виан. Пена дней: Роман. Новеллы / Сост. и предисл. Г.К. Косикова. М.: Художественная литература, 1983.
Мунье Э. Надежда отчаявшихся / Пер. и примеч. И. С. Вдовиной. М.: Искусство, 1995.
Фокин С. Экзистенциализм – это коллаборационизм? Несколько штрихов к портрету Жан-Поля в оккупации // Новое литературное обозрение. 1995. № 55 // [Электронный ресурс]: Русский журнал / Режим доступа: .
Фокин С. Альбер Камю. Роман. Философия. Жизнь. СПб.: Алетейя, 1999.
Дополнительная литература
Коплстон Ф. История философии. ХХ век. М.: Центрполиграф, 2002. С. 148–204.
Коссак Е. Экзистенциализм в философии и литературе. М.: Политиздат, 1980.
Косиков Г. К. Жан-Поль Сартр: искусство как способ экзистенциальной коммуникации // Вестник МГУ. Серия 9: Филология. 1995. № 3.
Косиков Г. К. Статьи об авторах (Г. Шевалье, А. Вюрмсер, Ж. Коньо, П. Буль, А. Камю, Р. Кайуа, Ж.-Э. Клансье, Р. Гренье, Б. Виан, Д. Буланже, А. Роб-Грийе, М. Бютор, Ф. Нурисье) // Французская новелла XX века. 1940–1970. М.: Художественная литература, 1976. Руднев В. П. Словарь культуры ХХ века. Ключевые понятия и тексты. М.: Аграф, 1997.
Сартр Ж.-П. Бытие и ничто. Опыт феноменологической онтологии. М., 2000.
Фокин С. Л. Камю и Сартр // Вестник Ленинградского университета. Серия 2. История, языкозн., литерат. 1991. Вып. 4.
Тема 2 «А что такое, в сущности, чума?»: роман-хроника «Чума» (1947) Альбера Камю (Практическое занятие)
ПЛАН ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ
1. Нравственно-философский кодекс А. Камю.
2. Жанровое своеобразие романа «Чума». Жанр романа-хроники и притчевое начало в произведении.
3. История «оранской чумы» как страница истории человечества. Смысл названия и эпиграфа произведения.
4. Экзистенциалистская проблематика романа.
5. Категории смерти и абсурда в философии экзистенциализма и их художественное преломление в романе Камю.
6. Категория времени и пространства в романе.
7. Образ автора и герои-идеологи в романе.
8. Образы-персонажи романа в аспекте экзистенциальных вопросов о свободе человека, о смысле человеческого существования, о путях преодоления трагедии человека и человечества.
9. Вопрос веры и неверия в романе. Идея активного фатализма.
10. Полемика между священником-иезуитом Панлю и доктором Риё как отражение в романе ключевых вопросов экзистенциальной философии.
11. Философское звучание сцены смерти невинного ребенка в романе. Камю и Достоевский.
12. Утверждение в романе веры в духовные силы человека.
13. Афористические высказывания как компоненты речевой структуры романа.
Вопросы для обсуждения. Задания
1. Раскройте смысл названия и охарактеризуйте жанровое своеобразие романа А. Камю «Чума». Почему в более поздних изданиях своей книги Камю счел необходимым заменить жанровое определение роман на роман-хроника? Что позволяет исследователям определять жанр «Чумы» как роман-притчу?
2. Какие смыслы выражает эпиграф в романе?
3. В своем дневнике Камю пишет о желании превращения непосредственно замеченного вокруг в «мифическое»: «До сих пор я не был романистом в обычном понимании этого слова. Скорее всего, художником, который создаёт мифы соответственно своим страстям и своим тревогам. Вот почему существа, вызывающие моё преклонение и в самой жизни, – это всегда те, кто наделён силой и исключительностью, что само по себе присуще существам мифическим». Какие особенности романа проявляют его мифотворческую природу?
4. Раскройте содержание слова-концепта «чума» в романе. Какие смыслы данного концепта заключены в следующих словах героя романа Тарру: «Чума – не только болезнь, не только война, это также смертные судебные приговоры, расстрел побеждённых, фанатизм церкви и фанатизм политических сект, гибель безвинного ребёнка в больнице, общество, обустроенное ужасно плохо, как и попытки, вопреки сопротивлению властей, обустроить его заново. Она обычна, естественна, как дыхание, потому что "сегодня мы все немного зачумлены". Микробы её гнездятся везде, подстерегают наш каждый неосторожный шаг. Вообще, в мире существует только "несчастье и его жертвы – больше ничего"»? Что значит, согласно мысли Камю, быть «немного зачумлёнными»?
5. Докажите, что роман «Чума» – это «прежде всего книга о сопротивляющихся, а не о сдавшихся, книга о смысле существования, отыскиваемом посреди бессмыслицы сущего» (С. И. Великовский).
6. «И всякий раз абсурдность вытекает из сравнения. Следовательно, я вправе сказать, что чувство рождается не из простого рассмотрения единичного факта и не из отдельного впечатления, а высекается при сравнении наличного положения вещей с определенного рода действительностью, действия – с превосходящим его миром. По сути своей абсурд – разлад. Он не сводится ни к одному из элементов сравнения. Он возникает из их столкновения» (А. Камю). Какие компоненты художественной структуры романа актуализируют содержание ключевой категории философии экзистенциализма – абсурда?
7. Кого из героев романа можно характеризовать как alter ego автора, а кого – как его идейных противников?
8. Раскройте философскую подоплеку следующего рассуждения из романа: «Зло, существующее в мире, почти всегда результат невежества, и любая добрая воля может причинить столько же ущерба, что и злая, если только эта добрая воля недостаточно просвещена. Люди – они скорее хорошие, чем плохие, и, в сущности, не в этом дело. Но они в той или иной степени пребывают в неведении, и это-то зовется добродетелью или пороком, причем самым страшным пороком является неведение, считающее, что ему все ведомо, и разрешающее себе посему убивать. Душа убийцы слепа, и не существует ни подлинной доброты, ни самой прекрасной любви без абсолютной ясности видения».
9. Как каждый из персонажей романа переживает экзистенциальную «пограничную ситуацию»? Справедливо ли утверждать, что история каждого персонажа романа (Рамблера, Тарру, Риё, Панлю, Гран, Кастель) – это своего рода один из возможных вариантов преодоления ситуации абсурда и обоснования писателем смысла существования личности в бессмысленном и жестоком мире?
10. Охарактеризуйте идейно-смысловую роль в концепции произведения образа священника – отца Панлю. Какое событие стало для Панлю «пограничной ситуацией»?
11. Раскройте смысл финальных сцен романа. Дайте интерпретацию следующему фрагменту из романа: «Ибо он знал то, чего не ведала эта ликующая толпа и о чем можно прочесть в книжках, – что микроб чумы никогда не умирает, никогда не исчезает, что он может десятилетиями спать где-нибудь в закутках мебели или в стопке белья, что он терпеливо ждёт своего часа в спальне, в подвале, в чемодане, в носовых платках и в бумагах и что, возможно, придет на горе и поучение людям такой день, когда чума пробудит крыс и пошлет их околевать на улицы счастливого города». Можно ли утверждать, что в данном отрывке авторская позиция полностью совпадает с позицией его героя – доктора Риё?
12. Приведите несколько примеров из романа, которые могли бы послужить доказательством того, что афористические высказывания, философемы являются важнейшими компонентами его речевой структуры.
13. В чем проявляется идейная перекличка романа Камю и романа «Братья Карамазовы» Ф. М. Достоевского?
14. Прочитайте фрагмент из книги французского философа Эмманюэля Мунье «Надежда отчаявшихся» (1953), в которой анализируются философские взгляды Мальро, Камю, Бернаноса, Сартра, философия экзистенциализма с христианской точки зрения.
> Итак, абсурд является нашим уделом, свидетельствуя о неизбежном расхождении между жаждущим единства сознанием и лишенным сознательного начала миром, который не оправдывает наших надежд. Если это так, то зачем огорчаться по поводу того, что этот удел стал фактом нашего сознания? Зачем разум, похоронивший столько систем и религий, продолжает из поколения в поколение с неистовой энергией, которая свойственна одной лишь молодости, тешить себя надеждой? Зачем эта тяга к единству и согласию, которая оказывается сильнее всяческих кризисов и которую не унять никакими силами, пока она не добьется удовлетворения?
В «Чуме» ответ на этот вопрос звучит так: «Микроб – это дело природы. Все же другое: здоровье, неподкупность, чистота помыслов, если хотите, – это результат воли, которая в своем движении не знает остановок. Честный человек – это тот, кто никого не заражает, кто не позволяет себе ни на миг расслабиться. А для этого требуется столько воли и напряжения!» В другом месте Камю определяет абсурд как «грех в отсутствии Бога». Стоило ли так иронизировать по поводу всевозможных религий и иррациональных сил, чтобы ввести (и какой ценой!) в мир, лишенный какого бы то ни было значения, это смутное понятие о природе, противостоящей природе, о бытии, для которого его собственное бытие является неизлечимой болезнью? <…> Берегитесь иррационального – оно вновь набирает силу! Что касается жизни, мы готовы говорить здесь о поражении абсурдистского позитивизма и о возращении его основных антиподов, имеющих с ним одну и ту же цель, то есть абстрактных сил, охваченных бредом неискоренимого отчаяния. Воля начинается с желания господствовать – как над жизнью, так и над разумом. Камю отходит здесь от раннего Мальро и его героев, для которых признание абсурда было очевидной сдачей позиций перед пьянящей и неистовствующей жизнью; отойдя от Мальро, он оказывается ближе к Жиду и Сартру. Для них (подробно останавливаться на этом сейчас было бы некстати) признать безрассудство мира означало прежде всего устранить некоторые ограничения (что не помешает им позже признать другие ограничения), расширить человеческую свободу, которой надлежит действовать в условиях, когда заблокированы все возможности и когда господствует имморализм. Полное подчинение бесформенной Вселенной. Для Камю отныне на пороге мира, который говорит «нет», стоит мир абсурда: человек абсурда – это человек, говорящий сначала «нет», и только потом – «да», когда шаг за шагом он постигает то, с чем соглашается! Абсурдный человек – человек не свободный, находящийся в осаде. Он не в состоянии прорвать эту осаду. У него нет будущего. Оран, замурованный в крепостных стенах, лицом к лицу со смертельной опасностью, отбивающий нападки своих сограждан, безнадежно отрезанных от мира и друг друга, пишущих письма, на которые никто никогда не получит ответа, «ведущих беседы со стенами», – таков удел человеческий. Оран – это не только город и его жители; это и молчаливые старики у гроба матери Мерсо, похожие на бессловесных и безликих судей; это и ритуал правосудия, и свидетели, которые вопреки своим намерениям буквально предадут его; это и безумие Калигулы, которое овладевает им до такой степени, что он гибнет; таков удел пленника – жить вне общества и без будущего. И каковы бы ни были обстоятельства, какие усилия мы бы ни прилагали, чтобы вырваться из них, все равно «выхода нет». Неизбежная судьба перемалывает нас своими безотказно действующими жерновами! Как у Кафки, судьба – это бесконечно длящаяся судебная тяжба, которую затеял против нас мир: люди больны чумой, больны потому, что они все – люди, и за это они не несут личной ответственности; все они – осужденные, которых ждет либо смертный приговор, либо оправдание?! Осужденный, посторонний («Я чужд самому себе и этому миру») – все, как у Кафки в его «Замке» или «Процессе», только теперь мир еще более враждебен и неумолим. У Кафки человек тоже находится в заточении, но его плен – это плен бесконечности. Судебный трибунал в «Процессе», хозяин в «Замке», Китайская стена – все подавляет своим могуществом, но стоит сдаться на милость победителям, как тут же возникают надежда, свобода, вера, наконец, как бы непрочны они ни были. У Камю каждый из нас окружен стеной. Путешественник из «Недоразумения» не осознает той силы, которая движет им и приводит к трагической развязке. Речь идет не о какой-то далекой метафизической силе: власть эта исходит от самых близких существ, от тех, чье кровное родство, общие воспоминания и инстинкты должны были бы остановить преступный замысел. Более того, когда эти тайные силы за миг до свершения преступления вынуждают мать и сестру Путешественника заколебаться, зовут удержаться от злодеяния, то от самой судьбы, как если бы она родилась в их сердцах, исходят слова, которые звучат как смертный приговор: «Как раз сейчас и восторжествовал порядок. – Какой порядок? – Тот, в котором никогда ни до кого нет дела». Точно так же Мерсо во время судебного разбирательства слышит голоса судей, свидетелей, присяжных заседателей как бы во сне: все говорят о нем такие странные вещи, что ему кажется, будто судят кого-то другого. В этом мире одиночества каждый чувствует, как расточается его существование. Мерсо был как в тумане: он находил справедливыми и доводы прокурора, и доводы адвоката, но все это не имело для него никакого значения; ему больше досаждала жара, на него накатывалась скука, и в конечном итоге он засомневался в причинах, которые привели его к преступлению, и в чувствах, которые он испытывал, совершая его. Совсем не так, как у Ницше. Все эти персонажи, как кажется, оглушены и сражены необходимостью, идущей от мира, а вовсе не наслаждаются свободой, полученной благодаря ниспровержению морали, религии и представлений о мироздании. Смерть Бога возвестила не весну человечества, а наступление эры мрачного, трагического одиночества. Не только разуму, но и самой жизни не нашлось места в романтических откровениях. Охваченная этими горькими ощущениями плоть взывает о помощи.
(Пер. И. С. Вдовиной)
Мунье Э. Надежда отчаявшихся // Сумерки богов. М.: Политиздат, 1989. С. 80–84.
ТЕМЫ ДЛЯ РЕФЕРАТОВ И ДОКЛАДОВ
1. Творческая история романа А. Камю «Чума».
2. Библейские мотивы в романе.
3. Философия гуманизма в творчестве Ф. М. Достоевского и А. Камю.
Рекомендуемая литература
Тексты
Камю А. Избранное: сборник / Сост. и предисл. С. Великовского. М.: Радуга, 1989.
Камю А. Чума. М.: Азбука-классика, 2004.
Камю А. Творчество и свобода: сборник / Сост. и предисл. К. Долгова. М.: Радуга, 1990.
Критические работы
Великовский С. И. В поисках утраченного смысла. М.: Художественная литература, 1979.
Великовский С. И. Грани «несчастного сознания»: Театр, проза, философская эссеистика, эстетика Альбера Камю. М.: Искусство, 1973.
Долгов К. М. От Киркегора до Камю. Философия. Эстетика. Культура. М.: Искусство, 1990.
Ерофеев В. Мысли о Камю // [Электронный ресурс]: Журнал самиздат. Victor Vladimirovich Erofeev: Free for Everyone / Режим доступа: .
Мунье Э. Надежда отчаявшихся / Пер. и примеч. И. С. Вдовиной. М.: Искусство, 1995.
Фокин С. Альбер Камю. Роман. Философия. Жизнь. СПб.: Алетейя, 1999.
Дополнительная литература
Викторович В. А. Понятие мотива в литературоведческих исследованиях. – Горький, 1975. Ерофеев В. В. В лабиринте проклятых вопросов: Эссе. М.: Союз фотохудожников России, 1996. Карякин Ю. Ф. Достоевский и канун XXI века. М.: Советский писатель, 1989.
Тема 3 Новеллистика Тадеуша Боровского и Зофьи Налковской (Практическое занятие)
Поэтика, способная выразить фундаментальные и глубинные смыслы бытия, в том числе «сверх-смыслы» (К. Ясперс) экзистенциального (собственно человеческого) существования в мире, является поэтикой онтологической. Если рассматривать польскую литературу первых послевоенных лет в этом аспекте, то обнаружится, что в данный период почти одновременно появляются художественные тексты, относящиеся к единому онтологическому смысловому пространству. Написанные разными авторами, они тем не менее в равной мере сосредоточены на проблемах экзистенциального сознания, которое «рассматривает человека, существующего на уровне его первичных реакций, определяющего свои онтологические, психические, метафизические пределы» [Заманская 2002: 32].
Представляется, что в польской литературе наиболее полно экзистенциальное мировидение приобрело очертания новой концепции человека и мира, оформилось в завершенную эстетическую систему в творчестве Т. Боровского (Tadeusz Borowski, 1922–1951) и Т. Ружевича (Tadeusz Różewicz – р. 1921), принадлежащих к поколению, которое в Польше именуют поколением «уцелевших», «зараженных смертью», «искалеченных». Во второй половине 1940-х годов экзистенциальные параметры становятся определяющими и для художественного мышления З. Налковской (Zofia Nałkowska, 1884–1954). Уже зрелый, сложившийся художник, признанный мастер психологической прозы, в своей первой послевоенной книге – сборнике «Медальоны» (1946) – она решительно отказывается от традиционных моделей и средств художественного выражения.
Публикация произведений Налковской, Боровского, Ружевича началась в период, когда «книжного» экзистенциализма в Польше еще не существовало. Импульсом к постановке проблем, носивших ярко выраженный экзистенциальный характер, созвучный мироощущению К. Ясперса, Г. Марселя, Ж.-П. Сартра, А. Камю, послужили для писателей не книжные источники, а опыт Второй мировой войны. Пережитая трагедия отражалась ими с позиции экзистенциального сознания; антивоенный пафос перерастал в пафос экзистенциальный, акцент ставился на конкретной личности человека, на свободе его выбора в мире, в котором Бог «отсутствует», на возможности человека быть собой (подлинная экзистенция) или не быть собой (неподлинная экзистенция)[3].
Проблемы, затрагивающие онтологические, экзистенциальные сферы бытия, составляют содержание подтекста «Медальонов» – книги, «выражавшей удивление, что это люди людям уготовили такую судьбу» [Nałkowska 1956: 770]. Книга, «родившаяся из тяжелейших переживаний» [Nałkowska 1957: 513], создавалась писательницей на основе опыта, приобретенного во время работы в Комиссии по расследованию фашистских преступлений. Своим рассказам Налковская придает форму художественного документа. В основе ее текстов, лаконичных и емких по содержанию, лежат факты, изложенные свидетелями и жертвами недавних событий, людьми простыми, которым, по словам К. Выки, «ни права истории, ни метафизика не объясняют ничего из пережитого кошмара, потому что не вмещаются в их познание мира» [Wyka 1974: 214]. Для автора «Медальонов» очень важно, чтобы говорили их голоса, их память.
К. Выка дал очень проницательное определение рассказанным в «Медальонах» историям, назвав их «тихой исповедью».
Исповедальное начало, присутствующее в воспоминаниях тех, кто уцелел в недавней катастрофе, подтверждается непроизвольными жестами и мимикой говорящих, искренностью их интонации. Автором акцентируются внешние детали, которые помогают передать ретроспективную динамику мысли. В конечном итоге Налковской, по словам Х. Заворской, удается «дать не сухие знания, а сделать личным переживанием знание об "эпохе печей"» [Zaworska 1969: 30].
Героиня рассказа «Дно», собираясь рассказать о пережитом, испытывает минутное замешательство: «– С чего начать? – на минуту она задумывается. – Сама не знаю. <…> Она пережила такое, чему никто бы не поверил. Она и сама бы не поверила, если б не знала, что это было»[4]. Ей тяжело вспоминать, но все же она «говорит приглушенным голосом, и слова сами слетают с ее губ, частые и грустные», иногда «умолкает в нерешительности»: есть что-то настолько страшное, о чем говорить она не может; тогда «только едва заметная морщинка появляется на ее гладком лбу – от этого взгляда в прошлое». Мучили ее? Она задумывается: нет, «но били сильно», «дубинкой отбили все пальцы – вот и сейчас видно». По сравнению с тем, что она видела, что пришлось испытать другим, это, с ее точки зрения, нельзя назвать истинными муками.
Источник драматизма в рассказах – не только горечь и боль утрат. Свидетельствующие вышли за пределы «нормального, живого сознания» (А. Камю), приняв как неизбежное противоестественные вещи: издевательства, состояние отчужденности, одиночества, страха, насильственную смерть.
Идея разобщенности людей, вызванной социальными, религиозными, психологическими причинами и используемой тоталитаризмом для своих вполне практичных целей, в рассказах Налковской выражается, в частности, при помощи сквозного образа (концепта) стены. Стена – реалия страшного мира. Она огораживает «огромный двор» Анатомического института, где экспериментировали ученые-медики («Профессор Шпаннер»), двор замка, служившего «отличной декорацией, воротами, ведущими из жизни к смерти» («У человека сил много»). Стеной разделены две действительности и в рассказе «На кладбище». Одна из них – реальная (ее «еще можно кое-как» вынести) – находится по эту сторону стены; другая (она кажется «далекой» и «нереальной») – по ту ее сторону, хотя «все происходит тут же за стеной».
«Каждые пятнадцать минут в тишину широко распахнутого неба вплывает самолет и, описав мягкий полукруг над кладбищем, уходит за стены гетто. Сброшенных в тишину бомб не видно. Но скоро в небо поднимутся длинные узкие нити дыма. А потом можно будет разглядеть и языки пламени». Здесь писатель прибегает к контрасту, антитетическому распределению образов в пространстве текста. «Тишина», «распахнутое небо», «вплывающий в тишину самолет», «нити дыма» – вся эта лиричность вдруг оборачивается абсурдом, ибо всё это – знаки смерти, которая настигнет сейчас или уже настигла кого-то «за стеной».
Пространственная и психологическая точка зрения рассказчицы, женщины с кладбища, позволяет увидеть, услышать, сопережить то, что происходит за стеной: «плач, крики, глухие удары человеческих тел, падающих на камни…» И все же: «Мы слышали о том, как люди толпами покорно шли навстречу смерти. О том, как они бросались в огонь, прыгали в пропасть. Знаем, но мы далеко, мы по эту сторону стены».
Образ стены приобретает у Налковской, как и у Боровского, статус символа. Стена – знак пограничья между реальным и ирреальным, между иллюзией свободы и тотальной несвободой. Это и преграда, которую человеческое сознание возводит в целях самозащиты, – спасительное равнодушие, помогающее избежать безумия: «Действительность еще можно кое-как вынести, если она воспринимается нами не полностью». Поэтому и в речи людей появляется своего рода словесная «стена»: слова трансформировались, они «давно утратили свой смысл», их традиционное значение неадекватно новой, «апокалипсической» реальности. «Женщина с кладбища» рассказывает о массовой гибели жителей гетто словами бытового языка, которые оказываются «не равными себе», они утрачивают конкретную денотативную определенность, наполняясь страшными смыслами. Еще одно основание «стены» – страх, разделяющий людей: «Один для другого – еще одна возможность смерти». Именно он предопределяет поведение людей и их выбор в «пограничных» ситуациях, подобных той, что представлена в миниатюре «У железнодорожной насыпи».
В «Медальонах» имплицирована и одна из главных идей религиозного экзистенциализма – мысль о личной вине, ответственности каждого человека, и прежде всего интеллектуальной элиты, за «реальность концентрационных лагерей», за «согласованное движение по кругу пытающих и пытаемых», за «утрату человеческого облика», за все то, что в целом составляет «опасность, которая страшнее атомной бомбы, так как она угрожает душе человека» [Ясперс 1994: 161].
Не только страх, но и слепое повиновение, и преданность идее могут превратить человека в соучастника злодеяний («Профессор Шпаннер», «Дно»). Идеология насилия и нетерпимости разрушительно воздействует на тотальную экзистенцию, составляющую глубину и центр человеческой личности [Ясперс 1994: 160–165], оскверняет будущее. Знаменательно, что «Медальоны» завершаются эпизодом, который сконцентрировал в себе весь ужас «обычного Апокалипсиса» (А. Вернер): «Доктор Эпштейн, профессор из Праги, в ясное летнее утро, проходя между бараками в Освенциме, увидел двух маленьких детей, пока еще живых. Они сидели на песке у дороги и передвигали какие-то щепки. Он остановился и спросил: – Во что играете, дети? И услышал ответ: – Мы сжигаем евреев».
Так в «Медальонах» вскрывается одна из причин воцарения в мире тоталитарных режимов. Она в человеческом сознании, находящемся в плену расовых, национальных, классовых, конфессиональных предубеждений. Тоталитаризм обращает в свою пользу варварские соблазны такого рода ненависти. И в этом аспекте лагерь представляет собой точную социально-психологическую модель тоталитарного, а отчасти и любого общества. Эта мысль в «Медальонах» находит выражение в образах персонажей, их рассказах, в публицистическом пафосе авторской речи. Об этом писал и Т. Боровский.
Бывший узник Освенцима, Боровский в своей «малой прозе» ориентировался на личный «отрицательный опыт» (В. Шаламов) и сумел показать феномен лагеря и фашизма в более широкой картине человеческого мира. «"Медальоны" Налковской, – замечает по этому поводу Н. Старосельская, – книга-документ, книга-крик – была написана не столько, может быть, писателем, сколько потрясенным участником Главной комиссии по расследованию гитлеровских преступлений в Польше. Налковская пережила шок, когда перед ней открылась бездна. Это стало своего рода барьером боли и страха. Боровский бездну прошел и вернулся в мир. И увидел, что ничего не изменилось» [Старосельская 1991: 45].
Высокую художественную и идейно-нравственную ценность сборника Налковской польская критика признала безоговорочно. Отношение же к рассказам Боровского было не столь однозначным. Понадобилось время, чтобы их анализ избавился от социологизированных критериев и приобрел объективность и глубину.
Творческое наследие Боровского невелико. Он автор двух сборников рассказов – «Прощание с Марией» и «Каменный мир», увидевших свет в 1948 г., и нескольких поэтических сборников, первый из которых был напечатан в 1942 г. в оккупированной Варшаве.
В нашей стране имя Боровского было мало известно. Первая публикация его рассказов на русском языке состоялась в 1955 г. в журнале «Иностранная литература», а спустя шестнадцать лет в сборнике «Современная польская поэзия» (М., 1971) были помещены переводы отдельных стихов писателя. И только в 1989 г. издательство «Художественная литература» выпустило небольшой томик его прозы[5].
Известность же на родине пришла к Боровскому после первых публикаций в 1946 г. в журнале «Творчество». Критика оценила его прозу неоднозначно. Отзывы в большинстве своем носили негативный характер. Боровского обвиняли в крайнем цинизме, нигилизме, осквернении национальных святынь [Bartelski 1975: 45]. Такого рода оценки вполне объяснимы. Писатель ломал стереотипы: он писал о войне, но без пафоса, традиционного для литературы того времени. Лаконично, беспристрастно, избегая какого-либо морализаторства, он рассказывал о «механизме будничного выживания» в условиях концентрационного лагеря, в условиях планомерного истребления человека и человеческого в нем. Принцип действия этого «механизма» Боровский познал на собственном опыте, пережив годы оккупации, арест, пройдя испытание Освенцимом. Беспощадные слова об утрате человеческих ценностей в мире, пожираемом тотальным злом, прозвучавшие в рассказе «Январское наступление», были им выстраданы: «Нравственность, национальная солидарность, любовь к родине, чувство свободы, справедливости и человеческого достоинства – все это слетело в той войне с человека, как истлевшая одежда» [Borowski 1974: 264–265].
Со временем оценка произведений Боровского стала приобретать более объективный характер: в них увидели документ обвинения, облеченный в художественную форму. Так, к примеру, М. Домбровская отмечала: лагерные рассказы писателя воссоздают «пронзительно реалистическую картину преступлений против человечности», что позволяет поставить их в один ряд с «Поверкой» Е. Анджеевского и «Медальонами» З. Налковской.
Сегодня становится все более очевидным, что подобные определения слишком узки для Боровского. Его произведения – это не только историческое свидетельство. Он по-новому подошел к исследованию и трактовке феномена лагеря, создал свою эстетику, позволившую ему соединить неприкрыто жесткий натурализм в описании бытовых и нравственных аномалий лагерного бытия с исследованием общественных и психологических корней этого явления, глубоко обозначить нравственные и философские проблемы, вызванные к жизни «эпохой печей». Можно утверждать: проза Боровского – явление принципиально новое, уникальное не только в польской, но и в мировой литературе. Единственный автор, который во многом созвучен Боровскому, – это русский писатель Варлам Шаламов. Не случайно русские и польские литературоведы высказывают схожие оценки их творчества. Ср., например, слова Л. Тимофеева: «Анализировать прозу Шаламова трудно, она принципиально не похожа на все, что было в мировой литературе до сих пор» [Тимофеев 1991: 182] и Я. Ивашкевича: «Мне кажется, что новеллы Боровского не имеют аналогов в мировой литературе» (цит. по: [Drewnowski 1974: 376]). Это говорит о том, что неординарное творчество обоих писателей входит в мировую литературу как явление, единое в своей художественно-философской сущности.
У Боровского нет специальных теоретических работ, посвященных освенцимскому циклу рассказов. Однако его размышления о том, как надо писать о лагере, вкраплены в первый освенцимский рассказ «У нас в Аушвице». Что касается В. Шаламова, то он – автор не только «новой прозы», но и ряда критических работ, в частности эссе «О прозе» (1965), которые помогают, как нам кажется, постичь логику и его творчества, и творчества Боровского.
Т. Боровский и В. Шаламов знали о лагерях не понаслышке: один был в Освенциме, другой – в сталинском ГУЛАГе. Им не пришлось «входить» в материал, изучать документы, собирать свидетельства очевидцев. Проза обоих писателей отрицает «принцип туризма» (В. Шаламов), они оба исходят из собственного уникального «отрицательного опыта». Автор «новой прозы» – «не наблюдатель, не зритель, а участник драмы жизни, участник не в писательском обличье, не в писательской роли. Плутон, поднявшийся из ада, а не Орфей, спустившийся в ад» [Шаламов 1996: 429]. «Выстраданное собственной кровью, – пишет Шаламов, – выходит на бумагу как документ души, преображенное и освещенное огнем таланта» [Там же]. В результате «глубочайшим знанием» подсказываются писателю метод и художественные принципы «новой прозы», кардинально отличной от многочисленных произведений о тюрьмах и лагерях. Перечислим коротко основные из них, сохраняя по возможности формулировки Шаламова:
• главная задача «новой прозы» – вскрыть «новые» психологические закономерности в поведении человека, который низведен до уровня животного;
• для «новой прозы» классическое развитие сюжета и развитие характера, индивидуализация речи героев являются факультативными признаками, так как «единственный вид индивидуализации – это своеобразие авторского лица»;
• герои «новой прозы» – «мученики, не бывшие, не умевшие и не ставшие героями»; это «люди без биографии, без прошлого и без будущего», взятые «в момент их настоящего – звериного или человеческого?»;
• «новая проза», имея документальную основу, тем не менее избегает многословной описательности и «цифрового материала», которые затрудняют понимание авторской мысли. Главной установкой автора «новой прозы» является стремление «воскресить чувство»;
• особая роль в «новой прозе» принадлежит символическим, знаковым деталям, создающим подтекст, переводящим «весь рассказ в иной план»;
• «новая проза» ориентирована на композиционную целостность (цикличность), «когда в сборнике можно заменить или переставить лишь немногие рассказы» [Шаламов 1996: 426–431].
Те же художественные принципы и то же стремление осмыслить жизнь, в которой «Бог умер», и себя в ней (себя – как одного из многих), стремление найти единственно верную форму, способную выразить состояние «попранной души и униженного тела», мы обнаруживаем и у Боровского.
Боровского и Шаламова объединяет и нравственная установка: договорить за тех, кто не успел, ведь «все те, кого из-за чесотки, флегмоны, тифа или чрезмерной худобы отправляли в газовые камеры, перед отправкой в крематорий просили грузивших их санитаров, чтобы они смотрели и старались запомнить. А потом рассказали правду о человеке тем, кто ее не знает» [Боровский 1989: 93].
Рассказы Боровского и Шаламова предупреждали: цивилизация находится на пороге гуманистической катастрофы. «И Освенцим, и Колыма есть опыт 20-го столетия, и я в силах этот опыт закрепить и показать. <…> Я летописец собственной души, не более. Можно ли писать, чтобы чего-то не было злого и для того, чтобы не повторилось. Я в это не верю, и такой пользы мои рассказы не принесут» [Шаламов 1993: 152–153]. Эти слова мог бы сказать и Боровский, покончивший с собой в 1951-м.
Как и В. Шаламов, польский писатель объединяет свои произведения в циклы, стремясь к их композиционной целостности, сверхтекстовой организации[6]. В «Кратком предисловии» ко второму сборнику своих новелл он предупреждает читателей: «"Каменный мир" – один большой рассказ, состоящий из двадцати самостоятельных частей» [Боровский 1989: 332]. Его целостность обеспечивается не в последнюю очередь единым сквозным героем-повествователем, Тадеком (Тадеушем), которому Боровский дал свое имя и автобиографические черты.
Роль своеобразного пролога к «лагерному» сверхтексту Боровского выполняют рассказы «Прощание с Марией», открывающий одноименный сборник писателя, и «Мальчик с Библией».
«Прощание с Марией», небольшое по объему произведение, сконцентрировало в себе целый спектр сложных философских вопросов, определяющих содержание двух циклов рассказов: человек и природа, человек и Бог, человек и государство, человек и история, человек и человек. Все они, в сущности, восходят к главной проблеме – осмысление существования человека в условиях тоталитаризма, – которая была рождена отнюдь не умозрительными заключениями, а грубой, бесчеловечной реальностью эпохи. Польша была первой европейской страной, подвергшейся тотальной оккупации; плацдармом, на котором сооружалась и совершенствовалась разветвленная сеть лагерей смерти.
Как реагирует человек на творимое зло? «Ты, я знаю, вероятно, предпочел бы, – писал Боровский в своих "Воспоминаниях", обращаясь к читателю, – чтобы тебе еще раз рассказали о доблестных партизанах или о героической гибели детей – участников Варшавского восстания, или о чем-либо ином, столь же прекрасном и кровавом, но поверь, я не сумею да и не смею писать об этом…» [Боровский 1989: 390]. Боровский действительно «не сумел» об этом рассказать, потому что видел Человека, превратившегося в покорную жертву, не имеющего сил и возможностей предотвратить зло или противостоять ему; «не смел» – потому что, и себя ощущая виновным, познал, что значит «жить виной» (Н. Бердяев). «Вина – вот та вертикаль, которая подминает под себя все социально-психологические горизонтали у Пушкина, Достоевского, Толстого, Шаламова… <…> Нет ничего страшнее и тяжелее вины. Можно перенести пытки, длительную изнуряющую болезнь, презрение окружающих, все ГУЛАГи и психушки – все это ничто перед тяжестью вины, перед ужасом быть виноватым» [Горичева 1994: 69]. Эта боль вины с пронзительной силой вылилась в стихотворении Боровского «Погибшие поэты»:
Вы сожжены, вы расстреляны, вы безмолвны, мои товарищи юности, я пишу вам. Текут и текут над вами земные волны, шумят – зеленым шумом. <…>
Тщетно, все уже тщетно. Вихрь клубится заблудший, зовет травяная глубь, лугов замогильных зелья, дальше иду, под землю, глубже и глубже, к вам в подземелья.
(Пер. В. Британишского)
Говоря о Боровском, думается, нужно вспомнить имя немецкого философа-экзистенциалиста К. Ясперса, философские труды которого, и прежде всего те из них, что были написаны после войны – «Происхождение и цель истории» (1948), «Разум и антиразум в нашу эпоху» (1950), – поразительно созвучны духу, мыслям произведений польского писателя. И подчас смысл категорий, которым Ясперс придавал общефилософское значение, лучше проясняется через образы произведений Боровского, через поступки, мысли, мироощущение его героев. Это в равной, если не в большей, степени справедливо и относительно составляющих художественной системы Боровского, которая, органично сопрягаясь с мыслью Ясперса о единстве, целостности исторического бытия человечества, тем самым оказывается в сфере ценностно-интерпретирующей направленности экзистенциалистских идей немецкого философа.
Польский писатель и немецкий философ встретились во времени, и каждый из них сумел выразить то, чем оно жило, чем болело, что порождало страх. «В утрате человеческого облика в концентрационных лагерях виновата не природа, а сам человек, и это может распространиться на всех, – утверждает Ясперс. – Человечество пытается скрыть этот ужас от себя. Люди становятся равнодушными, но за этим равнодушием таится страх перед тем, куда идет человечество. Исчезнет все то, что делает человека человечным, что придает жизни ценность. <…> Содрогание перед страшным будущим, быть может, способно его предотвратить. <…> человек не может полностью утратить свою сущность, ибо он создан "по образу и подобию Божию"» [Ясперс 1994: 162]. Эти мысли сродни тем, которые «вычитываются» из текстов Боровского. Заметим, что в послевоенной Германии Ясперс был одним из первых, кто бескомпромиссно поставил вопрос о «немецкой вине», не исключая из числа виноватых и самого себя: «уже потому, что сохранил жизнь, когда миллионы людей встретили насильственную смерть. Боль вины мучила его. Он говорил: "мы виноваты", "наша вина"» [Мотрошилова 1999: 22].
Психологическим мотивом воспоминаний Тадеуша, которые составили содержание рассказа «Прощание с Марией», является испытываемое им мучительное чувство вины перед теми, кто погиб, осознание своего греха и невозможности его искупить покаянием. Поэтому глубоко символично, что Тадек носит имя писателя, который так и не сумел вжиться в новый послевоенный мир и добровольно покинул его.
Сюжет рассказа лишен динамики. Идет неторопливое повествование о буднях оккупированного города, в котором каждый пытается приспособиться к обстоятельствам, выжить им вопреки. Собственно, в основе сюжета – цепь ставших обыденными ситуаций, в условиях которых человек не живет, а стремится выжить; это еще не концентрационный лагерь, но «пограничный» с ним мир. Хорошо это или плохо – выжить в мире тотального зла? Впрочем, пока никто не задается подобным вопросом. Безымянные Инженер, конторская служащая, лавочник, поэт-интеллектуал Тадеуш, от чьего лица ведется повествование, – все они притерпелись к существующему положению вещей. Притерпелись – значит приняли уличные облавы, тюрьму, устроенную в здании бывшей школы и переполненную «живым товаром», еврейское гетто и колонны грузовиков, везущих несчастных в «печально знаменитый лагерь на побережье».
Тадеуш воссоздает в своей памяти события двух дней, которые предшествовали «прощанию с Марией». Редуцированность сюжетного времени объясняется не только жанровой спецификой. Избранная форма повествования, при которой образ «я» в прошлом («я» прежнего) становится предметом рефлексии повествователя («я» нынешнего), создает эффект отстраненности: оживающие в памяти героя события, образы и детали предстают не только как реалии исторического времени и психологической биографии повествователя, но и как знаки его эмоциональной и ценностной оценок, проецируемых им из настоящего в воссоздаваемое, переживаемое заново прошлое.
Для Тадеуша важны именно эти два дня. Знаменательно, что в рассказе образ Марии складывается постепенно, из отдельных деталей, жестов, казалось бы, случайных ее фраз, как бы прорисовывается сквозь толщу подробных описаний вещного мира, мелкой, будничной суеты и столь же будничных происшествий, его «заслоняют» характеристики чужих, порой случайных для Тадеуша и Марии людей, пейзажные зарисовки. Однако нельзя забывать, что изображаемые в рассказе быт, обыденные ситуации, образы природы играют важную роль в постижении его идейного содержания, они создают такие, например, значимые оппозиции, как плотский, телесный мир, агрессивная бездуховность и мир одухотворенный, мир высших ценностей.
Все, о чем рассказывает Тадеуш, имеет для него нынешнего какой-то новый, мучительный смысл. Он пытается уяснить подлинную причину случившегося, понять, как жили они все (Тадеуш не противопоставляет себя и Марию остальным) в мире, переполненном смертью: не той, что изначально известна нам как данность, как неотъемлемая часть бытия, а смертью-убийством, педантично спланированным, идеологически обоснованным и неукоснительно осуществляемым не высшей, а человеческой волей. Каждый тогда втайне надеялся, что его минует чаша сия, для этого достаточно лишь отделить себя от мира, создать некий непроницаемый для «нечисти» магический круг. Никто не смог или не захотел понять, что такого рода иллюзии абсурдны и потому смертельно опасны, ибо именно абсурд, «когда из него берутся извлечь правила действия, делает убийство <…> безразличным и, значит, допустимым» (А. Камю).
В прозе Боровского мы не встретим слово «абсурд», однако именно абсурд на правах важнейшей философской составляющей входит в концепцию многих его рассказов, включая и «Прощание с Марией». В них обнаруживается мощный философский подтекст, создаваемый «деталями-символами», «деталями-знаками» (В. Шаламов). Так, ими насыщены уже первые абзацы рассказа: «За столом, за телефоном, за стопкой… книг – окно и дверь. В двери два зеркальных стекла, отливающих ночной чернотой. За окном небо, затянутое набухшими тучами, которые ветер гонит вниз, к северу, за стены сгоревшего дома»[7]. Вот она – хрупкая грань двух миров, очерченная стенами еще не сгоревшего, не утраченного дома, такими привычными, удобными вещами, стопкой книг. Сгоревший же дом «чернеет на другой стороне (здесь и далее выделено нами. – Т. Л., А. Л.) улицы, напротив калитки, за защитной решеткой, увенчанной серебристой колючей проволокой…». Там же «высится безлистное дерево», и мимо него «с грохотом мчатся на фронт груженые товарные вагоны»; а по эту сторону грани – «уютный сумрак комнаты», уменьшившейся «до размеров раковины», любовь, Мария, которая склонилась над книгой.
«Дверь», «окно», «сгоревший дом», «тень», сопутствующая «свету», – эти и некоторые другие символы-детали будут неоднократно повторяться как в тексте рассказа, так и в рамках циклов, становясь мотивами и лейтмотивами, генерируя все новые и новые смыслы. Первое яркое воспоминание о Марии: она «подняла голову, оторвавшись от книги, <…> положила руки на лампочку-грибок и резкий свет <…> вдруг вспыхнул в ее ладонях, которые розовым куполом плотно сомкнулись над ним. Лишь едва заметно пульсировали ярко розовые полоски между пальцами». И далее: «Я наклонился к ее губам, к маленьким трещинкам, спрятанным в уголках рта. – Ты пульсируешь поэзией, словно дерево соком, – сказал я шутливо, отмахиваясь головой от назойливого пьяного шума. – Берегись, как бы жизнь тебя хорошенько не стукнула».
В контексте рассказа пульсирующая дрожь огонька сближена с трепетом жизни, все время находящейся под угрозой. Предчувствие неотвратимой беды, смерти передается посредством экспрессивного повтора цветообразов, в составе которых доминируют черный и фиолетовый цвета: «ночная чернота»; «черные стекла»; «черные, слепые окна квартир»; «черная громада города»; «набухшие тучи»; «хмурое небо»; «фиолетовая темнота неба»; «фиолетовый отблеск мерцающего ночного фонаря»; «свет и тень». Если черный цвет ассоциируется со смертью, горем, тьмой, концом, то фиолетовый способен передавать смыслы, связанные с внутренним напряжением, мистикой, тайной [Бреслав 2000: 71, 87]. Так, за причудливой игрой света и тени наблюдает Мария: «Смотри, нет границы между светом и тенью. Тень, как прилив, подползает к ногам, окутывает нас, сужает мир». «Полоса тени» лежит «на лбу и глазах Марии», сползает, «как прозрачная шаль», по ее щекам; «тень, отбрасываемая сгоревшим домом» поглощает девушек, которые, выйдя из прачечной, «пробегают под фиолетовым фонарем»; в конце вечера исчезнет «в тени сумерек», скрадывающих все очертания, и беззаботно смеющаяся Мария.
Любовь, уют Дома создают лишь иллюзию защищенности. Лирический характер описаний отнюдь не заслоняет мысли, что такая жизнь возможна лишь потому, что пока умирают другие. И здесь же, в этих овеянных поэзией описаниях, звучат мотивы воровства, кражи, поруганной красоты, физического и духовного бессилия, неспособности загородиться от чужого, агрессивного мира: «В черном окне, отгороженном стеклом от ночи, путаясь в тонком кружеве занавески, добытой за бесценок у железнодорожной воровки, грустный пьяный скрипач (считавший себя импотентом) тщательно пытался стонами своего инструмента заглушить хрип патефона. <…> На столе, на скатерти с красными цветами, добытой у железнодорожной воровки, среди рюмок, книг и надкусанных бутербродов красовались голые и грязные ноги Аполония». Гостья Тадека, молодая певица, еврейка, сбежавшая из гетто, трогает «корешки книг, купленных на лотках и украденных у букинистов».
На самом же деле привычный «человеческий» уклад жизни уже распался. Мысль Боровского, выраженная в художественной форме, удивительным образом совпадает с утверждением Д. Мережковского: «Это, конечно, самообман: в себя от войны не уйдешь, потому что война не только вне нас, но и в нас самих» [Мережковский 2001: 422]. Зло не признает границ. Оно разъедает не только мир, но и человека, который, надеясь выжить, отказывается осознать абсурд происходящего.
Мотив бесконечного распада, поглощения жизни и человечности воплощает нарочито повторяющееся слово-образ «известь». «Известковым духом сырых гниющих стен, смешанным с вонью человеческого пота» пропитан воздух в комнате, смежной с жилищем Тадеуша; здесь же – прогибающаяся «под тяжестью книг» полка, «сохнущие, как выстиранное белье, обложки поэтического сборника» и «деревянный, побелённый известкой для защиты от клопов, топчан». Во дворе конторы – «ящик с гашёной известью», над которым, «ритмично покачиваясь», стоит рабочий: «Притопывая от холода, он размешивал лопатой гашёную известь. Клубы белого пара, поднимаясь над бурлящим раствором, окутывали ему лицо». «Жесткие от извести волосы» у Олека, доставившего из гетто на телеге скарб старухи еврейки («стульчики, вазы, подушки, корзины с бельем, старинные коробки, связки книг»), который затем будет спрятан в «затхлом, темном сарае <…> между мешками с окаменевшим цементом и кучей сухой извести», где «едкая известковая пыль носилась в воздухе, щекотала ноздри и заставляла задыхаться». «Лицо Марии под широкими полями черной шляпы было белым, как известь».
Чем продиктовано это неуемное стремление человека все-таки отгородить себя от мира, обрести равнодушие по отношению к царящему рядом злу? При тоталитаризме человек руководствуется (сознательно или бессознательно) желанием выжить, страхом, который «находится на витальном или экзистенциальном уровне», – страхом перед террором, в условиях которого «единственный шанс человека выжить состоит в повиновении и соучастии» [Ясперс 1994: 163]. Боровский не говорит об этом прямо: текст лишен какой-либо декларативности, каких бы то ни было оценочных авторских комментариев. Данная мысль имплицируется всем строем художественных деталей, мимолетно брошенными репликами и диалогами персонажей, особой горькой иронией, сквозящей в речи повествователя. Вот «маленькая тощая девица», конторская служащая. «Удобно расположившись на кушетке», она мимоходом интересуется судьбой старухи еврейки, которой удалось вырваться из гетто, и неспешно замечает: «Каждый спасается как может. – При помощи ближних. – Она язвительно улыбнулась». И все ту же старуху, которая вдруг решила вернуться в гетто, к дочери, поучает Инженер, руководствуясь исключительно добрыми побуждениями: «Ну что там толку от вас? Им все равно каюк <…> Разве вы не знаете, как будет? Убьют, сожгут, уничтожат, растопчут, и все тут. Не лучше ли остаться жить? Я верю, придет время, и людям разрешат спокойно торговать». Доводы, с точки зрения Инженера, более чем убедительны. И важно то, что таким образом Инженер успокаивает не только свою собеседницу, но и себя самого, он надеется, что беда обойдет его стороной и все вернется в русло свое: «людям разрешат спокойно торговать».
Мысли, диалоги, поступки людей проникнуты спокойствием и трезвой рассудочностью. Даже стихи, написанные, по уверению Тадеуша, «не для продажи», подвергаются деловитой оценке начальника: «если стихи хорошие, покупатели найдутся». Впрочем, и сам поэт не чужд меркантильных интересов: он заинтересован в том, чтобы торговые дела фирмы шли успешно. Увлеченность поэзией не мешает ему сожалеть, что фирма может не получить вагонов для строительных материалов, так как все вагоны пойдут на вывозку людей. Той же деловитостью отмечены и мимолетные впечатления поэта, чей взгляд скользнул по сидящей рядом старухе еврейке: «Старуха ела медленно, но с аппетитом. Золотой, массивный ряд зубов с наслаждением впивался в хлебную мякоть. Я смотрел, инстинктивно пытаясь определить вес и стоимость этой челюсти». Но это не только въевшийся в сознание меркантилизм, связанный с необходимостью выживать в экстремальных условиях быта военного города. Это и другое – подспудное, на уровне бессознательного проявление архаической психологии, архетипической антитезы «мы и они», «свои и чужие», той самой антитезы, которая обнаруживает себя в бытовой нетерпимости, ненависти, во вспышках массовой ксенофобии и пр.
Глубоким философским смыслом исполнен эпизод пирушки в комнате Тадеуша. По сути, это аллюзия к прецедентному «пиру во время чумы», отсылающая и к поэме Вильсона «Чумный город», и к «Опытам» Монтеня, и к одноименной маленькой трагедии Пушкина. Эти отсылки не случайны, они вводят в содержание рассказа (и циклов в целом) голос Культуры, голос Истории, тем самым обнажая философские коллизии рассказа. Культура, философия, мысль, облаченная в поэтическое слово, – это то, что должно противостоять торжествующему злу. Это то, что может дать человеку силу выстоять перед лицом смерти. Поэтому так значимы для смысловой структуры рассказа воскрешаемые посредством аллюзии рассуждения Монтеня о «презрении к смерти» как об одном из главнейших благодеяний. Смерти избежать невозможно, поучает Монтень, но можно научиться «встречать ее грудью. <…> Кто научился умирать, тот разучился быть рабом. Готовность умереть избавляет нас от всякого подчинения и принуждения» [Монтень 1979: 84]. Описывая свирепствующую чуму, бордоский философ приводит примеры твердости духа, кои давал «в этих обстоятельствах простой народ» [Монтень 1997: 316], он вспоминает тех, «которые боялись выжить, чтобы не остаться в ужасном одиночестве» [Там же]. Пример такого мужества приводит и Боровский. Уже находящаяся вне опасности, старуха еврейка тем не менее возвращается в гетто, чтобы разделить трагическую участь дочери и близких.
Можно усмотреть смысловые корреляции между афористической мыслью Монтеня: «Есть некое утешение в том, чтобы, избегая то одного, то другого из обрушивающихся на нас бедствий, наблюдать, как они свирепствуют кругом» [Монтень 1997: 314] и некоторыми сценами рассказа Боровского, в частности со сценой пирушки. «Свирепствующее кругом бедствие» не мешает полупьяным гостям Тадеуша веселиться, танцевать, философствовать и рассуждать о непротивлении злу насилием, о бессмертной силе искусства и человеческой мысли. Эпикурейское поведение героев, гостей Тадеуша, можно трактовать как форму философского противостояния Смерти и протеста против Судьбы. Но этому препятствует нарочитая сниженность, травестийность в изображении персонажей: «как рыбы, задыхающиеся на песке, лежали полупьяные люди»; «голые и грязные ноги» Аполония; «неряшливые девицы» и др. И сцена эта осмысливается скорее не в соответствии с концептуальной семантикой прецедентного «пира во время чумы» – «насмешка над смертью» (Дж. Вильсон), вызов судьбе (Монтень, Пушкин), хотя и в значимом противопоставлении ей, но более в соответствии с заданным всем строем идейно-образной системы рассказа выводом о сделке с судьбой, совестью – сделке, которая изживает самое совесть.
И главное – чума, которой бросали вызов классические герои, в принципе несопоставима с «коричневой чумой» ХХ века. Благодаря аллюзивной информации высвечивается мысль о том, что это катастрофа не природная, она гуманистическая, в силу чего «возникла совершенно иная, неведомая ранее забота о будущем человека — забота о сохранении самой природы человека. <…> Речь идет о том, что человек может потерять себя, человечество <…> – вступить в стадию нивелирования и механизации, в жизнь, где нет свободы и свершений, в царство черной злобы, не знающей гуманности. <…> Национал-социалистские концентрационные лагеря с их пытками, пройдя которые миллионы людей погибали в газовых камерах или печах, – вот та реальность, которой, по имеющимся сведениям, соответствуют события и в других тоталитарных странах <…> Перед нами разверзлась бездна» [Ясперс 1994: 160].
Одна из причин катастрофического состояния мира и человека кроется в отторжении нравственной сути религии или в извращенном, превратном ее понимании. Так, надежда, которая с точки зрения религии всегда рассматривалась как добродетель, в ХХ столетии, по мысли Боровского, обернулась величайшим злом. Не случайно позже, в рассказе «У нас в Аушвице», Боровский с горечью заметит: «Вопреки ужасам войны мы жили в другом мире. Возможно, ради того мира, который настанет. А то, что теперь мы здесь <в лагере>, – это, пожалуй, тоже ради того мира. <…> Именно она, надежда, велит людям апатично идти в газовую камеру, не рисковать, не пытаться бунтовать. <…> И это даже не надежда на другой, лучший мир, а просто на жизнь, в которой будет покой и отдых. Никогда еще в истории человечества надежда не была так сильна в человеке, но никогда она не причиняла и столько зла, как в этой войне…»[8]
Жизнь, питаемая такого рода надеждой, упрощается: в ней берет верх биологическое, «плотское» начало, вытесняющее представления об обыкновенной человеческой морали; человек становится «механизмом рефлексов» (К. Ясперс). В «Прощании с Марией» – прологе к лагерной трагедии – изображение процесса превращения канонического, классического ближнего в существо, в котором истреблены дух и воля, уже предвосхищается. Можно, к примеру, поторговаться и выгодно купить «лес с разобранных домов гетто в Отвоцке, откуда вывезли евреев», и не слушать очевидцев того, как освобождали эти дома от людей: «Только и слышно „Raus, raus, raus!“. В домах пусто, на улице перо и пух, а людей вывозят, вывозят, вывозят…»; можно «торговать людьми, запертыми в школе», можно не только «не доливать ста граммов самогона, не довешивать десяти граммов масла», но и «безжалостно выжимать из крестьян деньги за каждую выпущенную из школы деваху» – жить-то хочется каждому. При этом еще можно испытывать неловкость, подобно лавочнику, который «смущенно улыбаясь, дрожащей рукой сгребал деньги», или Инженеру, который «занимался всем этим со страхом, как бы через силу, вопреки собственным представлениям о добропорядочности и законности. И глубоко тосковал по безопасному довоенному времени».
Откровенно уродливые формы этот процесс приобретет в лагере. И здесь будут торговать и работать, но уже абсолютно бесстрастно. «Обычный рабочий день: приезжают машины, берут доски, цемент, людей.: <…> материал для расширения лагеря и людей для газовой камеры» («У нас в Аушвице»). Примечательно, что в этом контексте «доски, цемент» и «люди» оказываются в однородном ценностном ряду. А впрочем, с подобным «уравниванием» случалось сталкиваться и на воле. Просто в «запроволочном мире» возможная смерть уже не будет казаться абстракцией, крематорий станет повседневностью, «место для жизни» сузится до «кусочка нар»; наличие у заключенного золотой челюсти (потенциального товара) будет педантично фиксироваться в специальной лагерной книге; найдут применение человеческим костям и коже, мастеря из них руками заключенных украшения и абажуры. «Кто знает, может, все это на экспорт для негров, которых… когда-нибудь завоюют?» – подводит итог своим размышлениям Тадек. Он знает: так называемые «негры» будут покупать, продавать, строить новые лагеря, бараки, печи и получать «фантастические миллионные прибыли», как фирмы «Ленц», «Вагнер», «Континенталь», не размышляя над тем, «по ком звонит колокол». Оказывается, что «человека можно уничтожить и тогда, когда физически он продолжает жить» [Ясперс 1994: 160].
Ведя, на первый взгляд, безобидное существование и позволяя себе иногда ради сиюминутной выгоды идти на сделки с собственной совестью, обыватель в лице торговца или чиновника не подозревал, что тем самым попадает «в круговорот, движение которого все ускоряется, увлекая за собой тех, кто в него вступил. Большинство вступивших в него втягиваются в ход событий, не зная еще и не желая того, что им придется претерпеть или совершить в этом безудержном устремлении вперед» [Там же].
В рассказе Боровского представлен человек, потерявший внутреннюю связь с Богом, но все еще пытающийся поддерживать ее формально. Поэтому особый символический смысл приобретает образ «маленького костела», который был «частично сожжен в сентябре тридцать девятого и бережно, упорно восстанавливался материалами фирмы». Вполне вероятно, что среди упомянутых материалов окажется и лес, столь удачно выторгованный польским предпринимателем у немецкого крейсгауптмана. Таким образом, костелу – звену, соединяющему Человека с Богом, – не суждено обрести облик прежнего, истинно святого храма. Человек не в состоянии подняться к Богу, отречься от себя и «возлюбить ближнего». Религия, уверяющая, что «Бог есть любовь», здесь, в «черной громаде города», мертва.
Все это заставляет по-новому осмыслить название рассказа – «Прощание с Марией». Прообразом Марии послужила невеста Боровского. Но очевидно и то, что имя Мария восходит к библейскому слову о Божьей Матери – «теплой заступнице мира холодного» (М. Лермонтов). «Божья Матерь держит покров над всей тварью, видимой и невидимой, над всем грешным человеческим, безгрешным животным и неизменным ангельским миром.
<…> Как облаком закрывает Божья Матерь своим Покровом грешников и ограждает их от справедливого Божьего гнева» [Горичева 1994: 56]. Прощание с Марией – прощание с надеждой на заступничество перед Богом.
Но осознавая неискупимую тяжесть греха, Боровский все же мучительно пытается найти ту точку опоры, которая позволила бы усомниться в неотвратимости разверзшейся перед человечеством бездны, и обнаруживает ее в природе (ср. у Ясперса: «В утрате человеческого облика виновата не природа, а сам человек»). Об этом свидетельствует проникновенный лиризм многочисленных пейзажных зарисовок, вкрапленных в текст рассказа. Живая, текучая, природа являет человеку великое множество своих ликов. Завораживающий блеск «ослепительно белого» снега в «золотистом свете» фонаря; дрожащее «над ветром и облаками» небо, «глубокое, как дно темного потока»; луна, похожая на «горсть золотого песка»; ночная тишина, «пронизанная неуловимым шумом», – мир, сумевший сохранить божественное начало: поэзию, красоту, живую душу. Эти элегические образы сродни тем лирическим образам в «Колымских рассказах» Шаламова, которые, по словам исследователя его творчества С. Фомичева, выражают в них «глухую тоску по вещам и чувствам, которых не будет никогда», и одновременно с этим возрождают надежду, казалось бы, навсегда утерянную, поскольку «доброе в человеке проясняется не на самом дне, а гораздо дальше, <…> в том природном мире, из которого вышел человек и до сих пор с ним неразрывно связан» [Фомичев 2002: 87]. И если у Шаламова «символом этой надежды служат… ветка лиственницы, вечнозеленый стланик, безымянная кошка – то есть великая и неистребимая природа, превозмогающая все невзгоды» [Там же: 86], то у Боровского воплощением надежды является образ «безлистного дерева», борющегося «с ветром упорно, словно человек, решивший не сдаваться». Без этой «точки опоры» написание освенцимских рассказов было бы невозможным.
В сборнике освенцимских рассказов писателя «Прощание с Марией» представлена гротескная деэволюция человеческого сознания, показан сам лагерь и «путь» к нему не только отдельного человека, но и мира в целом – путь к апокалипсической бездне, который поэт из шаламовского рассказа «Шерри-бренди» определил словами «мир в дороге».
Преддверие лагерного ада – оккупированный город (рассказ «Прощание с Марией») и городская тюрьма («Мальчик с Библией»). Легкость преодоления последней черты, стремительность движения акцентированы вводной фразой следующего, собственно освенцимского, рассказа: «…итак, я уже на медицинских курсах» (т. е. в концлагере). С внешним и внутренним хронотопом бытия героя соотносится и заглавие рассказа, которое звучит парадоксально уютно, по-домашнему: «У нас в Аушвице…». «У нас» – потому что законы цивилизованного мира в локальном лагерном пространстве не нарушились, а «сгустились», приобретя откровенно циничный характер. По мысли писателя, лагерь, в широком понимании этого слова, начинается в большом мире, где насилие стало «нормой» межчеловеческих отношений, где все сферы бытия охвачены торгом. Эмблемой такой жизни, напоминающей бессмысленное коловращение, становится карусель, изображенная в рассказе, давшем название сборнику. В «обычный базарный день» под звуки «визгливой музыки» она медленно движется, окруженная «безнадежной пустотой».
Образ карусели в «Прощании с Марией», приобретающий качество символа, эмблемы, ассоциативно связывается с известным стихотворением Чеслава Милоша «Campo di Fiori» [Милош 2006], написанном поэтом в Варшаве в 1943 г. Речь в нем также идет о карусели. О той варшавской карусели, которая была установлена на площади Красинских (т. е. перед стеной гетто) как раз накануне восстания в гетто. И когда начались бои, карусель продолжала работать, доставляя удовольствие детям, молодежи, прохлаждающейся публике. «Милош сравнивал "веселые толпы" варшавян с римскими торговцами, которые сразу после казни Джордано Бруно вернулись к своим обыденным занятиям и радостям – "розовым креветкам", "корзинам маслин и лимонов". И заканчивает мыслью об "одиночестве в смерти", которой противостоит поэт» [Блонский 2009].
Здесь, на Кампо ди Фьори, Сжигали Джордано Бруно, Палач в кольце любопытных Мелко крестил огонь, Но только угасло пламя — И снова шумели таверны, Корзины маслин и лимонов Покачивались на головах. Я вспомнил Кампо ди Фьори В Варшаве, у карусели, В погожий весенний вечер, Под звуки польки лихой. Залпы за стенами гетто Глушила лихая полька, И подлетали пары В весеннюю теплую синь. А ветер с домов горящих Сносил голубками хлопья, И едущие на карусели Ловили их на лету. Трепал он девушкам юбки, Тот ветер с домов горящих, Смеялись веселые толпы В варшавский праздничный день.(Пер. Н. Горбаневской)
Как человек с чуткой совестью, поэт Милош испытывал душевную неловкость за это стихотворение, ибо в его основе лежит прием параллелизма: человеческому равнодушию к смерти себе подобных («Торгуют, смеются, любят / Близ мученического костра») как бы противопоставляется философская позиция поэта, возвысившегося и над безразличием толпы, и над равнодушием истории:
Я же тогда подумал Об одиночестве в смерти, О том, что, когда Джордано Восходил на костер, Не нашел ни единого слова С человечеством попрощаться, С человечеством, что оставалось, В человеческом языке.Как бы оправдываясь, Милош позже будет говорить, что это «стихотворение было „обыкновенным человеческим откликом на то, что происходило весной 1943 года“, и мы, конечно, охотно соглашаемся, что это отклик прекрасный и благородный. В ту чудовищную Пасху поэт спас – как кто-то хорошо сказал – „честь человеческой поэзии“. <…> „Campo di Fiori“ не сумело преодолеть „конфликт жизни с искусством“» [Там же].
В лагерном сверхтексте Боровского за цинической маской повествователя вполне угадываются и чувство неловкости, испытываемое поэтом вследствие осознания невозможности преодолеть на лагерном материале «конфликт жизни с искусством», и чувство вины уцелевшего. В рассказе «У нас в Аушвице» за безмятежным тоном интонации, спокойным ритмом повествования о том, что такое есть «лагерный» человек и какие «чудеса культуры» находятся «в нескольких километрах от печей», – за всем этим обнаруживается горькая ирония автора. Скептическим комментарием сопровождаются упоминания о «городских», которые «реагируют на лагерь, как дикари на огнестрельное оружие», о «симпатичном парне» Адольфе, который «не понимает соотношения предметов и представлений и цепляется за значение слов, как если бы они были реальностью. Он говорит "камераден" и думает, что мы действительно товарищи; он говорит "уменьшать страдания" и думает, что это возможно. На воротах лагеря сплетенные из железных прутьев буквы: "Труд дает свободу". Пожалуй, они и впрямь в это верят, эти эсэсовцы и заключенные немцы. Те, которые воспитывались на Лютере, Фихте, Гегеле, Ницше».
Имена великих мыслителей прошлого, перечнем которых завершается цитируемый фрагмент, переводят сюжетное повествование на более высокий, аналитически обобщающий уровень – на уровень философских размышлений о катастрофическом состоянии мира и человека.
Содержание рассказа «У нас в Аушвице» составляют девять писем, адресованных повествователем любимой девушке в соседний женский концлагерь. Эпистолярная форма позволила Боровскому органично соединить художественные и публицистические элементы. Так, в письме седьмом главным «объектом наблюдения» становятся История и Цивилизация, сотворенные руками человека. Ретроспективный взгляд, устремленный на них с высоты освенцимского опыта, вынуждает автора письма отвергнуть традиционные, стереотипные представления: «Лишь теперь я понял, чего стоят создания древности. <…> Этот древний мир был гигантским концентрационным лагерем, где рабу выжигали на лбу тавро владельца и распинали на кресте за побег! <…> Помнишь, как я любил Платона? Теперь я знаю, что он лгал. Ибо в земных вещах вовсе не отражается идеал, в них заложен тяжкий, кровавый труд человека. Это мы строили пирамиды, ломали мрамор для храмов и камень для имперских дорог, это мы гребли на галерах и волочили соху, а они писали диалоги и драмы, оправдывали свои интриги благом отечества, воевали за границы и за демократию. Мы были грязны и умирали всерьез. У них был эстетический вид, и они спорили для вида.
Я говорю "нет" красоте, если в ней таится издевательство над человеком. Нет – истине, которая об этом издевательстве умалчивает. Нет – добру, которое его дозволяет». И далее: «Что будет мир знать о нас, если немцы победят? <…> О нас умолчат поэты, адвокаты, философы, священники. Они создадут красоту, добро и истину. Создадут религию».
Казалось бы, круг замкнулся: История на новом витке повторяет себя; Цивилизация все так же находит оправдание убийству и террору, облекая рабство в более изощренную форму[9]. И все-таки «я считаю, что достоинство человека поистине заключено в его мысли и в его чувствах». Фраза, завершающая письмо, по сконцентрированному в ней смыслу близка «морали бунта» Камю. Позитивный, с точки зрения французского мыслителя, метафизический бунт против бессмысленности существования парадоксальным образом позволяет человеку обнаружить смысловую ценность каждой конкретной личности и в конечном итоге смысловую ценность мира.
Хронологически «У нас в Аушвице» – первый из освенцимских рассказов, созданных Боровским. В последующих он откажется от прямых философских обобщений, комментариев и моральных оценок. Соответственно изменится и образ рассказчика: и прежде не тождественный, но все же духовно эквивалентный личности автора, он трансформируется в цинично-невозмутимого форарбайтера Тадека. Этот «расторопный» лагерный старожил предстанет перед читателем в рассказах, названия которых способны создать ощущение безмятежного спокойствия («Люди шли и шли», «День в Гармензе»), настроить на восприятие героико-возвышенного повествования («Смерть повстанца»). Заглавия парадоксально соотносятся с текстом, проникнуты иронией, помогающей преодолеть абсурд происходящего. Использует Боровский и прием прямого шокирующего воздействия на читателя, в частности посредством таких заглавий, как «Пожалуйте в газовую камеру» («Proszç panstwa do gazu»). Отметим, что в этом заглавии зафиксированы и те семантические изменения, которые происходили в лагерных условиях с языком.
Внимание писателя привлекает то, что в философской науке принято называть «экзистенцией» человека. В лагере с его максимальной концентрацией зла («мы не отыскиваем зло, мы утопаем в нем»), с каждодневной угрозой массовой смерти («крематорий – наша повседневность») воплощена в реальность глобальная экзистенциальная ситуация: человек перед лицом смерти, человек в ситуации выбора. А выбор невелик: «безобразная, свальная смерть» в газовой камере либо жизнь в лагере и «та же камера, только смерть еще безобразней, еще страшней» [Боровский 1989: 199]. Но человек не ропщет, он покорно принимает свою участь, до последнего вздоха надеясь на чудо, на возможность уцелеть.
Трагизм ситуаций, изображенных в рассказах Боровского, пишет А. Виртх, «заключается не в конечном выборе, а в невозможности его достижения. Предметом трагедии является не выбор, а невозможность выбора. Появление таких ситуаций, бесчеловечность которых состоит в отсутствии альтернативы, Боровский описывает как черту нового времени» [Wirth 1965: 43].
Действительно, на первый взгляд, нет выбора для человека, попавшего в общественно-репрессивную систему, которая «трактует его как вещь и отказывает ему в праве быть человеком» [Wirth 1965: 51]. Однако нельзя не учитывать еще одну исключительно важную для Боровского идею – идею «человека, который решил не сдаваться». Она нашла воплощение, в частности, в рассказе «Мальчик с Библией». «Мальчик, который читал Библию» обладает редким, но все же существующим (вопреки общим закономерностям аномального «каменного мира») качеством – «упрямством духа» (В. Франкл), позволяющим наполнять жизнь смыслом даже в абсурдных и безысходных ситуациях до последнего мгновения.
По убеждению В. Франкла, в экстремальной ситуации лагеря человек все же обладает свободой: он сам решает, какова будет его позиция по отношению к обстоятельствам, будет ли определяться его поведение ценностями и смыслами, локализованными в ноэтическом пространстве: «Телесно-душевный упадок зависел от духовной установки, но в этой духовной установке человек был свободен! Заключив человека в лагерь, можно было отнять у него все <…>, но у него оставалась эта свобода, и она оставалась у него буквально до последнего мгновения, до последнего вздоха. Это была свобода настроиться так или иначе, и это "так или иначе" существовало, и все время были те, которым удавалось подавить в себе возбужденность и превозмочь свою апатию. Это были люди, которые шли сквозь бараки и маршировали в строю, и у них находилось для товарища доброе слово и последний кусок хлеба. Они являлись свидетельством того, что никогда нельзя сказать, что сделает лагерь с человеком: превратится ли человек в типичного лагерника или все же даже в таком стесненном положении, в этой экстремальной пограничной ситуации останется человеком. Каждый раз он решает сам. <…>
Конечно, они были немногочисленны – эти люди, которые выбрали для себя возможность сохранить свою человечность: все прекрасное так же трудно, как и редко, как сказано в последней фразе «Этики» Бенедикта Спинозы» [Франкл 1990: 143–144].
Примечательно, что выводы, к которым приходят Боровский и Шаламов, одинаково беспощадны: «…лагерная жизнь убедила нас, что весь мир подобен лагерю: слабый работает на сильного, а если у него нет сил или он не хочет работать, – ему остается или воровать, или умереть. Справедливость и нравственность не правят миром, преступления не караются, а добродетель не награждается, и то и другое забывается одинаково быстро. Миром правит сила» (Т. Боровский); «Лагерь мироподобен. В нем нет ничего, чего не было бы на воле, в его устройстве социальном и духовном» (В. Шаламов). Но какими бы неутешительными и жесткими не были эти выводы, за ними кроется жизнеутверждающее начало. Это подтверждает уже сам факт написания «колымских» и «освенцимских» рассказов, запечатлевших трагедию сознания человека двадцатого столетия.
ПЛАН ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ
1. Творчество З. Налковской и Т. Боровского в литературном процессе 1940—1950-х годов.
2. Прозаические циклы З. Налковской («Медальоны») и Т. Боровского («Прощание с Марией»): идейное и жанровое своеобразие.
3. Проблематика и поэтика «малой прозы» З. Налковской.
4. Особенности повествования и способы выражения авторской позиции в «Медальонах».
5. Художественный мир новелл Т. Боровского.
• Структурно-содержательная целостность сборника «Прощание с Марией».
• Образ повествователя и его эволюция.
• Концепция человека и проблема трагического.
• Художественная деталь, ее роль в создании подтекста.
• Характер и функции иронии.
• Семантика заглавий.
• Роль предметного мира, специфика пейзажа.
• Творчество Т. Боровского в аспекте художественных принципов «новой прозы» В. Шаламова.
Вопросы для обсуждения. Задания
1. Первый опыт создания «лагерных» произведений в польской литературе принадлежал Ежи Анджеевскому и был запечатлен в рассказе писателя «Поверка» (1942), опубликованном в сборнике «Ночь» (1945). Анджеевский предпринял попытку художественно смоделировать фрагмент лагерной действительности, которая находилась вне сферы и его личного опыта, и опыта его современников, еще не до конца осознавших тогда, в самый разгар войны, насколько кардинально удалилась История от своего «исходного состояния».
Поэтика рассказа ориентирована на традиции психологической прозы межвоенного периода, прозы о «познании душевной жизни» (Л. Гинзбург). Сохраняя тот уровень представлений о человеке, который был присущ данному типу литературы, автор вводит читателя во внутренний мир персонажа, исследует в деталях динамику его мыслей, ощущений, эмоций. Проблема «автора» как таковая решается традиционно: автор «не имеет никаких сюжетных контактов со своими персонажами, последовательно дистанцирован от изображаемого им мира, не воплощен в какое-либо действующее лицо, но проявляется как "всепроникающий" дух рассказа» [Манн 1994: 441]. В изображенном писателем мире сохраняются такие категории, как доброта, совесть, долг, достоинство, грех, раскаяние. Вполне традиционна и классическая концепция трагизма, основанная на выборе между двумя противоположными системами ценностей. Анджеевский сконструировал свое произведение, используя принцип оппозиции: «мир зла и мир добра; мир дьявола, преступников, палачей и мир людей – терпеливых жертв, обладающих моральным преимуществом и благородством» [Stçpierï 1969: 167, 168].
Писатели, обратившиеся к теме лагеря несколько лет спустя, – З. Налковская и Т. Боровский – отчетливо понимали: чтобы рассказ «о мире, о котором искусство никогда до сих пор не говорило» [Rudnicki 1956: 627], обрел достоверность, необходимо отказаться от традиционных моделей и средств художественного выражения, от уже существовавшей в литературе поэтики прозаических жанров.
Каким творческим преобразованиям подверглись в прозе каждого из художников традиционные формы отражения действительности?
Чем, на ваш взгляд, определяется «некая единая тональность» (В. Ведина) их произведений?
2. Раскройте концептуальную роль эпиграфа в «Медальонах» Налковской? Как соотносится эпиграф с содержанием первого («Профессор Шпаннер») и заключительного («Дети и взрослые в Освенциме») рассказов сборника?
3. Как решается в «Медальонах» проблема автора?
4. «Медальоны» литературная критика относит к числу лучших произведений, разоблачающих зверства фашизма. Подумайте над вопросом: только ли пафосом разоблачения исчерпывается значение и актуальность книги Налковской?
5. Раскройте содержание «философской формулы», о которой рассуждает Боровский в рассказе «У нас в Аушвице». Как она реализована в последующих произведениях цикла «Прощание с Марией»?
6. Боровский намеренно придал повествователю своих рассказов (студент Тадеуш) черты автобиографичности, что позволило критикам отождествлять созданный автором образ «типичного лагерного конформиста, ловкача без угрызений совести, <…> умеющего обеспечить себе сносную жизнь и в результате умножить свои шансы на выживание» [Lisiecka 1965: 57, 59] с самим автором.
Как вы думаете, почему в «освенцимских» новеллах автор целиком передоверил и описание, и оценку лагерной действительности повествователю-конформисту? Какую эволюцию претерпевает образ повествователя в рамках цикла? Аргументируйте свой ответ.
7. Охарактеризуйте композиционную структуру цикла «Прощание с Марией». Какие художественные средства и приемы создают его целостность?
8. Раскройте смысл названия сборника «Прощание с Марией». Какую роль играет это заглавие в создании идейно-художественной целостности цикла?
9. Прочитайте новеллу Боровского «Прощание с Марией», помещенную в Приложении. Проанализируйте повествовательные приемы писателя.
10. Прочитайте рассказ Боровского «Мальчик с Библией» и ответьте на следующие вопросы:
1) Согласны ли вы с мнением тех исследователей, которые характеризуют рассказ как произведение, изображающее мир, «лишенный ценностей» и «в довершение ко всему абсолютно однородный, без исключений» [Buryla 1999: 36; Wirth 1965: 166]?
2) Как репрезентировано в «Мальчике с Библией» пространство бытовое и бытийное, онтологическое?
3) Какую роль играет в рассказе микродиалог?
4) Какие интерпретации допускает трагический финал рассказа (убийство «мальчика с Библией»)?
11. В прозе Боровского «смысловой коэффициент» текста повышается за счет художественных деталей, которые, выходя за пределы собственно портрета, пейзажа или интерьера, трансформируются в сторону импликации глубинного смысла, приобретают звучание символа и формируют подтекст. Опираясь на тексты произведений, покажите, какие «детали-символы» являются наиболее значимыми для идейно-философской концепции книги Т. Боровского?
12. Как в содержательно-композиционном плане соотносится «Мальчик с Библией» со следующей новеллой цикла – «У нас в Аушвице»?
13. Что представляет собой «чудовищная цивилизация» лагеря, изображенная в освенцимских новеллах? В чем, по Боровскому, состоит «мироподобие» лагеря, его соответствие глобальной идеологической модели?
14. Новеллу «Битва под Грюнвальдом» можно рассматривать в качестве своеобразного эпилога лагерного текста Боровского. Образ рассказчика получает здесь свое последнее воплощение: это человек, который смог дожить до освобождения, человек, который находится на новой ступени своего бытия. Можно ли признать этот финал счастливым? Аргументируйте свой ответ, опираясь на текст новеллы.
Рекомендуемая литература
Тексты
Боровский Т. У нас в Аушвице. (Журнальный вариант) // Иностранная литература. 1988. № 10.
Боровский Т. Прощание с Марией. Рассказы. М.: Художественная литература, 1989.
Электронный ресурс: Тадеуш Боровский. Сборник прозы «Прощание с Марией». Режим доступа: ; .
Критические работы
Британишский В. О Тадеуше Боровском // Иностранная литература. 1998. № 10. С. 105–108.
Британишский В. Жизнь и гибель Тадеуша Боровского // Речь Посполитая поэтов: очерки и статьи. СПб.: Алетейя, 2005. С. 342–352.
Древновский Т. Предисловие // Т. Боровский. Прощание с Марией. Рассказы. М.: Художественная литература, 1989. С. 5—22.
Лошакова Т. В. Об экзистенциальном содержании эпиграфа в «Медальонах» Зофьи Налковской // Res philologica. Ученые записки Северо-двинского филиала Поморского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Архангельск, 2004. Вып. 4. С. 293–295.
Лошакова Т. В. Экзистенциальная проблематика «Медальонов» З. Налковской // Творчество Зофьи Налковской и славянские культуры: мат-лы Междунар. научн. конф. (19–22 мая 2004) / Отв. ред. С. Ф. Мусиенко. Гродно: ГрГУ, 2005. С. 122–132.
Станюкович Я. В. Место Тадеуша Боровского в современной польской литературе // Художественный опыт литератур социалистических стран. М.: Наука, 1967. С. 125–161.
Старосельская Н. Возвращенные имена // Литературное обозрение. 1991. № 9. С. 44–49.
Юзовский Ю. Польский дневник // Новый мир. 1966. № 2. С. 164–191.
Дополнительная литература
Ведина В. П. Послевоенная польская проза. Проблематика и поэтика. Киев: Наукова думка, 1991.
Гелескул А. Испепеленный гневом // Иностранная литература. 2008. № 9. С. 92–94.
Гусев Ю. Литература перед лицом Апокалипсиса (Геноцид как рецепт всеобщего счастья) // Итоги литературного развития в ХХ веке в проблемно-типологическом освещении. Центральная и Юго-Восточная Европа. М.: Индрик, 2006. С. 148–177.
ТЕМЫ ДЛЯ РЕФЕРАТОВ И ДОКЛАДОВ
1. «Лагерная» проза в контексте русской и западноевропейской литературы 2-й половины ХХ века.
2. Личность и творческая судьба Т. Боровского.
3. Новаторские черты поэтики и эстетики Т. Боровского.
Тема 4 Последние произведения Эрнеста Хемингуэя (Коллоквиум)
ПЛАН КОЛЛОКВИУМА
I. «За рекой в тени деревьев» (1949) – творческая неудача или непонятое произведение?
1. История создания романа и его место в контексте творчества писателя.
2. Проблемно-тематическое своеобразие романа (военная тема, мотивы любви и одиночества, борьбы, проблема нравственного выбора и др.).
3. Полковник Кантуэлл как тип хемингуэевского героя.
4. Психологизм и лиризм как отличительные черты художественного строя романа.
Вопросы для обсуждения. Задания
1. И. Кашкин выделил в романе «три основные темы: отношение к войне, элегическую ноту умирания и одиночество героя». В чем проявилось своеобразие художественного мастерства Хемингуэя-романиста в раскрытии данных тем?
2. Известно, что Хемингуэй очень высоко ценил свой послевоенный роман и был крайне удивлен единодушной негативной оценкой этого произведения критикой. Выскажите свое отношение к роману, оцените его жанровое своеобразие, сюжет, стиль. Согласны ли вы, что в книге:
– «в сущности, вовсе нет исторического действия. События, сформировавшие характер героя, не показаны, и сам он не столько действует, сколько резонерствует, изливает годами накопившееся недовольство и раздражение, пусть вполне оправданное, но в то же время и крайне субъективное»;
– «для выражения тех идей, которые интересовали писателя, полковник Кантуэлл не был вполне удовлетворительной личностью»; «для профессионального военного Кантуэлл слишком хорошо образован, знает слишком много такого, что никак не связано ни со стратегией, ни с тактикой. За фигурой героя то и дело отчетливо просматривается фигура самого автора с его, хемингуэевским, жизненным опытом, желаниями и чувствами, и не всегда этот опыт идет к делу»;
– «показательные слабости обнаруживаются в сюжете произведения <…>. Характер сюжета сам по себе исключает возможность создания широкой исторической картины»;
– «любовная линия романа представляется бледной тенью того, что мы видели в этом плане у писателя раньше. Вместо реального полнокровного чувства автор рисует неопределенные отношения, заведомо и заранее обреченные»;
– «стиль… грешит не только в частностях, но и в самих основах».
(Лидский Ю. Я. Творчество Э. Хемингуэя. Киев, 1978. С. 372–380.)
3. Прочитайте следующие выдержки из отзывов критиков о романе:
«Это либо самоповторение в виде прекрасных описаний охоты, ветра Венеции, воспоминаний о войне, либо, что хуже, – это самопародия» (И. Кашкин)[10]; «Нельзя рассматривать этот роман только как политический документ эпохи или как политическое кредо Хемингуэя. Это прежде всего поэтическое произведение, лирическое, исполненное трагизма» (Т. Денисова)[11].
Истории литературы известны факты, когда «писатель перешел уже на какие-то новые позиции, а читатели (и критики) воспринимают его произведение в старом ключе, в свете сложившихся на основе предыдущего творчества представлений»[12]. Подумайте, не по этой ли причине роман Хемингуэя заслужил столь негативную оценку критики?
4. В одном из эпизодов романа графиня Рената говорит полковнику: «Чем подробнее ты расскажешь, тем легче станет тебе». Как вы считаете, может быть, мотив запоздалой любви к красавице венецианке, образ самой юной графини Ренаты нужны были писателю лишь для того, чтобы дать полковнику внимательного и чуткого слушателя, побуждающего его говорить о самом главном?
5. Какими качествами полковник Кантуэлл близок прежним героям Хемингуэя – Нику Адамсу, Фреду Генри, Джейку Барнсу? Чем полковник отличается от них?
II. «Старик и море» (1951) – гимн человеку и самой жизни.
1. История создания повести «Старик и море».
2. Смысл названия повести.
3. Тематическое многообразие повести:
• человек и природа;
• смысл жизни;
• преемственность поколений;
• «борьба человека с жизнью и художника с искусством» (С. Сэндерсон);
• одиночество и страдание человека «в черной дарвинистской вселенной» (М. Гайсмар);
• торжество жизни над смертью.
4. Жанровое своеобразие повести:
• «…и реалистический рассказ, и символическое произведение» (Д. Уолдмеир);
• «философская притча» (И. Кашкин);
• «философская повесть, в основе которой лежит чисто реалистический сюжет без признаков чудесного, фантастического или сверхъестественного» (Ю. Лидский).
5. Образ Сантьяго и принципы его создания.
5.1. Система оппозиций: старик и мальчик, старик и рыбаки, старик и туристы, старик и марлин, старик и жизнь и др.
5.2. Смысл фамилии старика – Сантьяго.
5.3. Старик – воплощение жизненных позиций самого Хемингуэя.
6. Художественное своеобразие повести:
• идейно-композиционная функция лейтмотивов («большая рыба», «бейсбол», «мальчик», «львы» и др.);
• подтекст и его смысловая роль;
• локальность повествования;
• функция «ключевой фразы»;
• диалогичность, своеобразие несобственно-прямой речи;
• символика образов;
• слияние романтического и реалистического начал;
• расширение перспективы, художественное пространство и время.
7. «Старик и море» – «философский эпилог той большой книги, которую Хемингуэй писал всю свою жизнь» (Ю. Лидский).
8. «Старик и море» и традиции американской литературы («Моби Дик» Г. Мелвилла и др.).
Вопросы для обсуждения. Задания
1. Докажите справедливость определения жанра «Старика и моря» как повести-притчи.
2. Подготовьте сообщения:
• о смысловом наполнении фамилии героя – Сантьяго;
• об опосредованной духовной и образной связи повести с Библией.
3. Проследите развитие лейтмотива «необыкновенная рыба» в повести и объясните, как он решен. В чем смысл именно такого, а не иного решения? Покажите, как посредством лейтмотивов («большая рыба», «бейсбол», «мальчик», «львы» и др.) автор раскрывает свою позицию, свою концепцию мира и человека в нем. Какого художественного эффекта достигает Хемингуэй взаимопереплетением лейтмотивов?
4. Раскройте смысл финальной картины повести: «Наверху, в своей хижине, старик опять спал. Он снова спал лицом вниз, и его сторожил мальчик. Старику снились львы».
5. Что дает повод критикам сравнивать «Старика и море» с «Непобежденными» Хемингуэя? Что общего между Сантьяго и Мануэлем, чем они отличаются друг от друга?
6. Сравните произведение Хемингуэя с повестью В. Астафьева «Царь-рыба» (эпизод схватки браконьера Игнатьича с гигантским осетром). Можно ли говорить об идейно-философской перекличке этих произведений?
7. Американские литературоведы М. Каули, К. Бейкер определяют место Хемингуэя не среди реалистов, а рядом с Э. По, Н. Готорном и Г. Мелвиллом; в то же время Дж. Килленгер считает, что Хемингуэй в своем творчестве исходил из экзистенциализма и стоял на его позициях. Имеют ли эти и подобные утверждения, на ваш взгляд, определенные основания?
8. Подготовьте сообщения на темы:
• Хемингуэй и русская литература периода «оттепели»;
• идейно-художественное своеобразие произведений Хемингуэя, опубликованных посмертно, – книги очерков «Праздник, который всегда с тобой» (1964), романа «Острова в океане» (1969).
Рекомендуемая литература
Тексты
Хемингуэй Э. За рекой в тени деревьев. (Любое издание) Хемингуэй Э. Старик и море. (Любое издание) Хемингуэй Э. Праздник, который всегда с тобой. (Любое издание) Хемингуэй Э. Острова в океане. (Любое издание)
Критические работы
Вахрушев В. С. Уроки мировой литературы в школе: 5—11 кл.: кн. Для учителя. М.: Просвещение: ВЛАДОС, 1995. С. 202–205. Кашкин И. Эрнест Хемингуэй. М.: Художественная литература, 1966. Лидский Ю. Я. Творчество Э. Хемингуэя. Киев: Наукова думка, 1978. Старцев А. Последние книги // Э. Хемингуэй. Старик и море; Опасное лето; Острова в океане. М., 1989. С. 569–575.
Дополнительная литература
Вайль П., Генис А. Перевернутый айсберг. Америка // 60-е. Мир советского человека. М.: Новое литературное обозрение, 2001. С. 65–74. Грибанов Б. Т. Эрнест Хемингуэй. Ростов н/Д: Феникс, 1998. Дудова Л. Хемингуэй, Эрнест Миллер // Зарубежные писатели: биобиблиографический словарь: В 2 ч. Ч. 2. / Под ред. Н. П. Михальской. М.: Просвещение, 1997. С. 377–379. Маянц З. Человек один не может. М.: Просвещение, 1966. Орлова Р. Русская судьба Хемингуэя // Вопросы литературы. 1989. № 6. С. 77—107.
Тема 5 Философская повесть-притча Пера Фабиана Лагерквиста «Варавва» (Практическое занятие)
Пер Фабиан Лагерквист (Pär Fabian Lagerkvist, 1891–1974), классик шведской литературы, известен как поэт, автор рассказов, драматических и публицистических произведений, ставших хрестоматийными у него на родине и переведенных на многие языки мира. Вершинные достижения писателя – его философские повести-притчи «Варавва» (1950), «Сивилла» (1956), «Мариамна» (1967). Объединенные общей темой «поисков истины», они составили так называемый «библейский цикл». Первая книга цикла – повесть «Варавва» – была отмечена Нобелевской премией в 1951 г.
Обращаясь к жанру философской повести, Лагерквист не стремился к тому, чтобы создать художественную иллюстрацию к какой-то определённой философской системе или доктрине. Его цель иная: «Проникнуть в "тайны жизни", постигнуть ее закономерности, исторические и психологические. Здесь он сродни Достоевскому, которого высоко ценил и считал непревзойдённым художником-психологом. Сближает их и напряженный интерес к личности, к человеческим страданиям» [Неустроев 1981: 6].
Повести-притчи Лагерквиста насыщены символикой, аллегориями, и это дало основания шведским критикам определить метод писателя как «символический реализм». Лагерквиста интересуют «вечные вопросы»: смысл бытия, жизнь и смерть, добро и зло, вера и безверие, владычество и рабство, ненависть и любовь. Сопряженные в единое целое, эти проблемы создают «нервную» ткань повести «Варавва», связывая ее с философско-религиозными идеями, этическим содержанием социальных и политических вопросов «падшего» мира.
Сюжет «Вараввы» основан на евангельском слове о суде над Иисусом Христом, о его распятии и чудесном воскресении. Но главный персонаж повести не Христос, а Варавва, сведения о котором очень скудны. В Евангелии отмечается лишь факт существования разбойника по имени Варавва, посаженного в темницу со своими сообщниками, «которые во время мятежа сделали убийство» (Марк, 15, 7). Волею судьбы разбойник должен был принять смерть в один день с Иисусом Христом, но поскольку день казни совпадал с праздником Пасхи, народ по существующей в Иудее традиции волен был даровать жизнь одному из осужденных. И по подсказке старейшин люди потребовали отпустить Варавву. Пилат, не ожидавший столь неправедного решения, повиновался. Он, «желая сделать угодное народу, отпустил им Варавву, а Иисуса, бив, предал на распятие» (Марк, 15, 15). Так в последний раз в Евангелии упоминается имя Вараввы, вместо которого Сын Божий принял смерть на кресте, искупив тем самым грехи человеческие.
Повлияло ли случившееся на душу разбойника? Что сталось с Вараввой после счастливого избавления? Каким он был? Об этом мы узнаем из повести Лагерквиста. Домыслив дальнейшую судьбу Вараввы, писатель, по определению А. Зверева, представил «образец искусства поэтической реконструкции мифа», притчу, «в которой воссоздан живой образ мира» [Зверев 1988: 15] и, добавим, живой образ человека с пробуждающимся сознанием, обречённого на мучительные поиски истины и веры.
История жизни Вараввы восстанавливается постепенно, по мере погружения читателя в мир души, подсознания героя. Оказывается, он был зачат и рожден в ненависти. Жил, не зная ни отца, ни матери. Его мать, обесчещенная преступниками, среди которых был и его отец Елиаху, прокляла ребенка в утробе и «исторгла, ненавидя небо и землю и Творца неба и земли». Всегда ненавидел Варавву и страшный, могучий Елиаху; это он оставил шрам на лице Вараввы в схватке, которая стала для старого разбойника последней: Варавва сбросил его в пропасть.
Он жил, не зная любви и не задумываясь над своим одиночеством в мире людей, воспринимая его как данность. Он привык полагаться лишь на самого себя и поневоле стал преступником. Обо всем этом мы узнаем позже. А пока на Голгофе, поодаль от всех, кто сопровождал Христа, стоит не знакомый никому человек и не отрываясь смотрит на умирающего. «Имя человека – Варавва. О нем и написана эта книга»[13].
«И вот он стоял на лобном месте и смотрел на того, кто висел на среднем кресте, и не мог оторвать от него глаз. <…> Когда он увидел его, еще тогда, возле дворца, он сразу понял, что тот не такой, как все люди. Почему – он не мог бы сказать, просто он это понял. Никогда еще не встречал он никого даже похожего. Но может, так ему показалось потому, что он только что вышел из застенка и глаза еще не привыкли к свету. Вот он и увидел его сперва будто в каком-то сиянии. Сияние, конечно, сразу погасло, глаза у Вараввы снова стали зоркие, как всегда, опять прекрасно видели все вокруг, а не только того – одиноко стоявшего возле дворца. Но все равно – тот был странный какой-то, ни на кого не похожий. И Варавва не мог понять, как могли такого бросить в тюрьму, приговорить к смерти, в точности как его самого. Это не умещалось у него в голове. Конечно, что за дело Варавве, но как могли они осудить такого? Ясно же, он невиновен».
Характер Вараввы писатель показывает, психологически мотивируя изменения в поведении героя и его мировосприятии. При этом Лагерквист сохраняет простоту изложения, лаконичность описаний. Так, особой характерологической выразительностью отличается портрет Вараввы, представленный в самом начале повести: «. Он был крепок, желт лицом, борода рыжая, волосы черные. Брови тоже были черные, а глаза запали, словно для того, чтобы лучше упрятать взгляд. Под одним глазом начинался глубокий шрам, шел вниз и терялся в бороде. Но не так уж важно, как выглядит человек».
Фраза, завершающая портретное описание, является ключевой. Она предостерегает читателя от поспешных выводов, поскольку слишком многое настораживает в облике Вараввы и прежде всего – глаза, прячущие взгляд. Эта деталь (она будет неоднократно повторяться в тексте) позволяет передать особое, «замкнутое» состояние героя. При внимательном прочтении за скупыми деталями обнаруживается психологический и философский подтекст, помогающий открыть новые грани в характере Вараввы и уяснить многомерность его образа.
Рыжебородый разбойник меняется после событий на Голгофе. Он всегда был «чудной», но теперь Варавву и вовсе не могут понять те, кто хорошо знал его прежде. «Интересно, сам-то Варавва знал, что с ним приключилось? Что в него вселился чужой дух? Что… живет в нем распятый? Знал или не знал? Может, и догадывался, но от этого ему не было легче…». В размышлениях толстухи, озадаченной поведением своего возлюбленного, много проницательности. Действительно, в разбойнике «живет распятый». Варавва настойчиво, сам того не желая, возвращается в мыслях к невинно убиенному, стремясь понять, в чем сила тщедушного человека, которого многие называли Учителем, и наконец отважившись спросить у Заячьей Губы, чему же учил Иисус, слышит в ответ: «Надо любить друг друга».
Ненависть – вот чувство, которое было понятно и привычно для Вараввы. Он смог понять мать распятого, чье «суровое, темное лицо не умело выразить всего ее горя и показывало только, что ей не охватить умом того, что случилось, и никогда не простить. Ее-то понял Варавва». Но какую любовь проповедовал Учитель, этого Варавва не может уяснить. Ведь Любовь, как и Бога, можно постичь сердцем, но не разумом – Варавва же чрезмерно рационалистичен. Лагерквист не дает определения любви, но несомненно, что он, как и его герой, пытается найти ответ на один из ключевых вопросов христианской этики – науки «о нравственном добре и зле и об осуществлении его в поведении человека» [Лосский 1991: 24].
Девушка с заячьей губой сердцем приняла Бога и познала его любовь. Она была избрана Господом, дабы свидетельствовать о Нем. Но не слишком ли тяжела миссия, возложенная Иисусом на слабое, беззащитное и косноязычное создание? Ее слово о Господе и Спасителе, произнесенное перед единоверцами, никого не растрогало. «Говорила она еще нелепей и неразборчивей, чем обычно, потому что не привыкла, чтоб ее слушало сразу столько народу, и, конечно, конфузилась. А они ясно показывали, что им не по себе, что они не знают, куда глаза девать от стыда, а иные даже просто отворачивались. Наконец она что-то промямлила, вроде: "Господи, вот я и свидетельствовала о тебе, как ты повелел". И снова скорчилась на земляном полу, стараясь привлекать к себе как можно меньше внимания. Все смущенно переглядывались. Она будто насмеялась над ними».
Трудно согласуется с идеей любви поведение учеников Иисуса. Слишком часто их глаза, обращенные к Варавве, горят ненавистью. Они еще не постигли того, что «любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится. Не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла. Не радуется неправде, а сорадуется истине» (1 Кор. 13, 4–6).
Варавва был избран Богом, «его отпустили вместо самого Сына Божия – тот сам так пожелал, так повелел». Варавве дано было видеть: он видел черную тьму, объявшую гору, когда «распятый закричал громким голосом: "Боже мой! Боже мой! Для чего ты меня оставил?"». Но Варавва тяготится этим даром и вскоре утрачивает его, когда рассудочно, «логично» объясняет себе чудо воскрешения Христа. «Кто отвалил камень и кто унес мертвого – догадаться нетрудно. Все сделали ночью ученики». Он радуется тому, что «он ничего этого не видел. Значит, глаза у него исправились, стали опять как у людей, и теперь ему не мерещится, он видит все так, как оно есть. Нет у того человека больше над ним власти».
И опять Лагерквист уходит от прямого ответа на вопрос, было или не было чуда. Этот вопрос задает себе Варавва и вместе с ним читатель, которому суждено по воле автора пройти вместе с героем путь поисков истины. В эпизоде, рассказывающем о чуде Воскресения, точка зрения рассказчика явно дистанцирована от точки зрения Вараввы, но искусно скрыта: «Уже светало, и скоро первый луч солнца упал на скалу, в которой был высечен гроб. Все случилось так быстро, что он ничего не заметил – а тут бы как раз и следить Варавве! Гроб был пуст! Камень был отвален от двери гроба, и гроб в скале был пуст!»
Варавва не может верить безоглядно, слепо, самоотреченно, как веруют Заячья Губа и Саак. Обладая скептическим складом ума, он не может без доказательств принять истину, которая другим кажется такой очевидной. Многое заставляет усомниться Варавву: «мертвые глаза» воскрешенного Лазаря, страшная смерть «за веру» Заячьей Губы, а затем казнь Саака, сопровождаемые «молчанием Христа».
Варавва уверовал в чудо воскрешения Лазаря, но не может понять, «зачем их Учителю понадобилось его воскрешать». Никто не спрашивал воскрешенного о том, какое оно, царство мертвых. Спросил Варавва. Ответ потряс его: «Царство мертвых – это ничто. Но для того, кто там побывал, и все остальное – ничто». В отличие от учеников Христа, познавший смерть не делает различий между людьми. Лазарь преломил хлеб с Вараввой, хотя тот, не лукавя, признался Лазарю, что не верует в Сына Божия.
«Какой тайный смысл скрывался за этой вечерей?» – вопрос, введенный в канву несобственно авторской речи, не находит в повести прямого ответа. Но несомненно значимым для философской концепции повести является то, что эпизод «вечери любви с Вараввой» сменяется следующим: «Толстуха удивилась и обрадовалась тому, как жадно взял ее в тот вечер Варавва. Он был в тот вечер просто горяч. Она не могла понять, отчего бы, но сегодня его правда надо утешить. А кому, как не ей, утешить Варавву?»
Жизнь есть добро, главнейшая ценность человека – не эта ли простая истина утверждается Лагерквистом? Но жизнь – это извечная борьба добра со злом. Одна из коллизий повести восходит к вечному вопросу: если Бог так бесконечно могуч и добр, то почему же в мире существуют зло и несправедливость? Если Бог не может уничтожить зло, то он не всемогущ; а если не хочет – не является всеблагим. В Лагерквисте нельзя заподозрить сторонника теодицеи – идеи богооправдания; напротив, он, подобно Достоевскому, предельно заостряет неразрешимый вопрос, переводя его в плоскость художественного осмысления. Свидетельство тому – трагическая судьба Заячьей Губы, одной из тех, кто предался Творцу и волей, и умом, и сердцем.
Жизнь ее была полна страданий. И вина за эти страдания во многом ложилась на Варавву, который, сказав, что любит ее, воспользовался ее невинностью и доверчивостью. Заячья Губа повторила судьбу матери Вараввы: была проклята, и так же проклят был еще во чреве ее ребенок, родившийся мертвым. Она не ждала для себя чудес от Господа, а просто верила в него. «Как он был с нею ласков. Никто еще никогда не был с нею так ласков». А вскоре Заячью Губу, не пожелавшую отречься от своей веры, забили камнями. Как совместить любовь Бога с его «молчанием»? Он не вступился, не явил чуда. Вот этого не мог Варавва ни понять, ни простить: «Истинный, да? Спаситель мира? Спаситель рода человеческого? Так почему же ей-то он не помог? Допустил, чтобы из-за него ее побивали камнями? Раз он спаситель, почему же ее не спас?» Клайв А. Льюис говорит: «Страдание может не только пробудить, но и озлобить, привести нас к последнему и нераскаянному мятежу» [Льюис 1992: 421].
Варавва, как и Иван Карамазов, бросает вызов Богу, отвергает веру как несправедливость. «Тот, кому страдания детей мешают открыть сердце для веры, не примет жизни вечной» [Камю 1990: 161]. Варавва – бунтарь, человек действия. Он не сумел защитить Заячью Губу, но убил того, кто первым кинул в нее камень. Сердце его ожесточилось. Грабежи и убийства, учиненные Вараввой после гибели Заячьей Губы, можно рассматривать как единственно приемлемую для него форму протеста. «Показательно, однако, – отмечает В. Неустроев, – что "испытание верой" оказалось губительным для разбойника, не смогшего остаться в шайке. Ступени возмужания Вараввы не были легкими: встреча с Сааком на каторге, скепсис, поиски новой веры – "веры через отрицание"» [Неустроев 1980: 238].
В повести есть деталь-символ, которая многое дает для понимания концепции образа Вараввы: металлическая бирка с тавром Римского государства, которую вешали на шею рабам. Саак и Варавва вырезали имя Спасителя у себя на бирке. Эта бирка с именами двух властителей – государства и Бога – может рассматриваться в качестве аллюзивного знака, отсылающего читателя к гегелевской «Феноменологии духа». Немецкий философ в своем описании «несчастного сознания» показал, «как раб-христианин, стремясь отрицать то, что его угнетают, укрывается в потустороннем мире и вследствие этого ставит над собой нового господина в лице Бога. Впрочем, Гегель отождествляет верховного господина с абсолютной смертью» [Камю 1990: 228]. В этом аспекте глубоко символично, что Варавва Лагерквиста, умирая на кресте, предает душу свою тьме (вспомним царство мертвых – «ничто», из которого вернул Иисус Лазаря).
Символическое значение бирки раскрывается в сцене пожара, специально устроенного врагами христиан, чтобы обвинить их в поджоге. Варавва же, увидевший пожар, вспомнил, что проповедовали последователи Христа: прежде чем придет Царство Небесное, «рухнет этот грешный, негожий мир». Значит, час пробил: «Распятый вернулся, тот, с Голгофы, вернулся. Чтоб… разрушить этот мир. Он же обещался. Наконец-то он явил свою силу. И Варавва должен ему помочь! Пропащий Варавва, пропащий брат его по Голгофе, теперь уже не подведет! <…> Одну за другой он хватал головни и бросал, бросал, в подвалы, в дома! Он не подведет». Но Варавва обманулся: не Богу, чье имя было перечеркнуто у него на бирке, он служил в этот час, а государству, которое преследовало рабов Божьих. «Сам того не ведая, ты служил законному своему владельцу. Наш Бог есть Любовь», – говорит Варавве седобородый старик христианин. Действительно, Варавва был движим чувством ненависти к несправедливому миру. Ненависть отчуждала его от людей. «Он был заперт в самом себе, в своем царстве мертвых. И как из него вырваться? Один-единственный раз был он соединен с другим человеком. Да и то железной цепью. Только железной цепью, и больше ничем, никогда».
Художественное исследование «бунтующего человека» Вараввы, проведенное Лагерквистом, во многом созвучно идеям А. Камю, который писал, что «бунт порождается осознанием увиденной бессмысленности, осознанием непонятного и несправедливого удела человеческого. <.> Бунт хочет, бунт кричит и требует, чтобы скандальное состояние мира прекратилось и наконец-то запечатлелись слова, которые безостановочно пишутся вилами по воде. Цель бунта – преображение. Но преобразовывать – значит действовать, а действие уже завтра может означать убийство, поскольку бунт не знает, законно оно или незаконно» [Камю 1990: 126].
Идейно-образная структура повести Лагерквиста с особой остротой ставит вопрос о различении позиций автора и героя. Мы не можем однозначно утверждать, с кем солидарен автор: с Вараввой, искавшим, но так и не нашедшим Христа, любви, или, возможно, с теми «участниками ненасильственного сопротивления», кто «принимает страдание без возмездия», веруя, что «в их борьбе за справедливость космос на их стороне» [Кинг 1992: 181]. Ясно одно: «Варавва» призван не столько дать решение, сколько поставить вопрос – такой, «чтобы он не давал людям покоя» (Вс. Гаршин). В заключительном эпизоде старик, узнавший Варавву-отпущенника, говорит своим разгневанным ученикам: «Мы полны изъянов и пороков, и не наша заслуга, если Господь милует нас. Мы не вправе судить человека за то, что у него нету Бога».
Действительно, проблема веры и безверия – одна из главных в повести. Но, обладая многомерностью символа, фигура Вараввы олицетворяет собой и противоречия, присущие человеку как таковому и человечеству в целом, противоречия, которые лежат в основе жизни. И путь Вараввы от креста до креста – это ли не путь человечества, не сумевшего принять Божьей благодати?
В какой-то мере образ Вараввы воплощает и жизненное кредо самого Лагерквиста. В дневнике писателя можно прочесть следующее: «Подвергай все сомнениям. И тогда научишься верить во все» (цит. по: [Зверев 1988: 9]). А шведский поэт Эрик Линдегрен писал, что Варавва, спокойно наблюдающий, как вместо него распинают Христа, невольно вызывает ассоциацию со шведским нейтралитетом во время Второй мировой войны. И это далеко не полный перечень возможных интерпретаций, скрытых в образе-символе Лагерквиста.
Свой устойчивый интерес к мифам, к легендам писатель объяснял тем, что в далеком прошлом можно угадать настоящее и даже будущее. Все повторяется, так как история человечества развивается по спирали. Отметим, кстати, что мотив «повторяемости» в прозе Лагерквиста заявляет о себе и на уровне образов. Не только Христос, но и Варавва, и Заячья Губа, и Саак несут свой крест, и у каждого из них – своя Голгофа.
«Жизнь вечная…
А был ли какой-то смысл в той жизни, что прожил Варавва? Вряд ли. Но ведь он ничего про это не знал. И не ему это было решать».
ПЛАН ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ
1. Отражение идей «воинствующего гуманизма» Лагерквиста в его творчестве.
2. Особенности жанра притчи и причины обращения к нему Лагерквиста.
3. Своеобразие цикла повестей Лагерквиста, созданных на основе библейских сюжетов и апокрифов.
4. Тематика и проблематика повести «Варавва».
5. Философско-этическое содержание основного конфликта «Вараввы».
6. Система образов в повести.
7. Образ Вараввы и художественные принципы его построения. Значение финальной сцены для понимания образа Вараввы.
8. Изображение социального дна в повести (горожане, разбойники, каторжники). Образы Заячьей Губы и Саака.
9. Художественное своеобразие повести.
9.1. Бытовой и символический план композиции и сюжета произведения.
9.2. Система мотивов повести. Интерпретационная значимость мотива повторяемости.
9.3. Роль художественной детали в повести.
9.4. Символическое и аллегорическое в «Варавве».
10. Гуманистическое значение произведения, его связь с современностью.
Вопросы для обсуждения. Задания
1. Сопоставьте словарные статьи «Притча», помещенные в «Библейской энциклопедии» (т. 2, М., 1991), а также в «Краткой литературной энциклопедии» (М., 1971), «Словаре литературоведческих терминов» (М., 1974), «Литературном энциклопедическом словаре» (М., 1987). На каком основании жанр «Вараввы» определяется как повесть-притча?
2. Прочитайте в Новом Завете о последнем суде над Иисусом Христом у Пилата, о крестном пути Иисуса Христа на Голгофу, распятии и смерти Христа и о его воскресении. Как трансформировалось евангельское слово в повести Лагерквиста?
3. Во время дискуссии, развернувшейся в 1951 г. по поводу концепции повести «Варавва», шведские критики по-разному оценивали главного героя произведения Лагерквиста: одни считали его человеком несчастным, разуверившимся во всем, другие видели в нем духовно богатую личность. Чья точка зрения представляется вам более правомерной? Аргументируйте свой ответ.
4. Можно ли назвать Варавву фигурой символической? Или он более соответствует убеждению писателя, что и в притче герой должен быть «сложен по-человечески, а не аллегорически»?
5. Подумайте, что изменилось в жизни Вараввы с того дня, когда ему было даровано помилование?
6. В чем проявляется противоречивость и сложность характера Вараввы (обратите внимание на эпизоды встречи с Христом, Заячьей Губой, Лазарем, воскресшим из мертвых, Сааком, римским правителем)?
Рекомендуемая литература
Тексты
Лагерквист П. Избранное: сборник. М.: Прогресс, 1981. Попов М. Огненный знак, или След пропащей души: роман-притча // М. Попов. Мужские сны на берегу океана: книга прозы. Архангельск, 1997.
Критические работы
Неустроев В. П. Литература Скандинавских стран (1870–1970): учеб. пособие для филол. фак. ун-тов. М.: Высш. школа, 1980.
Неустроев В. П. Художник-мыслитель //П. Лагерквист. Избранное: сборник. М.: Прогресс, 1981. С. 5—15.
Храповицкая Г. Н. Лагерквист // Зарубежные писатели: биобиблиографический словарь: В 2 ч. Ч. 1. М.: Просвещение, 1997. С. 412–415.
Дополнительная литература
Брауде Л. П. Лагерквист и его трилогия // П. Ф. Лагерквист. Смерть Агасфера; Пилигрим в море; Святая земля. СПб.: Азбука, 1999. С. 249–258.
Зверев А. Пилигрим в море // Новый мир. 1998. № 5. С. 248–252.
Литература и мифология / Под ред. А. Л. Григорьева. Л., 1975.
Лагерквист П. Наброски // Писатели Скандинавии о литературе. М.: Радуга, 1982. С. 330–338.
Мелетинский Е. М. Поэтика мифа. М.: Языки славянских культур, 1995.
Фрай Н. Критическим путем. Великий код: Библия и литература // Вопросы литературы. 1991. № 9/10. С. 159–187.
ТЕМЫ ДЛЯ РЕФЕРАТОВ И ДОКЛАДОВ
1. Идея «требовательного» отношения к жизни, борьбы за истину в прозе Лагерквиста.
2. Богоборческие идеи в прозе Лагерквиста и в творчестве Достоевского и Л. Толстого.
3. Агасфер романтиков и Лагерквиста.
4. Художественная функция образа Саака в повести «Варавва».
5. Стилевые особенности повести Лагерквиста «Варавва».
6. «Варавва» и «Сивилла»: сопоставительный анализ образов главных героев произведений Лагерквиста.
7. Художественное осмысление образа Вараввы в повести Лагерквиста и образа Вараввы в романе-притче М. К. Попова «Огненный знак, или След пропащей души».
Тема 6 Повесть-миф Кристы Вольф «Кассандра» (Практическое занятие)
Криста Вольф (Christa Wolf, р. 1929) – крупный прозаик современной Германии. Как писатель она заявила о себе в 1961 г. публикацией повести «Московская новелла». Настоящее же признание не только на родине, но и за ее пределами принес К. Вольф ее первый роман «Расколотое небо» (1963). Повествующий о драматических судьбах немцев, оказавшихся вскоре после окончания войны в ситуации «двух Германий», он был признан одним из лучших произведений в литературе ГДР 1960-х и удостоен премии Г. Манна (1963) и Национальной премии ГДР (1964).
Центральные темы романа «Расколотое небо» – смысл человеческого существования, духовное и нравственное самоопределение человека, место отдельной личности в общей жизни – будут доминировать и в последующих произведениях К. Вольф: в повестях «Размышления о Кристе Т.» (1968) и «Нет места. Нигде» (1979), в сборнике рассказов «Унтер-ден-Линден» (1974) и романе «Образы детства» (1977) и др.
К. Вольф принадлежит к числу немецких писателей «среднего поколения», поэтому для ее творчества так значима тема «расчета с прошлым». Чтобы осмыслить столь трагическую тему, преодолев «трудный и сложный материал», художник, по признанию самой К. Вольф, «должен обладать внутренней свободой».
Об этом она говорила в интервью с К. Симоновым: «Я была сверстницей… мальчишек из фольксштурма. Мне повезло: я родилась девочкой и мне не пришлось стрелять. В конце войны я оказалась под Берлином в колонне беженцев, уходящей на северо-запад, и битва за Берлин нам виделась как зарево огня на горизонте. Что мы тогда ощущали на самом деле, как мы восприняли встречу с Красной Армией – мне кажется, об этом до сих пор не написано с полной откровенностью. Не знаю, возможно, еще не настало время? А может быть, кто-то и справился бы с этим, если б смог сочетать свое нынешнее отношение с тем, что было пережито тогда.
<…> Мое поколение, детство которого прошло при фашизме, до сих пор еще не до конца "переварило" пережитое. О таком вот детстве я сейчас пишу книгу. У меня, конечно, нет дневниковых записей, я пытаюсь быть достоверной, опираясь на свою память, и эти воспоминания проверяю по доступным мне документам. И тут я порой делаю поразительные открытия, относящиеся к психологии памяти, – так что книга, чтобы стать "реалистической", должна иметь несколько планов» [Вольф 1986: 187, 188].
Речь здесь идет о романе «Образы детства». О том, насколько значимы для работы писателя документ, реальный факт, автобиографическое свидетельство, К. Вольф пишет и в своих статьях, эссе, художественных очерках «Дневник – орудие труда», «Чтение и письмо», «По поводу одной даты» и др. Она убеждена: документальная основа делает книгу достоверной, максимально приближает ее к действительности, но в то же время роль фантазии и вымысла в художественном произведении остается не менее важной, «свидетельства» не должны подменять сюжет. Этой установке К. Вольф следует в собственном творчестве.
Основная задача художника-прозаика, по мысли К. Вольф, состоит в том, чтобы «создать человека», помочь ему стать личностью. Очевидно, что особая роль при этом отводится исторической памяти. Обращаясь к недавнему прошлому Германии, к эпохе Третьего рейха, к немецкой истории XIX века, а позже к мифу («Кассандра», 1983; «Медея», 1996), писательница стремится осмыслить на материале истории и мифологии сложные философско-этические проблемы современности. «В конечном счете, для Кристы Вольф речь повсюду идет о судьбе сегодняшнего мира и сегодняшнего человека, о роковой угрозе их дегуманизации и уничтожения» [Карельский 1988: 220].
Через все книги К. Вольф проходит образ мужественной, умной, самоотверженной женщины. В «Расколотом небе» это Рита Зайдель, чьи воспоминания и размышления о пережитом составили сюжетную основу романа; в «Размышлениях о Кристе Т.» – Криста Т., «тайная сущность» жизни которой кроется в «долгом, не знающем конца пути к самому себе»; в «Образах детства» это мать Нелли Йордан – Шарлотта, названная Кассандрой.
Тема Кассандры, лишь обозначенная в «Образах детства», позже, в одноименной повести, в основу которой положен античный миф о наделенной даром предвидения дочери троянского царя Приама, найдет воплощение в образе главной ее героини.
С проблемой мифа, рассмотрение которой сопряжено со спектром вопросов культурологического и философского характера, студент-филолог сталкивается при изучении всех историко-литературных курсов. На заключительном этапе знакомства с историей зарубежной литературы эти знания важно не только актуализировать, но и углубить, известное понятие должно быть осмыслено на уровне новых литературных явлений.
Обращение к мифу имеет давнюю традицию в мировой литературе. Так, если средневековые авторы использовали античный материал редуцированно, без мифологии, которая представляет собой органическую часть языческой культуры, то в ренессансную эпоху, которая проходила под знаком приобщения к античности, мифы становятся неиссякаемым источником художественных сюжетов и образов. Существенные коррективы в традиционное восприятие мифа внесли немецкие романтики, усмотрев в нем универсальную форму художественного мышления, «первичный материал для всякого творчества, для создания в искусстве индивидуальной мифологии» (Ф. Шеллинг). Тем самым они во многом предопределили современный подход к мифу.
Интерес к античной культуре актуализировался на рубеже XIX–XX веков. Это было связано не в последнюю очередь с влиянием на европейскую мысль философии Ф. Ницше, который провозгласил гибель христианской системы культурных ценностей и воспел дионисийскую стихию («Рождение трагедии из духа музыки», 1871) – иррациональную, экстатичную, составляющую, по мысли немецкого философа, самую суть мифа. Учение Ф. Ницше о двух ипостасях античной культуры, аполлоновской и дионисийской, во многом определило эстетические воззрения символистски настроенных поэтов и драматургов, повлияло на мировую литературу ХХ столетия.
В поэтике литературы ХХ века мифологизм становится одной из наиболее важных ее категорий, новую функциональную нагрузку приобретают и мифологические реминисценции. Теперь «это не просто параллели к основным событиям, происходящим в произведении, не просто цитаты-отсылки к общеизвестному, а главным образом средства создания синтеза, которого художник пытается достичь, полагаясь на выверенный анализ разнородных явлений действительности, но одновременно стремясь к некой обобщенности, универсальности своих образов, нацеленных на выявление существенного» [Зверев 1992: 37–38]. Миф обретает статус социокультурной реалии, объективно-духовной ценности.
Впервые такого рода синтез был представлен в романе Дж. Джойса «Улисс» (1922). Позже, стремясь понять феномен человека, феномен времени и истории, к «мифологическому методу» обращались Ю. О'Нил («Траур – участь Электры»), Ж. Жироду («Троянской войны не будет»), Ж. Ануй («Антигона»), Дж. Апдайк («Кентавр»), М. Павич («Шляпа из рыбьей чешуи») и многие другие. Их интерес к мифу был обусловлен «интересом к типичному, вечно человеческому, вечно повторяющемуся» [Манн 1960: 262]. При этом каждый из художников избирал свои формы трансформации мифа или мифологических реминисценций.
Значимо античное наследие и для творческой практики таких немецких писателей, как Анна Зегерс, Иоганнес Роберт Бехер, Франц Фюман, Юрий Брезан, Петер Хакс. К Троянскому циклу мифов, в частности к сюжету о царевне Кассандре, предсказавшей гибель Трои во время греко-троянской войны, обращались Бертольд Брехт, Ганс Эрих Носсак. Трагический образ троянской пророчицы переосмысливался ими в контексте размышлений об уроках войны, о судьбе Германии. Замысел произведения Брехта остался нереализованным, Носсак же представил экзистенциалистскую трактовку мифа в новелле «Кассандра» (1948).
Оригинальной художественной переработке подвергся прецедентный сюжет и в повести К. Вольф. В своей рецензии на русский перевод «Кассандры» С. Апт, знаток античности, переводчик Эсхила, писал по этому поводу: «Озарив светом своего ума и таланта трагическую фигуру женщины-жрицы, которая знала, что город ее погибнет, а ее убьют как скотину, Криста Вольф написала сильную, страстную, смелую книгу, новаторскую в самом высоком смысле» [Апт 1984: 239]. При этом Вольф ориентировалась на традиции, заложенные Т. Манном, который, используя в своих романах легенды и мифы Ближнего Востока (мифологическая тетралогия «Иосиф и его братья», 1933–1943), «гуманизировал миф», исследовал как художник его содержание и соединил миф с психологией. «Я приверженец этой комбинации, – писал Т. Манн, – так как психология – это средство <.> переключить миф в сферу гуманности» [Манн 1975: 239].
Примечательно, что повесть К. Вольф внутренне полемична по отношению к новелле Г. Э. Носсака «Кассандра»: если у Носсака троянская царевна является носителем судьбы, то у Вольф – ее творцом.
При обсуждении этой книги рекомендуется обратить внимание на следующее. Повесть «Кассандра» – это свободный пересказ мифов, поэтому к ней «нельзя подходить с критериями филологического педантизма» [Мотылева 1986: 101]. Стремясь вывести свою героиню «из мифа в (мысленные) социальные и исторические координаты» (К. Вольф), вольно интерпретируя мифологический материал, автор тем самым придает ему современное звучание, проецируя читательские ассоциации на события недавней истории.
Сохраняя известные сюжетные узлы мифа, Вольф вводит в произведение новых персонажей, по-своему мотивирует отдельные события, поступки героев. По аналогии с романом-мифом она создает новый литературный жанр – повесть-миф, «повесть-предостережение» (К. Вольф), оригинально используя предложенный Т. Манном синтез мифа и психологии.
Повесть написана в форме внутреннего монолога главной героини. Все события даны через восприятие Кассандры, что придает повествованию нарочито субъективный характер, несмотря на мифологический сюжет. Исповедь Кассандры, жрицы гибнущего в бессмысленной войне народа, предвидящей и свое скорое убийство («с этим рассказом я вступаю в смерть»[14]), обрамляет краткий авторский комментарий в первом и заключительном абзацах повести. Его содержание составили воспоминания автора о путешествии в греческие Микены – к камням, оставшимся от «когда-то непобедимой» крепости, где в последние часы своей жизни стояла плененная царем Агамемноном Кассандра. Этот рассказ, прерванный вдруг зазвучавшим «голосом» Кассандры, возобновляется в нескольких финальных строках: «Здесь это было. Эти каменные львы смотрели на нее. В колеблющемся свете они кажутся живыми». В этом контексте Львы как образы реальные и в то же время символические могут восприниматься как напоминание современному миру о жестокой бессмысленности войн, о хрупкости культуры и человеческой жизни.
В монологе Кассандры органично сопрягаются внешний, событийный, и внутренний, психологический, планы повествования. Кассандра в преддверии неизбежной гибели, от которой она сознательно не пытается спастись, оглядывается назад и беспристрастно оценивает череду событий, погубивших Трою, осмысливает пережитое, собственные искания, сомнения, ошибки, меняет «свое представление о себе». Жизненный путь Кассандры не был гладким, но на этом пути она сохранила себя как личность: «Душа, прекрасная птица, иногда легкая, как касание пера, а иногда сильная, болезненно трепещет в груди. Война нанесла мужчинам удар в грудь и убила прекрасную птицу. Только когда война потянулась и за моей душой, я сказала "нет"», «счастье остаться собой и быть полезной другим мне довелось узнать».
Стремясь сделать легендарный образ психологически достоверным, Вольф вводит в повесть мотив трагической любви Кассандры к Энею. Дар Кассандры, ее избранность, стремление к индивидуальной свободе делают героиню трагически одинокой («к пустоте вокруг себя я притерпелась с детства»), непонятной даже самым близким людям (Гекубе, Приаму, Гектору)[15]; не избавляет ее от одиночества и любовь: «Никому не принадлежала я целиком, только себе». Она отказывается уйти с Энеем, выбирает муки и смерть и делает это не только потому, что хочет разделить судьбу троянцев, но и ради себя: она «продолжала жить, чтобы видеть», чтобы остаться жрицей, провидицей, царевной обреченного народа до конца.
Показательно, что Вольф исследует женскую психологию, осмысливает так называемую женскую тему «в комплексе с глобальными вопросами, выдвинувшимися перед людьми "патриархальной цивилизации", характерными чертами которой являются ориентация на "власть", агрессию, мужской эгоизм. Альтернативу маскулинизированной культуре писательница видит в свободном развитии качеств, присущих женщине-матери, – терпимости, чувстве общности людей, альтруизме, уважении и ненасилии» [Яшенькина 1988: 135, 136]. Надо думать, что критическое осмысление «патриархальной» цивилизации обусловлено не столько идеями феминизма, сколько свойственной писательнице «пытливой радикальностью мышления» (С. Апт).
Сама К. Вольф отрицает свою принадлежность к «женской литературе» [Вольф 1988: 171]. Однако многие исследователи убеждены: образ Кассандры был создан Вольф явно под влиянием идей феминизма, и повесть в целом можно рассматривать как вариант «женской антиутопии». Аргументы, позволяющие увидеть односторонность такого рода оценок, можно найти в самой повести. В частности, обращает на себя внимание лишенный авторской симпатии образ Пенфезилеи – «уничтожающей мужчин воительницы», которая является в повести антиподом Кассандры.
Отдельного рассмотрения требует эпиграф к повести, взятый из лирики Сафо: «Эрос вновь меня мучит, // истомчивый, горько-сладостный, // необоримый змей», по поводу которого в критике развернулась полемика. Так, С. Апт, анализируя статьи известного немецкого литературоведа Вильгельма Гирнуса, который, в частности, утверждал, что эпиграф внушает читателю, будто история сводится к борьбе между мужским полом и женским (причем К. Вольф, как женщина, берет сторону второго), замечает: «Но ведь все это мелочи, не стоящие полемического пафоса» [Апт 1984: 241].
Иной точки зрения придерживается Р. Ф. Яшенькина: «Сюжет повести развивается между психоаналитическими полюсами – эросом и танатосом, жизнью и смертью, мужским и женским началами жизни. Кажется, что в повести в духе психоанализа представлена попытка биосубстанциальной интерпретации исторического процесса и роли в нем субъективного фактора. Это во многом объясняет эпиграф к повести. <…> Может быть, цитата из Сафо и относится к разряду художественных мелочей (С. Апт), но в контексте произведения с его очевидной напряженностью сексуальной проблематики, с выяснением причинной взаимосвязи сексуальной жизни персонажей с добрым или злым началом их характеров, поведения, она доказывает, что биологическая основа психологии героев для писательницы таит значительный интерес: Агамемнон, доблестный царь-победитель в гомеровском эпосе, в повести жестокими угрозами и расправами скрывает свое бессилие и бесплодие ("Силы давно уже покинули его"); Ахилл, которого Гегель считал "высшим образцом греческой фантазии" и "поэтическим юношей", является в повести воплощением мерзкого мужского скотства. <…> В хаосе бесчинств, предрассудков, человеческой глупости, предательств, греха, обрисованных в повести, реальный смысл писательница признает только за жизнью» [Яшенькина 1988: 134]. По мнению других исследователей, эпиграф акцентирует тему несостоявшейся любви Кассандры, сложность и противоречивость образа пророчицы, в которой постоянно борются два начала: логическое и чувственное [Клопова, Иванова 1989: 49].
Обращает на себя внимание стремление К. Вольф демифологизировать события, объяснить происходящее не чудесными, а вполне реальными причинами. Так, в частности, божественный дар Кассандры обусловлен ее незаурядными личностными качествами – проницательностью, склонностью к аналитическому мышлению, устремленностью к истине, неприятием нравственного компромисса. Демифологизированы и причины греко-троянской войны, началу которой предшествовала длительная, состоящая из трех этапов подготовка (в Трое эти этапы принято было называть ТРИ КОРАБЛЯ). И хотя на ТРЕТЬЕМ КОРАБЛЕ, посланном к грекам, Парис привез в Трою не Елену Спартанскую, а лишь ее призрак, война все же началась. Истинные ее причины крылись в притязаниях Приама на власть, в том равнодушии, с каким троянцы приняли обман, в их неспособности противостоять насилию и злу. «Дух войны, вселившийся в троянцев, уничтожает человеческие характеры, ломает судьбы, превращая людей "в героев". Любимый и изнеженный Гекубой, ее сын Гектор вынужден готовить себя к ненавистному ратному делу, чтобы стать героем Трои, а Гекуба – чтобы стать матерью героя. Особенно страдают женщины, охваченные милитаристским героизмом» [Яшенькина 1988: 138]. Абсурдность ситуации усугубляется тем, что и греки, и троянцы знают: война идет из-за призрака, причины ее надуманны; однако видимость повода всех одинаково устраивает. Ни «жалкий трус» Агамемнон, ни известный своей мудростью Приам не желают прекращать войну, которая «все законы повергла в прах».
В духе антивоенного пафоса переосмыслен К. Вольф мифологический образ Ахилла. Согласно классической трактовке, он воспринимается как символ героизма, ратной доблести. Однако в повести К. Вольф Ахилл являет собой яркий образ антигероя, становится «символом скотского и низменного ужаса любой войны, нравственной деградации человека в этой войне» [Руцкая 1995: 171]. Сниженную трактовку получает и образ Агамемнона, к которому Кассандра испытывает унизительную для героя жалость. Усилению антивоенного пафоса повести способствует и немифологический, вымышленный образ Эвмела. Он и его люди «духовно вооружают троянцев». Этот образ помогает автору осовременить прошлое, провести параллель между трагической участью легендарной Трои и историей Германии ХХ века.
В системе персонажей выделяются эстетически совершенные образы близких Кассандре людей – Анхиса и Энея; трагические фигуры Приама, Гектора, Гекубы, Поликсены, Брисеиды, Париса – тех, кто совершил ту или иную трагическую ошибку, позволив себе быть чрезмерно тщеславным, высокомерным. Подробно исследует К. Вольф проблему власти, логику поведения людей, облеченных ею, и людей, ей подчиненных; механизмы социально-политического подавления и обмана народа. Исходная же позиция писателя – в стремлении показать личность, возвысившуюся над своим временем, не способную на нравственные компромиссы.
Специфика повести не исчерпывается логикой развития идей и характеров, одной из отличительных особенностей её поэтики является система ярко выраженных лейтмотивов – свободы, сомнения, страха, одиночества, смерти, выбора, свойственные и экзистенциалистской, и антивоенной литературе.
Художественная концепция К. Вольф антропологична по своей сути. В ее центре – «человек – мера всех вещей» (Протагор), человек познающий, человек чувствующий, человек действующий. Такая модель художественного мира закономерно вводит читателя в круг философских вопросов о взаимоотношении человека и мира, человека и государства, человека и человека, провоцирует вопрос о том, каким должно быть бытие, чтобы была возможность деятельности человека, возможность мира человека вообще. Заостренный интерес К. Вольф к феномену женщины, к женской проблематике, женским образам должно воспринимать как утверждение ценности жизни, права человека на чувственность и духовную свободу, права на личный выбор.
ПЛАН ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ
I. Литература и историческая реальность в Восточной Германии: эволюция эстетики и проблематики.
1. Творчество К. Вольф в контексте литературы ГДР и ФРГ.
2. Развитие и модификации исторического жанра в немецкой литературе 2-й половины ХХ века (Г. Грасс, К. Вольф, С. Гейм).
II. Проблематика и поэтика художественного творчества К. Вольф.
1. Генезис эстетической и идейно-общественной позиции Кристы Вольф. Литературные традиции в ее творчестве.
2. Интерес к личностной проблематике и женской теме.
3. «Субъективная аутентичность» (идея личностного самосовершенствования, путь к новым образам через опыт собственных переживаний (Манфред Иегер)[16]) как творческая установка и метод К. Вольф.
4. Проблема личного выбора в произведениях К. Вольф.
5. Жанровое своеобразие повести «Кассандра» и смысловой потенциал её названия.
6. Мифологическое и историческое в повести К. Вольф.
7. Проблема «логики власти» и нравственного выбора личности в «Кассандре».
8. Трансформация темы противостояния женской личности как носительницы высших духовных идеалов несовершенной действительности в проблему столкновения двух цивилизаций – матриархальной и патриархальной.
9. Особенности повествовательной структуры «Кассандры».
10. Образ Кассандры в системе образов персонажей (Приам, Гекуба, Поликсена, Пенфезилея, Ахилл, Агамемнон, Гектор, Эвмел и др.).
11. Мотивная структура повести.
12. Принципы реконструкции мифологической реальности в «Кассандре» (психологизация мифа, обращение к чувственному опыту, языку тела (Г. Нойманн), интроспекция и др.).
Вопросы для обсуждения. Задания
1. Какие общественно-литературные факторы обусловили повышенный интерес к исторической прозе, модификациям исторического жанра в немецкой литературе 1970–1980 гг.?
2. Какими особенностями характеризуется категория художественного времени в жанрах исторической прозы и драматургии?
3. Как соотносятся миф и история в исторических произведениях К. Вольф, Г. Грасса? Анализируя повесть «Кассандра» К. Вольф, докажите, что обращение к мифу интеллектуально обогащает художественную структуру повести.
4. Определите репертуар приёмов, используемых К. Вольф для реконструкции мифологической реальности.
5. На каких уровнях текста «Кассандры» находит выражение авторское «я»? Определите формы его реализации.
6. Правомерно ли утверждение, что созданный К. Вольф образ Кассандры характеризуется психологической заданностью, схематизмом, редуцированностью того «взрывного потенциала», который свойствен образу-мифологеме (Р. П. Реннер)?
7. Многие исследователи указывают, что образ Кассандры был создан Вольф под явным влиянием идей феминизма, в силу чего характер и поступки ее героини ограничиваются «феминистической фазой протеста». Согласны ли вы с такой точкой зрения?
8. Определите, посредством каких художественных приемов создается психологическая достоверность характера Кассандры.
9. Можно ли считать Пенфезилею, «уничтожающую мужчин воительницу», антиподом Кассандры? Каким идейным смыслом наполняет К. Вольф образ Пенфезилеи?
10. Раскройте смысловую значимость эпиграфа повести, его роль в обнаружении концептуальной и подтекстовой информации, в реализации интертекстуальных отношений с претекстом – лирикой Сафо.
11. Выявите лейтмотивы в повести, определите их значимость для понимания концепции произведения. Как реализуется в повести лейтмотив страха? Охарактеризуйте личностные и социально-политические аспекты данного лейтмотива.
12. По традиции мифологический образ Ахилла воспринимается символом героизма, ратной доблести. Почему К. Вольф отказывается от его классической трактовки и создает яркий образ антигероя?
13. Охарактеризуйте жанровое своеобразие романа К. Вольф «Медея». Какие особенности поэтики повести «Кассандра» получают свое развитие в этом романе?
Рекомендуемая литература
Тексты
Вольф К. Кассандра. (Журнальный вариант) // Иностранная литература. 1986. № 5.
Вольф К. Кассандра // К. Вольф. Избранное: сборник. М.: Радуга, 1988.
Вольф К. Кассандра. Медея. Летний этюд: авторский сборник. М.: АСТ; Олимп, 2001.
Критические работы
Апт С. Горькая доля пророчицы // Иностранная литература. 1984. № 5. С. 239–241.
Мотылева Т. Вступление к повести К. Вольф «Кассандра» // Иностранная литература. 1986. № 1. С. 100–101.
Рудницкий М. Тревожная проза Кристы Вольф // К. Вольф. Избранное: сборник. М.: Радуга, 1988. С. 5—24.
Руцкая Г. С. Поэтика трагического в повести К. Вольф «Кассандра» // Проблемы метода и поэтики в зарубежной литературе XIX–XX веков: межвуз. сб. науч. трудов. Пермь: Пермский университет, 1995. С. 165–179.
Яшенькина Р. Ф. Повесть К. Вольф «Кассандра» (история, миф и литературная традиция) // Традиции и взаимодействия в зарубежной литературе XIX–XX веков: межвуз. сб. науч. трудов. Пермь: Пермский университет, 1988. С. 130–139.
Дополнительная литература
Вольф К. Миф и образ // Вопросы литературы. 1999. № 4. С. 178–185.
Голосовкер Я. Э. Логика мифа. М., 1987.
Гребенникова Н. С. Миф в художественном сознании ХХ века // Зарубежная литература. ХХ век: учеб. пособие. М.: ВЛАДОС, 1999. С. 65–69.
Карельский А. Поэзия и мысль (Заметки о творчестве Кристы Вольф) // Иностранная литература. 1988. № 1. С. 219–223.
Мотылева Т. О творчестве Кристы Вольф // Т. Мотылева. Роман – свободная форма. М.: Советский писатель, 1982. С. 304–330.
Никифоров В. Н. Вольф, Криста // Зарубежные писатели: биобиблиографический словарь: В 2 ч. Ч. 1. М.: Просвещение, 1997. С. 140–141.
Русакова А. В. Криста Вольф // История литературы ГДР. М.: Наука, 1982. С. 328–335.
ТЕМЫ ДЛЯ РЕФЕРАТОВ И ДОКЛАДОВ
1. Актуальность проблемы мифа в западной литературе ХХ века.
2. «Мифологический» роман и повесть 2-й половины ХХ столетия.
3. Интерпретация образа Кассандры в новелле Г. Э. Носсака и в повести К. Вольф.
Тема 7 Антиутопия Энтони Бёрджесса «Заводной апельсин» (Практическое занятие)
Роман «Заводной апельсин» («A clockwork orange», 1962) принес мировую славу своему создателю – английскому прозаику Энтони Бёрджессу (Anthony Burgess, 1917–1993). Но русскоязычный читатель получил возможность ознакомиться с романом почти три десятилетия спустя, после его выхода в свет в 1991 г. Имя Бёрджесса, широко известное на Западе, в отечественном литературоведении не упоминалось, и первые публикации о нем и его «печально известной», по выражению самого автора, книге появились лишь после того, как роман был экранизирован в 1971 г. американским режиссером Стэнли Кубриком. И само произведение, и поставленный на его основе фильм рассматривались в них как яркая иллюстрация феномена «загнивания» капиталистического Запада.
«Заводной апельсин» – роман-антиутопия (дистопия) – жанр, классические образцы которого представлены в литературе ХХ века произведениями Е. Замятина («Мы»), Вл. Набокова («Приглашение на казнь»), А. Кёстлера («Слепящая тьма»), О. Хаксли («О, дивный новый мир»), Дж. Оруэлла («1984»). Бёрджесс создал свою оригинальную антиутопию, опираясь на опыт предшественников (прежде всего Джорджа Оруэлла) и во многом полемизируя с ними. Источник зла писатель видит не столько в государственной системе, сколько в самом человеке, его личности, сверхраскрепощённой, склонной к иррациональным по своей природе пороку и злу. Таким образом, в романе выдвигается проблема кризиса современной цивилизации, заражённой жестокостью.
Существует ли реальный выход из данного кризиса? На что уповать: на религиозные постулаты, нравственную проповедь или новейшие социопедагогические методики, которые помогают «запрограммировать» человека исключительно на добрые поступки, упраздняя тем самым его право на свободный выбор между добром и злом, выказывая недоверие самому сознанию человека, отрицая в нем нравственную способность и совесть. Одна из такого рода экспериментальных методик подробно описывается Бёрджессом в романе, и вряд ли её можно целиком отнести к области утопического, так как она имеет вполне реальную основу. Попытки выращивания «заводных апельсинов» неоднократно предпринимались в ХХ столетии в тоталитарных государствах. Не случайно автор вводит в роман заимствование из «Поминок по Финнегану» Дж. Джойса, прибегая к смысловой аттракции двух сходно звучащих слов-омонимов: orange – это апельсин, а в малайском языке – человек. Бёрджесс сатирически заостряет картину жизни общества, которым движут благие намерения, делающие в итоге личность морально ущербной.
Основные проблемы романа рассматриваются в философском и в социальном аспектах. Задача практического занятия – выявить особенности художественного воплощения заявленных проблем, а также определить, в чем состоит жанровое своеобразие произведения Бёрджесса.
Напомним, что возникновению жанра антиутопии предшествовало достаточно длительное развитие мировой утопической литературы, корни которой кроются в древних легендах о золотом веке, «островах блаженных». Сам же термин «утопия» для обозначения литературных произведений вошел в обиход благодаря сочинению выдающегося английского мыслителя Томаса Мора «Весьма полезная, а также занимательная, поистине золотая книжечка о наилучшем устройстве государства и о новом острове Утопия» (1516). «Утопией» Томас Мор назвал вымышленный, фантастический остров, где существует идеально устроенное общество. Соответственно, термин «утопия» закрепился за произведениями, в которых представлен идеальный образ будущего устройства общества.
На рубеже XIX–XX веков жанр литературной утопии трансформируется. Возникают такие его разновидности, как «дистопия» и «антиутопия». Эти термины восходят к понятию топоса: «дистопия» – от греческого дис (плохой) и топос (место), т. е. плохое место, нечто прямо противоположное утопии как совершенному, лучшему миру [Шестаков 1986: 6]. Сходное определение содержится в статье Э. Геворкяна: «дистопия – „идеально“ плохое общество» [Геворкян 1989: 11]. Такую же «негативную» утопию представляет собой и литературный жанр антиутопии, поэтому границы терминов «антиутопия» и «дистопия» достаточно условны.
Как и в романе Дж. Оруэлла, действие в произведении Бёрджесса происходит в Англии «недалекого будущего» – в 1990-е годы. Но если у Оруэлла критический пафос направлен прежде всего против государственного тоталитаризма, против Системы, то у Бёрджесса акценты расставлены иначе: он в равной мере возлагает ответственность за судьбу человека, его свободу и на саму личность, и на Систему.
Для современного читателя многие предвидения писателя давно уже стали привычной реальностью (спутниковое телевидение, освоение Луны и др.). Не поразят воображение читателя своей неправдоподобностью и описания городов, окруженных рабочими кварталами («спальные» районы?), домов-близнецов с одинаковыми квартирами-клетками, немотивированная страшная жестокость подростков и рост преступности среди молодежи. Всё это стало характерными чертами современного общества.
В своей Нобелевской речи А. Солженицын отметил: «Язык – это память нации». Эта мысль имплицируется и в романе Бёрджесса. Отсутствие внутренней культуры в современном человеке – вот первопричина жестокости. В романе господствует стихия интернационального (англо-русского) молодежного жаргона – еще одна фантазия писателя, обретшая сегодня жизнь. Повествование в романе ведется от лица главного героя – пятнадцатилетнего подростка Алекса. Как известно, для создания модели интернационального социодиалекта Бёрджесс воспользовался лексикой русских стиляг конца пятидесятых годов, записанной им во время поездки в Ленинград. Позже, вспоминая свое пребывание в России, Бёрджесс признался: «Меня осенило, что подонки-хулиганье из британского будущего должны говорить на смеси пролетарского английского и русского. Эти друзья-подростки, исповедующие культ вандализма и насилия, говорят на языке тоталитарного режима. Книга эта – о промывке мозгов, и мозги промывались и читателю, которого я заставил незаметно для него самого выучить бессмысленное, казалось бы, англо-русское арго» (цит. по: [Зиник 2004: 4]). В романе интержаргон из будущего обнажает универсальный характер процесса обезличивания человека. Жаргон подменяет его суть и в силу этого перестает быть обычной языковой проблемой. Герои Бёрджесса лишены исторической памяти. Гордость английской литературы Перси Биши Шелли для них всего лишь некий Пэ Бэ Шелли, а Библия – «еврейские выдумки». Впрочем, Бёрджесс вовсе не склонен видеть в речевой изысканности внешний показатель высокой нравственности. Соблюдающие нормы культуры речи ученые в «Заводном апельсине» проводят эксперимент, не имеющий ничего общего с духовностью и гуманностью. В силу стечения обстоятельств первой жертвой этого эксперимента окажется преступник Алекс, превращенный в «заводной апельсин».
Тема «заводного апельсина» в каждой из трех частей романа приобретает особую тональность.
Первая часть представляет собой некий калейдоскоп событий из жизни героя в течение двух дней, поданный в призме его эмоционального восприятия и оценки. Алекс в компании приятелей-подростков слоняется по ночному городу. Молочный бар «Korova», где можно принять дозу наркотиков, пустынные улицы с редкими прохожими, пивной бар, окраины города – привычный маршрут небольшой, сплоченной шайки хулиганов, регулярно устраивающей для себя «вечера отдыха». Избит старик, случайно им встретившийся, разорваны его книги и одежда; ограблен магазин, а его хозяев постигает та же участь, что и старика-книгочея; одержана «триумфальная» победа над шайкой Билли. Наконец, подростки совершают налет на загородный дом писателя. Здесь, по-садистски расправившись с супружеской четой, они обнаруживают рукопись романа «Заводной апельсин».
Алексу, всегда восторгавшемуся людьми, которые пишут книги, достаточно было прочесть небольшой отрывок, чтобы оценить написанное как неслыханную глупость: автор рукописи заявлял, что поднимает «перо-меч» против тех, кто пытается «навлечь на человека, существо естественное и склонное к доброте, всем существом своим тянущееся к устам Господа <…>, законы и установления, свойственные лишь миру механизмов»[17].
Возвратившись домой, Алекс завершает «приятный» вечер не менее приятными впечатлениями: он слушает «чудного Моцарта», а затем «Бранденбургский концерт» Баха, и вдруг в его памяти всплывают бессмысленные слова: «заводной апельсин». Музыка старого немецкого маэстро вызывает у малолетнего преступника страстное желание вернуться в загородный коттедж, чтобы надавать пинков его хозяевам, «разорвать их на части и растоптать в пыль на полу их же собственного дома». Отнюдь не на праведные поступки вдохновляет главного героя и шиллеровская ода «К радости» из Девятой симфонии Бетховена, которая неоднократно упоминается в романе. Примечательно, что Алекс переиначивает на свой лад текст оды, наполняя его призывами не щадить «вонючий мир». «Всех убей, кто слаб и сир!» – слышится ему в ликующих звуках музыки.
В тексте романа далеко не случайно в изобилии представлены имена великих композиторов, названия и подробные описания музыкальных произведений. Садист и преступник, Алекс – знаток и тонкий ценитель Баха, Моцарта, Генделя. Увлеченность классической музыкой вполне уживается с желанием грабить, убивать, насиловать. Алекс – эстет насилия. Один из тех, кто «уже с идеалом содомским не отрицает идеала Мадонны» (Ф. М. Достоевский), кто мнит себя сверхчеловеком, послушным лишь своей воле и инстинктам.
Размышляя над проблемой зла, английский писатель приходит к трагическим, безнадежным выводам: зло неискоренимо, слишком глубоко таится оно в человеке. Поэтому, в частности, Бёрджесс критически переосмысливает и теорию воспитательного воздействия искусства на человека. Искусство не может облагородить того, чья личность подвержена моральному распаду.
История Алекса не вписывается в рамки истории заурядного злодея, в ней воплотились реальные черты общества и человека конца ХХ столетия – человека, который перестал «стыдиться своих инстинктов» (Ф. Ницше) и не только отверг моральные нормы и культурные запреты, противопоставил себя Богу, но и позволил себе откровенно глумиться над прежними ценностями. Этот процесс «гибели человека» (ибо, по Юнгу, человек неизбежно погибает как духовная сущность, лишаясь опоры на трансцендентное) нашел, в частности, отражение в многочисленных, откровенно циничных высказываниях главного героя: «Слушая <музыку>, я держал glazzja плотно закрытыми, чтобы не spugnutt наслаждение, которое было куда слаще Бога, рая и всего прочего, – такие меня при этом посещали видения. Я видел, как veki и kisy, молодые и старые, валяются на земле, моля о пощаде, а я в ответ лишь смеюсь всем rotom и kurotshu сапогом их litsa»; музыка «давала мне почувствовать себя равным Богу, готовым метать громы и молнии, терзая kis и vetav, рыдающих в моей – ха-ха-ха – безраздельной власти»; «Ну, прочитал я про бичевание, про надевание тернового венца, потом еще про крест и всякий прочий kal, и тут до меня дошло, что в этом ведь что-то есть. Проигрыватель играл чудесную музыку Баха, и я, закрыв glazzja, воображал, как я принимаю участие и даже сам командую бичеванием, делаю весь toltshoking и вбиваю гвозди, одетый в тогу по последней римской моде».
Красота, сокрытая в музыке и призванная даровать «метафизическое утешение», высвобождает в душе Алекса дьявольское начало (вспомним у Достоевского: «Тут дьявол с богом борется, а поле битвы – сердца людей»). Его фантазии и образ жизни в целом позволяют говорить о том, что перед нами мир взбесившейся материи, оставленной духом, «другого Царства смерти» [Элиот 1994: 141]. Такова апокалиптическая модель современной цивилизации, представленная Бёрджессом, и суть её сконцентрирована в образе главного героя романа.
Проблема добра и зла, поставленная в первой части «Заводного апельсина» и осмысленная в философском аспекте, постепенно суживается и рассматривается в дальнейшем как социальная. Попав в тюрьму, Алекс вынужден дать свое согласие на курс экспериментальной терапии («курс Людовика»), направленный на то, чтобы выработать у пациента физическое отвращение к насилию, которое прежде доставляло ему наслаждение. Предполагаемые результаты эксперимента вселяют оптимизм в ученых, но приводят в ужас священника. Христианский проповедник, тюремный капеллан убежден (вслед за экзистенциалистами), что человека делает свободным лишь его внутренний выбор. И лучше выбрать зло, чем навязанную пассивность. Капеллан пытается втолковать заключенному «странные вещи»: «Может быть, и вовсе не так уж приятно быть хорошим, малыш 6655321. Может быть, просто ужасно быть хорошим. И, говоря это тебе, я понимаю, каким это звучит противоречием. <…> Что нужно Господу? Нужно ли Ему добро или выбор добра? Быть может, человек, выбравший зло, в чем-то лучше человека доброго, но доброго не по своему выбору? Это глубокие и трудные вопросы, малыш 6655321. <…> я с грустью понимаю, что и молиться за тебя бессмысленно. Ты уходишь в пространства, где молитва не имеет силы».
«Преступный», по определению капеллана, эксперимент все же состоялся. Алекс, пройдя через муки, унижения, соблазны, превратился в святого. Парадоксальность ситуации состоит в том, что преображенному Алексу уготована жалкая участь: общество отвергает его. Новоявленный блудный сын, постучавшийся в дверь своего дома, будет изгнан собственными родителями. Затем его побьют книжники и цинично используют в своих целях фарисеи. Мир, от которого был изолирован герой и куда его вновь возвратили, подл и жалок. Однако это обстоятельство не снимает ответственности с личности, поскольку в конечном итоге сам человек делает окончательный выбор в пользу Добра или Зла. Алексом такой сознательный выбор был однажды сделан, что и позволяло ему там, в «прошлой» жизни, потешаться над газетной статьей «ученого papika»: «…писал он, якобы все обдумав, да ещё и как человек Божий: ДЬЯВОЛ ПРИХОДИТ ИЗВНЕ, извне он внедряется в наших невинных юношей, а ответственность за это несет мир взрослых – войны, бомбы и всякий прочий kal. Видимо, он знает, что он говорит, этот человек Божий. Стало быть, нас, юных невинных maltshipaltshikov, и винить нельзя. Это хорошо, это правильно».
Бёрджесс не дает однозначных ответов на поставленные вопросы. В интервью журналу «Плейбой» писатель отмечал, что его задачей было «показать мир, где люди апатичны или направляют свою энергию на варварские действия» (цит. по: [Николаевская 1979: 216]). Финал романа открыт: Алекс выздоравливает, т. е. возвращается к своему прежнему состоянию, которое вероятно сможет преодолеть, если найдет в себе то, что «возвышает человека над самим собой (как частью чувственно постигаемого мира)» [Кант 1966: 413].
ПЛАН ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ
1. Авторский замысел романа «Заводной апельсин». Нравственная и социальная проблематика романа.
2. Главный герой романа Алекс в системе персонажей.
3. Христианские мотивы в «Заводном апельсине» и их переосмысление. Образ тюремного капеллана.
4. Художественное время и пространство романа.
5. Поэтика романа:
• пародирование утопических традиций;
• символика;
• роль иронии;
• аллюзивный контекст романа;
• техника «потока сознания»;
• язык романа.
6. Бёрджесс как продолжатель традиций Дж. Джойса.
Вопросы для обсуждения. Задания
1. Охарактеризуйте систему пространственных образов (топонимику и топографию) романа «Заводной апельсин».
2. Каков содержательный смысл композиции романа?
3. Как реализуется в каждой из частей произведения Бёрджесса тема музыки? Какова этическая и эстетическая позиция автора в решении данной темы?
4. Образ «ещё одного Алекса» – писателя Ф. Александра в системе образов-персонажей романа.
5. Раскройте смысл базовой метафоры «заводной апельсин» (а clockwork orange) в романе. Как она соотносится с идейной установкой произведения Бёрджесса?
6. Исследователи творчества Э. Бёрджесса отмечают, что его роман «Заводной апельсин» вызывает ассоциации с литературными произведениями Дж. Джойса, что Бёрджесс продолжает традиции своего знаменитого предшественника. В чем обнаруживается типологическое сходство эстетических позиций двух художников?
Рекомендуемая литература
Тексты
Бёрджесс Э. Заводной апельсин. (Любое издание)
Критические работы
Белов С. Б. Если рушится человек. Уильям Голдинг и Энтони Бёрджесс // Бойня номер «Х»: Литература Англии и США о войне и военной идеологии. М., 1991.
Дорошевич А. Энтони Бёрджесс: цена свободы // Иностранная литература. 1991. № 12. C. 229–233.
Субаева Р. Универсальные проблемы человечества // Литературное обозрение. 1994. № 1. С. 71–72.
Тимофеев В. Послесловие // Э. Бёрджесс. Заводной апельсин. СПб.: Азбука, 2000. С. 221–231.
Дополнительная литература
Гальцева Р., Роднянская И. Помеха – человек: опыт века в зеркале антиутопий // Новый мир. 1988. № 12.
Мельников Н. Заводной Энтони Бёрджесс // Новый мир. 2003. № 2.
Николаевская А. Требования жанра и корректива времени (Заметки об антиутопии в английской литературе 60—70-х годов) // Иностранная литература. 1979. № 6.
Новикова Т. Необыкновенные приключения утопии и антиутопии (Г. Уэллс, О. Хаксли, А. Платонов) // Вопросы литературы. 1998. № 7–8.
ТЕМЫ ДЛЯ РЕФЕРАТОВ И ДОКЛАДОВ
1. Вопрос о жанровом определении антиутопии.
2. Роман Э. Бёрджесса «Заводной апельсин» и классическая антиутопия ХХ века.
3. Философско-религиозные аспекты романа «Заводной апельсин».
4. Функции иноязычных включений в романе Э. Бёрджесса.
5. Мифологические архетипы в «Заводном апельсине» Э. Бёрджесса.
Тема 8 Роман Эмиля Ажара «Жизнь впереди» (Практическое занятие)
Роман «Жизнь впереди» («La vie devant soi», 1975) явился продолжением блестящей мистификации Ромена Гари, начало которой положила публикация «Голубчика» (1974) под именем Эмиля Ажара (Emile Ajar, 1914–1980). Этой мистификацией писатель реализовал свою мечту о «"тотальном романе", охватывающем и персонаж, и автора» и позволившем ему, по его собственному признанию, пережить «как бы свое второе пришествие» [Ажар 2000: 465]. В «Жизни впереди» синтезировались проблемы, которые изначально волновали Гари: от первых его романов – «Европейское воспитание» (1945), «Корни неба» (1956) – до романов, написанных в зрелом возрасте – «Белый пес» (1971), «Воздушные змеи» (1980). И далеко не случайно его последнее итоговое произведение – эссе «Жизнь и смерть Эмиля Ажара» – начинается с размышлений о предназначении литературы, призвании писателя: «наш мир <…> все настойчивее ставит перед писателем вопрос, убийственный для всех видов художественного творчества: кому это нужно? От всего того, к чему литература стремилась и в чем видела свое назначение – содействовать расцвету человека, его прогрессу, – не осталось сегодня даже красивой иллюзии» [Ажар 2000: 457]. Это признание выразило боль и отчаяние писателя, осознавшего, что в современном мире повсеместно воцарились «интеллектуальное, идеологическое мошенничество», «духовное бесчестие», «самая бесстыдная ложь, постоянный увод от надежды, полнейшее презрение к истине» [Гари 1991: 218]. В данном контексте становится ясно, почему Гари называют одним из последних гуманистов ХХ века [Гари 1994: 213].
Но еще раньше, в «доажаровский» период, свое понимание проблем современного мира, культуры, литературы Гари с максимальной глубиной высказал в книге-исповеди «Ночь будет спокойной» (1974). «Человек неотделим от понятий братства, демократии, свободы» – ценностей в своей сущности условных, данных не от природы, а сотворенных, подобно мифам, – утверждал писатель, по сути, обозначая тем самым свое понимание культуры, ее места в жизни общества. «Цивилизации всегда были попыткой поэтической, будь то религия или братство, попыткой придумать миф о человеке, мифологию ценностей и попытаться прожить этот миф или по крайней мере приблизиться к нему» [Гари 1994: 229]. Следовательно, любая попытка устранить «поэтическое царство», «частицу Рембо» из жизни человека и общества обязательно приводит к появлению каннибализма, геноцида. Нельзя «развеять миф о человеке, – говорил Гари, – чтобы не оказаться в пустоте, <…> это всегда фашизм, потому что коль скоро ты в пустоте, можно не церемониться, <…> как только ты упраздняешь ту часть, которая является мифологической, ты оказываешься на четырех лапах» [Гари 1991: 229, 230].
Мировоззрение, по тонкому замечанию Яна Мукаржовского, представляет собой и внутритекстовый, и внелитературный элемент. И то, что в книге «Ночь будет спокойной» выразилось в открытой форме, в романе «Жизнь впереди» стало тем элементом его структуры, который в скрытой форме организует картину мира романа (универсум) и субъективное отношение к нему писателя (его видение мира). Как категория литературного произведения мировоззрение «как бы сразу существует в двух плоскостях, потому что вне мировоззрения нет творчества» [Поляков 1978: 28].
По значимости философских, нравственных, социальных проблем, силе их художественного воплощения, по тому общественному резонансу, который она вызвала, «Жизнь впереди» сопоставима с «Отверженными» Виктора Гюго. И сопоставление это правомерно: в романе «Жизнь впереди» аллюзии и реминисценции, восходящие к идейно-художественному миру В. Гюго, четко проявляют идейно-ценностную ориентацию и специфику творческого видения Ажара.
В Предисловии к «Отверженным» Гюго высказал мысль, что миру, в котором «царит нужда и невежество», его книги необходимы. Эту же мысль писатель развивал и в письме к издателю итальянского перевода «Отверженных»: «Всюду, где мужчина невежествен и охвачен отчаянием, всюду, где женщина продает себя за кусок хлеба, где ребенок страдает оттого, что лишен книги, которая учит его, и очага, который обогревает, мои "Отверженные" стучатся в дверь со словами: "Откройте, мы пришли к вам!.. Итальянцы мы или французы, всех нас касается нужда людская"» [Гюго 1986, т. 8: 321, 324]. Поэтому закономерно, что на Западе «Отверженные» были восприняты как «современное Евангелие» [Евнина 1976: 116].
Все то, благодаря чему «Отверженные» воспринимались не только как обличительный, но и как проповеднический, миссионерский роман – идеи возрождения нравственных идеалов доброты, бескорыстия, широкой снисходительности к людским слабостям и порокам, – создает в книге Ажара тот значимый фон, о котором писал В. Ерофеев: «Над этой книгой витает дух мощной, но нынче редко используемой национальной романтической традиции, дух Виктора Гюго, автора прежде всего "Отверженных". Недаром имя Гюго неоднократно возникает на страницах книги как имя доброго бога, способного помочь людям в крайней ситуации» [Ерофеев 1988: 12].
Нравственные идеалы, исповедуемые В. Гюго, в своей сути близки моральным установкам Р. Гари. Исследователь творчества великого романтика Е. М. Евнина пишет: «Для Гюго понятие "бог" – синоним понятия "нравственный идеал"; это внутренний голос, который возвещает человеку, где истина и где ложь; это доброе начало, незримо присутствующее во всей вселенной в постоянном противодействии силам мрака и зла. Вечная борьба доброго, "божественного" начала с началом злобным, демоническим, и составляет, по мысли Гюго, основу движения всего существующего» [Евнина 1976: 208]. В свете данной концепции нравственная позиция Ажара предстает особенно отчетливо, поэтому даже форма повествования от первого лица не в состоянии приглушить откровенно морализаторский голос автора, утверждающий «вечные ценности» жизни, веру в обязательную победу добра над злом.
«Жизнь впереди» написана (рассказана) от лица мальчика Момо – современного парижского гамена. Для Ажара, как и для В. Гюго, критерием нравственного состояния общества является его отношение к наиболее слабым, беззащитным и прежде всего к детям. Не случайно проблема детской беспризорности – одна из центральных в романе «Отверженные». Уличный мальчишка, гамен, по Гюго, – это «олицетворение Парижа», «краса нации и вместе с тем её позор, который нужно лечить» [Гюго 1986, т. 1: 456]. Именно такое понимание гамена, в равной мере свойственное обоим писателям, придает проблеме беспризорного детства историческую перспективу и общенациональный, общечеловеческий характер.
В Момо многое напоминает Гавроша из «Отверженных». Как и Гаврош, он – душа квартала «отверженных», он знается с ворами, на «ты» с мамзелями, он подворовывает, помогает слабым и голодным. Жаргон – его естественная языковая стихия. А ещё юмор, острословие: «Он за словом в карман не лезет, знает и то, чего не знает», он «лирик даже в сквернословии. С него сталось бы присесть под кустик на Олимпе; он мог бы вываляться в навозе, а встать осыпанным звездами». Он поистине «Рабле в миниатюре». Он «существо, которое забавляется, потому что оно несчастно» [Гюго 1986, т. 1: 448, 455]. Ему ясно, что подлинный враг человека – это придуманный Закон, который собственно и «существует, чтобы защищать одних людей, у которых есть что защищать, от других; у зверей в этом смысле в сто раз лучше, потому что они живут по законам природы, особенно львицы»[18].
Нравственный пафос «Жизни впереди» проявляют многократные упоминания не только имени Гюго и его романа «Отверженные», но и предвечной книги Корана. Надо полагать, для Гари эти тексты были теми высшими образцами «мифологии ценностей», «воображения и поэзии, без которых нет ни цивилизации, ни человека, ни любви» [Гари 1991: 230].
С растрепанным томиком «Отверженных» (величайшим своим достоянием) никогда не расстается бродячий торговец коврами мосье Хамиль: «Правую руку он держал на маленькой затрепанной Книге, которую написал когда-то Виктор Гюго, и Книга, должно быть, очень привыкла чувствовать эту руку, которая на нее опиралась, как это часто бывает со слепыми, когда им помогают перейти на эту сторону». Здесь знаменательна деталь, благодаря которой «Отверженные» оказываются в одном ценностном ряду с Кораном, – правая рука на Книге. Ср. в Коране: «И вот тот, кому будет дана его книга в правую руку, он скажет: „Вот вам, читайте мою книгу!“» (Сура 69: 19)[19].
В романе Ажара, таким образом, заданность корреляции мотивов «Отверженные» В. Гюго — Коран оказывается эстетически и идеологически мотивированной: эти книги представляют в нем тот пласт «мифологического» общественного сознания, утрата или забвение которого, по Гари, чреваты для цивилизации полным отчуждением культуры – она становится «то ли привилегией, то ли наслаждением, то ли извращением, то ли алиби: вот почему сегодня все идеологии оказываются бессильными, и это привело к сталинскому коммунизму и пражским событиям» [Гари 1994: 231]. Итак, с одной стороны, «современное Евангелие», облеченное великим французом в художественную форму, с другой – Коран, слово Аллаха, призванное объединить всех тех, кто верит в единого Господа:
«И научит Он его писанию и мудрости, и Торе, и Евангелию, и сделает посланником к сынам Иср»;
«Держитесь за вервь Аллаха все, не разделяйтесь, и помните милость Аллаха вам, когда вы были врагами, а Он сблизил ваши сердца, и вы стали по его милости братьями!» (Сура 3: 43, 98).
Священные книги – Тора, Евангелие и Коран – призваны ниспосылать уверовавшим в Господа благодать и убивать скверну. Способность очищать людей от скверны и убивать скверну, утверждать идею братства виделась и Виктору Гюго, и Ажару в их романах. «Я рассматриваю человека как фронт братского сопротивления против своей изначальной сущности», – писал Гари [Гари 1994: 218].
Глубоко символично, что Ажар дал своему гамену имя Мухаммада — пророка, изрекшего: «…и пусть будет среди вас община, которая призывает к добру, приказывает одобренное и удерживает от неодобряемого» (Сура 3: 100).
В книге Ажара образы малыша Момо (Мухаммада), пророка Мухаммада и великого гуманиста Виктора Гюго, сопрягаясь в один смысловой узел, концентрируют в себе нравственную энергетику произведения, высвечивая в нем «мифические» смыслы. Образы мосье Хамиля, мадам Розы, доктора Каца, так же как и малыша Момо, несомненно, созданы на основе архетипов старика и ребенка (старости/детства). Известно: старики, что дети. Но сказано: «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко Мне, ибо таковых есть Царство Небесное» (Мф. 19, 14). И наконец: «…истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдёте в Царство Небесное; итак, кто умалится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном» (Мф. 18, 3–4).
Мосье Хамиль дорожит книгой Гюго не менее, чем Кораном. И постепенно в памяти этого дряхлеющего старика суры Корана и тексты великого писателя-француза начинают смешиваться, превращаясь в нечто, имеющее равную духовную ценность: в мечети «он вместо молитвы декламировал: "О поле Ватерлоо! Печальная равнина!" – и тогда присутствовавшие там арабы жутко удивлялись… А у него аж слезы выступали на глазах от религиозного рвения». Узнав о болезни мадам Розы, старик, не имея возможности проведать ее, живущую в крохотной квартирке на седьмом этаже («в его восемьдесят пять лет без лифта это было против всех законов»), «решил написать ей стишок Виктора Гюго – начинался он с… "субхан ад даим ла язуль", что означает "только Предвечный никогда не кончается"». Более того, мосье Хамиль и самого Момо начинает называть малышом Виктором: «Ты не такой ребенок, как другие, малыш Виктор. Я всегда это знал».
Физическая беспомощность старика Хамиля, как, впрочем, и мадам Розы, ассоциируется с традиционными рассказами о святых и старцах, «которые были почти что "детьми", так что их ученики должны были не только водить их под руки, но и кормить их и следить за каждым движением. Высшая мудрость часто совпадает с детской беспомощностью и неспособностью ориентироваться в мире, в котором уже ни сердцем, ни душой, ни умом не пребывают» [Горичева 1994: 75]. Ср.: «У арабов к старому человеку, которого скоро не станет, относятся с уважением, и делается это, чтобы добиться благосклонности Бога, а не ради каких-то мелких выгод. Но это все равно грустно, что мосье Хамиля нужно водить, чтобы он отлил». Момо самоотверженно берет на себя заботы о беспомощной, теряющей рассудок мадам Розе, у которой было «столько болезней, что хватило бы на десятерых». Ухаживая за Розой, он познает не только глубину своего чувства к ней, но и силу человеческого со-участия, со-чувствия – на помощь ему приходят многие: и мадам Лола, и мосье Валумба, «негр из Камеруна, приехавший во Францию, чтобы подметать ее», и братья мосье Валумбы, и братья Заумы, и наркоман Дылда.
Исключительность Момо была очевидна и для доктора Каца, говорившего, что мальчик «вероятнее всего, будет не похож на других, точь-в-точь, как великий поэт». И еще: «Иногда из таких получаются великие поэты, великие писатели, а иногда. – Он вздохнул. – …А иногда – бунтари». Эта реплика проницательного доктора напрямую соотносится с размышлениями В. Гюго о выросших в нищете мальчишках, их склонности к бунту: «Парижский гамен одновременно почтителен, насмешлив и нагл. <…> Две вещи, которых он, страстно желая, никак не может достигнуть, обрекают его на муки Тантала, – низвергнуть правительство и отдать починить свои штаны. <…> Пути его развития неисповедимы. Вот он играет, согнувшись, в канавке, а вот уже выпрямляет спину, вовлеченный в восстание» [Гюго 1986, т. 1: 454, 455].
Мотив бунтарства в романе Ажара органичен. Его Момо – настоящий гамен. Едва осознав свою обездоленность, Момо начинает бунтовать. Мотивы такого поведения мальчика всегда прозрачны: пусть эксцентричными способами (сознательное испражнение на пол, позже – пробежки между мчащимися автомашинами), но привлечь к себе внимание, заявить во всеуслышание: я есть, я существую, и мне плохо. И вместе с тем заставить других пережить чувство вины, пробудить в них человечность, спрятанную где-то далеко, под спудом души. Бунтарский дух Момо проявляет себя и в его фантазиях (симптоматична, к примеру, его мечта стать террористом, чтобы наказать зло и осчастливить страждущих).
Предсказания доктора Каца и мосье Хамиля вселяли в Момо надежду: «когда я вырасту большой, я тоже напишу отверженных, потому что такое пишут всегда, когда есть что сказать». И что удивительно, избранная Ажаром форма первого лица традиционного нарратива (Момо – и повествователь, и рассказчик, и персонаж) достигает поразительного художественного эффекта: «Жизнь впереди» в силу этого воспринимается как новые «Отверженные», как Книга, рассказанная во исполнение своего обещания Момо – Мухаммедом, ибо ему «есть что сказать».
К. Юнг, анализируя мифы о детстве, указал на удивительный парадокс: ребенок, оставленный на произвол судьбы, окруженный врагами, проявляет чрезмерную силу и выносливость – он ничто, и он же одновременно божествен: ребенок, самое маленькое и смиренное, становится самым великим [Горичева 1994: 75]. Данное архетипическое начало обнаруживается и в образе Момо.
«Сын шлюхи», Момо был воспитан бывшей проституткой мадам Розой, открывшей приют для детей женщин ее профессии. «Сын шлюхи» в лексиконе Момо вовсе не ругательство, это осознанный им факт жизни; и то, что женщины зарабатывают «шахной», – это тоже факт, и вовсе не постыдный, поскольку, как говорила мадам Роза, «с Людовика XIV шахна – самое важное во Франции, а проституток, так называются шлюхи, преследуют, потому что порядочные женщины хотят иметь это только для одних себя».
Момо знает, что такое национальные и расовые предубеждения. Однако, выросший в интернациональной среде «отверженных», населяющих «арабскую и еврейскую» часть Парижа (впрочем, здесь, в своеобразном современном гетто, обосновались не только выходцы из стран Ближнего Востока, но и африканцы), он ценит в людях то, что их духовно объединяет, а не то, что делает врагами. Он прочно усвоил уроки человечности доктора Каца, который «был хорошо известен своим христианским милосердием всем евреям и арабам, живущим в окрестностях улицы Биссон», уроки мадам Розы, которая «уважала чужую веру и совсем не была патриоткой, и ей было наплевать, кто араб, кто североафриканец, а кто малиец или еврей, потому что у неё отсутствовали принципы. У каждого народа есть что-то хорошее. И если арабы и евреи квасят друг другу морды, то это вовсе не значит, что они отличаются от других, за исключением, может быть, немцев, просто тут действует братство».
Образы Момо, мадам Розы, мосье Хамиля, доктора Каца, мадам Надин проявляют неприятие Ажаром любых форм расизма, ксенофобии, которые несовместимы с заповедью любви к ближнему, с заветом апостола Павла – «нет ни Еллина, ни Иудея» (Кол. 3, 11). При этом Ажар далек и от космополитизма: мадам Роза сознательно воспитывает Момо арабом, внушает ему, что «читать Коран арабам полезно»; старик Хамиль велит мальчику изучать религию его отцов, не забывать, что у него есть родная страна.
Расизм, ксенофобия, антисемитизм, по Гари, являются не только политической, но и психологической проблемой. На страницах романа писатель неоднократно показывает, насколько живучи в обществе стереотипы этнической предубежденности, как они овладевают сознанием детей и взрослых, нередко коверкают человеческие судьбы. Так, Кадир Юсеф отказывается от сына только потому, что тот «не в хорошем арабском состоянии, а в плохом еврейском». Воспитанники мадам Розы «внимательно разглядывают» двухлетнего Антуана, «настоящего француза, он был один такой, чтобы понять, что в нем особенного». Старик Хамиль с горечью признается Момо, что он «не смог бы жениться на еврейке, даже если бы был способен». Момо глубоко переживает из-за того, что его «молитвы за мадам Розу ей не помогают: молитвы за евреев в мечети не действуют». Момо не любит, когда его называют полным именем: «Мухаммед – это во Франции все равно, что "арабский ублюдок", а когда такое говорят, то зло берет. Мне не стыдно быть арабом, наоборот, но Мухаммед во Франции – значит дворник или чернорабочий. Это даже не то же самое, что алжирец».
Судьба Розы трагична и вместе с тем счастлива: ей удалось выжить в Освенциме. Однако страх, животный, «без причины», укоренился в ней на всю оставшуюся жизнь: «она боялась немцев до потери пульса». Этот страх заставил ее устроить в подвале дома собственную «запасную резиденцию, еврейское логово» – убежище. Для нее лучшее лекарство от депрессии – это портрет Гитлера. В конце жизни судьба наградила ее великой взаимной любовью к Момо.
Гари убежден: «Все ценности цивилизации – женские ценности. <…> Христианство – это женственность, жалость, мягкость, прощение, терпимость, материнство, уважение к слабым. Иисус – это слабость; голос Христа был женским голосом» [Гари 1884: 218]. Тем не менее «церковь потерпела крах с христианством», ибо ограничилась лишь религиозным идеалом, а на практике преподавала уроки силы, обращая в свою веру огнем и мечом, крестовыми походами, идею же братства она использовала в большей степени «ради громких фраз» [Там же].
Многие страницы «Жизни впереди» проникнуты чувством преклонения перед женщиной, ее способностью любить, быть матерью: «Женщинам нужны дети как смысл жизни». Момо возмущается законами природы, которые не позволяют трансвеститу мадам Лоле стать матерью: «не понимаю, почему людей вечно сортируют по всем этим органам и придают им такое значение. Это вопиющая несправедливость, потому что если где и могли быть счастливыми дети, так это там. Но она даже не имела права никого усыновить, потому что перевертыши, они слишком особенные. А этого не прощают». Многие несчастья и болезни, считает Момо, появляются именно в силу отсутствия любви: «Жир, он с того и начинается, что рядом нет никого, кто любил бы вас». Момо мечтает стать «величайшим фараоном и сутинёром на свете», чтобы защитить «старых шлюх», и тогда бы «никто никогда не увидел бы, как старая шлюха, всеми брошенная, льёт слёзы на седьмом этаже без лифта». «Блюментаг, Блюментаг», – шепчет в беспамятстве мадам Роза, и Момо, «единственный араб в мире, который говорит на идиш», понимает: «блюментаг по-еврейски "день цветов", так что это мадам Розе, должно быть, снился ее женский сон. Нет ничего сильнее вот этого самого женского». В этом последнем утверждении голос Момо сливается с голосом Гари.
Момо удивляется тому, что мадам Роза не боится Бога, но Роза ни о чем не сожалеет: «что сделано, то сделано, и Он вовсе не обязан приходить и просить у нее прощения». Слушая рассказы мадам Розы, мосье Хамиля, осмысливая их жизненный опыт, Момо постигает науку толерантности и учится ненавидеть ненависть. «Мосье Хамиль, который читал Виктора Гюго и пережил в сто раз больше, чем любой другой человек в его возрасте, тоже был прав, когда с улыбкой объяснял мне, что нет ни белого, ни чёрного и что белое – это зачастую скрытое чёрное, а чёрное – это иногда одураченное белое».
Согласно Гари, «фашизм был не чем иным, как чудовищной эксплуатацией человеческой глупости. В России Сталин истреблял целые народы во имя социальной справедливости и трудящихся масс, которых он превратил в рабов» [Гари 1994: 225]. Писатель предупреждал об опасности возрождения фашизма: «Сегодня правит бал самая наглая ложь, постоянное искажение ориентиров и глубочайшее презрение к истине. <. > Лицедейство комедианта Муссолини и шарлатана Гитлера обошлось миру в тридцать миллионов жизней» [Гари 1994: 218].
Гари, по его собственному признанию, от рождения принадлежал к меньшинству, всегда был на стороне меньшинства, всегда был «против самых сильных». На вопрос, что значит для него быть евреем, он с болью отвечал: «Это один из способов подставлять себя под плевки» [Гари 1994: 225]. В романе о беззаветной любви старой еврейки и мальчика араба эти ценностные ориентиры Гари преобразовались в конкретные образы.
Имя Момо – Мухаммад призвано предопределять судьбу мальчика: «Имя свидетельствует, что есть, существенно есть его носитель, потому что имя выражало истинное значение, ценность предмета, и поскольку оно относилось к личности, могло и должно было по справедливости обозначать её истинное существо, её ценность – внутреннее содержание, её самое» [Флоренский 1990: 320].
В Коране сказано: «Мухаммад – посланник Аллаха, и те, которые с ним, – яростны против неверных, милостивы между собой. Ты видишь их преклоняющимися, падающими ниц. Они ищут милости от Аллаха и благоволения. Приметы их – на их лицах от следов падения ниц. Таков образ их в Торе, но в Евангелии образ их – посев, который извел свой побег и укрепил его; он стал твердым и выровнялся на стебле, восхищая сеятелей, – чтобы разъярить ими неверных» (Сура 48: 29).
Можно полагать, что и название романа «Жизнь впереди» полемически связано со словом Корана, в котором главенствует противопоставление жизни ближайшей жизни будущей: «И здешняя близкая жизнь – только забава и игра, а обиталище последнее – оно жизнь, если будете богобоязненны, то Он дарует вам ваши награды и не спросит о ваших имуществах» (Суры 48: 64; 47: 38). Эту мысль старик Хамиль старается передать своему ученику Момо. Но тот не может согласиться, что «человечество всего лишь запятая в великой Книге жизни, а когда старый человек говорит такие глупости, я даже не знаю, что тут можно сказать. Нет, человечество вовсе не запятая, потому что когда мадам Роза смотрит на меня своими еврейскими глазами, то никакая она не запятая, а скорей уж целиком великая Книга».
Имя, по мысли В. Муравьева, «заживает собственной жизнью», только становясь личностью. «Личность есть имя, сознавшее себя таковым» [Муравьев 1992: 111]. Мухаммад стал личностью, когда, «защищая священное право народов распоряжаться своей судьбой», не позволил, чтобы мадам Роза, «единственная, кого он любил на свете, стала чемпионкой мира среди овощей».
Момо помогает спрятаться мадам Розе в её убежище, зажигает там «семь свечей, как полагается у евреев» и остается с ней до конца, подкрашивая ей губы, ресницы, щеки, «чтобы скрыть действие законов природы». Таким образом Момо «восстает в равной мере против всех законов – полицейского, медицинского, естественного» [Зонина 1984: 220]: «нет ничего сволочней, чем заталкивать жизнь в горло людям, которые не способны защититься и уже не хотят её».
Момо не мыслил «жизни впереди» без мадам Розы. Они не могли быть друг без друга: «Я видел, что она не дышит, но мне было все равно, я любил её, даже если она не дышит. Я лежал рядом с нею, обнимая Артюра, свой зонтик, и старался чувствовать себя ещё хуже, чтобы окончательно умереть».
Гуинплен в книге Гюго говорит: «Я пришёл изобличить ваше счастье. Оно построено на несчастье людей. Вы обладаете всем, но только потому, что обездолены другие» [Гюго 1986, т. 10: 577]. Момо с полным правом мог сказать то же самое.
Желание Момо «стать типом вроде Виктора Гюго», обрести власть над словами, которые «могут всё и убивать при этом не надо», осуществилось: его исповедь – это Книга нового Мухаммада, в которой он, подобно Гюго, напомнил обществу старые истины, способные спасти мир от бездуховности, победить зло во всем его «тысячеликом уродстве» [Гюго 1986, т. 9: 302], искоренить национальный эгоизм, ненависть ко всему чужому. В образе Момо как бы сошлись воедино (но не ассимилировались) линии, представляющие собой разные культурные традиции: мусульманскую (мосье Хамиль), иудаистскую (мадам Роза, доктор Кац), христианскую (Виктор Гюго, мадам Надин, доктор Рамон), а также культ духов и магические обряды африканцев. Тем самым Момо предстает в романе как носитель всечеловеческих ценностей, той «мифологии ценностей», в содержании которой нет места тому, что в свое время И. А. Ильин называл осознанными и полуосознанными суррогатами, – личному и классовому интересу, народному предрассудку или предвзятой доктрине [Ильин 1993: 113]. Герой Ажара оправдывает и свое имя, и имя, которым называл его старик Хамиль, – «малыш Виктор».
«La vie devant soi» – таково название романа Э. Ажара в оригинале. В русском переводе оно воспроизводится по-разному: «Жизнь впереди» (пер. В. Орлова), «Вся жизнь впереди» (пер. Л. Цывьяна). Можно полагать, что данное название восходит к классическому роману Ги де Мопассана «Une vie» («Жизнь»). В нем «Une vie» семантически перекликается с финальной фразой – «C'est la vie», что вызывает мысль о тщетных надеждах на изменения к лучшему, с которыми человек проживает жизнь. Ожидаемая новая жизнь превращается, таким образом, в жизнь, неотвратимо прожитую. Это крылатое выражение в романе Ажара становится источником различных смысловых импликаций. Одна из них – об изначальной предопределенности жизни человека. Толкуя название романа в данном ключе, В. Босенко пишет, что «сколько бы лет ни прожил арабский мальчик Момо, перед ним будет маячить не только утешительное, буржуазно-лилейное напутствие, мол, у тебя "жизнь впереди" или "вся жизнь впереди", но и грозное, как memento mori, по Мопассану, "вот такая она, жизнь". Ибо название одноименного романа Эмиля Ажара переводимо и таким образом, и это один из существенных его смысловых пластов» [Босенко 2000].
На рубеже XIX–XX веков критика называла В. Гюго «моралистом и поэтом», «неисправимым романтиком», который «высоко держал свое поэтическое знамя, продолжая верить, что поэзия и гуманность одни призваны спасти человечество» [Коган 1905: 279–280]. Сказанное вполне приложимо к Гари – Ажару, который всем своим творчеством утверждал «миф о человеке», идеалы гуманизма и терпимости – расовой, национальной, религиозной, предлагая следовать дорогой любви и милосердия. Этот путь, вопреки сомнениям, разочарованиям, порожденным трагической действительностью ХХ века, казался ему «созидательным, способным если не изменить мир, то противостоять злу» [Хачатурян 1991: 210].
Однажды Момо спросил у старика Хамиля, можно ли жить без любви. Пряча глаза, тот ответил: «да, можно». Это была ложь во спасение. «Жить без любви нельзя. Я по крайней мере не могу» – убежден Гари [Гари 1991: 230]. В этом пафос его романа «Жизнь впереди».
ПЛАН ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ
1. Мировоззрение и эстетика Гари-Ажара.
2. Путь Э. Ажара к роману «Жизнь впереди» и место произведения в творчестве писателя. Роль автобиографического фактора в создании романа.
3. Нравственная и социальная проблематика романа Э. Ажара.
4. Художественное воплощение темы «отверженных». Связь с национальной романтической традицией.
5. Способы создания характера у Ажара и идейное содержание образа Момо.
6. Персонажи второго плана, принципы их создания и связь с главным героем.
7. Поэтика романа (роль иронии, аллюзии, основные лейтмотивы, художественное время и пространство, язык романа).
8. Смысл названия романа. Понятие «жизнь»; жизнь в понимании и оценках Момо.
9. Гуманистическое значение романа «Жизнь впереди», его связь с современностью.
Вопросы для обсуждения. Задания
1. Раскройте смысловую нагрузку названия романа Э. Ажара. Объясните, насколько правомерны избранные русскими переводчиками варианты его заглавия.
2. В. Ерофеев в предисловии к роману Э. Ажара «Жизнь впереди» пишет: «Над этой книгой витает дух мощной, но нынче редко используемой национальной романтической традиции, дух Виктора Гюго, автора прежде всего "Отверженных"». Опираясь на текст романа, найдите аргументы, которые подтверждали бы правомерность данного высказывания.
3. Выделите сквозные образы романа. Покажите, как они взаимодействуют друг с другом в тексте.
4. Определите основные функции повторов в тексте романа. В чем своеобразие композиции произведения Э. Ажара?
5. Выделите в тексте романа элементы интертекста. Определите роль в тексте цитат и реминисценций.
6. Что такое архетип? Какие образы романа имеют явную архетипическую основу? Раскройте роль архетипического в смысловой структуре текста.
Рекомендуемая литература
Тексты
Ажар Э. Жизнь впереди / Пер. В. Орлова. М.: Художественная литература, 1988.
Ажар Э. Вся жизнь впереди / Пер. Л. Цывьяна // Ажар Эмиль (Ромен Гари). Голубчик; Вся жизнь впереди: Романы. СПб.: Симпозиум, 2000.
Критические работы
Бреннер Ж. Ромен Гари //Ж. Бреннер. Моя история современной французской литературы. М.: Высшая школа, 1994. С. 216–219. Ерофеев В. Мистификация, и ужас, и любовь // Э. Ажар. Жизнь впереди. М.: Художественная литература, 1988. С. 5—15. Зонина Л. Момо и Мондо // Л. Зонина. Тропы времени: Заметки об исканиях французских романистов (60–70 гг.). М.: Художественная литература, 1984. С. 231–235. Хачатурян Н. Иносказания Ромена Гари // Вопросы литературы. 1991. № 11–12. С. 206–214.
Дополнительная литература
Гари Р. О творчестве: Выдержки из интервью // Вопросы литературы.
1991. № 11–12. С. 215–231. Гари Р. Ночь будет спокойной. СПб.: SYMPOSIUM, 2004. Злобина А. Гари-Ажар, единый в двух лицах // Новый мир. 1996. № 2. С. 231–235.
ТЕМЫ ДЛЯ РЕФЕРАТОВ И ДОКЛАДОВ
1. Место романа «Жизнь впереди» в творческой биографии Гари– Ажара.
2. Темы одиночества, бунта в романе «Жизнь впереди».
3. Особенности языка и стиля романа.
4. Виды и назначение комического в романе Э. Ажара.
Тема 9 Феномен «новой» латиноамериканской прозы
В первые десятилетия ХХ века Латинская Америка воспринималась европейцами как «континент поэзии». Ее знали как родину блестящих поэтов-новаторов никарагуанца Рубена Дарио (1867–1916), выдающихся чилийских поэтов Габриэлы Мистраль (1889–1957) и Пабло Неруды (1904–1973), кубинца Николаса Гильена (1902–1989) и др.
В отличие от поэзии, проза Латинской Америки долгое время внимания зарубежного читателя не привлекала; и хотя в 1920– 1930-х годах уже сложился оригинальный латиноамериканский роман, мировую известность он получил далеко не сразу. Писатели, создававшие первую в литературе Латинской Америки романную систему, сосредоточивали свое внимание на социальных конфликтах и проблемах локального, узконационального значения, обличали общественное зло, социальную несправедливость. «Рост индустриальных центров и классовых противоречий в них способствовал "политизации" литературы, ее повороту к острым общественным проблемам национального бытия и появлению таких неизвестных в латиноамериканской литературе XIX века жанров, как шахтерский роман (и рассказ), пролетарский роман, социальный и городской роман» [Мамонтов 1983: 22]. Общественно-социальная, политическая проблематика стала определяющей для творчества многих крупных прозаиков. Среди них – Роберто Хорхе Пайро (1867–1928), стоящий у истоков современной аргентинской литературы; чилийцы Хоакин Эдвардс Бельо (1888–1969) и Мануэль Рохас (1896–1973), писавшие о судьбах обездоленных соотечественников; боливиец Хайме Мендоса (1874–1938), который создал первые образцы так называемой шахтерской литературы, весьма характерной для последующей андской прозы, и др.
Сформировалась и такая особая разновидность жанра, как «роман земли», в котором, по общепринятому мнению, отчетливее всего обнаружилось художественное своеобразие латиноамериканской прозы. Характер действия здесь «целиком определялся господством естественной среды, в которой протекали события: тропическая сельва, плантации, льяносы, пампа, шахты, горные деревни. Природная стихия становилась центром художественного универсума, и это вело к "эстетическому отрицанию" человека <…>. Мир пампы и сельвы был замкнут: законы его жизни почти не соотносились со всеобщими законами жизни человечества; время в этих произведениях оставалось сугубо "местным", не сопряженным с историческим движением всей эпохи. Незыблемость зла казалась абсолютной, жизнь – статичной. Так сам характер сотворенного писателем художественного мира предполагал беспомощность человека перед лицом естественных и социальных сил. Человек был вытеснен из центра художественной вселенной на ее периферию» [Кутейщикова 1974: 75].
Важный момент в литературе данного периода – отношение писателей к индейскому и африканскому фольклору как к исконному элементу национальной культуры подавляющего большинства стран Латинской Америки. Авторы романов зачастую обращались к фольклору в связи с постановкой социальных проблем. Так, например, И. Тертерян отмечает: «…бразильские писатели-реалисты 30-х годов, и особенно Жозе Линс до Рего в пяти романах "Цикла о сахарном тростнике", рассказали о многих поверьях бразильских негров, описали их праздники, ритуалы макумбы. Для Линса до Рего верования и обычаи негров – одна из сторон социальной действительности (наряду с трудом, отношениями хозяев и батраков и т. п.), которую он наблюдает и исследует» [Тертерян 2004: 4]. Для некоторых прозаиков фольклор, напротив, был исключительно областью экзотики и волшебства, особым миром, дистанцированным от современной жизни с ее проблемами.
К всеобщей гуманистической проблематике авторы «старого романа» выйти так и не смогли. К середине столетия стало очевидным, что существующая художественная система требует обновления. Позже Габриэль Гарсиа Маркес скажет о романистах этого поколения: «Они хорошо перепахали землю, чтобы те, кто придет потом, смогли посеять».
Обновление латиноамериканской прозы начинается с конца 1940-х годов. «Исходными точками» этого процесса принято считать романы гватемальского писателя Мигеля Анхеля Астуриаса («Сеньор Президент», 1946) и кубинца Алехо Карпентьера («Царство земное», 1949). Астуриас и Карпентьер раньше других писателей ввели в повествование фольклорно-фантастический элемент, начали свободно обращаться с повествовательным временем, попытались осмыслить судьбу собственных народов, соотнося национальное с общемировым, сегодняшнее с прошлым. Они считаются родоначальниками «магического реализма» – «самобытного течения, представляющего собой с точки зрения содержания и художественной формы определенный способ видения мира, опирающийся на народно-мифологические представления. Это некий органический сплав действительного и вымышленного, повседневного и сказочного, прозаического и чудесного, книжного и фольклорного» [Мамонтов 1983: 28].
В то же время в работах таких авторитетных исследователей латиноамериканской литературы, как И. Тертерян, Е. Белякова, Е. Гаврон, обосновывается тезис о том, что приоритет в создании «магического реализма», раскрытии латиноамериканского «мифологического сознания» принадлежит Жоржи Амаду, который уже в ранних своих произведениях, в романах первого байянского цикла – «Жубиаба» (1935), «Мертвое море» (1936), «Капитаны песка» (1937), а позже в книге «Луис Карлос Престес» (1951)[20] – соединил фольклор и быт, прошлое и настоящее Бразилии, перенес легенду на улицы современного города, услышал ее в гуле повседневности, смело использовал фольклор для раскрытия духовных сил современного бразильца, прибегнул к синтезу таких разнородных начал, как документальность и мифологичность, сознание индивидуальное и народное [Тертерян 1983; Гаврон 1982: 68; Белякова 2005].
В предисловии к роману «Царство земное» Карпентьер, излагая свою концепцию «чудесной реальности», писал о том, что многокрасочная действительность Латинской Америки представляет собой «реальный мир чудесного» и надо лишь суметь отобразить его в художественном слове. Чудесны, по мысли Карпентьера, «девственность природы Латинской Америки, особенности исторического процесса, специфика бытия, фаустианский элемент в лице негра и индейца, само открытие этого континента, по сути недавнее и оказавшееся не просто открытием, но откровением, плодотворное смешение рас, ставшее возможным только на этой земле» [Карпентьер 1988: 35].
«Магический реализм», позволивший радикально обновить латиноамериканскую прозу, способствовал расцвету романного жанра. Главную задачу «нового романиста» Карпентьер видел в том, чтобы создать эпический образ Латинской Америки, в котором соединились бы «все контексты действительности»: «политический, социальный, расовый и этнический, фольклор и обряды, архитектура и свет, специфика пространства и времени». «Сцементировать, скрепить все эти контексты, – писал Карпентьер в статье «Проблематика современного латиноамериканского романа», – поможет "бурлящая человеческая плазма", а значит, история, народное бытие». Спустя двадцать лет похожую формулу «тотального», «интегрирующего» романа, который «заключает договор не с какой-либо одной из сторон действительности, а с действительностью в целом», предложил Маркес. Программу «реально-чудесного» он блестяще реализовал в своей главной книге – романе «Сто лет одиночества» (1967).
Таким образом, основополагающими принципами эстетики латиноамериканского романа на новом этапе его развития становятся полифонизм восприятия реальности, отказ от догматизированной картины мира. Существенно и то, что «новым» романистам, в отличие от их предшественников, интересны психология, внутренние конфликты, индивидуальная судьба личности, которая переместилась теперь в центр художественного универсума. В целом же новая латиноамериканская проза «являет собой пример сочетания самых разнообразных элементов, художественных традиций и методов. В ней миф и реальность, достоверность фактографии и фантазия, социальный и философский аспекты, политическое и лирическое начала, "частное" и "общее" – все это слилось в одно органическое целое» [Белякова 2005].
В 1950—1970-х годах новые тенденции латиноамериканской прозы получили дальнейшее развитие в творчестве таких крупных писателей, как бразилец Жоржи Амаду, аргентинцы Хорхе Луис Борхес и Хулио Кортасар, колумбиец Габриэль Гарсиа Маркес, мексиканец Карлос Фуэнтес, венесуэлец Мигель Отера Сильва, перуанец Марио Варгас Льоса, уругваец Хуан Карлос Онетти и многих других. Благодаря этой плеяде писателей, которых называют творцами «нового латиноамериканского романа», проза Латинской Америки быстро приобрела широкую известность во всем мире. Эстетические открытия, сделанные латиноамериканскими прозаиками, повлияли на западноевропейский роман, который переживал кризисные времена и к моменту латиноамериканского бума, начавшегося в 1960-х, находился, по мнению многих литераторов и критиков, на грани «гибели».
Литература Латинской Америки продолжает успешно развиваться и до настоящего времени. Нобелевской премией были отмечены Г. Мистраль (1945), Мигель Астуриас (1967), П. Неруда (1971), Г. Гарсиа Маркес (1982), поэт и философ Октавио Пас (1990), прозаик Жозе Сарамаго (1998).
«Магический реализм» в латиноамериканской прозе (План коллоквиума)
I. Социально-исторические и эстетические предпосылки латиноамериканского бума в послевоенной Европе.
1. Особенности исторического пути развития Латинской Америки и национальное самоутверждение латиноамериканских стран в области культуры (1940—1970-е годы).
2. Становление «нового латиноамериканского романа»: от статичности к историзму, «от эпической простоты к диалектической сложности» (К. Фуэнтес).
3. Преодоление нативизма в прозе М. А. Астуриаса и А. Карпентьера, В. Льосы и Г. Г. Маркеса, О. Сильвы, Ж. Амаду. Обращение латиноамериканских писателей к мифологическим традициям, национальному фольклору.
4. Новое, мифологическое, качество повествования в книгах Жоржи Амаду байянского цикла и «Луис Карлос Престес»: синтез эпического и лирического начал, отражение живой стихии народного сознания (мифосознания) и движения истории.
II. Астуриас и Карпентьер – родоначальники «магического реализма».
1. Роман Мигеля Анхеля Астуриаса (Miguel Angel Asturias, 1899–1974) «Сеньор Президент» (1946) как одно из главных произведений, предвосхитивших новую эпоху в истории латиноамериканской прозы.
1.1. Исследование в романе «проблемы насилия» в ее социальных, нравственных, психологических аспектах.
1.2. Изображение деклассированной стихии в романе.
1.3. Влияние индейского фольклора на стиль романа.
1.4. Техника потока сознания; приемы авангардизма как отличительные приметы стиля романа.
2. Алехо Карпентьер (Alejo Carpentier, 1904–1980) – автор концепции «чудесной реальности», или «магического реализма»[21].
2.1. Пролог к роману «Царство земное» (1949) А. Карпентьера как манифест «нового латиноамериканского романа», концепции «чудесной реальности» («lo real maravilloso»):
• «чудесная реальность» как органический компонент «чудесной» реальности Латинской Америки (история, география, этнический состав, культура);
• обилие чудесного в современной латиноамериканской прозе как результат творческого преломления в ней чудесной действительности континента;
• оппозиция «чудесное» (подлинное, естественное) латиноамериканской культуры и «чудесное» (мнимое, искусственное) европейской культуры;
• дуализм местной (аборигенной) и колониальной культур как фактор двойственной картины мира, особого «амбивалентного» стиля.
2.2. Теоретическая (национально-эстетическая) модификация термина «барокко» («необарокко») в концепции А. Карпентьера. Черты эстетики барокко в «Царстве земном» и других произведениях писателя («Концерт барокко», «Творение Форм», «Чудо», «Великая Перемена» и др.).
3. «Весна Священная» как образец произведения стиля «необарокко».
3.1. Смысловая полифония и конструктивная роль названия романа.
3.2. Проблематика романа и своеобразие его конфликта.
3.3. Духовная эволюция главных героев романа – Энрике и Веры.
3.4. Художественное время и пространство в романе.
3.5. Особенности повествовательной структуры.
3.6. «Русская тема» в романе.
Вопросы для обсуждения. Задания
1. В 1948 г. Карпентьер опубликовал «Царство земное». Это произведение вместе с романом Астуриаса «Сеньор Президент» (1946) стало «точкой отсчета» новой эпохи в развитии латиноамериканской прозы.
Прочитайте Пролог к «Царству земному» и подготовьте ответ на вопрос об основных чертах концепции «чудесного» Алехо Карпентьера.
2. Известно, что Астуриас и Карпентьер пришли к «магическому реализму» после основательного знакомства с европейским сюрреализмом. Между названными литературными явлениями при определенном сходстве существует и принципиальное различие. Поясните, чем отличается фантастика латиноамериканских творцов «реально-чудесного» от фантастики сюрреалистов. Аргументируйте свой ответ.
3. Почему послевоенные латиноамериканские прозаики (К. Фуэнтес, А. Карпентьер, Г. Гарсиа Маркес и др.) восстают против «диктаторской власти» времени; каким экспериментам подвергается время в их прозе? Что такое коллапс времени? Проиллюстрируйте свой ответ примерами из текстов произведений, которые были вами прочитаны.
4. Какую функцию выполняет миф в новой латиноамериканской прозе? Актуален ли, на ваш взгляд, для Латинской Америки тот художественный эксперимент, который проделал с мифом Томас Манн?
5. К основополагающим мотивам латиноамериканской прозы некоторые критики относят лейтмотивы одиночества, отчуждения, некоммуникабельности. На примере прочитанных вами произведений Фуэнтеса, Варгаса Льосы, Астуриаса, Гарсиа Маркеса, Кортасара обоснуйте правомерность этого положения.
6. В чем заключается своеобразие эротического компонента в латиноамериканском романе?
7. С какого произведения бразильского писателя началось в 1951 г. знакомство советского читателя с явлением, которое впоследствии будет названо «новым латиноамериканским романом»?
8. Подготовьте сообщение о поэтике чудесной реальности в одном из романов Жоржи Амаду.
9. Покажите на примере одного из произведений Астуриаса («Алахадито», 1961; «Мулатка как мулатка», 1963; «Зеркало Лиды Саль», 1967 и др.), как в новом латиноамериканском романе фантастика сочетается с социально-критическими мотивами.
Рекомендуемая литература
Тексты
Амаду Ж. Собрание сочинений: В 3 т. М., 1986–1987. Астуриас М. А. Сеньор Президент: Роман. М.: Радуга, 1986.
Карпентьер А. Избранное / Пер. с исп.; сост. и предисл. В. Земскова. М.: Радуга, 1988. (Мастера современной прозы).
Критические работы
Дашкевич Ю. Карпентьер. Декарт и диктаторы // А. Карпентьер. Превратности метода. М., 1987.
Зюкова Н. С. Алехо Карпентьер. Л., 1982.
Кофман А. Ф. Латиноамериканский художественный образ мира. М., 1997.
Кутейщикова В. Н., Осповат Л. С. Новый латиноамериканский роман, 50—70-е годы. Литературно-критические очерки. М., 1976.
Надъярных М. Изобретение традиции, или Метаморфозы барокко и классицизма // Вопросы литературы. 1999. № 4.
Маркес Г. Г. «Многое я рассказал вам впервые…» // Писатели Латинской Америки о литературе. М., 1982. С. 269–281.
Огнева Е. В. К «новому латиноамериканскому роману» // Зарубежная литература ХХ века: учеб. для вузов / Под ред. Л. Г. Андреева. М., 2001.
Осповат Л. Последний роман Алехо Карпентьера // А. Карпентьер. Весна Священная. М., 1982.
Пискунова С., Пискунов В. Алехо Карпентьер и проблема необарокко в культуре ХХ века // Вопросы литературы. 1984. № 7.
Тертерян И. А. Человек мифотворящий. О литературе Испании, Португалии и Латинской Америки. М., 1988.
Дополнительная литература
Белякова Е. Русский Амаду, или Русско-бразильские литературные связи / 10.10.2005 г. [Электронный ресурс] Lib.Ru: Жоржи Амаду / Режим доступа: -big-pictures.html.
Гаврон Е. Зажечь огонь надежды // В мире книг. 1982. № 8. С. 68–70.
Дашкевич Ю. В. Вступительная статья к рассказам Ж. Сарнея // Иностранная литература. 1987. № 6. С. 51–52.
Мамонтов С. П. Испаноязычная литература стран Латинской Америки ХХ века. М., 1970.
Писатели Латинской Америки о литературе. М.: Радуга, 1982.
Тертерян И. Мир Жоржи Амаду // Ж. Амаду. Собрание сочинений: В 3 т. М., 1986. Т. 1. С. 5—26. [Электронный ресурс] Lib.Ru: Жоржи Амаду. Режим доступа: . Тертерян И. А. Бразильский роман 20-го века. М., 1965. Тертерян И. А. Баия, добрая и суровая земля Баия // Ж. Амаду. Жубиаба; Мертвое море. М., 1983. С. 5—20. Художественное своеобразие литератур Латинской Америки. М., 1976.
«Реально-чудесное» в романе Габриэля Гарсиа Маркеса «Сто лет одиночества» (Практическое занятие)
ПЛАН ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ
1. Магический реализм как способ видения действительности через призму мифологического сознания.
2. Проблема жанровой формы романа «Сто лет одиночества».
3. Смысл названия произведения.
4. Мифологизм и концепция истории в романе Маркеса.
4.1. Макондо как поэтически-метафорическая модель мира.
4.2. Столетняя история рода Буэндиа как цельное историческое полотно, отражающее историю Колумбии, Латинской Америки, человеческой цивилизации в целом.
5. Основные сюжетные линии романа.
6. Категория художественного времени романа.
7. Специфика художественного пространства романа.
8. Национальная мифологема одиночества в тексте романа.
9. Образ цыгана Мелькиадеса, его идейно-содержательная функция.
10. Раблезианский «миросозерцательный смех» как один из основных приемов в произведении Маркеса. Средства создания смехового эффекта; сочетание комического и трагического, возвышенного и низменного.
11. Черты «магического реализма» в романе. Соединение эпических, лирических, мифологических и библейских элементов.
Вопросы для обсуждения. Задания
1. В беседе с Мануэлем Перейрой Маркес особенно подчеркивает, что верит в «магию реальной жизни». «Я думаю, – говорил он, – что Карпентьер "магическим реализмом" на самом деле называет то чудо, каким является реальность, и именно реальность Латинской Америки вообще, в частности реальность карибских стран. Она – магическая». А в статье «Многое я рассказал вам впервые…» пишет: «Я думаю, единственное, что надо делать писателям – приверженцам "магического реализма" – это просто верить в реальность, не пытаясь объяснить, почему они приверженцы именно такого реализма». Докажите, что принцип веры в реальность является органичным для поэтики романа Маркеса.
2. Как решаются в романе проблемы родовой замкнутости, любви и брака, технического прогресса, биологического и духовного в развитии личности?
3. Докажите, что почти каждый персонаж романа является носителем «чудесного» начала, «магических» черт характера. Раскройте концептуальную нагрузку имен собственных героев романа.
4. Охарактеризуйте специфику макондовского пространства и времени. Покажите, как в романе реализуется прием коллапса времени (когда настоящее повторяет или напоминает прошлое).
5. Покажите на конкретных примерах, как в романе воплощается такая характерная черта мифологического времени, как его деление на мифологические эпохи, которые в конечном счете завершаются грандиозной катастрофой, уничтожающей мир.
6. Какие смыслы имплицирует финал романа?
7. Охарактеризуйте способы выражения авторской позиции в романе.
8. Подготовьте сообщение «История рода Буэндиа и деревеньки Макондо как композиционный стержень романа».
Рекомендуемая литература
Тексты
Маркес Г. Г. Сто лет одиночества. (Любое издание)
Критические работы
Гирин Ю. «Сто лет одиночества» 35 лет спустя. М., 2004.
Земсков В. Б. Габриэль Гарсиа Маркес: Очерк творчества. М., 1986.
Кофман А. Ф. Латиноамериканский художественный образ мира. М., 1997.
Петровский И. По направлению к поэтике: Габриэль Гарсиа Маркес в зарубежном литературоведении (1980–1986) // Вопросы литературы. 1987. № 7. С. 239–260.
Попов Ю. Габриэль Гарсиа Маркес. Путь к славе. СПб., 2003.
Дополнительная литература
Бахтин М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. М., 1965.
Мамонтов С. П. Испаноязычная литература стран Латинской Америки ХХ века. М., 1970.
Петровский И. Знаки Москвы и колумбийская действительность // Вопросы литературы. 1990. № 1. С. 112–139.
Писатели Латинской Америки о литературе. М., 1982.
Тертерян И. А. Человек мифотворящий. О литературе Испании, Португалии и Латинской Америки. М., 1988.
Эпштейн М. Парадоксы новизны. М., 1988.
ТЕМЫ ДЛЯ РЕФЕРАТОВ И ДОКЛАДОВ
1. Черты «раблезианской» поэтики в прозе Маркеса.
2. Значение художественного опыта У. Фолкнера для творчества Маркеса: Йокнапатофа и Макондо.
3. Символическая семантика топонима Макондо в романе «Сто лет одиночества».
4. Притча и символ в структуре романа Маркеса «Осень патриарха».
«Другая проза» Хулио Кортасара (Julio Cortazar, 1914–1984) (Коллоквиум)
ПЛАН КОЛЛОКВИУМА
1. Значение литературного и культурного опыта Европы для творчества писателя.
2. Специфика кортасаровской фантастики.
3. «Фантастическое» в представлении Х. Кортасара.
4. Новеллистика писателя.
4.1. Пересечение обыденной жизни с иными мирами (реальностями) в рассказах «Письмо в Париж одной сеньорите», «Дальняя», «Ночью на спине, лицом кверху».
4.2. Отказ от логики времени и пространства как один из главных методов художественного исследования действительности.
4.3. Художественная специфика психологической («интроспективной») прозы Кортасара (рассказы «Сеньорита Кора», «Воссоединение»).
5. Категория «игры», ее художественный и социальный смысл в экспериментальном романе «Игра в классики» (1963).
Рекомендуемая литература
Тексты
Кортасар Х. Собрание сочинений: В 4 т. СПб., 1992–1994. КортасарХ. Игра в классики / Пер. с исп. Л. Синянской, предисл. И. Тертерян, коммент. Б. Дубина. М.: Художественная литература, 1986. Кортасар Х. Преследователь: Рассказы / Пер. с исп.; сост. В. Н. Андреев. СПб.: Лениздат, 1993.
Критические работы
Андреев В. «Создано в одиночестве и отвоевано у тьмы…» // Х. Кортасар. Преследователь: Рассказы / Пер. с исп.; сост. В. Н. Андреев. СПб.: Лениздат, 1993. С. 3—16.
Кофман А. Возвращение к истокам // Х. Кортасар. Собрание сочинений: В 4 т. СПб., 1994. Т. 4. С. 485–491. Тертерян И. Хулио Кортасар: игра взаправду // Х. Кортасар. Собрание сочинений: В 4 т. СПб., 1992. Т. 3. С. 425–440. «Хулио Кортасар, или Самый великий хронотоп»: Литературный гид // Иностранная литература. 2001. № 6.
Дополнительная литература
Кортасар Х. «Я играю в писателя. И эта игра может стать смертельной…» // Новая юность. 1994. № 1 (4). С. 71–82. Латиноамериканские писатели о Хулио Кортасаре // Латинская Америка: литературный альманах. Вып. 4. М., 1986. С. 257–291. Петровский И. Борхес и Кортасар: эпизод духовной жизни ХХ века // Иностранная литература. 1990. № 3. С. 177–179. Писатели Латинской Америки о литературе. М.: Радуга, 1982.
ТЕМЫ ДЛЯ РЕФЕРАТОВ И ДОКЛАДОВ
1. Значимость художественного опыта Ф. М. Достоевского для творчества Хулио Кортасара.
2. «Игра в классики» Х. Кортасара как роман сервантесовского типа.
3. Мировое значение литературы Латинской Америки.
Тема 10 Постмодернизм как эстетический феномен современной литературы[22] (Коллоквиум)
ПЛАН КОЛЛОКВИУМА
I. Постмодернизм как феномен культуры последней трети ХХ века.
1. Понятие «постмодернизм» в современной науке.
1.1. Постмодернизм – ведущее направление современной философии, искусства и науки, многообразие форм реализации которого обусловлено конкретными историческим, социальным, культурным и национальным контекстами.
1.2. Постмодернизм – транскультурный и мультирелигиозный феномен, предполагающий диалог на основе принципов открытости, учета многообразия духовной жизни человечества, синтеза культурно-исторического опыта и его актуализации в настоящем и будущем.
2. Социально-культурные и эстетические факторы возникновения и становления постмодернизма и особенности его проявления:
• нестабильный и непредсказуемый характер общественной жизни, трансформация геополитического пространства;
• нонконформистские альтернативные движения (феминизм, экологизм, движение за мир);
• смена идеи европоцентризма идеей глобального полицентризма, утверждение холистического, целостного мышления; появление постколониальной, постимпериалистической модели мира, реальная угроза самоуничтожения человечества;
• кризис прогрессистского мышления: разочарование в идеалах и ценностях Возрождения и Просвещения с их верой в прогресс, торжество разума, безграничность возможностей человека; ощущение мира как хаоса, утрата критериев ценностной и смысловой ориентации, кризис веры (И. Хассан); отрицание возможности существования и установления какого-либо природного и социального порядка (Д. Фоккема); эсхатологические умонастроения;
• утверждение приоритета прав человека над теми или иными интересами государства, принципиальное неприятие идеи господства над природой, личностью, обществом; гуманизация науки, техники, индустрии и демократии (антропоцентризм); диалогизация различных гуманитарных знаний;
• плюралистические трактовки исторического прошлого, настоящего и будущего; эстетическое отношение к истории, стремление избавиться от стереотипов восприятия истории как прогресса;
• актуализация религиозной культуры, носящей амбивалентный характер, идей о единстве христианской церкви, гармонизации религий и содружестве наций (Г. Кюнг);
• развитие новейших технических средств массовой коммуникации; поиски и распространение новых форм отражения в культуре особенностей общественной жизни и экономического порядка (возникновение общества потребления, театрализация политики, развитие масс-медиа, информатики, сетелитературы);
• игровое освоение мира как хаоса (модернистские концепции мира), превращение его в среду обитания человека;
• обостренный интерес к проблемам транссексуальности, сексуальных меньшинств;
• понимание литературы как своего рода глобальной теории познания, исследующей язык, бессознательное, религию, общество (Ж.-Ф. Лиотар, Ю. Кристева и др.);
• стремление включить в орбиту современного искусства весь опыт мировой художественной литературы путем ее иронического цитирования;
• популистская ориентация, отвергающая любые эстетические табу; переосмысление традиционных эстетических категорий и понятий, внимание к феномену безобразного; эстетические мутации, эклектическое смешение стилей; ориентация на мир воображения, сновидений, бессознательного как на наиболее соответствующий хаотичности, абсурдности, эфемерности постмодернистской картины мира;
• стремление создать новую художественную среду (виртуальную реальность) и способ отношения к ней (интерактивность); моделирование действительности путем экспериментирования с искусственной реальностью; возникновение гиперлитературы, которая оперирует не текстами, а текстопорождающими системами (У. Гибсон «Виртуальный свет», М. Джойс «Полдень») и общим принципом которой является принцип дискретности, делимости, взаимозаменяемости «файлов»-эпизодов в корневом каталоге произведения [Маньковская 2000: 317].
3. Фазы развития постмодернизма, сферы и формы его проявления.
3.1. Зарождение искусства постмодернизма – 50-е годы XX века.
3.2. Первая фаза развития постмодернизма — 60-е годы ХХ века, его становление и обретение своих форм в искусстве:
– живопись, архитектура, музыка (Э. Уорхол, Р. Раушенберг и др.; Л. Кролл и др.; Д. Кейдж и др.);
– литературоведение, критика, эссеистика (И. Хассан, М. Маклюэн, С. Зонтаг, Р. Гамильтон; Р. Барт, Ю. Кристева и др.);
– литература (У. Берроуз, Д. Керуак, А. Гинсберг, Д. Сэлинджер, Н. Мейлер, К. Воннегут, Дж. Барт и др.).
3.2.1. Тенденции проявления постмодернизма в 60-е годы:
• борьба против стереотипов высокого модернизма, приобретшего академический статус; разрушение оппозиции «искусство элитарное / искусство массовое» и воплощение в художественную практику идеи «диффузного» искусства, идеи синтеза прошлого и настоящего, высокого и низкого, разных видов искусств; иронического модуса изображения;
• возникновение «авангардистского постмодернизма» и его выражение в субкультурах хиппи, феминизма, в таких направлениях, как рок, фолк, поп-арт и пр.
3.3. Вторая фаза развития постмодернизма в искусстве – 70-е годы ХХ века:
– живопись, архитектура и музыка (Р. Китай, Р. Эст, Д. Ати; Д. Диксон, Г. Голейн; Т. Райли, Ф. Глас);
– театр (С. Беккет, Э. Ионеско; А. Миллер) и кино (Р.-В. Фасбиндер, П. Пазолини, Бунюэль, Ф. Феллини и др.);
– литература (Х. Л. Борхес, Г. Г. Маркес, У. Эко, И. Кальвино, Х. Кортасар, Дж. Фаулз, М. Льоса, Т. Пинчон и др.).
3.3.1. Тенденции проявления, реализации постмодернизма в 70-е годы:
• распространение искусства постмодернизма в Европе;
• установка на целостное познание личности и ее места в мире;
• структурно-психоаналитическая трактовка генезиса эстетического, основанная на диалектике воображаемого и символического; поворот от семиотики к семантике;
• концепция иронического прочтения прошлого (У. Эко и др.);
• представление об искусстве как метаязыке;
• стилевое многообразие и эклектизм (эксперимент и китч, реализм и абстракция, традиции и новаторство);
• демократизация искусства (апелляция к инструментарию массовой культуры);
• влияние идей неоконсерватизма – консервации культурных традиций прошлого путем их эклектического сочетания;
• усиление эротизации искусства (акцентирование феминистских трактовок женской сексуальности, явлений транссексуализма, субкультуры сексуальных меньшинств и пр.).
3.4. Третья фаза развития постмодернизма в культуре — конец 70-х годов – начало XXI века:
– живопись, архитектура и музыка (К. Мариани, М. Моржи, С. Кокс, Э. Леси и др.; Л. Кан, А. Роси, О. Андерс, К. Роу и др.; К. Штокхаузен, Д. Крамб, Ш. Ив и др.);
– кино (С. Спилберг, Дж. Лукас, Р. Поланский, Ф. Феллини, П. Пазолини, С. Кубрик, К. Рассел и др.);
– литература: К. Белли, Г. Кабрера, Х. Санчес (Латинская Америка), Х. Акен, Л. Коэн (Канада), Ж. Эшоно, Ж.-П. Туссен (Франция), М. Эмис, А. Картер, Т. Мо (Англия), Дж. Хеллер, С. Бенни, Г. Вук (США), П. Зюскинд (Германия).
3.4.1. Тенденции проявления и реализации постмодернизма на данном этапе:
• распространение в странах Восточной Европы, в том числе в России;
• завершение процесса «снятия» достижений модернизма;
• развитие латиноамериканского магического реализма (ориентация на реконструкцию мира, окрашенная идеями политического протеста), скандинавская неоготика, славянский соц-арт (политизированная разновидность постмодернизма); поворот в сторону миноритарных культур – феминистской, экологической и т. д.;
• тяготение к эпичности, монументальности;
• интерес к классической античности и осознание невозможности возврата к философской основе античного мироощущения (оксюморонный характер эстетических категорий: дисгармоничная гармония, асимметричная гармония, диспропорциональные пропорции и пр.);
• стилевой плюрализм и эклектизм (эффект смеси памяти и неологизмов в культуре); принцип сочетания пользы и удовольствия, размывание границ между жанрами и стилями; сочетание приемов интеллектуальной прозы с сюжетной развлекательностью, многообразные имитации, стилизации литературных предшественников; металитературность; иронические коллажи традиционных приемов письма; пародийное цитирование; эстетизация безобразного;
• утверждение альтернативного стиля жизни в разных ее сферах – от интимной до политической;
• использование компьютерных технологий и пр.
3.5. Возможные векторы развития постмодернистской культуры: технообразы, виртуалистика, транссентиментализм.
II. Постмодернизм («постмодерн»[23]) как литературно-художественное явление.
1. Понятие «постмодернизм» в современном литературоведении.
1.1. Постмодернизм как новая художественная традиция, возникшая из модернизма, которая синтезирует опыт прошлого, но дистанцируется от позднего модернизма.
1.2. Постмодернизм как направление в современной литературной критике, опирающееся на теорию и практику постструктурализма и деконструктивизма, преследующее цель выявления «на уровне организации художественного текста определенного мировоззренческого комплекса – специфического способа мировосприятия, мироощущения и оценки как познавательных возможностей человека, так и его места и роли в окружающем мире» [Ильин 2001: 206].
1.3. Постмодернизм как художественный код, как свод правил организации текста произведения, сориентированный на сознательное отрицание всяких правил и ограничений, выработанных предшествующей культурной традицией (И. П. Ильин).
1.4. Постмодернизм как литературное (художественное) течение, как новый литературный стиль (специфическая разновидность «письма»), отличительным признаком которых является метаповествование.
1.5. Постмодернизм как совокупность произведений современной литературы модерна – от Дж. Сэлинджера, Х. Кортасара, Н. Мейлера до Дж. Барнса, У. Эко, М. Брэдбери и др.
1.6. Постмодернизм как ультрамодернистские эксперименты в литературе и литературной критике 1970–2000 гг. («литература для писателей» Ф. Соллерса, «Бледное пламя» В. Набокова, «Если однажды зимней ночью путник…» И. Кальвино, произведения М. Павича, «Пути к Раю» П. Корнеля и др., работы представителей Йельской литературоведческой школы и др.).
2. Методологические, жанровые и стилистические основы возникновения и развития постмодернизма в литературе. Художественный синтез и формы его воплощения как главное открытие литературы ХХ века (Л. Г. Андреев).
2.1. «Интеллектуальный роман» как новый жанр, новое стилистическое образование и новый метод (Т. Манн, Г. Гессе, Г. Брох и др.).
2.2. Театр Б. Брехта как вариант «универсального синтеза» художественных открытий современности (стилевое многообразие, свободный косвенный дискурс как принцип повествования, «диссоциация элементов», «ассоциативная манера» (Дж. Джойс, Дж. Дос Пассос, А. Деблин), «монтаж хроники» (Дж. Дос Пассос), принцип «отчуждения» (Ф. Кафка) и др.).
2.3. «Открытый реализм» Л. Арагона («поэма-роман» «Одержимый Эльзой», экспериментальные романы «Гибель всерьез», «Бланш, или Забвение»).
2.4. Довоенный и «ангажированный экзистенциализм» Ж.-П. Сартра.
2.5. Воплощение «универсального, всеобщего опыта человеческого сердца» в романах У. Фолкнера.
2.6. Латиноамериканский феномен в литературе ХХ века (Х. Л. Борхес, Г. Маркес, А. Карпентьер, О. Пас, К. Фуэнтес и др.).
2.7. Неоромантизм как реакция на осознание хаотичности действительности, ее враждебности человеку и попытка возвратить в искусство общечеловеческие ценности (Г. Бёлль, Р. Гари, Р. Бах, К. Абэ, К. Оэ и др.).
2.8. Школа американского «черного юмора» (Д. Бартельм, Дж. Барт, Дж. Хоукс, П. Донливи и др.).
2.9. «Реалистически-постмодернистский синтез»[24] как сочетание социальной проблематики, традиционных повествовательных принципов с различными постмодернистскими идеями, фантазией, игрой воображения, эксцентриадой, «романной игрой», интертекстуальностью (В. Набоков, Х. Кортасар, К. Абэ, Дж. Фаулз, Дж. Барнс, П. Акройд, М. Кундера и др.).
3. Теоретические основы эстетики постмодернизма.
3.1. Идеи французских постструктуралистов (Р. Барт, Ж.-Ф. Лиотар, М. Фуко, Ж. Лакан, Ю. Кристева и др.).
3.2. Теория «реализма без берегов» Р. Гароди.
3.3. Концепция симулякра Жана Бодийара. Симулякр как ключевое понятие постмодернизма, обозначающее жизнеподобные фикции, копии, не имеющие подлинника, образы отсутствующей действительности, «правдоподобное подобие», что создает иллюзию их реального существования; муляж, эрзац действительности, чистая телесность, пустая форма (биороботы, пришельцы, реклама и пр.).
3.4. Постфрейдистские концепции искусства (Ж. Лакан, М. Маннони, М. Фуко, Ж.-Л. Бодри, Ж. Делёз и Ф. Гваттари, М. Серра, Ю. Кристева и др.) и их отличительные особенности:
• интерпретация феномена катарсиса как эстетического бунта творческого «Я» против ужаса, а творческого процесса – как реализации формулы «отвращение – катарсис – творческий экстаз»;
• интерпретация языка литературы как сокрытия фобий («Власть ужаса. Эссе о мерзости» (1980), «Вначале была любовь. Психоанализ и вера» (1985) Ю. Кристевой и др.);
• возврат к евангельским постулатам «Вначале было слово» и «Бог есть любовь»;
• установка на целостное познание личности и ее места в мире;
• возрождение гедонистических мотивов в эстетике;
• обнаружение и описание симптомов болезненной разорванности индивидуального и общественного сознания, сознательного и бессознательного и их противопоставления;
• идеи обновления культуры посредством диалога и полилога.
3.5. Метафорическая эссеистика (Ж. Батай, Р. Барт, Ю. Кристева, Ж. Бодрийар, О. Пас и др.).
3.6. Концепция шизофренического языка (дискурса) Ж. Делёза и Ф. Гваттари.
3.7. Эстетика Х. Л. Борхеса.
3.8. Теория деконструкции Ж. Деррида.
3.9. Философские, семиотические и литературные произведения У. Эко.
4. Отличительные особенности постмодернистской поэтики:
• интернационализация художественных приемов и их отчетливый регионализм, локальность эстетических поисков, тесно связанных с национальным, местным, городским, экологическим контекстами;
• пристальное внимание к содержательным моментам творчества, его эмоционально-эмпатическим аспектам; метатекстуальность;
• деконструкция эстетического субъекта; «утрата Я» (И. Хассан);
• теории интертекстуальности. Понимание интертекста как места пересечения различных текстовых плоскостей, как диалога различных видов письма, разных семиотических систем, как преображения интегрирующих интертекст культурных языков (кодов) (Ю. Кристева, Р. Барт, М. Фуко и др.);
• концепции игры, игровой принцип в текстопостроении и стилеобразовании (поэтика карнавальности, языковая игра и пр.);
• «демонтирующие» конструктивные принципы (Дм. Затонский) текстопостроения, использование принципов и приемов фрагментарности, монтажности, коллажности, нонселекции; стилевого, жанрового и аксиологического плюрализма, эклектизма; смешения высокой и массовой культуры; иронии и самоиронии, пародийности (пастиша) и самопародирования; иронически пародийного переосмысления традиции; эстетизации безобразного; выдвижения на первый план таких поэтических приемов, как парадокс, оксюморон, эллипс;
• диалог с различными областями гуманитарной культуры;
• телесность, поверхностно-чувственное отношение к миру; гедонизм;
• ориентация на массовую культуру, поп-культуру, потребительскую эстетику;
• использование новейших технических средств массовых коммуникаций.
5. Специфика постмодернизма по сравнению с модернизмом и авангардом.
6. Постмодернизм и массовая культура.
7. Особенности постмодернизма в русской литературе.
Вопросы для обсуждения. Задания
1. Какие открытия в области художественной литературы составили предмет концептуального синтеза в современной литературе?
2. Чем можно объяснить многозначность термина «постмодернизм», трудность его отграничения от модернизма? Почему квалификация того или иного писателя как постмодерниста является нечеткой и зачастую условной?
3. Раскройте суть дискуссии о времени возникновения постмодернизма. Как вы думаете, почему Ихаб Хассан считает точкой отсчета постмодернизма «Поминки по Финнегану» Дж. Джойса, другие критики называют произведения Х. Л. Борхеса, В. Гомбровича («Фердидурке», 1938), Дж. Барта («Плавучая Опера», 1956)?
4. Х. Л. Борхеса по праву считают предтечей постмодернизма, «ибо, родившись в конце прошлого [XIX] века, он написал свои книги задолго до того, как постмодернизм появился на свет. По крайней мере официально» (Д. Затонский). Прочитайте рассказ Борхеса «Пьер Менар, автор "Дон Кихота"», созданный в 1-й половине 1960-х годов. Можно ли утверждать, что в данном рассказе проявились, например, такие отличительные черты постмодернизма, как стилизация, пристальное внимание к содержательным моментам творчества, метатекстуальность, интертекстуальность, игровой принцип; фрагментарность, принцип нонселекции и др.?
5. Как преломилась дискуссия о постмодернизме в новелле Дж. Фаулза «Башня из черного дерева» (1974)?
6. Почему критика называет роман Дж. Фаулза «Женщина французского лейтенанта» (1969) образцом «реалистически-постмодернистского синтеза» (Л. Андреев)? Раскройте роль категории интертекстуальности в этом романе.
7. Назовите типичные черты постмодернистской эстетики и поэтики в романе Итало Кальвино «Если однажды зимней ночью путник…» (1979).
8. На примере одного-двух произведений (например: К. Воннегут «Бойня номер пять», «Завтрак для чемпионов»; В. Набоков «Бледный огонь»; М. Павич «Хазарский словарь») раскройте содержание принципа нонселекции, который, по мнению голландского исследователя Д. Фоккемы, лежит в основе структурирования и формообразования всех постмодернистских текстов.
9. Раскройте содержание понятия «постмодернистская чувствительность», назовите отличительные признаки метапрозы. Приведите примеры из произведений Дж. Фаулза, Дж. Барта, А. Роб-Грийе, Х. Кортасара, Дж. Барнса и др., в которых писатель выступает не только в качестве повествователя о каких-либо событиях и их участниках, но и в качестве интерпретатора, комментатора процесса написания своего произведения.
10. Объясните роль принципа совмещения художественного вымысла с литературоведческим теоретизированием, который используется У. Эко в произведениях «Имя розы», «Маятник Фуко».
11. Что такое метаповествование (метарассказ) в понимании теоретиков постмодернизма? Приведите примеры метатекстов в структуре произведений У. Эко «Имя розы», Дж. Барнса «История мира в 10 У главах».
12. Что такое интертекстуальность в концепции Ю. Кристевой?
13. Познакомьтесь с эссе разных лет Октавио Паса (Иностранная литература, 1991, № 1). Какой смысл вкладывает О. Пас в понятия «модель мира», «образ мира», «эротика», «абстракция», «язык» и др.? Как интерпретируется поэтом оппозиция «поэзия / технология»? Как вы понимаете выражение О. Паса: «Современное искусство есть критика значения и попытка показать оборотную сторону знаков»?
14. На чем основываются концепции, утверждающие переходный характер постмодернизма?
15. Исследователи по-разному оценивают сегодняшнее состояние постмодернистской литературной парадигмы: В. Курицын считает, что «постмодернизм победил, и теперь ему следует стать немного скромнее и тише», Н. Б. Иванова определяет постмодернизм как «саморазрушающуюся систему», а М. Н. Эпштейн утверждает, что «постмодернизм по-прежнему остается единственной более или менее общепринятой концепцией, как-то определяющей место нашего времени в системе и последовательности исторических времен». Попытайтесь обосновать свою точку зрения на дискутируемую в литературоведении проблему.
Рекомендуемая литература
Критические работы
Андреев Л. Г. Чем же закончилась история второго тысячелетия? (Художественный синтез и постмодернизм) // Зарубежная литература второго тысячелетия. 1000–2000: учеб. пособие. М., 2001.
Барт Р. Избранные работы: Семиотика: Поэтика. М., 1989.
Деррида Ж. Структура, знак и игра в дискурсе гуманитарных наук // Вестник МГУ. 1995. № 5. Сер. 9: Филология.
Затонский Д. Постмодернизм: гипотезы возникновения // Иностранная литература. 1996. № 2.
Затонский Д. Постмодернизм в историческом интерьере // Вопросы литературы. 1996. № 3.
Ильин И. П. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. М., 1996.
Киреева Н. В. Постмодернизм в зарубежной литературе: учеб. комплекс. М., 2004.
Косиков Г. К. Ролан Барт – семиолог, литературовед // Р. Барт. Избранные работы: Семиотика: Поэтика. М., 1989.
Кристева Ю. Бахтин, слово, диалог и роман // Вестник МГУ. 1995. № 1. Сер. 9: Филология.
Кристева Ю. Разрушение поэтики // Вестник МГУ. 1994. № 5. Сер. 9: Филология.
Лиотар Ж.-Ф. Заметка о смыслах «пост» // Иностранная литература. 1996. № 1. С. 56–59.
Липовецкий М. Н. Русский постмодернизм. (Очерки исторической поэтики). Екатеринбург, 1997.
Литературный гид. Постмодернизм: подобия и соблазны реальности // Иностранная литература. 1994. № 1. С. 53—249.
Маньковская Н. Б. Эстетика постмодернизма. СПб., 2000.
Усманова А. Р. Умберто Эко: парадоксы интерпретации. Минск, 2000.
Фуко М. Порядок дискурса // М. Фуко. Воля к истине. М.: Касталь, 1996.
Эко У. Заметки на полях «Имени розы» // У. Эко. Имя розы. М.: Книжная палата, 1989. С. 427–482.
Эпштейн М. От модернизма к постмодернизму: Диалектика «гипер» в культуре ХХ века // Новое литературное обозрение. 1995. № 16. С. 32–46.
Дополнительная литература
Баранов О. Гипертекстовая субкультура // Знамя. 1997. № 7.
Бодрийар Ж. Фрагменты из книги «О соблазне» // Иностранная литература. 1994. № 1.
Делёз Ж. Платон и симулякр // Новое литературное обозрение. 1993. № 16.
Вельш В. «Постмодерн». Генеалогия и значение одного спорного понятия // Путь. М., 1992. № 1. С. 109–136.
Гараджа А. В. После времени: Французские философы постсовременности // Иностранная литература. 1994. № 1. С. 54–56.
Генис А. Гипертекст – машина реальности // Иностранная литература. 1994. № 5.
Генис А. Треугольник (авангард, соцреализм, постмодернизм) // Иностранная литература. 1994. № 10.
Деррида Ж. Письмо и различие. М.: Академический проект, 2000.
Дженкс Ч. Язык архитектуры постмодернизма. М., 1985.
Зверев А. М. Модернизм в литературе США. Формирование. Эволюция. Кризис. М., 1979.
Зверев А. М. Черепаха Квази // Вопросы литературы. 1997. № 3.
Ильин И. П. Постмодернизм: словарь терминов. М.: Интрада, 2001.
Косиков Г. К. От структурализма к постструктурализму. М., 1998.
Курицын В. Русский литературный постмодернизм. М., 2001.
Кюнг Г. Религия на переломе эпох // Иностранная литература. 1990. № 11.
Маньковская Н. Б. Париж со змеями (Введение в эстетику постмодернизма). М., 1995.
Пятигорский А. М. О постмодернизме // Избранные труды. М., 1996.
Степанян К. Реализм как заключительная стадия постмодернизма // Знамя. 1992. № 9.
Столович Л. Н. Об общечеловеческих ценностях // Вопросы философии. 2004. № 7. С. 86–97.
Фатеева Н. А. Контрапункт интертекстуальности, или Интертекст в мире текстов. М.: Агар, 2000.
Эпштейн М. После будущего. О новом сознании в литературе // Знамя. 1991. № 1.
Якимович А. Утраченная Аркадия и разорванный Орфей. Проблемы постмодернизма // Иностранная литература. 1991. № 8.
Якимович А. О лучах просвещения и других световых явлениях (культурная парадигма авангарда и постмодернизма) // Иностранная литература. 1994. № 1.
Ямпольский М. Темнота и различие (по поводу эссе Ж. Делёза «Платон и симулякр») // Новое литературное обозрение. 1993. № 5.
Справочный материал
Постмодернизм как эстетический феномен. «Постмодернизм, казалось бы, продолжающий эксперименты модернизма и авангардизма, существенно отличается от них тем, что вбирает в себя опыт диалогизма. Во-первых, именно в постмодернизме разрушается завершенность и объективированность художественной концепции хаоса. В контексте тотального диалогизма хаос не только постоянно провоцируется на ответные выпады, но и, главное, впервые, пожалуй, субъективируется и становится равноправным участником диалога с художником.
Важную роль в этом процессе сыграли многие факторы:
– в полной мере разработанная в модернизме и унаследованная постмодернизмом философия мира как текста;
– сама эстетика диалогизма, вызревшая, разумеется, помимо постмодернизма, и в русской литературе уже в 1930-е годы достигшая высочайшего развития в романах Андрея Платонова и лирике Осипа Мандельштама, и присущая ей интерпретация всего корпуса мировой культуры как незавершимого "большого диалога" (М. М. Бахтин);
– и, наконец, общая культурно-философская ситуация ХХ века, сочетающая в себе, с одной стороны, глобальный диалог культур (то, о чем пишет В. С. Библер), а с другой – глубочайшие разочарования в гуманизме и защитной силе цивилизации.
В этом контексте резко изменяется восприятие самой идеи культуры и культурных символов. Каждый по отдельности "смыслообраз культуры" (выражение Я. С. Голосовкера) устремлен к преодолению хаоса и сохраняет в себе эту интенцию при любых трансформациях. Но встречаясь в симультанном "творческом хронотопе" постмодернистского текста, воплотившиеся в этих смыслообразах противоречивые интенции накладываются друг на друга и либо взаимно аннигилируют, либо обнаруживают собственную ценностную амбивалентность, либо создают "броуновский" эффект неупорядоченного движения, то есть в конечном счете моделируют хаос.
Во-вторых, диалогическая установка изменяет позицию художника, творца гармонии. Постмодернизм воплощает принципиальную художественно-философскую попытку преодолеть фундаментальную для культуры антитезу хаоса и космоса, переориентировать творческий импульс на поиск компромисса между этими универсалиями. Диалог с хаосом в конечном счете, в своем пределе, нацелен именно на такой поиск.
Вероятно, впервые такое понимание культуры было воплощено в "Поминках по Финнегану" (1939) Дж. Джойса».
Из книги: Липовецкий М. Н. Русский постмодернизм. (Очерки исторической поэтики). Екатеринбург, 1997. С. 38–39.
Конструктивные признаки постмодернизма. «Неопределенность», «фрагментарность», «деканонизация», «утрата Я», «ирония», «гибридизация», «карнавальность», «сконструированность», «органическая сращенность с поп-культурой» и др. – все эти признаки по своей сути являются демонтирующими, поскольку они несамостоятельны и не располагают к созиданию. «Двусмысленность, плюрализм, сомнение – вот киты, на которых балансирует постмодернизм». Американский культуролог Фредерик Джемсон, говоря об отсутствии четких критериев для определения постмодернизма, указывает, что постмодернизм следует понимать скорее «не как стилевое направление, а как доминанту культуры». По словам Умберто Эко, постмодернизм представляет собой «не фиксированное хронологически явление, а некое духовное состояние», при этом, как считает итальянский философ, любая эпоха располагает собственным постмодернизмом, так же как у любой эпохи есть собственный маньеризм. По-видимому, каждая эпоха в свой час подходит к порогу кризиса, подобного описанному у Ницше в «Несвоевременных размышлениях». Развивая мысль Эко, Дм. Затонский утверждает, что «каждой всемирно-исторической эпохе присущ и собственный „модернизм“, т. е. энтузиастическое, экстремальное состояние духа».
По материалам статьи: Затонский Д. Постмодернизм в историческом интерьере // Вопросы литературы. 1996. № 3. С. 188–191.
Постмодернистская эстетика. Постмодернизм «отличается от других эстетических течений и художественных стилей не хронологически (после чего-либо), но эволюционно (развитие и превращение феномена в нечто иное по принципу снятия, с удержанием в новой форме характеристик предыдущего периода). Так, постструктурализм в эстетике немыслим без структурализма, постмодернизм в искусстве – без модернизма. Вместе с тем „пост“ способен превратиться в „анти“: „Враг внутри этого термина, чего не было в понятиях романтизма, классицизма, барокко, рококо“ (Ихаб Хассан)».
Как новый художественный стиль постмодернизм отличается от неоавангарда «возвратом к красоте как к реальности, повествовательности, сюжету, мелодии, гармонии».
«Современные эстетические дискуссии о постмодернизме затрагивают в основном два круга проблем: соотношение постмодернизма и модернизма и специфика собственно постмодернистской эстетики.
Является ли постмодернизм одной из форм модернизма или это принципиально новая эстетическая система, концептуально отличающаяся от модернизма? Обе точки зрения имеют своих приверженцев, полемизирующих между собой. Сторонники сближения модернизма и постмодернизма видят в последнем либо свидетельство истощения и провала модернистского проекта, либо, напротив, доказательство зрелости модернизма, его самоутверждения в постмодерне. Их оппоненты выдвигают концепцию отделения постмодернизма от модернизма на почве его сближения с массовой культурой, что и позволяет им исследовать отличительные признаки культуры постмодернизма. Существует, разумеется, и ряд компромиссных вариантов, рассматривающих постмодернизм как теорию и художественную практику культурного "перехода", "промежутка".
Мнение о том, что постмодернизм прочно стоит на якоре модернизма, его автономное плавание еще не началось, связано с концепцией стабильности эстетического субъекта, не меняющегося под воздействием информационных и коммуникационных потоков. Понятию постмодерна противопоставлено другое – "плюсмодерн". Однако отождествление модернизма и постмодернизма – скорее исключение. Гораздо более распространенной является точка зрения о неэквивалентности этих понятий, затрудняющей их сравнение. Если понятие модернизма (modernite) как современности, наследующей традиции Просвещения и романтизма, шире, чем модернистское искусство (art moderne), то постмодернизм воспринимается как амбивалентный термин, обозначающий как продолжение, так и преодоление модернизма. В этой связи различаются термины постмодерн (post-moderne) – ревизия философских основ модернизма, постмодернизм (postmodernisme) – пересмотр искусства модернизма, постмодерность (postmodernite) – закат героического начала в современной жизни.
Трактовка постмодернизма как регресса модернизма основана на констатации эрозии тех высоких эстетических идеалов и философских ценностей, которые связывались с именами Хайдеггера, Фрейда, Сартра, Камю и других корифеев модернизма. <…> Отказ от высоких целей, идеи прогресса выразился в повествовательном стиле, "расколотом" пародией, парадоксом, гиперболой. Фундаментальные постулаты эстетики модернизма превращаются в элементы лингвистической игры. Если идеалом модернизма была свобода самовыражения художника, а контркультуры – свобода от культурных норм <…>, то субъект постмодернизма, убедившийся в <…> хаотичности окружающего его технизированного мира, предпочитает индивидуальной свободе возможность манипуляции чужими художественными кодами.
Данная трактовка ориентирована на создание негативного имиджа постмодернизма как эстетики, заменившей оригинальность – подобием, искусство – рекламой, китчем.
Этой концепции противостоит взгляд на постмодернизм как на "модернизм в квадрате", его продолжение и утверждение. Аргументами в пользу "зрелого", "позднего" модернизма являются сближение его эстетики с гуманитарной культурой, персональный, интерсубъективный эстетический подход; множественность, гибридность художественных кодов. Ж.-Ф. Лиотар считает постмодернизм частью модернизма, спрятанной в нем.
В условиях кризиса гуманизма и традиционных эстетических ценностей (прекрасного, возвышенного, совершенного, гениального, идеального), переживаемого модернизмом, необратимого разрушения внешнего и внутреннего мира в абсурдизме (дезинтеграция персонажа и его окружения в прозе Джойса, Кафки, пьесах Пиранделло, живописи Эрнста, музыке Шёнберга), чьим героем стал человек без свойств, мобильная постмодернистская часть вышла на первый план и обновила модернизм плюрализмом форм и технических приемов, эклектическим эпатажем, сближением с массовой культурой.
Деконструктивизм Ж. Деррида, структурный психоанализ Ж. Лакана, неопрагматизм Р. Рорти и другие слагаемые постмодернистской эстетики выявили случайность не только персонажа, но и автора, перенося акцент на эфемерное, неожиданное, удивительное. <…>
Многообразные концепции постмодернизма как взлета либо падения модернизма конкурируют с представлениями о постмодернизме как эстетике переходного периода, готовящей замену усталых художественных форм на новые, как это уже не раз происходило в истории культуры. Под таким углом зрения постмодернизм – не преемник и не враг модернизма, но компенсация конца новаторских утопий, эстетика постреволюционного примирения. <…> Свидетельством того, что постмодернизм – промежуточный тип культуры <…> являются, по мнению Кэвеки, его колебания между позициями жреца и клоуна. Если старый жрец – создатель и хранитель ценностей, то юный клоун – скептический зритель, но не творец. Парафразы, копии, симулякры постмодерна сближают его с клоунадой, но излишняя серьезность приводит к тому, что клоунский субъект постмодернизма представлен поведением жреца. Дефицит новых эстетических ценностей снижает инновационный потенциал постмодернизма, закрепляя его статус переходной эстетики конца ХХ века».
По материалам книги: Маньковская Н. Б. Эстетика постмодернизма. СПб., 2000. С. 139, 141, 143, 147–148, 149.
«…замена текста комментарием к нему, рассуждением о нем, выхолащиванием живой творческой энергии абстрактной рефлексией, игрой, различными интеллектуальными концептами и парадигмами – общеизвестная, навязчивая тенденция в движении культуры ХХ века, ставшая одним из главных признаков постмодернизма».
Из статьи: Андреев Л. Г. Художественный синтез и постмодернизм // Вопросы литературы. 2001. № 1. С. 4.
Постмодернистская трактовка теории катарсиса. «Задача искусства – отвергать низменное, очищать от скверны», – рассуждает Кристева[25]. В этом смысле искусство пришло на смену религии. Однако если физически отвратительное исторгается посредством рвоты и других физиологических процессов, то духовное мерзкое отторгается искусством – духовным аналогом физических спазмов. Аристотелевскому очищению посредством сострадания и страха Кристева дает физиологическое толкование. В то же время в ее книге то и дело возникают картинки «тошноты» в ее сартровском понимании.
<…> Показывая отвратительное, литература осуществляет рентген ужаса, служит его означающим, его кодом. Придя на смену религии, литература присвоила священное право ужаса, на котором и основана ее апокалипсическая власть. Это не сопротивление ужасу, но его заклинание <…>: выработка, уяснение отвратительного и освобождение от него посредством Глагола.
Кристева выстраивает своего рода феноменологию отвратительного, пытается выявить его структуру <…>. Мерзкое расположено на границе небытия и галлюцинации, той реальности, которая, если ее не признать, уничтожит личность. <…> Самая элементарная, архаическая форма гадкого – отвращение к пище, и одновременно к тем, кто ее навязывает – родителям; собственное «Я» рождается из тошноты. Следующая ступень отвратительного – содрогание перед трупом – «пределом мерзости», идентификация с которым ведет к обмороку. Далее, мерзко все то, что нарушает идентичность, систему, порядок, и в этом смысле отвратительны двусмысленные имморальные преступления; при этом аморальность, открыто презирающая закон посредством бунта, может быть даже величественна. Особая роль отводится Кристевой отвращению к себе самому, свидетельствующему о кризисе нарциссизма, фундаментальной нехватке, предшествующей бытию объекта и воплощающей его. Нехватка пробуждает воображение. Отвращение к себе играет роль означаемого, его означающим выступает литература. В литературе ужас сублимируется посредством эстетического: страх пропитывает все слова языка небытием, фантомным, галлюцинаторным светом, высвечивающим таящуюся на дне памяти мерзость. <…>
Наиболее выразительными примерами развития эстетического на почве отвратительного Кристева считает творчество Ф. М. Достоевского, М. Пруста, Д. Джойса, Ж. Батая, А. Арто, Ф. Кафки, Л.-Ф. Селина. <…> Специфика письма у Джойса, по ее словам, в том, что отвратительное у него заключено в самой речи; Батай – единственный, кто связал отвратительное со слабостью социальных запретов, вскрыл субъектно-объектные связи мерзкого. Творчество Пруста сводится к описанию гомосексуальной энергии отвратительного, нарциссического одомашнивания мерзости. Мерзкое у Арто – это «Я», одержимое трупом, пытка воображаемой смертью, которую можно изжить лишь в творчестве. <…>
Кристева связывает постмодернизм с возникновением нового литературного стиля, чей отличительный признак – метаповествование. <…> Новый стиль переплавит отвращение в «радость текста», дарующего эстетическое наслаждение.
Кристева пытается исследовать механизм становления эстетического. По ее мнению, для индивида, заброшенного в катастрофическое пространство существования и заблудившегося в нем, литература является единственным средством самосохранения. Строя свой язык, произведения искусства, человек как «путешественник в бесконечной ночи» припоминает пережитый ужас и начинает испытывать от него удовольствие, догадывается, что гадкое – не объективно, это лишь граница двусмысленности, смесь суждения и аффекта, знака и пульсации. Тогда границы означаемого (ужаса) начинают таять, художник спасается путем своего рода эстетической терапии. Творческое «Я» кристаллизуется в эстетическом бунте против ужаса. Отвращение – катарсис – творческий экстаз – такова структура творческого процесса. Литература – высшая точка, где отвратительное рушится в сиянии красоты.
Каким же образом ужасное превращается в возвышенное? Кристева считает страх первичным эффектом. Многочисленные фобии, страхи (смерти, кастрации и т. д.) – метафоры нехватки, замещение которых осуществляется посредством фетишей. Высший фетиш – язык: письмо, искусство вообще – единственный способ если не лечить фобии, то, по крайней мере, справляться с ними; писатель – жертва фобий, прибегающая к метафорам, чтобы не умереть от страха, но воскреснуть в знаках. В литературе фобии не исчезают, но ускользают под язык.
Таким образом, согласно Кристевой, культура продуцируется субъектом отвращения, говорящим и пишущим со страху, отвлекающимся от ужаса посредством механизма языковой символизации. Наиболее сильная форма подобного отвлечения – языковой бунт, ломка, переделка языка в постмодернистском духе. <…> Незаменимая функция литературы постмодернизма, с точки зрения Кристевой, – смягчить «Сверх-Я» путем воображения отвратительного и его отстранения посредством языковой игры, сплавляющей воедино вербальные знаки, сексуальные и агрессивные пульсации, галлюцинаторные видения. Осмеянный ужас порождает комическое – важнейший признак "новой речи". Именно благодаря смеху ужасное сублимируется и обволакивается возвышенным, сугубо субъективным образованием, лишенным объекта. <. > Благодаря возвышенному, вызывающему каскад ощущений, творец переносится в иной, неземной мир – царство наслаждения и гибели. Возвышенное – это дополнение, переполняющее художника и выплескивающееся из него, позволяющее быть одновременно "здесь" (заброшенным) и "там" – иным, сверкающим, радостным, завороженным. <…>
Подобная трактовка прекрасного, возвышенного, несомненно, имеет религиозную окраску. Кристева и сама подчеркивает, что художественный опыт – основная составляющая религиозности, пережившая крушение исторических форм религии. <…> Именно красота, по ее мнению, является религиозным способом приручения демонического, это часть религии, оказавшаяся шире целого, пережившая его и восторжествовавшая над ним.
В книге «Вначале была любовь. Психоанализ и вера» Кристева разрабатывает тему родства постфрейдизма и религии. Исследуя бессознательное содержание постулатов католицизма, она приходит к выводу о сходстве сеанса психоанализа с религиозной исповедью, основанной на словесной интерпретации фантазмов, доверии и любви к исповеднику-врачевателю. В этой связи анализируются иррациональные, сверхъестественные мотивы в постмодернистском искусстве как форме исповеди и сублимации художника.
<…> Новую жизнь психоанализа Кристева связывает с возвратом к евангельским постулатам "Вначале было слово" и "Бог есть любовь". По ее мнению, девизом психоанализа должна стать формула "Вначале была любовь". Ведь к психоаналитику обращаются из-за нехватки любви, из-за тех страданий, которые доставляют серьезные сексуальные травмы, нарциссические раны. Задача психоаналитика – восстановить способности пациента к любви. Его лекарство – слово, мобилизующее интеллект.
<…> Основу религиозной веры Кристева видит в идентификации верующего с тем, кто любит и защищает его – Богом. Западный менталитет представляется ей преимущественно семиотическим, а не символическим. Ссылаясь на Августина, сравнивавшего веру в Бога с интимной зависимостью ребенка от материнской груди как единственного источника жизни, из которого исходит все – и хорошее, и плохое, – Кристева считает Бога знаком любви. В божественной любви сливаются материнская и отцовская любовь, сублимируются агрессивные сексуальные пульсации, происходит семиотический прыжок к другому.
В психоанализе же этот прыжок превращается в знание, позволяющее сделать имидж другого менее инфернальным и опровергнуть сартровскую формулу о том, что "ад – это другие".
Существенный интерес представляет выдвинутая Кристевой концепция религиозной функции постмодернистского искусства как структурного психоанализа веры. Сущность этой функции заключается, по ее мнению, в переходе от макрофанатизма веры к микрофанатизму художественного психоанализа. Так, проводятся аналогии между символической самоидентификацией верующего с "Отче всемогущим" и эдиповым комплексом; верой в непорочность Девы Марии, позволяющей любить её без соперников, и мотивами искусственного оплодотворения в современной литературе; верой в Троицу и структурно-психоаналитической триадой воображаемого, реального и символического. Секс, язык и искусство трактуются как открытые системы, обеспечивающие контакты с другими людьми. Особое внимание в этой связи уделяется сексуальной символике постмодернистского искусства.
По мнению Кристевой, необходимо ослабить ошейник, символически обуздывающий сексуальность в искусстве, дать выход вытесненным влечениям. Это позволит искусству на паритетных началах с психоанализом способствовать душевному и телесному здоровью человека, помогать ему словами любви, более действенными, чем химио– и электротерапия, смягчить свой биологический фатум, влекущий его к агрессивности, и т. д. <…>
Философская значимость французского постфрейдизма для эстетики постмодернизма связана прежде всего с установкой на целостное познание личности и ее места в мире. Французские ученые стремятся найти новые подходы к изучению человека-творца, выявить базовые механизмы эстетической деятельности, создать целостную концепцию искусства в широком социально-культурном контексте. Особую роль приобретает тема реабилитации гедонистических мотивов в эстетике. Развив идеи Р. Барта о "текстовом удовольствии", а также тезисы американской исследовательницы С. Зонтаг о замене герменевтики "эротикой" искусства, позволяющей просто наслаждаться им, минуя интерпретацию, постмодернистская эстетика сосредоточилась на исследовании энергии и чувственной полноты произведений. Ею были также восприняты и усилены гуманистические аспекты постфрейдистской эстетики, связанные с утверждением самоценности и достоинства личности, свободы художественного творчества, идеями творческой активизации "Я" посредством художественной и эстетической деятельности.
<…> Особую ценность для постмодернистской эстетики представляет постфрейдистское обнаружение и описание симптомов болезненной разорванности индивидуального и общественного сознания западной культуры в целом. Один из истоков такой разорванности проницательно усматривается в неклассичности современного познания, означающей в эстетической сфере миграцию исследовательских интересов от континуальности к прерывности материального и идеального, сознательного и бессознательного, означающего и означаемого, воображаемого и символического».
Из книги: Маньковская Н. Б. Эстетика постмодернизма. СПб., 2000. С. 117–123, 125–126, 128–129.
Постмодернистская чувствительность. По утверждению теоретиков постмодернизма И. Хассана (США), Д. Фоккемы (Голландия), Д. Лоджа (Англия), постмодернистская чувствительность находит выражение, во-первых, в ощущении мира как хаоса, что явилось следствием «кризиса веры» во все ранее существовавшие ценности (Бог, Царь, Человек, Разум, История, Государство); во-вторых, в убежденности в том, что моделирование мира возможно только на основе принципа «максимальной энтропии». В такой модели все ее конститутивные элементы должны быть «равновероятными и равноценными», установление же в ней какого-либо иерархического порядка или «каких-либо систем приоритетов» невозможно. В читательском восприятии постмодернистская чувствительность обусловливает появление неуверенности в том, как будет развиваться повествование. Другими существенными ее признаками являются «корректирующая ирония» по отношению ко всем проявлениям жизни (пастиш), парадокс, техника намека и гротескной мысли, раскрытие смысла при помощи поэтических ассоциаций. Также постмодернистская чувствительность находит выражение в «метафорической эссеистике», поэтическом языке, восстанавливающем своими намекающими ассоциациями подлинный смысл первоначального слова. Такого рода художественная практика восходит к сочинениям М. Хайдеггера.
По материалам книги: Ильин И. П. Постмодернизм: словарь терминов. М., 2001. С. 222–224.
Симулякр. Это «своего рода алиби, свидетельствующее о нехватке, дефиците натуры и культуры. Он как бы повторяет в свернутом виде переход от техне к мимесису: естественный мир заменялся его искусственным подобием, второй природой. Симулякры же воспринимаются как объекты третьей природы. Так, потребление опережает производство, деньги замещаются кредитом – симулякром собственности. Вещи становятся все более хрупкими, эфемерными, иллюзорными, их поколения меняются быстрее, чем поколения людей. Они подражают не столько флоре или фауне, как прежде, сколько воздуху и воде (крыло автомобиля или самолета как фантазм скорости, миф полета), форма приобретает все больший аллегоризм. Утрачивается принцип реальности вещи, его заменяют фетиш, сон, проект (хэппенинг, саморазрушающееся и концептуальное искусство). Нарциссизм вещной среды предстает симулякром утраченной мощи: реклама как симуляция соблазна, любовной игры эротизирует быт: „Все – соблазн, и нет ничего, кроме соблазна“. И если человек вкладывает в вещь то, чего ему не хватает, то множащиеся вещи – знаки фрустрации – свидетельствуют о росте человеческой нехватки. А так как предела насыщения знаками нет, культура постепенно подменяется идеей культуры, ее симулякром, знаковой прорвой.
С осознанием этого процесса отчасти связан постмодернистский поворот от повседневности к истории: прошлое, в том числе и старые вещи, – своего рода талисман аутентичности, смягчающий невроз исчезновения. В постмодернистской ситуации, где реальность превращается в модель, оппозиция между действительностью и знаками снимается и всё превращается в симулякр, статус аутентичности возможен лишь для искусства. В связи с этим постмодернистская эстетика – своего рода "мистический дзенреализм", придающий артефакту гиперреалистическую прочность сдвоенного, "махрового" симулякра.
Таким образом, симулякр – это псевдовещь, замещающая "агонизирующую реальность" постреальностью посредством симуляции, выдающей отсутствие за присутствие, стирающей различия между реальным и воображаемым. Он занимает в неклассической постмодернистской эстетике то место, которое принадлежало в традиционных эстетических системах художественному образу. Если образность связана с реальным, порождающим воображаемое, то симулякр генерирует реальное второго порядка. Эра знаков, характеризующая западноевропейскую эстетику Нового времени, проходит несколько стадий развития, отмеченных нарастающей эмансипацией кодов от референтов. Отражение глубинной реальности сменяется ее деформацией, затем маскировкой ее отсутствия и наконец – утратой какой-либо связи с реальностью, заменой смысла – анаграммой, видимости – симулякром. <…>
Переходным звеном между реальным объектом и симулякром является китч как бедное значениями клише, стереотип, псевдовещь. Таким образом, если основой классического искусства служит единство вещь – образ, то в массовой культуре из псевдовещи вырастает китч, в постмодернизме – симулякр. Символическая функция вещи в традиционном искусстве сменилась ее автономизацией и распадом в авангарде (кубизм, абстракционизм), пародийным воскрешением в дадаизме и сюрреализме, внешней реабилитацией в искусстве новой реальности и, наконец, превращением в постмодернистский симулякр – "вещеобраз в зените". Если реализм – это "правда о правде", а сюрреализм – "ложь о правде", то постмодернизм – "правда о лжи", означающая конец художественной образности.
Сопоставляя традиционную и постмодернистскую эстетику, Бодрийар приходит к выводу об их принципиальных различиях. Фундамент классической эстетики как философии прекрасного составляют образность, отражение реальности, глубинная подлинность, внутренняя трансцендентность, иерархия ценностей, максимум их качественных различий, субъект как источник творческого воображения. Постмодернизм, или эстетика симулякра, отличается внешней "сделанностью", поверхностным конструированием непрозрачного, самоочевидного артефакта, лишенного отражательной функции; количественными критериями оценки; антииерархичностью. В ее центре – объект, а не субъект, избыток вторичного, а не уникальность оригинального».
Из книги: Маньковская Н. Б. Эстетика постмодернизма. СПб., 2000. С. 59–61.
Коллаж – конструктивный прием в литературе постмодернизма, который предполагает объединение в единое целое различных фрагментов, сохраняющих свою обособленность, дискретность в рамках данного целого.
Пастиш (от итал. pasticcio – опера, составленная из отрывков других опер, смесь, попурри, стилизация). Редуцированная форма пародии. По определению американского теоретика Ф. Джеймсона, пастиш представляет собой основной модус постмодернистского искусства – иронию, который в произведениях постмодернизма «определяется в первую очередь негативным пафосом, направленным против иллюзионизма масс-медиа и тесно связанного с ним феномена массовой культуры. Постмодернизм стремится разоблачить сам процесс мистификации, происходящий в результате воздействия медиа на общественное сознание, и тем самым доказать проблематичность той картины действительности, которую внушает массовой публике массовая культура».
По материалам книги: Ильин И. П. Постмодернизм: словарь терминов. М., 2001. С. 107, 189–190.
«Пастиш отличается от пародии тем, что теперь пародировать нечего, нет того серьезного объекта, который мог бы быть подвергнут осмеянию. Как писала О. М. Фрейденберг, пародироваться может только то, что "живо и свято". В эпоху постмодернизма ничто не живо и уж тем более не свято».
Из книги: Руднев В. П. Словарь культуры ХХ века.
М., 1997. С. 224.
Нонселекция – отказ от преднамеренного отбора (селекции) лингвистических (или иных) элементов во время «производства текста», от попытки выстроить связную интерпретацию текста; нарушение традиционной связности повествования; создание эффекта преднамеренного повествовательного хаоса, фрагментарного дискурса, отчужденного, лишенного смысла, последовательное смешение явлений и проблем разного уровня, уравнивание в своей значимости незначительного и существенно проблемного, перетасовка причины и следствия, посылки и вывода (Д. Фоккема, Д. Лодж).
Метарассказ (фр. Métarécit, англ. Metanarrative). Термин трактуется неоднозначно. Во-первых, им и его производными – метаповествование, метаистория, метадискурс обозначаются такие «объяснительные системы», как религия, история, наука, психология, искусство, иначе говоря, любое знание. По словам голландского критика Т. Д'ана, постмодернисты отвергают «все метаповествования, все системы объяснения мира», т. е. «все системы, которые человек традиционно применял для осмысления своего положения в мире». Если постмодернисты и прибегают к метаповествованию, то только в форме пародии, чтобы доказать их бессилие и бессмысленность. Во-вторых, метарассказом (метаповествованием, метатекстом) называют интерпретацию любого повествования. Интерпретируя другой текст, метарассказ не только представляет его, но и воспроизводит, а также перевоссоздает реальность в восприятии читателя, т. е. «творит реальность», одновременно утверждая «независимость» от этой реальности. По мысли Ф. Джеймсона, метаповествование в такой же степени открывает и истолковывает мир, как и скрывает и искажает его.
По материалам книги: Ильин И. П. Постмодернизм: словарь терминов. М., 2001. С. 131–136.
Поэтика метапрозы. «В целом, обобщая различные подходы к поэтике метапрозы, можно наметить такие ее устойчивые признаки:
– тематизация процесса творчества через мотивы сочинительства, жизнестроительства, литературного быта и т. д.; высокая степень репрезентативности "вненаходимого" автора-творца, находящего своего текстового двойника в образе персонажа-писателя, нередко выступающего как автор именно того произведения, которое мы сейчас читаем;
– зеркальность повествования, позволяющая постоянно соотносить героя-писателя и автора-творца, "текст в тексте" и "рамочный текст". Кроме того, эти взаимные соотношения довольно часто сопровождаются прямыми или косвенными комментариями, трактующими взаимопроникновение текстовой и внетекстовой реальностей;
– "обнажение приема", переносящее акцент с целостного образа мира, создаваемого текстом, на сам процесс конструирования и реконструирования этого еще не завершенного образа. Как следствие этого качества может быть рассмотрена специфическая активизация читателя, поставленного в положение со-участника творческой игры (отсюда исключительная роль пародий, самопародий, разного рода загадок, ребусов, анаграмм и т. п.);
– пространственно-временная свобода, возникающая в результате ослабления миметических мотивировок, в свою очередь связана с усилением "творческого хронотопа" (Бахтин), который приобретает положение, равноправное по отношению к окружающим его «реальным» хронотопам».
Из книги: Липовецкий М. Н. Русский постмодернизм. (Очерки исторической поэтики). Екатеринбург, 1997. С. 46.
«Интертекст есть мультиреферентное образование, т. е. текст, содержащий моно– и полиреферентные заимствования, складывающиеся в его внутренней структуре в разноуровневые цитатные комплексы. Такой текст представляет собой сложный синтетический продукт длительного культурно-языкового генезиса, результат эволюции смыслов и способов их вербальной актуализации, аккумулированных лингво-когнитивным сообществом, и, одновременно, (вос)созданный коммуникантом концепт, переданный им «своими словами» как превращенными прецедентными знаками. Референтами смыслов и знаков интертекста служат конкретные и обобщенные претексты различного охвата, восходящие к определенным жанрам и дискурсам, которые, в целом, могут быть любыми. В широких совокупностях референтных текстов может быть выделено основное ядро, играющее роль доминантного претекста. В него входят наиболее важные и достоверно верифицируемые источники, цитаты из которых актуализируются в виде ключевых слов интертекста. Наряду с доминантным претекстом элементы интертекста способны отсылать к множеству вторичных прецедентных текстов той или иной степени эксплицитности и значимости. Состав и статус референтных текстов могут в значительной мере различаться для каждого из интерпретаторов, в том числе автора. Фактом, подтверждающим наличие референтной связи с каким-либо вторичным (периферийным) претекстом, может служить его упоминание / цитирование в совокупном макротексте адресата».
Из автореферата диссертации… д-ра филол. наук Т. Е. Литвиненко «Интертекст и его лингвистические основы (на материале латиноамериканских художественных текстов)». Иркутск, 2008. С. 7–8.
Тема 11 Роман Джона Фаулза «Женщина французского лейтенанта» (Практическое занятие)
Зарубежные и отечественные критики дают разные определения прозе Дж. Фаулза (John Robert Fowles, 1926–2005). Ее называют «интеллектуальной», «психологической», но при этом неизменно указывают на присущий ей особый, экспериментальный характер – своеобразное сочетание традиционных и новаторских, реалистических и модернистских элементов. Фаулзу как художнику свойственно критическое отношение к литературе модернизма. Он считает, что искусство должно быть ориентировано на классические образцы. Но поскольку Фаулз – писатель 2-й половины ХХ века, его творчество явно не соответствует привычным представлениям о реализме. Это закономерно, так как традиции, заложенные классическими реалистами в XIX веке, впоследствии не просто эволюционировали, видоизменялись, но к 50-м годам XX столетия совершили «диалектический скачок» (В. В. Ивашева).
Реализм стал явлением качественно новым. К середине столетия изменились не только герои и тематика, но и структура сюжетов, методы и формы реалистической литературы, активно усваивающей опыт модернизма. В результате потребовался новый подход к самому понятию «реализм». Как отмечает В. В. Ивашева, роман Фаулза – это «роман-эксперимент: автор как бы беседует с читателем, вмешиваясь в повествование, демонстрируя свое присутствие в нем и создавая иллюзию романа в романе. Он воскрешает прозу XIX века, персонажи его копируют известных героев Диккенса, Теккерея, Харди, Бронте и других классиков реализма, но в свете ХХ века»; пристальное же прочтение романа «обнаруживает типичные черты художественной прозы нашего времени – философическую тенденцию, осложнённость структуры, искания в области формы реалистической» [Ивашева 1986: 122].
На формирование стиля и метода Дж. Фаулза значительное влияние оказали идеи экзистенциализма. Специалист по французской литературе, Фаулз был увлечен творчеством Ж.-П. Сартра и А. Камю, которое, по словам писателя, воспринималось английской интеллигенцией в конце 40-х годов как «глоток свежего воздуха». Самобытный художник, Дж. Фаулз не копировал имеющиеся образцы, а создавал собственные вариации на уже известные темы и «на английской литературной почве развивал ситуации и проблемы, остро поставленные французскими экзистенциалистами» [Павличко 1989: 117]. Соответственно, его интересовали прежде всего проблемы духовного кризиса, в котором оказывается человек, проблема свободного выбора и детерминированности человеческой жизни. Что определяет бытие человека? Чем оно обусловлено – эпохой, сознанием? Подчиняется ли оно какой-либо определенной логике? Все эти вопросы оказываются в центре романа «Женщина французского лейтенанта», и связаны они прежде всего с образом главного героя – Чарльза Смитсона, молодого ученого, дарвиниста, интеллектуала.
В меру ироничный, обладающий трезвым взглядом на жизнь, Смитсон критически оценивает английское общество, находя его «слишком серьезным» и «слишком моралистичным». И одновременно это человек, который подчиняется общепринятым нормам, истинное дитя своего века. Свободомыслие и аристократическое происхождение не мешают ему обручиться с «благовоспитанной куколкой» – богатой наследницей из буржуазной семьи. Будущее представляется Чарльзу вполне определенным: добропорядочная семейная жизнь, партнерство в торговой фирме тестя. Все это делает фигуру героя достаточно банальной.
Однако Чарльз не столь однозначен, как может показаться на первый взгляд (как неоднозначно и время, сформировавшее его характер). Встреча с Сарой неожиданно для него самого становится сильным внешним импульсом, который заставляет героя увидеть себя в новом свете. Чарльз оказывается поставленным в экзистенциальную ситуацию выбора: «Ты знаешь, перед каким выбором стоишь, – говорит ему Сара. – Либо ты остаешься в тюрьме, которую твой век именует долгом, честью, самоуважением, и покупаешь этой ценой благополучие и безопасность. Либо ты будешь свободен – и распят. Наградой тебе будут камни и тернии, молчание и ненависть; и города, и люди отвернутся от тебя»[26]. По словам А. Долинина, герои Фаулза «никогда не становятся „по ту сторону добра и зла“ <…>, а выбирают некую позитивную позицию – любовь, искусство, вину, смирение, откровенность перед „миром других“, с которым – вопреки сартровскому постулату: „Ад – это другие“ – они могут и должны установить духовную связь» [Долинин 1993: 447]. Так модифицируется писателем типичная для произведений экзистенциалистов ситуация выбора.
Действие романа Фаулза происходит в 60-е годы XIX века. И это не случайно. Для писателя кризисное состояние западной интеллигенции 2-й половины XX века оказывается явно созвучным умонастроениям передовых викторианцев. Именно в 1860-е годы изрядно пошатнулись правовые и религиозные нормы, казавшиеся незыблемыми в долгую эпоху царствования королевы Виктории, нарушилось спокойное, рутинное течение жизни английского общества. Далеко не последнюю роль сыграла в этом процессе быстро развивающаяся естественно-научная мысль эпохи, в частности, теория эволюции Ч. Дарвина – открытие, которое, по убеждению Фаулза, для викторианца означало то же, что для современного человека – изобретение атомной бомбы. Книга Ч. Дарвина «Происхождение видов» (1859) и первый том «Капитала» (1867) К. Маркса инициировали изменения в общественной психологии, системе ценностей и в конечном счете в структуре самой личности человека.
Процесс становления новой личности и составляет главное содержание психологического конфликта произведения Фаулза.
Не случайно автор неоднократно подчеркивает временные рамки «викторианской» части романа, точно указывает, когда начинается развитие действия – март 1867 г., а в качестве эпиграфов к отдельным главам использует цитаты из работ Дарвина, Маркса, а также выдержки из газетных публикаций тех лет.
В романе «Женщина французского лейтенанта» экзистенциальное и викторианское мироощущение отнюдь не противопоставлены, скорее им свойственны отношения включения. «Магический театр» Сары, в котором герои разыгрывают придуманный ею сюжет, изображается в романе с отстоящей во времени ценностной позиции повествователя – интеллектуала 2-й половины ХХ века. Таким образом, происходит сопряжение двух хронологических пластов: прошлого (1860-е годы – время персонажей Чарльза Смитсона и Сары Вудраф) и настоящего (2-я половина ХХ столетия – время повествователя). Сам писатель неоднократно подчеркивал, что он сознательно экспериментировал с хронотопом, желая создать не только эпическую, но и художественную дистанцию между изображаемыми событиями и их современным восприятием. Критика высоко оценила незаурядность авторского замысла, отметив, что писатель не ограничился задачей исследования процесса формирования характеров под влиянием среды, ибо он подверг анализу «действие общеисторических сил, препятствующих свободному развитию человека», а это позволило ему утверждать, что «"могучее давление века" – истинный враг глубинных чаяний героев» [Жлуктенко 1988: 143].
Художественную структуру произведения осложняет не только экспериментальный характер хронотопа (взаимодействие двух временных пластов), но и обширный интертекстуальный пласт в виде аллюзий, реминисценций, пародийных приемов, различного рода цитатных включений (в том числе и на уровне стиля) из произведений разных эпох и народов. Приемы отсылки к другим текстам способствуют самовозрастанию смысла, объективированного в тексте произведения. Фаулз стремится к универсальности содержания, что в равной мере проявляется на разных уровнях – будь то конкретная метафора, образы персонажей или сюжет.
Произведению свойственно также игровое начало, столь характерное для прозы латиноамериканских авторов – Х. Кортасара, Х. Л. Борхеса, Г. Г. Маркеса и др. Например, подобно Маркесу, английский писатель на новых концептуальных основах переосмысливает классику. «Текст Фаулза – это всегда осознанный диалог с предшествующей традицией, ведущийся необычайно красноречиво, изобретательно, остроумно, с использованием травестии, пародии» [Смирнова 2002: 27]. Все эти особенности не мешают Фаулзу в точных деталях воспроизвести викторианскую эпоху, создать сложный, противоречивый характер Чарльза Смитсона. Более того, структуру и проблематику своего романа писатель максимально сближает со структурой и проблематикой романа викторианского.
Тем самым Фаулз преследует двойную цель: он не просто дает реалистически убедительный образ ушедшей эпохи, но одновременно демонстрирует определенный типаж модных в 1960-е годы «викторианских» романов, рассчитанных на массового читателя. Уяснить представление самого писателя о своих творческих задачах и методе помогают авторские отступления в романе. В них Фаулз, в частности, объясняет свое понимание современного реализма (в этой связи особенно интересна тринадцатая глава). Он вовсе не считает, что реализм и форма реалистического романа себя исчерпали, но делает при этом существенную оговорку: «…живу я в век Алена Роб-Грийе и Ролана Барта, а потому если это роман, то никак не роман в современном смысле этого слова».
Фаулзу чужды идеи А. Роб-Грийе, Н. Саррот и других создателей «нового романа». Он предпочитает опираться на художественный опыт великих романистов прошлого, но, в отличие от последних, не претендует как автор на роль «всезнающего и всевластного бога», которому известны все «сокровенные мысли и чувства героев». В XX веке, уверяет Фаулз, подобная установка неприемлема, так как современный человек уже осознал, что «мир – это организм, а не механизм» и его невозможно «сработать» по плану. «Романист до сих пор еще бог, ибо он творит, и даже авангардистскому роману не удалось окончательно истребить своего автора; <…> разница лишь в том, что мы боги не викторианского образца, мы – боги нового теологического образца, чей первый принцип – свобода, а не власть». Поэтому автору в современном романе отводится роль обыкновенного «свидетеля событий, заслуживающего наибольшего доверия». Он полностью равноправен по отношению к своим героям и никогда не поднимается над ними.
В романе Фаулза представлено несколько субъективированных форм повествования, при этом разные референты «Я» (герои, рассказчики, свидетели, комментаторы) отнюдь не устраняют «Я» автора. В случае с Фаулзом мы всегда знаем, где он находится – на сцене или за ней; знаем, что у него есть своя точка зрения на происходящее, выраженная непосредственно или косвенным образом.
Название романа в русском переводе воспроизводится по-разному: «Подруга французского лейтенанта» (Н. Ю. Жлуктенко), «Любовница французского лейтенанта» (в пер. М. Беккер и И. Комаровой). Более точным, очевидно, следует считать вариант, предлагаемый В. Ивашевой, – «Женщина французского лейтенанта», так как он представляет собой прямое соответствие оригиналу («The French Lieutenant's Woman»), подчеркивает, согласно авторскому замыслу, наличие натуралистических мотивов в романе и косвенно связывается с проблемой женской эмансипации.
«Женщина французского лейтенанта» – так в городке Лайм-Риджис называют Сару Вудраф, главную героиню романа. Бедная гувернантка из провинции, она не хочет и не умеет (в силу своей незаурядности) принять роль, уготованную ей обществом и обстоятельствами. Выдумав историю о своей несуществующей связи с французским лейтенантом, Сара сознательно создает себе двусмысленную репутацию. Какую цель она преследует? Мотивы ее поступков подчас трудно объяснимы и становятся понятными лишь в общих чертах. Но несомненно одно: и мистификация, и игра героини – это своеобразный вызов лицемерию, лживой морали, надуманным условностям, это единственная, доступная ей, женщине викторианской эпохи, форма протеста. Сара хочет ощутить себя человеком свободным, который вправе распорядиться собственной судьбой так, как считает нужным, вопреки общественному мнению. «Легенда о "позоре", – пишет по этому поводу Н. Владимирова, – автоматически сдвигала Сару на обочину общественной жизни. Однако маргинальность и питала ее жизненные силы. Добровольно принятое клеймо падшей женщины оказывалось равновеликим признанию не только исключительности, избранности, но и ее свободы от принятых условностей. Поэтому Сара и привязана к Лайм-Риджису, который устами общественного мнения закрепил за нею право быть не как все» [Владимирова 2001: 105–106].
Вряд ли можно согласиться с теми критиками, кто трактует образ Сары исключительно с позиции идей феминизма. Следует помнить, что для Фаулза вопрос женской эмансипации представляет собой лишь частное проявление общего вопроса о свободе личности. Поэтому так уместен в контексте романа эпиграф из работы К. Маркса: «Всякая эмансипация состоит в том, что она возвращает человеческий мир, человеческое отношение к самому человеку». Таким образом, можно говорить, что Сара предпочитает морали викторианской мораль общечеловеческую.
В магический круг своей игры героиня вовлекает Чарльза Смитсона, ставит его перед необходимостью принимать самостоятельные решения, побуждает его по-новому оценить мир и себя в нем, осознать собственную раздвоенность, она пробуждает в нем желание быть свободным. Характер Сары едва очерчен. Он проявляется исключительно в речевом поведении и поступках, которые тем не менее позволяют понять, домыслить их психологическую мотивацию. Поэтому на всем протяжении романа «пленительно-сумрачный» образ Сары окутан ореолом тайны, загадки.
Поведение молодой женщины по-разному понимают и по-разному оценивают доктор Гроган и Чарльз Смитсон. Первому кажется, что игра Сары вызвана расстройством психики. «У этой девушки, – поясняет доктор, – холера, тиф умственных способностей. Ее надо рассматривать как больную, а не как злонамеренную интриганку». Чарльз же находит другое объяснение, которое, на его взгляд, более соответствует истине: он считает, что Сара любит его и своей игрой хочет заинтриговать, увлечь, пробудить в нем ответное чувство.
В чем же состоит истинный смысл взаимоотношений, в которые Сара продуманно вовлекает Смитсона? Любит она его на самом деле или просто использует для самоутверждения? В сорок седьмой главе, в которой герои пытаются подвести итог тому, что с ними произошло, Сара весьма неопределенно характеризует свою позицию. «Вы, – говорит она, обращаясь к Чарльзу, – подарили мне утешительное сознание того, что в ином мире, в иной жизни, в иное время я могла бы стать вашей женой». Таким образом, готового и единственно возможного ответа на все эти вопросы в романе нет.
В качестве ответа Фаулз, вступая в игру с читателем, предлагает ему три варианта финала, которые А. Долинин условно обозначает как «викторианский», «беллетристический» и «экзистенциальный». Первый вариант полностью соответствует викторианским канонам: проявив благоразумие, Чарльз возвращается к своей невесте Эрнестине, чтобы вскоре жениться на ней и прожить долгую, спокойную, благополучную жизнь. Однако читатель, вполне удовлетворенный (если он разделяет условности викторианцев) таким финалом, будет разочарован автором: викторианского хэппи-энда все же не последует. Второй из предлагаемых вариантов, повествующий о счастливом союзе Чарльза и Сары после нескольких лет разлуки, должен, как иронически замечает В. Тимофеев, «удовлетворить ожидания читательниц», хотя и они в итоге окажутся обманутыми [Тимофеев 2003: 81]. И наконец, третий вариант содержит самую неожиданную и далекую от счастливого завершения развязку. Чарльз после нескольких лет поисков находит Сару, но она не соглашается стать его женой, боясь потерять свою независимость.
Комментируя окончательный разрыв героев, Фаулз пишет: «Пусть несколько извилистым путем, но я вернулся к моему исходному тезису: божественного вмешательства не существует. И, следовательно, нам остается только жизнь – такая, какой мы, в меру своих способностей (а способности – дело случая), ее сделали сами; жизнь, как определил ее Маркс, – "деятельность преследующего свои цели человека" (надо думать, он имел в виду людей обоего пола)». Этот вывод вполне можно отнести и к судьбе Чарльза Смитсона, который утратил все, но взамен обрел «частицу веры в себя, обнаружил в себе что-то истинно неповторимое, на чем можно строить».
ПЛАН ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ
1. Эстетические взгляды Дж. Фаулза и их отражение в романе. Место романа в контексте творчества писателя.
2. Жанровое своеобразие и проблематика романа.
3. Особенности художественной структуры.
• Два временных пласта в романе, их взаимосвязь и взаимообусловленность.
• Изображение викторианской Англии 1860-х годов: художественные средства создания романа-ретро.
• Использование художественной техники постмодернизма:
– элементы психоанализа и актуализация концептов философии экзистенциализма;
– игровое начало;
– приемы интертекстуальности.
• Принципы изображения героев романа – Сары Вудраф и Чарльза Смитсона. Своеобразие психологизма.
• Открытая форма повествования, вариативность в решении художественного конфликта личности и общества (три варианта финала).
4. Смысл названия романа. Поэтика эпиграфов.
Вопросы для обсуждения. Задания
1. Каковы основные положения эстетической позиции Дж. Фаулза и его представления о современном писателе-романисте?
2. Проза Фаулза оценивается литературной критикой или как следующая реалистической традиции (И. Кабанова, В. Фрейгбергс и др.), или как исключительно постмодернистское явление (И. Ильин, В. Курицын, Р. Бурден, Т. Д'Хейен, Р. Риньон и др.). Какие черты поэтики Фаулза могут объяснить такую полярность мнений литературоведов?
3. Исследователи по-разному определяют природу и жанровые особенности романа Фаулза «Женщина французского лейтенанта»: исторический роман или ромэнс (romance) [Кабанова 1986], роман духовного поиска (guest) [Фрейбергс 1986], роман-эксперимент [Ивашева 1989], роман пути [Долинин 1983], интеллектуальный роман [Павличко 1989], психологический роман [Жлуктенко 1986]. Какие черты жанровой поэтики романа обусловили столь разные определения его жанрового своеобразия? В чем состоит программное новаторство романа Фаулза, вызвавшее эти неодназначные определения?
4. Какие документальные материалы использует Дж. Фаулз в своем произведении и с какой целью вводит их в текст романа?
5. Как решается в романе Фаулза ключевая в его творчестве тема свободы?
6. В «викторианском» романе автор-повествователь, как правило, выступает в роли всеведущего творца. Такую ли роль он играет в романе Фаулза?
7. Какие принципы и средства использует Фаулз для создания центральных образов романа – Чарльза Смитсона и Сары Вудраф? Какие художественные приемы не позволяют воспринимать рассказ о взаимоотношениях Чарльза и Сары как мелодраматическую историю любви богатого аристократа к бедной девушке? В чем смысл такого художественного решения?
8. Почему, на ваш взгляд, Фаулз в своей книге уделяет так много внимания психологии интимных отношений? Как соотносится данная проблема с идейным, философским содержанием произведения?
9. Определите композиционное своеобразие истории Грогана. Какое место занимает доктор Гроган в системе персонажей романа?
10. «Все герои Фаулза, – пишет Н. А. Соловьева, – паломники, путешественники не только за собственным "я", своей сутью и природой, они ищут истину и красоту, свободу и идеалы, они максималисты потенциальные, но посредственности в исполнении своих замыслов». Согласны ли вы с мнением исследователя? Распространяется ли эта характеристика на героев романа «Женщина французского лейтенанта»? Способны ли они вернуть себе утраченное «я»? Аргументируйте свою позицию, опираясь на текст произведения.
11. Раскройте символическую роль пейзажей в романе, определите их значение для понимания его проблематики.
12. Дайте толкование тройному (викторианскому, счастливому и экзистенциальному) финалу романа.
13. Какой смысл заключен в последнем абзаце романа:
«…он обрел наконец частицу веры в себя, обнаружил в себе что-то неповторимое, на чем можно строить; он уже начал – хотя сам бы он стал ожесточённо, даже со слезами на глазах, это отрицать – постепенно сознавать, что жизнь (как бы удивительно ни подходила Сара к роли сфинкса) все же не символ, не одна-единственная загадка и не одна-единственная попытка ее разгадать, что она не должна воплощаться в одном конкретном человеческом лице, что нельзя, один раз неудачно метнув кости, выбывать из игры; что жизнь нужно – из последних сил, с опустошенной душой и без надежды уцелеть в железном сердце города – претерпевать. И снова выходить – в слепой, солёный, тёмный океан».
Какова роль этой концовки для понимания концепции романа?
14. В чем проявляется интертекстуальная заданность романа?
Рекомендуемая литература
Тексты
Фаулз Дж. Женщина французского лейтенанта. (Любое издание).
Критические работы
Арнольд И. В., Дьяконова Н. Я. Об авторском комментарии в романе Дж. Фаулза «Женщина французского лейтенанта» // Изв. АН СССР. Серия литературы и языка. 1985. № 5.
Владимирова Н. Г. Игра и ответственность выбора в романах Дж. Фаулза // Условность, созидающая мир. Поэтика условных форм в современном романе Великобритании. Великий Новгород: НовГУ, 2001. С. 63—124.
Долинин А. Паломничество Чарльза Смитсона (О романе Джона Фаулза «Любовница французского лейтенанта» // Дж. Фаулз. Любовница французского лейтенанта. СПб.: Художественная литература, 1993. С. 444–458.
Жлуктенко Н. Ю. Психологический роман Айрис Мердок и Джона Фаулза // Английский психологический роман ХХ века. Киев: Вища школа, 1988. С. 129–148.
Микеладзе Н. Э. Женщина французского лейтенанта (история написания) // Энциклопедия мировой литературы. СПб.: Невская книга, 2000.
Тимофеев В. Г. Уроки Джона Фаулза. СПб.: Санкт-Петербургский университет, 2003. С. 62–91.
Дополнительная литература
Арнольд И. В. Проблемы интертекстуальности // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2. 1992. Вып. 4 (№ 23).
Бушманова Н. Дерево и чайка в открытом окне. Беседа с Джоном Фаулзом // Вопросы литературы. 1994. № 1.
Гениева Е. Ю. Нетипичные и типичные английские романы // Иностранная литература. 1979. № 8.
Михальская Н. П. Джон Фаулз // Зарубежные писатели: биобиблиографический словарь: В 2 ч. Ч. 2. М.: Просвещение, 1997. С. 339–341.
Фатеева Н. А. Интертекстуальность и ее функции в художественном дискурсе // Известия АН. Серия литературы и языка. 1997. Т. 56. С. 12–21.
Фаулз Дж. Аристос // Писатели Англии о литературе XIX–XX вв.: сб. статей. М., 1981.
ТЕМЫ ДЛЯ РЕФЕРАТОВ И ДОКЛАДОВ
1. Мировоззренческие и творческие позиции Дж. Фаулза.
2. Проблема искусства и творческого сознания в новелле Дж. Фаулза «Башня из черного дерева» и романе «Даниэл Мартин».
3. Эволюция романного творчества Дж. Фаулза: от экзистенциального дискурса к постмодернистскому.
4. «Викторианский роман» и викторианский контекст в романе Дж. Фаулза «Женщина французского лейтенанта».
5. Поэтика интертекстуальности в романах Дж. Фаулза (по выбору).
Тема 12 Джулиан Барнс: вариации на тему истории (Практическое занятие)
Название произведения «История мира в 10 1/2 главах» («A History of the World in 10 1/2 Chapters», 1989), принесшего английскому писателю Джулиану Барнсу (Julian Barnes, р. 1946) мировое признание, весьма необычно и иронично. Оно как бы подсказывает читателю, что тот будет иметь дело с еще одной, далекой от канона, от глубокомыслия версией мировой истории.
Роман состоит из отдельных глав (новелл), которые, на первый взгляд, никаким образом друг с другом не связаны: разнятся их сюжеты и проблематика, контрастны и неоднородны стиль и временные рамки. Если в первой главе («Безбилетник») представлены события из библейских времен, то последующая («Гости») переносит читателя в ХХ столетие, а третья («Религиозные войны») возвращает в 1520 год.
Создается впечатление, что автор произвольно, по наитию, извлекает из истории отдельные ее фрагменты, чтобы на их основе сочинить тот или иной рассказ. Иногда, вне явной логической связи, разнородные временные пласты совмещаются в пределах одной и той же главы. Так, в «Трех простых историях» (глава седьмая) после рассказа о невероятных событиях в жизни пассажира «Титаника» Лоренса Бизли автор переходит к размышлениям о том, что история повторяется, первый раз как трагедия, второй раз как фарс, а затем вопрошает: «Что собственно потерял Иона в чреве кита?»[27] Далее следуют рассказы о пророке Ионе и о теплоходе, заполненном депортируемыми из нацистской Германии евреями. Барнс играет временными планами, при этом он вводит в каждую из глав нового повествователя (как правило, это маска, под которой скрывается авторское лицо).
Таким образом, фрагментарный характер произведения Дж. Барнса очевиден. Более того, фрагментарность нарочито акцентирована автором[28]. Отсутствие связного повествования, фабулы, так называемых героев – все эти признаки свидетельствуют о том, что жанровое определение роман в данном случае весьма условно. Об этом, в частности, пишет А. Зверев: «Как бы широко ни понимались возможности романа и сколь бы подвижными ни выглядели его рамки, „История мира в 10 % главах“ все равно в них не уместится. Есть совокупность черт, образующая роман, и хотя любую из них можно толковать как необязательную, тем не менее, лишившись их всех, роман перестаёт быть самим собой» [Зверев 1994: 229].
В трактате «Постмодернистский удел» Ж.-Ф. Лиотар, характеризуя искусство постмодернизма, отметил, что оно «ищет новые способы изображения, но не с целью получить от них эстетическое наслаждение, а чтобы еще с большей остротой передать ощущение того, что нельзя представить. Постмодернистский писатель или художник находится в положении художника: текст, который он пишет, произведение, которое он создает, в принципе не подчиняются заранее установленным правилам, им нельзя вынести окончательный приговор, применяя к ним общеизвестные критерии оценки. Эти правила и категории и суть предмет поисков, которое ведет само произведение искусства»[29]. Постмодернистский текст как бы собирает распадающиеся фрагменты Текста культуры, используя принцип монтажа или коллажа, тем самым стремясь воссоздать целостность культуры, придать ей некую осмысленную форму.
«История мира.» – произведение новаторское, и новаторский его характер вполне согласуется с основными принципами эстетики постмодернизма. Надо думать, что жанровая форма произведения Барнса может быть определена через понятие гипертекста. Как указывает В. П. Руднев, гипертекст строится таким образом, что он «превращается в систему, иерархию текстов, одновременно составляя единство и множество текстов», структура гипертекста сама по себе способна провоцировать читателя «пуститься в гипертекстовое плавание, то есть от одной отсылки переходить к другой» [Руднев 1997: 69–72]. Форма гипертекста способна обеспечивать целостность восприятия разрозненных фрагментов текста, она позволяет фиксировать в виде гибких связей-переходов ускользающие значения, «присутствие отсутствия» (Деррида), увязывать их в нечто целостное, не следуя при этом принципу линейности, строгой последовательности. Нелинейный характер структуры гипертекста (гиперромана) обеспечивает качественно новые характеристики произведения и его восприятия: один и тот же текст может иметь несколько завязок и финалов, соответственно каждая из реализаций возможных вариантов сцепления композиционных частей текста будет определять новые ходы интерпретации, порождать смысловую полифонию[30]. В настоящее время вопрос о художественном гипертексте остается дискуссионным, требующим серьезного научного изучения.
Барнс экспериментирует не только с собственно жанровой формой романа, но и с такой ее разновидностью, как историческое повествование. Дж. Барнсу близки мысли Р. Барта о том, что «произведение, в силу своей структуры, обладает множеством смыслов», что во время чтения оно «превращается в вопрос, заданный самому языку, чью границу мы стремимся промерить, а границы – прощупать», в результате чего оно и «оказывается способом грандиозного, нескончаемого дознания о словах» [Барт 1987: 373]. В силу этого и «история, – по утверждению Барта, – в конечном счете есть не что иное, как история объекта, по сути своей являющегося воплощением фантазматического[31] начала» [Барт 1989: 567]. История принципиально открыта для интерпретации и, следовательно, для фальсификации. Данные положения нашли художественное преломление в структуре барнсовской «Истории мира…».
В ненумерованной полуглаве, названной «Интермедия», писатель рассуждает об истории человечества и о том, как воспринимается она читателем: «История – это ведь не то, что случилось. История – это всего лишь то, что рассказывают нам историки. Были-де тенденции, планы, развитие, экспансия, торжество демократии. <…> А мы, читающие историю, <…> упорно продолжаем смотреть на нее как на ряд салонных портретов и разговоров, чьи участники легко оживают в нашем воображении, хотя она больше напоминает хаотический коллаж, краски на который наносятся скорее малярным валиком, нежели беличьей кистью; мы придумываем свою версию, чтобы обойти факты, которых не знаем или которые не хотим принять; берем несколько подлинных фактов и строим на них новый сюжет. Игра воображения умеряет нашу растерянность и нашу боль; мы называем это историей».
Таким образом, книга Барнса может быть определена и как вариации на тему истории, своего рода ироническое переосмысление предшествующего исторического опыта человечества. Объективная истина, по убеждению писателя, недостижима, так как «всякое событие порождает множество субъективных истин, а затем мы оцениваем их и сочиняем историю, которая якобы повествует о том, что произошло "в действительности". Сочиненная нами версия фальшива, это изящная невозможная фальшивка, вроде тех скомпонованных из отдельных сценок средневековых картин, которые разом изображают все страсти Христовы, заставляя их совпадать по времени».
Барнс, как и французский философ Ж.-Ф. Лиотар, который «первым заговорил о "постмодернизме" применительно к философии» [Гараджи 1994: 55], со скепсисом относится к традиционным представлениям о том, что в основе поступательного движения истории лежит идея прогресса, что сам ход истории детерминирован логически объяснимыми взаимосвязанными последовательными событиями. Результаты и плоды этого развития, не только материальные, но и духовные, интеллектуальные, по словам философа, «постоянно дестабилизируют человеческую сущность, как социальную, так и индивидуальную. Можно сказать, что человечество оказалось сегодня в таком положении, когда ему приходится догонять опережающий его процесс накопления все новых и новых объектов практики и мышления» [Лиотар 1994: 58]. И так же, как и Лиотар, Барнс убежден, что «кошмар истории» должен быть подвергнут тщательному анализу, ведь прошлое просвечивается, обнаруживается в настоящем, как и настоящее – в прошлом и будущем. Героиня главы «Уцелевшая» говорит: «Мы отказались от впередсмотрящих. Мы не думаем о спасении других, а просто плывем вперед, полагаясь на наши машины. Все внизу, пьют пиво… В любом случае <…> найти новую землю с помощью дизельного двигателя было бы обманом. Надо учиться все делать по-старому. Будущее лежит в прошлом».
В данной связи, надо думать, будет уместным обращение к трактовке интертекстуальности Р. Бартом: текст вплетен в бесконечную ткань культуры, является ее памятью и «помнит» не только культуру прошлого, но и культуру будущего. «В явление, которое принято называть интертекстуальностью, следует включать тексты, возникающие позже произведения: источники текста существуют не только до текста, но и после него. Такова точка зрения Леви-Стросса, который весьма убедительно показал, что фрейдовская версия мифа об Эдипе сама является составной частью этого мифа: читая Софокла, мы должны читать ее как цитацию из Фрейда, а Фрейда – как цитацию из Софокла»[32].
Таким образом, постмодернизм осмысливает культуру как явление принципиально полисемиотичное, ахроническое, а письмо – не только и не столько как «вторичную» систему записи, сколько как несметное количество взаимодействующих, взаимообратимых, движущихся «культурных кодов» (Р. Барт) [Косиков 1989: 40]. В то же время, воспринимая мир как хаос, в котором отсутствуют единые критерии ценностной и смысловой ориентации, «постмодернизм воплощает принципиальную художественно-философскую попытку преодолеть фундаментальную для культуры антитезу хаоса и космоса, переориентировать творческий импульс на поиск компромисса между этими универсалиями» [Липовецкий 1997: 38–39].
Данные положения оказываются актуализированными такими особенностями романа Барнса, как игра субъектами повествования (доминирующий в тексте объективированный тип повествования от третьего лица может сменяться формой от первого лица даже в рамках одной главы), смешение стилей (деловой, публицистический, эпистолярный в разных жанровых формах) и модальных планов (серьезный тон легко переходит в иронию, сарказм, умело используются техника намека и гротескной мысли, грубоватая пародия, инвективная лексика и пр.), приемы интертекстуальности и метатекстуальности. Каждая глава представляет собой ту или иную версию определенного исторического события, и ряд таких версий носит принципиально открытый характер. В такого рода «бессистемности», можно усмотреть «прямое следствие представления о мире, об истории как о бессмысленном хаосе» [Андреев 2001: 26][33].
Тем не менее картина действительности, воплощенная в романе Барнса, является по-своему завершенной. Целостность придают ей и всепоглощающая «корректирующая» ирония («самое, пожалуй, для Барнса постоянное – даже самое как бы "серьезное" – есть авторская насмешка» [Затонский 2000: 32]), и сюжетные скрепы, роль которых выполняют повторяющиеся мотивы, темы, образы. Таков, например, образ-мифологема «Ковчег / Корабль». В первой, шестой и девятой главах образ Ноева Ковчега дается непосредственно, в остальных же главах его присутствие обнаруживается при помощи интертекстуальных приемов.
Вот преуспевающий журналист Франклин Хьюз («Гости»), участник морского круиза, наблюдает, как поднимаются на корабль пассажиры: американцы, англичане, японцы, канадцы. В основном это чинные супружеские пары. Их шествие вызывает у Франклина иронический комментарий: «Каждой твари по паре». Но в отличие от библейского Ковчега, дарующего спасение, современный корабль оказывается для пассажиров плавучей тюрьмой (его захватили арабские террористы), несущей смертельную угрозу. Героиня четвертой главы («Уцелевшая») вспоминает то умиление, которое в детстве вызывали у нее рождественские открытки с изображением северных оленей, запряженных парами. Она всегда думала, будто «каждая пара – это муж с женой, счастливые супруги, как те звери, что плавали на Ковчеге». Теперь же, будучи взрослым человеком, она испытывает безумный страх перед возможной ядерной катастрофой (прецедент такой катастрофы уже был, хотя и далеко, в России, «где нет хороших современных электростанций, как на Западе») и пытается спастись, взяв с собой кошачью пару. Лодка, на которой молодая женщина отправляется в спасительное, как ей кажется, путешествие, – что-то вроде Ковчега, уплывающего от ядерной катастрофы.
И в этих, и в других эпизодах романа Барнса отразились такие черты постколониальной, постимпериалистической модели мира, как кризис прогрессистского мышления, вызванный осознанием возможного самоуничтожения человечества, отрицанием абсолютной ценности достижений науки и техники, индустрии и демократии, утверждение целостного взгляда на мир и, соответственно, изначальных, более важных, чем любые интересы государства, прав человека [Маньковская 2000: 133–135].
Именно об этих аспектах постмодернистской парадигмы в созвучном Дж. Барнсу ключе рассуждает Октавио Пас – признанный во всем мире современный мексиканский поэт и мыслитель: «Разрушение мира – главное порождение техники. Второе – ускорение исторического времени. И в конце концов это ускорение приводит к отрицанию изменения, если под изменением мы будем понимать эволюционный процесс, то есть прогресс и постоянное обновление. Время техники ускоряет энтропию: цивилизация индустриальной эры произвела за один век больше разрушений и мёртвой материи, чем все другие цивилизации (начиная с неолитической революции), вместе взятые. Эта цивилизация поражает в самое сердце идею времени, выработанную современной эпохой, искажает ее, доводит до абсурда. Техника не только олицетворяет радикальную критику идеи изменения как прогресса, но и ставит предел, четкое ограничение идее времени без конца. Историческое время было практически вечным, по крайней мере, по человеческим меркам. Думалось, пройдут тысячелетия, прежде чем планета окончательно остынет. Поэтому человек мог не спеша завершать свой эволюционный цикл, достигая вершин силы и мудрости, и даже завладеть секретом преодоления второго закона термодинамики. Современная наука опровергает эти иллюзии: мир может исчезнуть в самый непредвиденный момент. Время имеет конец, и конец этот будет неожиданным. Мы живем в неустойчивом мире: сегодня изменение не тождественно прогрессу, изменение – синоним внезапного уничтожения» [Пас 1991: 226].
История и современность в романе Барнса предстают, говоря словами Н. Б. Маньковской, как «посткатастрофическая, апокалиптическая эпоха смерти не только Бога и человека, но и времени, и пространства». В полуглаве «Интермедия» находим следующее рассуждение: «. любовь – земля обетованная, ковчег, на котором дружная семья спасается от Потопа. Может, она и ковчег, но на этом ковчеге процветает антрофобия; а командует им сумасшедший старик, который чуть что пускает в ход посох из дерева гофер и может в любой момент вышвырнуть тебя за борт». Перечень подобных примеров можно продолжить.
Образ Потопа (мотив плавания по водам) так же, как и образ Ковчега (Корабля), является ключевым в «Истории мира». «Сквозной» персонаж романа – личинки древоточца (древесные жуки), от имени которых в первой главе в весьма ехидном тоне дается интерпретация (версия) истории спасения Ноя. Так как о спасении личинок Господь не позаботился, то на Ковчег они проникли тайно (глава называется «Безбилетник»). У личинок, поглощенных обидой, свое видение библейских событий, своя оценка их участников. Например: «Ной не был хорошим человеком. <…> Он был чудовищем – самодовольный патриарх, который полдня раболепствовал перед своим Богом, а остальные полдня отыгрывался на нас. У него был посох из дерева гофер, и им он… в общем, полосы у некоторых зверей остались и по сию пору». Именно по вине Ноя и его семейки, как уверяют личинки, погибли многие, в том числе и самые благородные виды животных. Ведь с точки зрения Ноя, «мы представляли собой просто-напросто плавучий кафетерий. На Ковчеге не разбирались, кто чистый, кто нечистый; сначала обед, потом обедня, таким было правило». Не представляются личинкам справедливыми и деяния Бога: «Мы постоянно бились над загадкой, почему Бог избрал своим протеже человека, обойдя более достойных кандидатов. <…> Если бы он остановил свой выбор на горилле, проявлений непокорства было бы меньше в несколько раз, – так что, возможно, не возникло бы нужды в самом Потопе».
Несмотря на столь саркастичное переосмысление Ветхого Завета, писателя невозможно заподозрить в антирелигиозной пропаганде: «…он целиком и полностью занят историей нашего мира, оттого и начинает с события, повсеместно признанного ее истоком». Что это миф – не суть важно, ведь в глазах Барнса потоп «разумеется, только метафора, но позволяющая – и в этом суть – набросать образ фундаментального несовершенства сущего» [Затонский 2000: 33–34].
Потоп, задуманный Богом, оказался нелепостью, и вся дальнейшая история повторяет в различных формах нелепую жестокость, запечатленную в мифе. Но далее безрассудства уже совершает сам человек, сатирический портрет которого (заметим, это тоже своего рода средство образной когезии) дан в разных ипостасях: в облике Ноя, фанатиков-террористов, бюрократов…
Очевидно, что вера в исторический прогресс английскому писателю не свойственна: «И что же? У людей прибавилось… ума? Они перестали строить новые гетто и практиковать в них старые издевательства? Перестали совершать старые ошибки, или новые ошибки, или старые ошибки на новый лад? И действительно ли история повторяется, первый раз как трагедия, второй – как фарс? Нет, это слишком величественно, слишком надуманно. Она просто рыгает, и мы снова чувствуем дух сандвича с сырым луком, который она проглотила несколько веков назад». Главный порок бытия видится Барнсу не в насилии или несправедливости, а в том, что земная жизнь, ее историческое движение бессмысленны. История попросту передразнивает себя; и единственная точка опоры в этом хаосе – любовь. Конечно, «любовь не изменит хода мировой истории (вся эта болтовня годится только для самых сентиментальных); но она может сделать нечто гораздо более важное: научить нас не пасовать перед историей». Однако, завершая свои размышления о любви, автор спохватывается и возвращается к ироническому тону: «Ночью мы готовы бросить вызов миру. Да-да, это в наших силах, история будет повержена. Возбуждённый, я взбрыкиваю ногой…»
Внимательное прочтение «Истории мира…» Дж. Барнса убеждает в том, что в романе есть все формообразующие постмодернизма: афишированная фрагментарность, новое осмысление, деканонизация и дегероизация мифологических и классических сюжетов, травестия, стилевое многообразие, парадокс, цитатность, интертекстуальность, метатекстуальность и др. Писатель опровергает бытующие критерии художественного единства, за которыми скрывается неприемлемая для постмодернистов линейность и иерархичность восприятия действительности. Однако правомерно ли будет определить данное произведение только как постмодернистский текст? Утвердительный ответ на этот вопрос содержится в статьях [Зверев 1994: 230; Фрумкина 2002: 275]. Более убедительной, обоснованной представляется точка зрения Л. Андреева, согласно которой роман Барнса являет собой пример «"реалистически-постмодернистского" синтеза, поскольку в нем различные постмодернистские идеи и приемы совмещаются с традиционными повествовательными принципами, с "социальной озабоченностью", с "конкретно-историческим обоснованием"» [Андреев 2001].
ПЛАН ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ
1. Дж. Барнс как писатель-постмодернист. Новаторский характер его произведений.
2. Вопрос о жанровой форме «Истории мира..».
3. Смысл названия, тематика и проблематика произведения.
4. Композиция произведения как отражение постмодернистской модели мира. Фрагментарность как конструктивный и философский принцип постмодернистского искусства.
5. Особенности повествовательной структуры произведения. Игра субъектами речи и модальными планами.
6. Образы персонажей «Истории мира…». Принципы их создания.
7. Приемы организации пространства и времени в романе и в каждой из его частей.
8. Идейно-композиционная функция лейтмотивов – гипертекстовых «скреп».
9. Интертекстуальность в «Истории мира…».
10. «История мира в 10 % главах» как «реалистически-постмодернистское» произведение.
11. «История мира…» Дж. Барнса и постмодернистский роман (И. Кальвино, М. Павич, У. Эко).
Вопросы для обсуждения. Задания
1. По утверждению Дж. Барнса, его «История мира в 10 1/2 главах» – не сборник новелл, она «была задумана как целое и выполнена как целое». Правомерен ли этот тезис Барнса? Можно ли говорить о том, что в романе представлена по-своему завершенная картина мира? Аргументируйте свой ответ.
2. В постмодернистских произведениях цитатность, интертекстуальность выражается в многообразных имитациях, стилизациях литературных предшественников, иронических коллажах традиционных приемов письма. Присущи ли данные явления книге Барнса? Ответ иллюстрируйте примерами.
3. Можно ли говорить о том, что в романе Дж. Барнса обнаруживается такой стилистический прием, как пастиш? Аргументируйте свой ответ.
4. Роман Дж. Барнса открывает глава «Безбилетник», очевидно, написанная на основе библейского мифа и наделенная особой идейно-композиционной функцией.
• Как переосмысливается миф в данной главе и какова его роль в выражении концептуальной и подтекстовой информации в романе? Почему интерпретация событий, предшествующих Потопу, и оценка происходящего на Ноевом Ковчеге доверены личинке древоточца? Какую характеристику из уст личинки получает Всевышний и Человек (в данном случае – в образах Ноя и его семьи)?
• Как развивается тема «Человек и История» в последующих главах (новеллах) книги?
5. Перечитайте главу «Кораблекрушение». Какие философские проблемы затрагиваются в ней? Раскройте идейно-художественную роль аллюзий, цитат, символических и аллегорических образов. Какие исторические, культурные и литературные ассоциации вызывает содержание данной главы?
6. Как в книге Барнса проявляются комические традиции Филдинга, Свифта, Стерна?
7. Какую интерпретацию дает Барнс картине Теодора Жерико «Плот "Медузы"» («Сцена кораблекрушения») в главе «Кораблекрушение»? В чем смысл данной интерпретации?
8. В книге Барнса на поиски Ноева Ковчега отправляются с разрывом в сто лет мисс Фергюсон (1839) и астронавт Спайк Тиглер (1977). Какую смысловую роль выполняет прием сюжетного параллелизма? Соотнесите содержание этих эпизодов с рассуждениями писателя об истории мира, о любви, вере в полуглаве «Интермедия».
9. Перечитайте десятую главу книги Барнса. Почему она названа «Сон»? Как связана эта глава с главой «Уцелевшая»? Что такое рай и ад в художественной концепции истории мира по Барнсу? Проанализируйте способы и средства, реализующие формально-смысловую (внутритекстовую) связь между главой «Сон» и полуглавой «Интермедия».
10. По утверждению И. П. Ильина, практически все художники, относимые к течению постмодернизма, «одновременно выступают и как теоретики собственного творчества. Не в малой степени это обусловлено и тем, что специфика этого искусства такова, что оно просто не может существовать без авторского комментария. Все то, что называется "постмодернистским романом" Дж. Фаулза, Дж. Барнса, Х. Кортасара и многих других, представляет собой не только описание событий и изображение участвующих в них лиц, но и пространные рассуждения о самом процессе написания данного произведения» [Ильин 1996: 261]. Очевидно, полуглава «Интермедия» и представляет собой такого рода автокомментарий (метатекст). Раскройте этико-эстетическую проблематику данной главы, ее роль в формальной и смысловой организации всего текста произведения, в создании его целостности.
Рекомендуемая литература
Тексты
Барнс Дж. История мира в 10 % главах. (Журнальный вариант) / Пер. с англ. В. Бабкова // Иностранная литература. 1994. № 1. Барнс Дж. История мира в 10 % главах / Пер. с англ. В. Бабкова. М.: АСТ: ЛЮКС, 2005.
Критические работы
Затонский Д. В. Модернизм и постмодернизм. Мысли об извечном коловращении изящных и неизящных искусств. Харьков; М.: Фолио, 2000. С. 31–40.
Зверев А. Послесловие к роману Дж. Барнса «История мира в 10 % главах» // Иностранная литература. 1994. № 1. С. 229–231. Кузнецов С. 10 % замечаний о романе Джулиана Барнса // Иностранная литература. 1994. № 8. Феномен Джулиана Барнса: Круглый стол // Иностранная литература. 2002. № 7. С. 265–284.
Дополнительная литература
Андреев Л. Художественный синтез и постмодернизм // Вопросы литературы. 2001. № 1. С. 3—25. Дубин Б. Человек двух культур // Иностранная литература. 2002. № 7. С. 260–264.
Ильин И. П. Постмодернизм // Современное зарубежное литературоведение (страны Западной Европы и США): концепции, школы, термины: энциклопедический справочник. М., 1996. Ильин И. П. Постмодернизм: словарь терминов. М., 2001.
Справочные материалы
[Страницы, посвященные знаменитой картине Теодора Жерико] «представляют собой что-то наподобие эстетического трактата, толкующего о вечной проблеме истины в искусстве, как она понимается постмодернизмом. И вот здесь всё та же диалектика несущественного и основного приобретает ключевое значение. Зрителю, знающему реальный ход событий, покажется, что Жерико счел несущественным происходившее на плоту истребление ослабевших, чтобы сохранить воду и пищу для способных бороться со стихией, и даже позабыл о каннибализме, сопровождавшем трагическое плаванье. По крайней мере, все это не было для Жерико достаточно существенным, чтобы создать сюжет прославленного полотна, и по первому впечатлению картина проникнута ложной героикой, тогда как подобал бы трагизм, так как происходит катастрофа человеческого духа. Но если приглядеться, оценив неподчеркнутые, мелкие особенности композиции, окажется, что как раз катастрофа на этом холсте и запечатлена, только не просто кораблекрушение, а экзистенциальная драма из тех, какие дано воплотить лишь великому искусству.
Понятно, что такая интерпретация романтического шедевра произвольна, так как представляет собой его переосмысление через призму постмодернистских верований. Однако о самом Барнсе весь этот разбор говорит очень выразительно. Жерико, по его понятиям, сделал все, чтобы избежать политических коннотаций, банальной надрывности, примитивной символики, и это ему во многом удалось, но как бы вопреки собственным установкам, заставлявшим в любом сюжете отделять главное от второстепенного, причем это делалось в согласии с расхожими представлениями эпохи. Постмодернистский художник избавляет себя от таких сложностей, попросту отказываясь проводить сами разделения подобного толка. А если все же по необходимости их делая, то как раз под знаком предпочтения всего второстепенного, незначительного, частного.
Теперь понятнее становится причудливое построение "Истории мира в 10 % главах". По существу, Барнс в этой книге занят прежде всего опровержением бытующих критериев художественного единства, за которыми скрывается все та же неприемлемая для него, как для всех постмодернистов, иерархичность восприятия действительности, будто бы интересной и важной лишь в каких-то строго отсортированных своих проявлениях и вовсе не увлекательной во всех остальных. Не признавая самого этого подхода, Барнс, естественно, не признает и созидаемого на такой основе художественного единства. И там, где ждешь некой однородности, <…> он предлагает смешение всего этого[34], делая это осознанно, можно даже сказать, принципиально».
Из Послесловия А. Зверева к роману Дж. Барнса «История мира в 10 1/2 главах» // Иностранная литература. 1994. № 1. С. 229–231.
Прежде в «замысловатых» вещах бал правила психология героя – расхристанная, патологическая, вроде бы не признающая над собою никаких законов, прозывавшаяся «потоком сознания». Нынче в моду снова входит «логика»; правда, весьма необычная, не менее странная, чем геометрия Лобачевского или двоичная система исчисления. Потому что речь ведь идет о «логическом» <…> подходе к алогичной реальности; и такой подход, как ни странно, плотнее прилегает к миру, в котором вроде бы пусты и небеса, и преисподняя.
Ultima ratio в подтверждение этой барнсовской идеи приводит десятая и последняя глава, оформленная, впрочем, как нечто насквозь гипотетическое. Недаром она названа «Сон» и начинается словами: «Мне снилось, что я проснулся. Это самый странный сон, и я только что видел его опять». Чудесная комната, внимательная горничная, гардероб полон любых одежек, завтрак подается в постель. Потом можно полистать газеты, содержащие одни лишь приятные новости, поиграть в гольф, заняться сексом, даже повстречаться со знаменитыми людьми. Впрочем, пресыщение наступает довольно скоро, и начинает хотеться, чтобы тебе вынесли приговор. Это что-то вроде тоски по Страшному Суду, но, увы, тоски нереализуемой. Правда, некий чиновник внимательно рассматривает твое дело и неизменно приходит к выводу: «У вас все в порядке». Ведь «здесь проблем не бывает», потому что это, как вы уже догадались, – Рай. Разумеется, целиком модернизированный и оттого как бы и взаправду лишенный Бога. Но для тех, кто того желает, Бог все-таки существует. Наличествует и Ад: «Но это больше похоже на парк аттракционов. Ну, знаете, – скелеты, которые выскакивают у вас перед носом, ветки в лицо, безвредные бомбы, в общем, всякие такие вещи. Только, чтобы вызвать у посетителей приятный испуг».
Но самое, может быть, главное состоит в том, что ни в Рай, ни в Ад человек не попадает по заслугам, а лишь по желанию. Оттого система наказаний и наград становится столь бессмысленной, а загробное существование столь бесцельным, что у каждого в конце концов возникает желание умереть по-настоящему, исчезнуть, кануть в небытие. И, как и все здешние желания, оно тоже может исполниться.
Возникает впечатление, будто барнсовская «история мира» сведена к некой идиллии: где моря крови? где зверства? где жестокости? где предательства? Для Барнса суть всего, однако, не столько в наличии Зла (это как бы элементарно!), а в том, что любое преступление может быть оправдано некоей высокой целью, освящено исторической необходимостью. Оттого наш автор и стремится в первую очередь вылущить бессмысленность, отстоять бесцельность наличного мироустройства.
Последнюю главу венчает диалог между нашим сновидцем и его горничной (а скорее, поводырем) Маргарет:
– Мне кажется, – снова заговорил я, – что Рай – это прекрасная идея, даже, может быть, безупречная идея, но она не для нас. Не так мы устроены… Тогда зачем это все? Зачем Рай? Зачем эта мечта о Рае?..
– Может быть, вам это нужно, – предположила она. – Может быть, вы не прожили бы без такой мечты… Всегда получать, что хочешь, или никогда не получать того, что хочешь, – в конце концов разница не так уж велика.
Из книги: Затонский Д. В. Модернизм и постмодернизм: Мысли об извечном коловращении изящных и неизящных искусств. Харьков; М., 2000. С. 31–40; 36–37.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Жан-Поль Сартр ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМ – ЭТО ГУМАНИЗМ?
<…> экзистенциализм обвиняют в том, будто он призывает погрузиться в квиетизм отчаяния: раз никакая проблема вообще не разрешима, то не может быть и никакой возможности действия в мире; в конечном итоге это созерцательная философия, а поскольку созерцание – роскошь, то мы вновь приходим к буржуазной философии. Таковы главным образом обвинения со стороны коммунистов.
С другой стороны, нас обвиняют в том, что мы подчеркиваем человеческую низость, показываем всюду гнусное, темное, липкое и пренебрегаем многим приятным и красивым, отворачиваемся от светлой стороны человеческой натуры. Так, например, критик, стоящий на позициях католицизма, – г-жа Мерсье обвиняла нас в том, что мы забыли об улыбке ребенка. Те и другие упрекают нас в том, что мы забыли о солидарности людей, смотрим на человека как на изолированное существо; и это следствие того, что мы исходим, как заявляют коммунисты, из чистой субъективности, из картезианского «я мыслю», то есть опять-таки из такого момента, когда человек постигает себя в одиночестве, и это будто бы отрезает нам путь к солидарности с людьми, которые находятся вовне и которых нельзя постичь посредством cogito.
Со своей стороны христиане упрекают нас еще и в том, что мы отрицаем реальность и значение человеческих поступков, так как, уничтожая божественные заповеди и вечные ценности, не оставляем ничего, кроме произвола: всякому позволено поступать, как ему вздумается, и никто не может судить о взглядах и поступках других людей.
На все эти обвинения я постараюсь здесь ответить, именно поэтому я и озаглавил эту небольшую работу «Экзистенциализм – это гуманизм». Многих, вероятно, удивит, что здесь говорится о гуманизме. Разберем, какой смысл мы в него вкладываем. В любом случае мы можем сказать с самого начала, что под экзистенциализмом мы понимаем такое учение, которое делает возможной человеческую жизнь и которое, кроме того, утверждает, что всякая истина и всякое действие предполагают некоторую среду и человеческую субъективность.
Основное обвинение, нам предъявляемое, состоит в том, что мы обращаем особое внимание на дурную сторону человеческой жизни. <…> Следовательно, экзистенциализм уподобляют непристойности, а экзистенциалистов объявляют «натуралистами». Но, если мы действительно натуралисты, вызывает крайнее удивление, что мы можем пугать и шокировать в гораздо большей степени, чем натурализм в собственном смысле. Человек, относящийся терпимо к такому роману Золя, как «Земля», испытывает отвращение, читая экзистенциалистский роман; человек, ссылающийся на народную мудрость, которая весьма пессимистична, находит нас законченными пессимистами. И в то же время трезво рассуждают по поводу того, что «своя рубашка ближе к телу» или что «собака любит палку». Есть множество других общих мест, говорящих о том же самом: не следует бороться с установленной властью, против силы не пойдешь, выше головы не прыгнешь <…>. И, однако, те самые люди, которые пережевывают эти пессимистические поговорки, <…> упрекают экзистенциализм в излишней мрачности. Что, в сущности, пугает в этом учении? Не тот ли факт, что оно дает человеку возможность выбора? Чтобы это выяснить, надо рассмотреть вопрос в строго философском плане. Итак, что такое экзистенциализм?
Большинству людей, употребляющих это слово, было бы очень трудно его разъяснить, ибо ныне, когда оно стало модным, экзистенциалистами стали объявлять и музыкантов, и художников. <. > Слово приобрело такой широкий и пространный смысл, что, в сущности, уже ничего ровным счетом не означает. <…> Тем не менее можно легко дать ему определение.
Дело, впрочем, несколько осложняется тем, что существуют две разновидности экзистенциалистов: во-первых, это христианские экзистенциалисты, к которым я отношу Ясперса и исповедующего католицизм Габриэля Марселя; и, во-вторых, экзистенциалисты-атеисты, к которым относятся Хайдеггер и французские экзистенциалисты, в том числе я сам. Тех и других объединяет лишь убеждение в том, что существование предшествует сущности, или, если хотите, что нужно исходить из субъекта. Как это, собственно, следует понимать?
Возьмем изготовленный человеческими руками предмет, например, <…> нож для разрезания бумаги. Он был сделан ремесленником, который руководствовался при его изготовлении определенным понятием, а именно понятием ножа, а также заранее известной техникой, которая предполагается этим понятием и есть, в сущности, рецепт изготовления. Таким образом, нож является предметом, который, с одной стороны, производится определенным способом, а с другой – приносит определенную пользу. Невозможно представить себе человека, который бы изготовлял этот нож, не зная, зачем он нужен. Следовательно, мы можем сказать, что у ножа его сущность, то есть сумма приемов и качеств, которые позволяют его изготовить и определить, предшествует его существованию. И это обусловливает наличие здесь, передо мной, данного ножа. В этом случае мы имеем дело с техническим взглядом на мир, согласно которому изготовление предшествует существованию.
Когда мы представляем себе бога-творца, то этот бог по большей части уподобляется своего рода ремесленнику высшего порядка. Какое бы учение мы ни взяли – будь то учение Декарта или Лейбница, – везде предполагается, что воля в большей или меньшей степени следует за разумом или, по крайней мере, ему сопутствует и что бог, когда творит, отлично себе представляет, что именно он творит. Таким образом, понятие «человек» в божественном разуме аналогично понятию «нож» в разуме ремесленника. И бог творит человека, сообразуясь с техникой и замыслом, точно так же, как ремесленник изготовляет нож в соответствии с его определением и техникой производства. Так же и индивид реализует какое-то понятие, содержащееся в божественном разуме.
В XVIII веке атеизм философов ликвидировал понятие бога, но не идею о том, что сущность предшествует существованию. Эту идею мы встречаем повсюду у Дидро, Вольтера и даже у Канта. Человек обладает некой человеческой природой. Эта человеческая природа, являющаяся «человеческим» понятием, имеется у всех людей. А это означает, что каждый отдельный человек – лишь частный случай общего понятия «человек». У Канта из этой всеобщности вытекает, что и житель лесов – естественный человек, и буржуа подводятся под одно определение, обладают одними и теми же основными качествами. Следовательно, и здесь сущность человека предшествует его историческому существованию, которое мы находим в природе.
Атеистический экзистенциализм, представителем которого являюсь я, более последователен. Он учит, что если даже бога нет, то есть по крайней мере одно бытие, у которого существование предшествует сущности, бытие, которое существует прежде, чем его можно определить каким-нибудь понятием, и этим бытием является человек, или, по Хайдеггеру, человеческая реальность. Что это означает – «существование предшествует сущности»? Это означает, что человек сначала существует, встречается, появляется в мире, и только потом он определяется.
Для экзистенциалиста человек потому не поддается определению, что первоначально ничего собой не представляет. Человеком он становится лишь впоследствии, причем таким человеком, каким он сделает себя сам. Таким образом, нет никакой природы человека, как нет и бога, который бы ее задумал. Человек просто существует, и он не только такой, каким себя представляет, но такой, каким он хочет стать. И поскольку он представляет себя уже после того, как начинает существовать, и проявляет волю уже после того, как начинает существовать, и после этого порыва к существованию, то он есть лишь то, что сам из себя делает. Таков первый принцип экзистенциализма. Это и называется субъективностью, за которую нас упрекают. Но что мы хотим этим сказать, кроме того, что у человека достоинства больше, нежели у камня или стола? Ибо мы хотим сказать, что человек прежде всего существует, что человек – существо, которое устремлено к будущему и сознает, что оно проецирует себя в будущее. Человек – это прежде всего проект, который переживается субъективно, а не мох, не плесень и не цветная капуста. Ничто не существует до этого проекта, нет ничего на умопостигаемом небе, и человек станет таким, каков его проект бытия. Не таким, каким он пожелает. Под желанием мы обычно понимаем сознательное решение, которое у большинства людей появляется уже после того, как они из себя что-то сделали. Я могу иметь желание вступить в партию, написать книгу, жениться, однако все это лишь проявление более первоначального, более спонтанного выбора, чем тот, который обычно называют волей. Но если существование действительно предшествует сущности, то человек ответствен за то, что он есть. Таким образом, первым делом экзистенциализм отдает каждому человеку во владение его бытие и возлагает на него полную ответственность за существование.
Но когда мы говорим, что человек ответствен, то это не означает, что он ответствен только за свою индивидуальность. Он отвечает за всех людей. Слово «субъективизм» имеет два смысла, и наши оппоненты пользуются этой двусмысленностью. Субъективизм означает, с одной стороны, что индивидуальный субъект сам себя выбирает, а с другой стороны – что человек не может выйти за пределы человеческой субъективности. Именно второй смысл и есть глубокий смысл экзистенциализма. Когда мы говорим, что человек сам себя выбирает, мы имеем в виду, что каждый из нас выбирает себя, но тем самым мы также хотим сказать, что, выбирая себя, мы выбираем всех людей. Действительно, нет ни одного нашего действия, которое, создавая из нас человека, каким мы хотели бы быть, не создавало бы в то же время образ человека, каким он, по нашим представлениям, должен быть. Выбрать себя так или иначе означает одновременно утверждать ценность того, что мы выбираем, так как мы ни в коем случае не можем выбирать зло. То, что мы выбираем, – всегда благо. Но ничто не может быть благом для нас, не являясь благом для всех. Если, с другой стороны, существование предшествует сущности и если мы хотим существовать, творя одновременно наш образ, то этот образ значим для всей нашей эпохи в целом. Таким образом, наша ответственность гораздо больше, чем мы могли бы предполагать, так как распространяется на все человечество. Если я, например, рабочий и решаю вступить в христианский профсоюз, а не в коммунистическую партию, если я этим вступлением хочу показать, что покорность судьбе – наиболее подходящее для человека решение, что царство человека не на земле, – то это не только мое личное дело: я хочу быть покорным ради всех, и, следовательно, мой поступок затрагивает все человечество. Возьмем более индивидуальный случай. Я хочу, например, жениться и иметь детей. Даже если женитьба зависит единственно от моего положения, или моей страсти, или моего желания, то тем самым я вовлекаю на путь моногамии не только себя самого, но и все человечество. Я ответствен, таким образом, за себя самого и за всех и создаю определенный образ человека, который выбираю, выбирая себя, я выбираю человека вообще.
Это позволяет нам понять, что скрывается за столь громкими словами, как «тревога», «заброшенность», «отчаяние». Как вы увидите, в них заложен чрезвычайно простой смысл. Во-первых, что понимается под тревогой. Экзистенциалист охотно заявит, что человек – это тревога. А это означает, что человек, который на что-то решается и сознает, что выбирает не только свое собственное бытие, но что он еще и законодатель, выбирающий одновременно с собой и все человечество, не может избежать чувства полной и глубокой ответственности. Правда, многие не ведают никакой тревоги, но мы считаем, что эти люди прячут это чувство, бегут от него. Несомненно, многие люди полагают, что их действия касаются лишь их самих, а когда им говоришь: а что если бы все так поступали? – они пожимают плечами и отвечают: но ведь все так не поступают. Однако на самом деле всегда следует спрашивать, а что бы произошло, если бы все так поступали? От этой беспокоящей мысли можно уйти, лишь проявив некоторую нечестность. Тот, кто лжет, оправдываясь тем, что все так поступают, – не в ладах с совестью, так как факт лжи означает, что лжи придается значение универсальной ценности. Тревога есть, даже если ее скрывают. Это та тревога, которую Кьеркегор называл тревогой Авраама. Вы знаете эту историю. Ангел приказал Аврааму принести в жертву сына. Хорошо, если это на самом деле был ангел, который пришел и сказал: ты – Авраам и ты пожертвуешь своим сыном. Но каждый вправе спросить: действительно ли это ангел и действительно ли я Авраам? Где доказательства? У одной сумасшедшей были галлюцинации: с ней говорили по телефону и отдавали приказания. На вопрос врача «Кто же с вами разговаривает?» она ответила: «Он говорит, что он бог». Но что же служило ей доказательством, что это был бог? Если мне явится ангел, то откуда я узнаю, что это и на самом деле ангел? И если я услышу голоса, то что докажет, что они доносятся с небес, а не из ада или подсознания, что это не следствие патологического состояния? Что докажет, что они обращены именно ко мне? Действительно ли я предназначен для того, чтобы навязать человечеству мою концепцию человека и мой выбор? У меня никогда не будет никакого доказательства, мне не будет дано никакого знамения, чтобы в этом убедиться. Если я услышу голос, то только мне решать, является ли он гласом ангела. Если я сочту данный поступок благим, то именно я, а не кто-то другой, решаю, что этот поступок благой, а не злой. Мне вовсе не обязательно быть Авраамом, и тем не менее на каждом шагу я вынужден совершать поступки, служащие примером для других. Для каждого человека все происходит так, как будто взоры всего человечества обращены к нему и будто все сообразуют свои действия с его поступками. И каждый человек должен себе сказать: действительно ли я имею право действовать так, чтобы человечество брало пример с моих поступков? Если же он не говорит себе этого, значит, скрывает от себя свою тревогу. Речь идет здесь не о том чувстве, которое ведет к квиетизму, к бездействию. Это – тревога, известная всем, кто брал на себя какую-либо ответственность. Когда, например, военачальник берет на себя ответственность, отдавая приказ об атаке и посылая людей на смерть, то, значит, он решается это сделать и, в сущности, принимает решение один. Конечно, имеются приказы свыше, но они слишком общи и требуют конкретного истолкования. Это истолкование исходит от него, и от этого истолкования зависит жизнь десяти, четырнадцати или двадцати человек. Принимая решение, он не может не испытывать какого-то чувства тревоги. Такая тревога знакома всем руководителям. Однако она не мешает им действовать, наоборот, составляет условие действия, так как предполагает, что рассматривается множество различных возможностей. И когда они выбирают одну, то понимают, что она имеет ценность именно потому, что она выбрана. Эта тревога, о которой толкует экзистенциализм, объясняется, кроме того, прямой ответственностью за других людей. Это не барьер, отделяющий нас от действия, но часть самого действия.
Говоря о «заброшенности» (излюбленное выражение Хайдеггера), мы хотим сказать только то, что бога нет и что отсюда необходимо сделать все выводы. Экзистенциализм противостоит той распространенной светской морали, которая желает избавиться от бога с минимальными издержками. Когда около 1880 года некоторые французские профессора пытались выработать светскую мораль, они заявляли примерно следующее: «Бог – бесполезная и дорогостоящая гипотеза, и мы ее отбрасываем. Однако для того, чтобы существовала мораль, общество, мир культуры, необходимо, чтобы некоторые ценности принимались всерьез и считались существующими a priori. Необходимость быть честным, не лгать, не бить жену, иметь детей и т. д. должна признаваться априорно. Следовательно, нужно еще немного поработать, чтобы показать, что ценности все же существуют как скрижали в умопостигаемом мире, даже если бога нет. Иначе говоря, ничто не меняется, если бога нет; и это – умонастроение всего того, что во Франции называют радикализмом. Мы сохраним те же нормы честности, прогресса, гуманности; только бог превратится в устаревшую гипотезу, которая спокойно, сама собой отомрет. Экзистенциалисты, напротив, обеспокоены отсутствием бога, так как вместе с богом исчезает всякая возможность найти какие-либо ценности в умопостигаемом мире. Не может быть больше блага a priori, так как нет бесконечного и совершенного разума, который бы его мыслил. И нигде не записано, что благо существует, что нужно быть честным, что нельзя лгать; и это именно потому, что мы находимся на равнине и на этой равнине живут одни только люди.
Достоевский как-то писал, что «если бога нет, то все дозволено». Это – исходный пункт экзистенциализма. В самом деле, все дозволено, если бога не существует, а потому человек заброшен, ему не на что опереться ни в себе, ни вовне. Прежде всего у него нет оправданий. Действительно, если существование предшествует сущности, то ссылкой на раз навсегда данную человеческую природу ничего нельзя объяснить. Иначе говоря, нет детерминизма, человек свободен, человек – это свобода.
С другой стороны, если бога нет, мы не имеем перед собой никаких моральных ценностей или предписаний, которые оправдывали бы наши поступки. Таким образом, ни за собой, ни перед собой – в светлом царстве ценностей – у нас не имеется ни оправданий, ни извинений. Мы одиноки, и нам нет извинений. Это и есть то, что я выражаю словами: человек осужден быть свободным. Осужден, потому что не сам себя создал, и все-таки свободен, потому что, однажды брошенный в мир, отвечает за все, что делает. Экзистенциалист не верит во всесилие страсти. Он никогда не станет утверждать, что благородная страсть – это всесокрушающий поток, который неумолимо толкает человека на совершение определенных поступков и поэтому может служить извинением. Он полагает, что человек ответствен за свои страсти. Экзистенциалист не считает также, что человек может получить на Земле помощь в виде какого-то знака, данного ему как ориентир. По его мнению, человек сам расшифровывает знамения, причем так, как ему вздумается. Он считает, следовательно, что человек, не имея никакой поддержки и помощи, осужден всякий раз изобретать человека. В одной своей замечательной статье Понж писал: «Человек – это будущее человека». И это совершенно правильно. Но совершенно неправильно понимать это таким образом, что будущее предначертано свыше и известно богу, так как в подобном случае это уже не будущее. Понимать это выражение следует в том смысле, что, каким бы ни был человек, впереди его всегда ожидает неизведанное будущее.
Но это означает, что человек заброшен. Чтобы пояснить на примере, что такое заброшенность, я сошлюсь на историю с одним из моих учеников <…>. Его отец поссорился с его матерью; кроме того, отец склонялся к сотрудничеству с оккупантами. Старший брат был убит во время наступления немцев в 1940 году. И этот юноша с несколько примитивными, но благородными чувствами хотел за него отомстить. Мать, очень опечаленная полуизменой мужа и смертью старшего сына, видела в нем единственное утешение. Перед юношей стоял выбор: уехать в Англию и поступить в вооруженные силы «Сражающейся Франции», что значило покинуть мать, или же остаться и помогать ей. Он хорошо понимал, что мать живет им одним и что его уход, а возможно и смерть, ввергнет ее в полное отчаяние. Вместе с тем он сознавал, что в отношении матери каждое его действие имеет положительный, конкретный результат в том смысле, что помогает ей жить, тогда как каждое его действие, предпринятое для того, чтобы отправиться сражаться, неопределенно, двусмысленно, может не оставить никакого следа и не принести ни малейшей пользы: например, по пути в Англию, проезжая через Испанию, он может на бесконечно долгое время застрять в каком-нибудь испанском лагере, может, приехав в Англию или в Алжир, попасть в штаб писарем. Следовательно, перед ним были два совершенно различных типа действия, либо конкретные и немедленные действия, но обращенные только к одному человеку, либо действия, направленные на несравненно более широкое общественное целое, на всю нацию, но именно по этой причине имеющие неопределенный, двусмысленный характер и, возможно, безрезультатные.
Одновременно он колебался между двумя типами морали. С одной стороны, мораль симпатии, личной преданности, с другой стороны, мораль более широкая, но, может быть, менее действенная. Нужно было выбрать одну из двух. Кто мог помочь ему сделать этот выбор? Христианское учение? Нет. Христианское учение говорит: будьте милосердны, любите ближнего, жертвуйте собою ради других, выбирайте самый трудный путь и т. д. Но какой из этих путей самый трудный? Кого нужно возлюбить как ближнего своего: воина или мать? Как принести больше пользы: сражаясь вместе с другими – польза не вполне определенная или же – вполне определенная польза – помогая жить конкретному существу? Кто может решать здесь a priori? Никто. Никакая писаная мораль не может дать ответ. Кантианская мораль гласит: никогда не рассматривайте других людей как средство, но лишь как цель. Прекрасно. Если я останусь с матерью, я буду видеть в ней цель, а не средство. Но тем самым я рискую видеть средство в тех людях, которые сражаются. И наоборот, если я присоединюсь к сражающимся, то буду рассматривать их как цель, но тем самым рискую видеть средство в собственной матери.
Если ценности неопределенны и если все они слишком широки для того конкретного случая, который мы рассматриваем, нам остается довериться инстинктам. Это и попытался сделать молодой человек. Когда я встретился с ним, он сказал: «В сущности, главное – чувство. Мне следует выбрать то, что меня действительно толкает в определенном направлении. Если я почувствую, что достаточно люблю свою мать, чтобы пожертвовать ради нее всем остальным – жаждой мести, жаждой действия, приключений, то я останусь с ней. Если же, наоборот, я почувствую, что моя любовь к матери недостаточна, тогда мне надо будет уехать». Но как определить значимость чувства? В чем значимость его чувства к матери? Именно в том, что он остается ради нее. Я могу сказать: «Я люблю своего приятеля достаточно сильно, чтобы пожертвовать ради него некоторой суммой денег». Но я могу сказать это в том случае, если это уже сделано мною. Я могу сказать «Я достаточно люблю свою мать, чтобы остаться с ней» в том случае, если я с ней остался. Я могу установить значимость данного чувства лишь тогда, когда уже совершил поступок, который утверждает и определяет значимость чувства. Если же мне хочется, чтобы чувство оправдало мой поступок, я попадаю в порочный круг.
С другой стороны, как хорошо сказал Андре Жид, чувство, которое изображают, и чувство, которое испытывают, почти неразличимы. Решить, что я люблю свою мать, и остаться с ней или же разыграть комедию, будто я остаюсь ради матери, – почти одно и то же. Иначе говоря, чувство создается поступками, которые мы совершаем. Я не могу, следовательно, обратиться к чувству, чтобы им руководствоваться. А это значит, что я не могу ни искать в самом себе такое истинное состояние, которое побудило бы меня к действию, ни требовать от какой-либо морали, чтобы она предписала, как мне действовать. Однако, возразите вы, ведь он же обратился за советом к преподавателю. Дело в том, что, когда вы идете за советом, например, к священнику, значит, вы выбрали этого священника и, в сущности, вы уже более или менее представляли себе, что он вам посоветует. Иными словами, выбрать советчика – это опять-таки решиться на что-то самому. Вот вам доказательство: если вы христианин, вы скажете: «Посоветуйтесь со священником». Но есть священники-коллаборационисты, священники-выжидатели, священники – участники движения Сопротивления. Так кого же выбрать? И если юноша останавливает свой выбор на священнике – участнике Сопротивления или священнике-коллаборационисте, то он уже решил, каким будет совет. Обращаясь ко мне, он знал мой ответ, а я могу сказать только одно: вы свободны, выбирайте, то есть изобретайте.
Никакая всеобщая мораль вам не укажет, что нужно делать; в мире нет знамений. Католики возразят, что знамения есть. Допустим, что так, но и в этом случае я сам решаю, каков их смысл. В плену я познакомился с одним примечательным человеком, иезуитом, вступившим в орден следующим образом. Он немало натерпелся в жизни: его отец умер, оставив семью в бедности; он жил на стипендию, получаемую в церковном учебном заведении, и ему постоянно давали понять, что он принят туда из милости; он не получал многих почетных наград, которые так любят дети. Позже, примерно в 18 лет, он потерпел неудачу в любви и, наконец, в 22 года провалился с военной подготовкой – факт сам по себе пустяковый, но явившийся именно той каплей, которая переполнила чашу. Этот юноша мог, следовательно, считать себя полным неудачником. Это было знамение, но в чем заключался его смысл? Мой знакомый мог погрузиться в скорбь или отчаяние, но достаточно здраво рассудил, что это – знак, указывающий на то, что он не создан для успехов на мирском поприще, что ему назначены успехи в делах религии, святости, веры. Он увидел, следовательно, в этом перст божий и вступил в орден. Разве решение относительно смысла знамения не было принято им самим, совершенно самостоятельно? Из этого ряда неудач можно было сделать совсем другой вывод: например, что лучше стать плотником или революционером. Следовательно, он несет полную ответственность за истолкование знамения. Заброшенность предполагает, что мы сами выбираем наше бытие. Заброшенность приходит вместе с тревогой.
Что касается отчаяния, то этот термин имеет чрезвычайно простой смысл. Он означает, что мы будем принимать во внимание лишь то, что зависит от нашей воли, или ту сумму вероятностей, которые делают возможным наше действие. Когда чего-нибудь хотят, всегда присутствует элемент вероятности. Я могу рассчитывать на то, что ко мне приедет друг. Этот друг приедет на поезде или на трамвае. И это предполагает, что поезд прибудет в назначенное время, а трамвай не сойдет с рельсов. Я остаюсь в области возможного; но полагаться на возможность следует лишь настолько, насколько наше действие допускает всю совокупность возможностей. Как только рассматриваемые мною возможности перестают строго соответствовать моим действиям, я должен перестать ими интересоваться, потому что никакой бог и никакое провидение не могут приспособить мир и его возможности к моей воле. В сущности, когда Декарт писал: «Побеждать скорее самого себя, чем мир», то этим он хотел сказать то же самое: действовать без надежды. Марксисты, с которыми я разговаривал, возражали: «В ваших действиях, которые, очевидно, будут ограничены вашей смертью, вы можете рассчитывать на поддержку со стороны других людей. Это значит рассчитывать, во-первых, на то, что другие люди сделают для помощи вам в другом месте – в Китае, в России, и в то же время на то, что они сделают позже, после вашей смерти, для того чтобы продолжить ваши действия и довести их до завершения, то есть до революции. Вы даже должны на это рассчитывать, иначе вам нет морального оправдания». Я же на это отвечаю, что я всегда буду рассчитывать на товарищей по борьбе в той мере, в какой они участвуют вместе со мной в общей конкретной борьбе, связаны единством партии или группировки, действие которой я более или менее могу контролировать, – я состою в ней, и мне известно все, что в ней делается. И вот при таких условиях рассчитывать на единство и на волю этой партии – это все равно что рассчитывать на то, что трамвай придет вовремя или что поезд не сойдет с рельсов. Но я не могу рассчитывать на людей, которых не знаю, основываясь на вере в человеческую доброту или заинтересованность человека в общественном благе. Ведь человек свободен, и нет никакой человеческой природы, на которой я мог бы основывать свои расчеты. Я не знаю, какая судьба ожидает русскую революцию.
Я могу лишь восхищаться ею и взять ее за образец в той мере, в какой я сегодня вижу, что пролетариат играет в России роль, какой он не играет ни в какой другой стране. Но я не могу утверждать, что революция обязательно приведет к победе пролетариата. Я должен ограничиваться тем, что вижу. Я не могу быть уверен, что товарищи по борьбе продолжат мою работу после моей смерти, чтобы довести ее до максимального совершенства, поскольку эти люди свободны и завтра будут сами решать, чем должен быть человек. Завтра, после моей смерти, одни, может быть, решат установить фашизм, а другие окажутся такими трусами, что позволят им это сделать. Тогда фашизм станет человеческой истиной; и тем хуже для нас. Действительность будет такой, какой ее определит сам человек.
Значит ли это, что я должен предаться бездействию? Нет. Сначала я должен решить, а затем действовать, руководствуясь старой формулой: «Нет нужды надеяться, чтобы что-то предпринимать». Это не означает, что мне не следует вступать в ту или иную партию. Просто я, не питая иллюзий, буду делать то, что смогу. Например, я задаюсь вопросом: осуществится ли обобществление как таковое? Я об этом ничего не знаю, знаю только, что сделаю все, что будет в моих силах, для того, чтобы оно осуществилось. Сверх этого я не могу ни на что рассчитывать.
Квиетизм – позиция людей, которые говорят: другие могут сделать то, чего не могу сделать я. Учение, которое я излагаю, прямо противоположно квиетизму, ибо оно утверждает, что реальность – в действии. Оно даже идет дальше и заявляет, что человек есть не что иное, как его проект самого себя. Человек существует лишь настолько, насколько себя осуществляет. Он представляет собой, следовательно, не что иное, как совокупность своих поступков, не что иное, как собственную жизнь. Отсюда понятно, почему наше учение внушает ужас некоторым людям. Ведь у них зачастую нет иного способа переносить собственную несостоятельность, как с помощью рассуждения: «Обстоятельства были против меня, я стою гораздо большего. Правда, у меня не было большой любви или большой дружбы, но это только потому, что я не встретил мужчину или женщину, которые были бы их достойны. Я не написал хороших книг, но это потому, что у меня не было досуга. У меня не было детей, которым я мог бы себя посвятить, но это потому, что я не нашел человека, с которым мог бы пройти по жизни. Во мне, стало быть, остаются в целости и сохранности множество неиспользованных способностей, склонностей и возможностей, которые придают мне значительно большую значимость, чем можно было бы судить только по моим поступкам». Однако в действительности, как считают экзистенциалисты, нет никакой любви, кроме той, что создает саму себя; нет никакой «возможной» любви, кроме той, которая в любви проявляется. Нет никакого гения, кроме того, который выражает себя в произведениях искусства. Гений Пруста – это произведения Пруста. Гений Расина – это ряд его трагедий, и кроме них ничего нет. Зачем говорить, что Расин мог бы написать еще одну трагедию, если он ее не написал? Человек живет своей жизнью, он создает свой облик, а вне этого облика ничего нет. Конечно, это может показаться жестоким для тех, кто не преуспел в жизни. Но, с другой стороны, надо, чтобы люди поняли, что в счет идет только реальность, что мечты, ожидания и надежды позволяют определить человека лишь как обманчивый сон, как рухнувшие надежды, как напрасные ожидания, то есть определить его отрицательно, а не положительно. Тем не менее, когда говорят: «Ты есть не что иное, как твоя жизнь», это не значит, что, например, о художнике будут судить исключительно по его произведениям; есть тысячи других вещей, которые его определяют. Мы хотим лишь сказать, что человек есть не что иное, как ряд его поступков, что он есть сумма, организация, совокупность отношений, из которых составляются эти поступки.
И в таком случае нас упрекают, по существу, не за пессимизм, а за упрямый оптимизм. Если нам ставят в упрек наши литературные произведения, в которых мы описываем вялых, слабых, трусливых, а иногда даже явно дурных людей, так это не только потому, что эти существа вялые, слабые, трусливые или дурные. Если бы мы заявили, как Золя, что они таковы по причине своей наследственности, в результате воздействия среды, общества, в силу определенной органической или психической обусловленности, люди бы успокоились и сказали: «Да, мы таковы, и с этим ничего не поделаешь». Но экзистенциалист, описывая труса, полагает, что этот трус ответствен за собственную трусость. <…> Он таков не вследствие своей физиологической организации, но потому, что сам сделал себя трусом своими поступками. Не бывает трусливого темперамента. Темпераменты бывают нервическими, слабыми <…>. Но слабый человек вовсе не обязательно трус, так как трусость возникает вследствие отречения или уступки. Темперамент – еще не действие. Трус определяется по совершенному поступку. То, что люди смутно чувствуют и что вызывает у них ужас, – это виновность самого труса в том, что он трус. Люди хотели бы, чтобы трусами или героями рождались.
Один из главных упреков в адрес моей книги «Дороги свободы» формулируется следующим образом: как можно делать героями столь дряблых людей? Это возражение несерьезно, оно предполагает, что люди рождаются героями. Собственно говоря, люди именно так и хотели бы думать: если вы родились трусом, то можете быть совершенно спокойны – вы не в силах ничего изменить и останетесь трусом на всю жизнь, что бы вы ни делали. Если вы родились героем, то также можете быть совершенно спокойны – вы останетесь героем всю жизнь <…>. Экзистенциалист же говорит: трус делает себя трусом и герой делает себя героем. Для труса всегда есть возможность больше не быть трусом, а для героя – перестать быть героем. Но в счет идет лишь полная решимость, а не частные случаи или отдельные действия – они не захватывают нас полностью.
Итак, мы ответили на ряд обвинений. Как видите, экзистенциализм нельзя рассматривать ни как философию квиетизма, ибо экзистенциализм определяет человека по его делам, ни как пессимистическое описание человека: на деле нет более оптимистического учения, поскольку судьба человека полагается в нем самом. Экзистенциализм – это не попытка отбить у человека охоту к действиям, ибо он говорит человеку, что надежда лишь в его действиях, и единственное, что позволяет человеку жить, – это действие. Следовательно, в этом плане мы имеем дело с моралью действия и решимости. Но на этом основании нас упрекают также и в том, что мы замуровываем человека в индивидуальной субъективности. И здесь нас понимают превратно.
Действительно, наш исходный пункт – это субъективность индивида, он обусловлен и причинами чисто философского порядка. Не потому, что мы буржуа, а потому, что мы хотим иметь учение, основывающееся на истине, а не на ряде прекрасных теорий, которые обнадеживают, не имея под собой реального основания. В исходной точке не может быть никакой другой истины, кроме: «Я мыслю, следовательно, существую». Это абсолютная истина сознания, постигающего самое себя. Любая теория, берущая человека вне этого момента, в котором он постигает себя, есть теория, упраздняющая истину, поскольку вне картезианского cogito все предметы лишь вероятны, а учение о вероятностях, не опирающееся на истину, низвергается в пропасть небытия. Чтобы определять вероятное, нужно обладать истинным. Следовательно, для того чтобы существовала хоть какая-нибудь истина, нужна истина абсолютная. Абсолютная истина проста, легко достижима и доступна всем, она схватывается непосредственно.
Далее, наша теория – единственная теория, придающая человеку достоинство, единственная теория, которая не делает из него объект. Всякий материализм ведет к рассмотрению людей, в том числе и себя самого, как предметов, то есть как совокупности определенных реакций, ничем не отличающейся от совокупности тех качеств и явлений, которые образуют стол, стул или камень. Что же касается нас, то мы именно и хотим создать царство человека как совокупность ценностей, отличную от материального царства. Но субъективность, постигаемая как истина, не является строго индивидуальной субъективностью, поскольку, как мы показали, в cogito человек открывает не только самого себя, но и других людей. В противоположность философии Декарта, в противоположность философии Канта, через «я мыслю» мы постигаем себя перед лицом другого, и другой так же достоверен для нас, как мы сами. Таким образом, человек, постигающий себя через cogito, непосредственно обнаруживает вместе с тем и всех других, и притом – как условие своего собственного существования. Он отдает себе отчет в том, что не может быть каким-нибудь (в том смысле, в каком про человека говорят, что он остроумен, зол или ревнив), если только другие не признают его таковым. Чтобы получить какую-либо истину о себе, я должен пройти через другого. Другой необходим для моего существования, так же, впрочем, как и для моего самопознания. При этих условиях обнаружение моего внутреннего мира открывает мне в то же время и другого как стоящую передо мной свободу, которая мыслит и желает «за» или «против» меня. Таким образом, открывается целый мир, который мы называем интерсубъективностью. В этом мире человек и решает, чем является он и чем являются другие.
Кроме того, если невозможно найти универсальную сущность, которая была бы человеческой природой, то все же существует некая общность условий человеческого существования. Не случайно современные мыслители чаще говорят об условиях человеческого существования, чем о человеческой природе. Под ними они понимают, с большей или меньшей степенью ясности, совокупность априорных пределов, которые очерчивают фундаментальную ситуацию человека в универсуме. Исторические ситуации меняются: человек может родиться рабом в языческом обществе, феодальным сеньором или пролетарием. Не изменяется лишь необходимость для него быть в мире, быть в нем за работой, быть в нем среди других и быть в нем смертным. Пределы не субъективны и не объективны, скорее они имеют объективную и субъективную стороны. Объективны они потому, что встречаются повсюду и повсюду могут быть опознаны. Субъективны потому, что переживаемы, они ничего не представляют собой, если не пережиты человеком, который свободно определяет себя в своем существовании по отношению к ним. И хотя проекты могут быть различными, ни один мне не чужд, потому что все они представляют собой попытку преодолеть пределы, или раздвинуть их, или не признать их, или приспособиться к ним. Следовательно, всякий проект, каким бы индивидуальным он ни был, обладает универсальной значимостью. <…> Любой проект универсален в том смысле, что понятен каждому. Это не означает, что данный проект определяет человека раз навсегда, а только то, что он может быть воспроизведен. Всегда можно понять идиота, ребенка, дикаря или иностранца, достаточно иметь необходимые сведения. В этом смысле мы можем говорить о всеобщности человека, которая, однако, не дана заранее, но постоянно созидается. Выбирая себя, я созидаю всеобщее. Я созидаю его, понимая проект любого другого человека, к какой бы эпохе он ни принадлежал. Эта абсолютность выбора не ликвидирует относительности каждой отдельной эпохи. Экзистенциализм и хочет показать эту связь между абсолютным характером свободного действия, посредством которого каждый человек реализует себя, реализуя в то же время определенный тип человечества, – действия, понятного любой эпохе и любому человеку, и относительностью культуры, которая может явиться следствием такого выбора. Необходимо отметить вместе с тем относительность картезианства и абсолютность картезианской позиции. Если хотите, в этом смысле каждый из нас существо абсолютное, когда он дышит, ест, спит или действует тем или иным образом. Нет никакой разницы между свободным бытием, бытием-проектом, существованием, выбирающим свою сущность, и абсолютным бытием. И нет никакой разницы между локализованным во времени абсолютным бытием, то есть расположенным в истории и универсально постижимым бытием.
Это, однако, не снимает полностью обвинения в субъективизме, которое выступает еще в нескольких формах. Во-первых, нам говорят: «Значит, вы можете делать что угодно». Это обвинение формулируют по-разному. Сначала нас записывают в анархисты, а потом заявляют: «Вы не можете судить других, так как не имеете оснований, чтобы предпочесть один проект другому». И, наконец, нам могут сказать: «Все произвольно в вашем выборе, вы отдаете одной рукой то, что вы якобы получили другой». Эти три возражения не слишком серьезны. Прежде всего первое возражение – «вы можете выбирать что угодно» – неточно. Выбор возможен в одном направлении, но невозможно не выбирать. Я всегда могу выбрать, но я должен знать, что даже в том случае, если ничего не выбираю, тем самым я все-таки выбираю. Хотя это обстоятельство и кажется сугубо формальным, однако оно чрезвычайно важно для ограничения фантазии и каприза. Если верно, что, находясь в какой-то ситуации, например в ситуации, определяющей меня как существо, наделенное полом, способное находиться в отношениях с существом другого пола и иметь детей, я вынужден выбрать какую-то позицию, то, во всяком случае, я несу ответственность за выбор, который, обязывая меня, обязывает в то же время все человечество. Даже если никакая априорная ценность не определяет моего выбора, он все же не имеет ничего общего с капризом. А если кое-кому кажется, что это – та же теория произвольного действия, что и у А. Жида, значит, они не видят громадного различия между экзистенциализмом и учением Жида. Жид не знает, что такое ситуация. Для него действия обусловлены простым капризом. Для нас, напротив, человек находится в организованной ситуации, которою живет, и своим выбором он заставляет жить ею все человечество, и он не может не выбирать: он или останется целомудренным, или женится, но не будет иметь детей, или женится и будет иметь детей. В любом случае, что бы он ни делал, он несет полную ответственность за решение этой проблемы. Конечно, он не ссылается, осуществляя выбор, на предустановленные ценности, но было бы несправедливо обвинять его в капризе. Моральный выбор можно сравнить скорее с созданием произведения искусства. Однако здесь надо сразу же оговориться, речь идет отнюдь не об эстетской морали, наши противники столь недобросовестны, что упрекают нас даже в этом. Пример взят мною лишь для сравнения. Итак, разве когда-нибудь упрекали художника, рисующего картину, за то, что он не руководствуется априорно установленными правилами? Разве когда-нибудь говорили, какую он должен нарисовать картину? Ясно, что нет картины, которая была бы определена до ее написания, что художник живет созданием своего произведения и что картина, которая должна быть нарисована, – это та картина, которую он нарисует. Ясно, что нет априорных эстетических ценностей, но есть ценности, которые проявятся потом – в связи отдельных элементов картины, в отношениях между волей к творчеству и результатом. Никто не может сказать, какой будет живопись завтра. О картинах можно судить, лишь когда они уже написаны. Какое отношение имеет это к морали? Здесь мы тоже оказываемся в ситуации творчества. Мы никогда не говорим о произвольности произведения искусства. Обсуждая полотно Пикассо, мы не говорим, что оно произвольно. Мы хорошо понимаем, что, рисуя, он созидает себя таким, каков он есть, что совокупность его произведений включается в его жизнь.
Так же обстоит дело и в морали. Общим между искусством и моралью является то, что в обоих случаях мы имеем творчество и изобретение. Мы не можем решить a priori, что надо делать. Мне кажется, я достаточно показал это на примере того молодого человека, который приходил ко мне за советом и который мог взывать к любой морали, кантианской или какой-либо еще, не находя там для себя никаких указаний. Он был вынужден изобрести для себя свой собственный закон. Мы никогда не скажем, что этот человек – решит ли он остаться со своей матерью, беря за основу морали чувства, индивидуальное действие и конкретное милосердие, или решит поехать в Англию, предпочитая жертвенность, – сделал произвольный выбор. Человек создает себя сам. Он не сотворен изначально, он творит себя, выбирая мораль, а давление обстоятельств таково, что он не может не выбрать какой-нибудь определенной морали. Мы определяем человека лишь в связи с его решением занять позицию. Поэтому бессмысленно упрекать нас в произвольности выбора.
Во-вторых, нам говорят, что мы не можем судить других. Это отчасти верно, а отчасти нет. Это верно в том смысле, что всякий раз, когда человек выбирает свою позицию и свой проект со всей искренностью и полной ясностью, каким бы ни был этот проект, ему невозможно предпочесть другой. Это верно в том смысле, что мы не верим в прогресс. Прогресс – это улучшение. Человек же всегда находится лицом к лицу с меняющейся ситуацией, и выбор всегда остается выбором в ситуации. Моральная проблема ничуть не изменилась с тех пор, когда надо было выбирать между сторонниками и противниками рабовладения во время войны между Севером и Югом, вплоть до сегодняшнего дня, когда нужно голосовать за МРП или за коммунистов.
Но тем не менее судить можно, поскольку, как я уже говорил, человек выбирает, в том числе выбирает и самого себя, перед лицом других людей. Прежде всего можно судить, какой выбор основан на заблуждении, а какой на истине (это может быть не оценочное, а логическое суждение). Можно судить о человеке, если он нечестен. Если мы определили ситуацию человека как свободный выбор, без оправданий и без опоры, то всякий человек, пытающийся оправдаться своими страстями или придумывающий детерминизм, нечестен. Могут возразить: «Но почему бы ему не выбирать себя нечестно?» Я отвечу, что не собираюсь судить с моральной точки зрения, а просто определяю нечестность как заблуждение. Здесь нельзя избежать суждения об истине. Нечестность – это, очевидно, ложь, ибо утаивает полную свободу действия. В том же смысле можно сказать, что выбор нечестен, если заявляется, будто ему предшествуют некие предсуществующие ценности. Я противоречу сам себе, если одновременно хочу их установить и заявляю, что они меня обязывают. Если мне скажут: «А если я хочу быть нечестным?» – я отвечу: «Нет никаких оснований, чтобы вы им не были, но я заявляю, что вы именно таковы, тогда как строгая последовательность характерна лишь для честности». Кроме того, можно высказать моральное суждение. В каждом конкретном случае свобода не может иметь другой цели, кроме самой себя, и если человек однажды признал, что, пребывая в заброшенности, сам устанавливает ценности, он может желать теперь только одного – свободы как основания всех ценностей. Это не означает, что он желает ее абстрактно. Это попросту означает, что действия честных людей имеют своей конечной целью поиски свободы как таковой. Человек, вступающий в коммунистический или революционный профсоюз, преследует конкретные цели. Эти цели предполагают наличие абстрактной воли к свободе. Но этой свободы желают в конкретном. Мы желаем свободы ради свободы в каждом отдельном случае. Но, стремясь к свободе, мы обнаруживаем, что она целиком зависит от свободы других людей и что свобода других зависит от нашей свободы.
Конечно, свобода, как определение человека, не зависит от другого, но, как только начинается действие, я обязан желать вместе с моей свободой свободы других, я могу принимать в качестве цели мою свободу лишь в том случае, если поставлю своей целью также и свободу других. Следовательно, если с точки зрения полной аутентичности я признал, что человек – это существо, у которого существование предшествует сущности, что он есть существо свободное, которое может при различных обстоятельствах желать лишь своей свободы, я одновременно признал, что я могу желать и другим только свободы. Таким образом, во имя этой воли к свободе, предполагаемой самой свободой, я могу формулировать суждение о тех, кто стремится скрыть от себя полную беспричинность своего существования и свою полную свободу. Одних, скрывающих от себя свою полную свободу с помощью духа серьезности или ссылок на детерминизм, я назову трусами. Других, пытающихся доказать, что их существование необходимо, хотя даже появление человека на Земле является случайностью, я назову сволочью. Но трусов или сволочь можно судить лишь с точки зрения строгой аутентичности. Поэтому, хотя содержание морали и меняется, определенная форма этой морали универсальна. Кант заявляет, что свобода желает самой себя и свободы других. Согласен. Но он полагает, что формальное и всеобщее достаточны для конституирования морали. Мы же, напротив, думаем, что слишком отвлеченные принципы терпят крах при определении действия. Рассмотрим еще раз пример с этим учеником. Во имя чего, во имя какой великой максимы морали мог бы он, по-вашему, с полным спокойствием духа решиться покинуть мать или же остаться с ней. Об этом никак нельзя судить. Содержание всегда конкретно и, следовательно, непредсказуемо. Всегда имеет место изобретение. Важно только знать, делается ли данное изобретение во имя свободы.
Рассмотрим два конкретных примера. Вы увидите, в какой степени они согласуются друг с другом и в то же время различны. Возьмем «Мельницу на Флоссе». В этом произведении мы встречаем некую девушку по имени Мэгги Тулливер, которая является воплощением страсти и сознает это. Она влюблена в молодого человека – Стефана, который обручен с другой, ничем не примечательной девушкой. Мэгги Тулливер, вместо того чтобы легкомысленно предпочесть свое собственное счастье, решает во имя человеческой солидарности пожертвовать собой и отказаться от любимого человека. Наоборот, Сансеверина в «Пармской обители», считая, что страсть составляет истинную ценность человека, заявила бы, что большая любовь стоит всех жертв, что ее нужно предпочесть банальной супружеской любви, которая соединила бы Стефана и ту дурочку, на которой он собрался жениться. Она решила бы пожертвовать последней и добиться своего счастья. И, как показывает Стендаль, ради страсти она пожертвовала бы и собой, если того требует жизнь. Здесь перед нами две прямо противоположные морали. Но я полагаю, что они равноценны, ибо в обоих случаях целью является именно свобода. Вы можете представить себе две совершенно аналогичные по своим следствиям картины. Одна девушка предпочитает покорно отказаться от любви, другая – под влиянием полового влечения – предпочитает игнорировать прежние связи мужчины, которого любит. Внешне эти два случая напоминают только что описанные. И тем не менее они весьма от них отличаются. Сансеверина по своему отношению к жизни гораздо ближе к Мэгги Тулливер, чем к такой беззаботной алчности.
Таким образом, вы видите, что второе обвинение одновременно и истинно, и ложно. Выбирать можно все, что угодно, если речь идет о свободе решать.
Третье возражение сводится к следующему: «Вы получаете одной рукой то, что даете другой», то есть ваши ценности, в сущности, несерьезны, поскольку вы их сами выбираете. На это я с глубоким прискорбием отвечу, что так оно и есть; но уж если я ликвидировал бога-отца, то должен же кто-нибудь изобретать ценности. Нужно принимать вещи такими, как они есть. И, кроме того, сказать, что мы изобретаем ценности, – значит утверждать лишь то, что жизнь не имеет априорного смысла. Пока вы не живете своей жизнью, она ничего собой не представляет, вы сами должны придать ей смысл, а ценность есть не что иное, как этот выбираемый вами смысл. Тем самым вы обнаруживаете, что есть возможность создать человеческое сообщество.
Меня упрекали за сам вопрос: является ли экзистенциализм гуманизмом. Мне говорили: «Ведь вы же писали в "Тошноте", что гуманисты не правы, вы надсмеялись над определенным типом гуманизма, зачем теперь к нему возвращаться?» Действительно, слово «гуманизм» имеет два совершенно различных смысла. Под гуманизмом можно понимать теорию, которая рассматривает человека как цель и высшую ценность. Подобного рода гуманизм имеется у Кокто, например, в его рассказе «В 80 часов вокруг света», где один из героев, пролетая на самолете над горами, восклицает: «Человек поразителен!» Это означает, что лично я, не принимавший участия в создании самолетов, могу воспользоваться плодами этих изобретений и что я – как человек – могу относить на свой счет и ответственность, и почести за действия, совершенные другими людьми. Это означало бы, что мы можем оценивать человека по наиболее выдающимся действиям некоторых людей. Такой гуманизм абсурден, ибо только собака или лошадь могла бы дать общую характеристику человеку и заявить, что человек поразителен, чего они, кстати, вовсе не собираются делать <…>. Но нельзя признать, чтобы о человеке мог судить человек. Экзистенциализм освобождает его от всех суждений подобного рода. Экзистенциалист никогда не рассматривает человека как цель, так как человек всегда незавершен. И мы не обязаны думать, что есть какое-то человечество, которому можно поклоняться на манер Огюста Конта. Культ человечества приводит к замкнутому гуманизму Конта и – стоит сказать – к фашизму. Такой гуманизм нам не нужен.
Но гуманизм можно понимать и в другом смысле. Человек находится постоянно вне самого себя. Именно проектируя себя и теряя себя вовне, он существует как человек. С другой стороны, он может существовать, только преследуя трансцендентные цели. Будучи этим выходом за пределы, улавливая объекты лишь в связи с этим преодолением самого себя, он находится в сердцевине, в центре этого выхода за собственные пределы. Нет никакого другого мира, помимо человеческого мира, мира человеческой субъективности. Эта связь конституирующей человека трансцендентности (не в том смысле, в каком трансцендентен бог, а в смысле выхода за свои пределы) и субъективности – в том смысле, что человек не замкнут в себе, а всегда присутствует в человеческом мире, – и есть то, что мы называем экзистенциалистским гуманизмом. Это гуманизм, поскольку мы напоминаем человеку, что нет другого законодателя, кроме него самого, в заброшенности он будет решать свою судьбу; поскольку мы показываем, что реализовать себя по-человечески человек может не путем погружения в самого себя, но в поиске цели вовне, которой может быть освобождение или еще какое-нибудь конкретное самоосуществление.
Из этих рассуждений видно, что нет ничего несправедливее выдвинутых против нас возражений. Экзистенциализм – это не что иное, как попытка сделать все выводы из последовательного атеизма. Он вовсе не пытается ввергнуть человека в отчаяние. Но если отчаянием называть, как это делают христиане, всякое неверие, тогда именно первородное отчаяние – его исходный пункт. Экзистенциализм – не такой атеизм, который растрачивает себя на доказательства того, что бог не существует. Скорее он заявляет следующее: даже если бы бог существовал, это ничего бы не изменило. Такова наша точка зрения. Это не значит, что мы верим в существование бога, – просто суть дела не в том, существует ли бог. Человек должен обрести себя и убедиться, что ничто не может его спасти от себя самого, даже достоверное доказательство существования бога. В этом смысле экзистенциализм – это оптимизм, учение о действии. И только вследствие нечестности, путая свое собственное отчаяние с нашим, христиане могут называть нас отчаявшимися.
Цит. по: Сумерки богов. М.: Политиздат, 1989. С. 319–344.
Тадеуш Боровский ПРОЩАНИЕ С МАРИЕЙ Рассказ
I
За столом, за телефоном, за стопкой канцелярских книг – окно и дверь. В двери два зеркальных стекла, отливающих ночной чернотой. За окном небо, затянутое набухшими тучами, которые ветер гонит к северу, за стены сгоревшего дома.
Сгоревший дом чернеет на другой стороне улицы, напротив калитки, за защитной решеткой, увенчанной серебристой колючей проволокой, по которой, как звук по струне, скользит фиолетовый отблеск мерцающего уличного фонаря. На фоне хмурого неба, справа от дома, окутанное молочными клубами паровозного дыма, высится безлистное дерево, неподвижное, несмотря на ветер. Груженые товарные вагоны минуют его и с грохотом мчатся на фронт.
Мария подняла голову, оторвавшись от книги. Полоса тени лежала на ее лбу и глазах, сползала по щекам, как прозрачная шаль. Она положила руки на лампочку-грибок, стоявшую среди пустых бутылок, тарелок с недоеденным салатом, пузатых ярко-красных рюмок на синих подставках. Резкий свет, преломляясь на краях предметов, впитывался, словно в ковер, в сизый дым, застилавший комнату, отражался в хрупких ломких гранях стекла и мерцал внутри рюмок, как золотой лист на ветру, – и вдруг вспыхнул в ее ладонях, которые розовым куполом плотно сомкнулись над ним. Лишь едва заметно пульсировали ярко розовые полоски между пальцами. Комнатка наполнилась уютным сумраком, стеклась к ладоням, уменьшилась до размеров раковины.
– Смотри, нет границы между светом и тенью, – шепнула Мария. – Тень, как прилив, подползает к ногам, окутывает нас, сужает мир: в нем только ты да я.
Я наклонился к ее губам, к маленьким трещинкам, спрятанным в уголках рта.
– Ты пульсируешь, словно дерево соком, – сказал я шутливо, отмахиваясь головой от назойливого пьяного шума. – Берегись, как бы жизнь тебя хорошенько не стукнула.
Мария приоткрыла губы. Между зубов легонько дрожал темный кончик языка: она улыбнулась. Затем крепче сжала пальцы вокруг грибка, и блеск, таившийся на дне ее зрачков, потускнел и погас.
– Поэзия! Мне это так же недоступно, как слышать форму или осязать звук. – Мария задумчиво откинулась на спинку кушетки. В полутени красный, облегающий свитер набрал пурпурной сочности, а на складках в скользящем свете пушисто вспыхивал кармином. – Но только поэзия способна верно отобразить человека. Я имею в виду: человека во всей полноте.
Я щелкнул пальцами по стеклу рюмки, она отозвалась робким коротким звоном.
– Не знаю, Мария. – Я с сомнением пожал плечами. – По-моему, мерой поэзии, а быть может и религии тоже, является рожденная ими любовь человека к человеку. Это самый объективный критерий.
– Любовь, конечно, любовь! – жмурясь, сказала Мария.
За окном, за сгоревшим домом, по широкой, разделенной сквером улице с грохотом проносились трамваи. Электрические вспышки озаряли фиолетовую темноту неба, словно синие сполохи магнезии, они пробивали мрак, заливали лунным светом дом, улицу и ворота, коснувшись черных оконных стекол, стекали по ним и бесшумно гасли. Вслед за ними гасло и высокое, тонкое пение трамвайных рельсов.
За дверью, в соседней комнате, снова завели патефон. Сдавленная, словно исполняемая на гребенке, мелодия терялась в назойливом шарканье ног и в гортанном смехе девушек.
– Вот видишь, Мария, кроме нас существует еще и другой мир, – засмеялся я, поднимаясь с кушетки. – Так-то. Если б можно было понимать весь мир, видеть весь мир, как понимаешь свои мысли, ощущаешь свой голод, как видишь окно, ворота за окном и тучи над воротами, если б можно было видеть все одновременно в законченном виде, тогда, – сказал я задумчиво, обойдя кушетку и встав у горячей печки, между Марией, майоликовыми плитками и мешком картошки, заготовленной на зиму, – тогда любовь была бы не только мерой всех вещей, но и их конечной инстанцией. Увы, мы обречены на экспериментирование, на одинокие, обманчивые переживания. Какая же это неполная, какая ложная мера вещей!
Дверь, ведущая в комнату с патефоном, открылась. Пошатываясь в такт музыке, вошел Томаш под руку с женой. Ее округлившийся, как у беременных, но не растущий более живот вызывал неизменное любопытство друзей. Томаш подошел к столу и наклонился над ним, покачивая своей лобастой, круглой, массивной, как у быка, башкой.
– Плохо стараешься, водки нету, – сказал он с мягким укором, внимательно осмотрев посуду, и, увлекаемый женой, прошествовал к выходу. Он рассматривал ее тупым взглядом, как картину. Говорили, это у него профессиональная привычка – он торговал подделками под Коро, Ноаковского, Панкевича. Кроме того, он был редактором синдикалистского журнала и считал себя крайне левым. Они вышли на скрипящий снег. Клубы морозного пара покатились по полу, словно ворсистые мотки белой шерсти.
Вслед за Томашем в контору величественно вплыли танцующие пары, сонно закружились вокруг стола, майолики и картофеля, старательно обходя подтеки у окна, и, оставив красные следы от свежей мастики, вернулись, откуда пришли. Мария вскочила из-за стола, машинально поправила прическу и сказала:
– Тадеуш, мне пора. Начальник просил начинать пораньше.
– У тебя еще не меньше часа, – возразил я.
Круглые конторские часы с помятым железным циферблатом мерно тикали, подвешенные на длинной веревке между полусвернутым плакатом, карандашным рисунком фантастического горизонта и наброском углем, изображающим замочную скважину, сквозь которую виден фрагмент кубистской спальни.
– Пойду возьму Шекспира. Постараюсь за ночь подготовить «Гамлета», ведь во вторник занятия.
Войдя в другую комнату, она присела на корточки у книжной полки. Полка была грубо сколочена из неструганых досок. Под тяжестью книг доски прогибались. В воздухе плыли голубые и белые струйки дыма, стоял тяжелый запах водки, смешанный с вонью человеческого пота и известковым духом сырых гниющих стен. На них качались, как белье на ветру, ярко раскрашенные листы ватмана, просвечивающие сквозь голубую дымку, словно морское дно, цветными линиями медуз и кораллов. В черном окне, отгороженный стеклом от ночи, путаясь в тонком кружеве занавески, добытой за бесценок у железнодорожной воровки, грустный пьяный скрипач (считавший себя импотентом) тщательно пытался стонами своего инструмента заглушить хрип патефона. Согнувшись, словно под мешком цемента, он с угрюмым ожесточением извлекал из скрипки один-единственный пассаж – готовился к воскресному музыкально-поэтическому вечеру. Выступал он там вымытый, в выходном костюме в полоску, лицо у него было меланхолическое, глаза сонные, как будто ноты он читал в воздухе.
На столе, на скатерти с красными цветами, добытой у железнодорожной воровки, среди рюмок, книг и надкусанных бутербродов красовались голые и грязные ноги Аполония. Аполоний покачивался на табуретке и, повернувшись к деревянному, побеленному известкой для защиты от клопов, топчану, на котором, как рыбы, задыхающиеся на песке, лежали полупьяные люди, говорил громким голосом:
– Разве Иисус Христос был бы хорошим солдатом? Нет, скорее дезертиром. Во всяком случае, первые христиане убегали из армии. Не хотели противиться злу.
– Я противлюсь злу, – сказал лениво Петр. Он лежал развалившись, между двумя неряшливыми девицами, запустив пальцы в их прически. – И потому сними ноги со стола или вымой их.
– Вымой ноги, Полек, – поддержала его девица, лежавшая у стены. У нее были толстые, рыхлые бедра и красные, мясистые губы.
– Ну да! Еще чего! Знаете, было такое племя, вандалы, очень трусливое, – продолжал Аполоний, пяткой сдвигая тарелки в одну кучу, – все их били и не то из Дании, не то из Венгрии выгнали в Испанию. Там вандалы сели на корабли, поплыли в Африку и пешком подошли к Карфагену, где епископом был святой Августин.
– И тогда святой выехал на осле и обратил вандалов в христианскую веру, – сказал из-под печки молодой человек, попыхивая трубкой. Он надул пухлые, персиковые щеки, покрытые золотистым пушком. Под глазами у него были громадные синяки. Он был пианистом и уже довольно давно жил с пианисткой, у которой были прелестные ямочки на щечках и хищный, страстный взгляд. Летом мы крестили его (ввиду его опасного вероисповедания) при зажженных свечах, с охапками цветов и полным тазом холодной святой воды, в которой предусмотрительный ксендз тщательно вымыл ему голову, а сразу же после крестин, в самом людном месте Груецкой улицы, мы едва спаслись от облавы. Поженились пианисты не скоро, только поздней зимой. Родители не давали своего благословения, считая брак неравным. В конце концов они, правда, уступили, предоставили молодым комнату для жилья, пианино для занятий и кухню для производства самогона, но не пожелали пригласить друзей на свадьбу, и тогда друзья сами устроили свадьбу. Невеста, в негнущемся голубом платье, сидела в кресле неподвижно, будто аршин проглотила. Она была сонная, уставшая и пьяная.
– Хорошо здесь у вас, очень хорошо, знаешь? – еврейка, которая бежала из гетто и осталась сегодня без ночлега, встала на колени у книжной полки рядом с Марией и обняла ее. – Странно, я уже так давно не держала в руках зубной щетки, бутерброда, чашки чая, книги. Знаете, это трудно передать. И постоянное сознание, что надо уходить. Мне смертельно страшно!
Мария молча погладила ее по птичьей головке, украшенной блестящими волнами прилизанных волос.
– Ведь вы были певицей? И наверное, ни в чем не нуждались.
На ней было желтое цветастое платье с вызывающим декольте, из которого кокетливо выглядывало кремовое кружево комбинации. На длинной цепочке болтался между грудей золотой крестик.
– Нуждалась? Нет, не нуждалась, – в ее влажных, коровьих глазах мелькнуло удивление. У нее были широкие, способствующие деторождению бедра. – Знаете, с артистками даже немцы иначе. – Она замолчала, бездумно уставившись на книги. – Платон, Фома Аквинский, Монтень. – Она трогала ярко-красным крашеным ногтем истрепанные корешки книг, купленных на лотках и украденных у букинистов. – Но если бы вы видели то, что я видела в гетто.
– Августин написал шестьдесят три книги! Когда вандалы осадили Карфаген, он как раз трудился над корректурой и за этим занятием умер! – с маниакальным упорством продолжал Аполоний. – От вандалов ничего не осталось, а Августина читают по сей день. Ergo – война кончится, а поэзия останется, и вместе с ней останутся мои завитушки.
Под потолком сохли на веревках обложки поэтического сборника. Они сильно пахли типографской краской. Свет проникал сквозь черные и красные листы оберточной бумаги и блуждал среди страниц, как в лесной чаще. Обложки шуршали, как сухие листья.
Еврейка подошла к патефону и сменила пластинку.
– Я думаю, на арийской стороне тоже будет гетто, – сказала она, косясь на Марию. – Только из него уже некуда будет бежать.
Подошел Петр и повел ее танцевать.
– Она нервничает, – тихо сказала Мария. – Вся ее семья осталась в гетто.
Иголка попала на трещинку в пластинке и монотонно заныла. В дверях появился разрумяненный с мороза Томаш. Его жена одернула платье на выпуклом животе.
«Конской мордой еще не разогнаны две последние мрачные тучи», – продекламировал он и, показывая рукой за окно, крикнул с чувством: – Конь, конь!
В круге золотистого света, падающего из двери, ослепительно белый и гладкий снег лежал, будто тарелка на пепельной скатерти, дальше, в тени, он серел и синел, словно отражая небо, и лишь у калитки искрился в блеске уличного фонаря. Нагруженная доверху, будто воз с сеном, подвода неподвижно высилась в темноте. Красный фонарь покачивался под колесами, отбрасывая на снег зыбкие тени, освещая ноги и живот лошади, казавшейся выше и крупнее обычного. Кожа точно дышала – от нее валил пар. Лошадь стояла, понурив голову от усталости.
Возчик топтался у телеги в терпеливом ожидании, хлопая себя по груди ладонями. Когда мы с Томашем отворили ворота, он неторопливо взял в руку кнут, взмахнул вожжами и причмокнул. Лошадь вскинула голову, дернулась изо всех сил, но телега не сдвинулась с места. Передние колеса застряли в сточной канаве.
– Бери ее, стерву, под уздцы и подай назад, – сказал я со знанием дела. – Сейчас доску подложу.
– Наза-а-ад! – заорал возчик, навалясь на оглоблю. Жандарм в голубом плаще, охраняющий соседнее здание бывшей городской школы, набитое, как тюрьма, «добровольцами», отправляемыми на работу в Пруссию, подошел со стороны фонаря, тупо стуча подкованными сапогами по плитам тротуара. На груди к портупее у него был подвешен фонарик. Жандарм нажал кнопку и любезно посветил нам.
– Слишком много барахла нагрузили, – заметил он деловито. Из-под шлема, из глубокой тени, его глаза под полосой света блеснули, как у волка. Он каждое утро приходил к нам в контору вызвать себе по телефону сменщика и неизменно докладывал, что за ночь ничего существенного не произошло.
Лошадь всхрапнула, уперлась задними ногами в землю, всем корпусом подалась назад, и подвода сдвинулась с места. Теперь лошадь потянула ее по булыжнику вперед. Телега, нагруженная горой чемоданов, узлов, мебели и громыхающей посуды, качаясь, въехала по доскам во двор. Жандарм выключил фонарик, одернул портупею и не спеша зашагал в сторону школы. Обычно он проходил мимо нее, шел дальше, до маленького костела (частично сожженного в сентябре тридцать девятого и бережно, упорно восстанавливаемого в течение всего сезона материалами нашей фирмы) и сворачивал у подгнившей стены приюта для безработных, который помещался в бывшем заводском цехе у самой железной дороги. Это был бойкий перевалочный пункт, через который текли непрерывным потоком, штабелями и поштучно, одеяла, отрезы, теплая одежда, носки, консервы, сервизы, занавески, скатерти, полотенца и всяческое другое добро, ворованное с товарных эшелонов, идущих на фронт, а также покупаемое у персонала санитарных поездов, которые, возвращаясь с фронта с продовольствием, ранеными, бельем, часами, деталями машин, мебелью и зерном, часто останавливались на станции, как у портового мола.
Возчик еще раз для острастки взмахнул кнутом, повернул лошадь и подъехал к деревянному сараю. Лошадь тяжело дышала, окутанная клубами пара. Когда возчик с грубоватой нежностью распряг ее, она еще с минуту постояла в оглоблях, словно собираясь с силами, затем медленно побрела к крану и ткнулась мордой в ведро. Выхлебав воду до дна, глотнула еще из второго ведра, затем, волоча за собой сбрую, двинулась к раскрытым воротам конюшни.
– Ну и привез же ты барахла, Олек, – заметил я, окинув взглядом содержимое телеги.
– Старуха велела все забирать, – ответил возчик. – Гляньте, я прихватил даже кухонные табуретки и полочки из ванной. Она все время над душой у меня стояла.
– Не боялась, средь бела дня?
– Зять получил для нее разрешение у своего приятеля, – сказал Олек. У него было худое, костлявое лицо, посиневшее от мороза. Он скинул шапку. Жесткие от извести волосы взлохматились над лбом.
– А дочь?
– С мужем осталась. Ругалась со старухой, что ей придется остаться еще на сутки. – Он поплевал на свои жилистые ладони, изъеденные цементом, известью, гипсом. – Ну, давайте разгружать. – Он залез на подводу, распустил веревки и начал подавать один за другим стульчики, вазы, подушки, корзины с бельем, старинные коробки, связки книг. Мы с Томашем подхватывали все это, тащили в затхлый, темный сарай и укладывали там на бетоне, между мешками с окаменевшим цементом, грудой воняющего смолой толя и кучей сухой извести, предназначенной для розничной продажи крестьянам. Едкая известковая пыль носилась в воздухе и щекотала ноздри. Томаш задыхался. У него было больное сердце.
– А чего это начальник взял к себе старуху? – спросил возчик, когда мы закончили разгрузку.
– Из благодарности. Она его вывела в люди. – Я закрыл дверь сарая и повесил замок.
– Благодарность – прекрасная вещь, – сказал Томаш, стараясь дышать ровно и глубоко втягивая воздух. Он очистил ладони снегом и вытер их о брюки.
– Да-а… намаялся я сегодня, – возчик слез с подводы, неуклюже двигаясь в своем жестком тулупе, покрытом коркой извести, смолы и дегтя. Он прислонился к телеге, облегченно шмыгнул носом и вытер лоб ладонью. – Ох, пан Тадек, чего я там нагляделся, если б вы знали! Тетки, детишки. Хотя и еврейские, а все одно.
– Выбрались-то благополучно?
– Инженер встретился нам по пути. Как бы хлопот не вышло?
– Да ну, – сказал я пренебрежительно. – Что нам могут сделать эти охламоны? Раз начальник намерен купить филиал, они не станут его задирать. Утром поедешь с товаром. Кубометр извести налево. К семи возвращайся.
– Да, да, с утра известь из ямы покидать придется. Пойду обряжу коня. – Он побрел вслед за лошадью в конюшню. Проходя мимо конторы, поклонился.
В золотистом круге света, точно в ореоле, точно в объятиях синей, мерцающей звездами ночи, стояла Мария. Она прикрыла за собой дверь, отгораживаясь от людей и музыки, и выжидающе глядела в темноту. Я отряхнул руки от пыли.
– А как завтра с розливом и развозкой? – Я взял ее под руку и по хрустящему, упругому снегу вытоптанной тропинкой повел к калитке. – Может, подождешь до обеда? Развезем вместе.
Мы стояли у открытой калитки. По пустынной улице, освещенной зыбким светом фонаря, тупо вышагивал охраняющий школу жандарм в голубой шинели. Над улицей, над светом фонаря, над круглой крышей вжавшегося в стенку сарая шумел ветер, разнося паровозный дым, плыли перистые облака, а над ветром и облаками дрожало небо, глубокое, как дно темного потока. Луна просвечивала сквозь тучи, словно горсть золотого песка.
Мария с нежностью улыбнулась.
– Ты прекрасно знаешь, что я развезу сама, – сказала она укоризненно, подставляя мне губы для поцелуя. Большая черная шляпа бросала тень на ее лицо. Мария была на полголовы выше меня. Я не любил целоваться с ней при посторонних.
– Видишь, ты, поэтический солипсист, на что способна любовь, – весело заметил Томаш. – Любовь значит самоотверженность. Я знаю это по собственному опыту, меня многие любили.
Сумерки, смазывающие все очертания, придавали ему грузность и массивность, и Томаш походил на большую, неотесанную глыбу. Родинка под левым глазом игриво чернела на монументальном, словно высеченном в сером песчанике, лице.
– Конечно, любовь! – беззаботно расхохоталась Мария и, церемонно поклонившись нам, пошла по улице вдоль решетки, навстречу тучам, которые ветер гнал у нас над головами. Она прошла мимо лавочки спекулянта, где я покупал хлеб и колбасу на завтрак, а крестьяне выкупали своих запертых в школе детей. Мария, не оглянувшись, свернула за угол и исчезла. Я глядел за нею еще несколько мгновений, словно ловя в воздухе ее следы.
– Любовь, конечно, любовь! – Я, улыбаясь, повернулся к Томашу.
– Дай возчику водки, если у тебя что-нибудь припрятано под кроватью, – сказал Томаш. – Пошли, надо брататься с народом.
II
Ночью выпал снег. Прежде чем я официально открыл ворота и дал сигнал к началу торговли, выпроводив пьяных гостей и убрав комнату, возчик, поднявшийся до рассвета, успел выбросить известь из ямы и отвезти ее на стройку, а вернувшись, распрячь лошадь и стереть следы колес. В этот ранний час на дворе еще было темновато, а на улице – пустынно. С железной дороги доносился грохот проезжающих составов. Фигура патрульного жандарма как-то посерела и сникла – откатившаяся волна мрака оставила его на опустевшей улице, словно забытую водоросль. В окнах бывшей школы начали мелькать лица пленников. В спекулянтской лавке, близ склада, грелись у раскаленной печки два полицая. Пьяно моргая красными глазами, лавочник дрожащими руками укладывал в витрине сыр, крупу, хлеб. Крестьянка вынимала из корзинки круги колбасы, исчезавшие под прилавком. Сквозь замерзшие стекла сочился тусклый рассвет. По ржавым решеткам стекали грязные капли, монотонно падали на подоконник и тоненькой струйкой лились на пол.
Летом, осенью, зимой и весной – мощенная булыжником, провонявшая гнилью открытых сточных канав улочка, затерявшаяся между полем, вязким, как разложившийся труп, и рядом ветхих одноэтажных домишек, где помещались прачечная, парикмахерская, хозяйственный магазинчик, несколько продовольственных лавок и заплеванная пивная – улочка эта изо дня в день наполнялась плотной, взбудораженной толпой, которая стекалась к бетонным стенам школы; все глаза устремлялись к модерновым окнам, к красной черепичной крыше, люди задирали головы, размахивали руками и кричали. Из раскрытых окон школы их звали, белыми ладонями подавали знаки – будто с отчаливающего от берега корабля. Сжатая, словно плотинами, двумя шеренгами полицаев толпа, отхлынув, плыла назад по улочке, докатывалась до площади в самом ее начале, откуда открывался живописный вид на речные отмели, покрытые островками ивняка и редкими лишаями снега, на мост, перекинутый над дымкой, под которой мерцала быстрина, на желтые, пастельные дома города, темные в чистом, спокойном, голубом небе – и, побурлив на площади, с криком возвращалась к школе.
Спекулянтская лавка была маленькой, тихой бухтой. За стаканом свекольного самогона полицаи братались у прилавка с крестьянами, торговали людьми, запертыми в школе. Ночью полицейские спускали «товар» через школьное окно, и он тотчас растворялся в закутках улицы или, в кровь раздирая ноги, перелезал через колючую проволоку во двор нашей строительной фирмы и болтался там до утра, потому что контора была, разумеется, закрыта. В основном это были девушки. Они беспомощно бродили по двору, пялились на кучи песка, груды глины, кубы кирпича, шлакоблоков, дерматина, залезали в сусеки с мраморной крошкой, разные оттенки и размеры которой использовались для лестниц и надгробий, и беззаботно оправлялись там. Проснувшись, я весьма альтруистично вышвыривал их за ворота, но прибыль от этих операций, кроме полицаев (и, вероятно, неприступного, чуждого прозаическим, житейским делам жандарма), доставалась исключительно соседу, лавочнику, впрочем, он не испытывал по отношению ко мне ни угрызений совести, ни благодарности. Я каждый день забегал к нему, чтобы купить четвертушку черного хлеба, сто граммов кровяной колбасы и двадцать граммов масла. Он, как правило, не довешивал, цену же здорово округлял. И, смущенно улыбаясь, дрожащей рукой сгребал деньги.
Да что говорить! Он не доливал сто граммов самогона, не довешивал десять граммов масла, резал хлеб на неровные ломтики и безжалостно выжимал из крестьян деньги за каждую выпущенную из школы деваху, потому что сам хотел жить, у него была жена, был сын во втором классе гимназии и дочь – ученица подпольного лицея, которая уже умела ценить красивые наряды, мальчишеские чары, вкус ученья и увлекательность конспирации; а наша строительная фирма продавала как крестьянам, так и инженерам мокрый алебастр, окаменевший цемент, разбавляла известь водой и подмешивала песок в мастику, а также, получая вагоны с товаром, обнаруживала, при молчаливом одобрении железнодорожного кладовщика, крупную недостачу, на которую немедленно оформляла акт. Казенный поставщик набирал в рот воды, поскольку у него были с фирмой сепаратные расчеты, не оформлявшиеся никакими актами.
Строительная фирма! Она, точно терпеливая дойная корова, кормила всех. Ее законный владелец – толстопузый Инженер с бородкой клинышком, в облегающем клетчатом жилете с брелоком, седой, как патриарх, и нервный, как гипертоник, удовлетворяя прихоти сына-эротомана и святоши жены, транжирящей уйму средств на нищих, костелы и монастыри, выжимал из фирмы даже в самое голодное время (когда мы ели очистки и пайковый хлеб с солью), как молоко из вымени, крупные деньги, расширил склады, арендовал территорию предприятия, сгоревшего в сентябре 39-го, и открыл там свой филиал, купил барскую пролетку, цуговую лошадь с подстриженным хвостом, нанял кучера, приобрел за полмиллиона имение близ Варшавы, правда, несколько запущенное, но пригодное для охоты (большой участок леса) и для налаживания производства (глиняный карьер); и наконец, на третьем году войны, повел успешные переговоры с правлением Германской Восточной железной дороги о покупке и расширении собственной железнодорожной ветки и строительстве около нее перевалочной базы.
Неплохо жилось и подчиненным Инженера. Правда, оккупационный закон запрещал заработки свыше 73 злотых в неделю, но Инженер платил своим людям по собственной инициативе около сотни, без каких-либо вычетов, отчислений и налогов. В экстренных случаях – как вывоз родных в лагерь, болезнь или взятка – он не отказывал в помощи. Вот уже три месяца он оплачивал мое обучение в подпольном университете, требуя лишь одного: чтобы я учился для блага Родины.
Мы, работники филиала, устраивались иначе. Возчики продавали известь на улице, привозя на стройку неполные кубометры. Делали левые ездки. Воровали на железной дороге. Я вначале выносил в корзине со склада мел и мастику и продавал в окрестных магазинах, потом, однако, сойдясь поближе с начальником, вошел с ним в компанию, мы поделили сферы деятельности и договорились насчет документации. Сообща мы занимались также производством самогона, который гнали за мой счёт у него на квартире. Уступив мне львиную долю дохода от розничной продажи, начальник занялся крупными делами, используя фирму как перевалочный пункт, а складской телефон как основной узел связи. Он понимал толк в золоте и драгоценностях, покупал и продавал мебель, был связан с квартирными маклерами и даже сам торговал жильем, знался с железнодорожными ворами и помогал им вступать в контакт с комиссионными магазинами, дружил с шоферами и продавцами автомобильных запчастей, вел оживленную торговлю с гетто. Однако занимался он всем этим со страхом, как бы через силу, вопреки собственным представлениям о добропорядочности и законности. И глубоко тосковал по безопасному довоенному времени. Он тогда работал кладовщиком в крупной еврейской фирме. Под бдительным оком хозяйки упорно выбивался в люди, приобрел спортивный автомобиль и, превратив его в такси, зарабатывал до трехсот злотых в день, за вычетом оплаты шофера. Вскоре купил за городом земельный участок рядом с автострадой, а за несколько месяцев до войны – второй участок, уже в городе. Он знал, что все его действия честны и законны, и жил, не зная ни забот, ни душевного смятения. От тех времен у него сохранились участки, валюта и глубокая привязанность к старухе – хозяйке.
Старуха сидела на месте Марии в ногах деревянного топчана. Лицо у нее было землистое, изможденное, пустое, как обезлюдевший город. На ней было черное шелковое платье, потертое и лоснящееся на локтях; на шее – широкая бархатная лента, а на голове старомодная, украшенная букетом фиалок шляпа, из-под которой выбивались пряди редких, седых волос. На коленях старуха держала аккуратно сложенное пальто с облезлым воротником. Все это было слишком бедно для предвоенной владелицы огромного склада строительных материалов с парком грузовых машин, десятками рабочих и собственной железнодорожной веткой, обладательницы неисчерпаемых счетов в польских и швейцарских банках; слишком бедно даже для собственницы подводы с багажом, ряда сложных счетных машин, сданных предусмотрительно на хранение в швейцарское консульство, не говоря уже о золоте и бриллиантах, которые – по представлениям арийского населения – любой еврей приносил с собой из гетто. Старуха была бедно одета, скромно сидела в углу. Подняв глаза, она смотрела на паутину над книжной полкой. Паук лез вверх, и паутина дрожала.
– Вы позвоните, Ясик? – обратилась она к начальнику после долгого молчания. Я с удивлением оторвал глаза от книги о средневековье и тогдашнем мракобесии. Старуха говорила шершавым шепотом, как если б терла камнем о камень. Шепот со свистом вырывался из горла вместе с дыханием. Два ряда массивных золотых зубов блестели во рту и, казалось, щелкнули, чуть ли не зазвенели. – Ведь они должны сообщить, придут ли. Правда? – Она смотрела на начальника выцветшими, безжизненными, будто замерзшими глазами.
– Нет, лучше подождем, – решительно ответил начальник. Он согрел дыханием кусок обледеневшего оконного стекла и сквозь образовавшееся отверстие, наклонив голову, посматривал на площадь, на открытые ворота, на улицу, где уже бурлила толпа, барабанил пальцами по оконной раме, ждал клиента. – Ведь директор обещал сам позвонить. Не сомневайтесь, он сегодня выйдет вместе с вашей дочкой.
– Это вы меня, Ясик, только успокаиваете. А вдруг им не удастся? – Она перевела взгляд с паутины на окно. Вцепилась увядшими, высохшими, скрюченными пальцами в желтый платок, словно собираясь сорвать его с плеч, затем беспомощно опустила руки.
– Ну что вы такое говорите? – начальник свистнул, погладил свои пышные, золотистые кудри, откинув их назад нетерпеливым жестом. Манжет его поплиновой сорочки сдвинулся при этом движении, открывая золотые часы «лонжин», продолговатые, выгнутые по форме руки, – память о блаженном времени в фирме старухи. – Что вам приходит в голову? Ваш зять, директор складов, может уйти в любой момент, когда захочет. Закончит дела, сунет бумажник в карман и – поминай как звали! Не о том вы беспокоитесь. – Он придвинул себе стульчик и сел, удобно вытянув ноги в высоких офицерских сапогах. – Вы лучше подумайте, где купить квартиру. Вы знаете, сколько просят? Пятьдесят тысяч! Хорошо, что я себе еще в первый год войны организовал крышу над головой, а то бы сейчас пришлось по чужим углам скитаться.
– Ну, вы, Ясик, не пропадете. – Старуха улыбнулась уголками губ.
– Да, слава богу, руки, ноги есть, соображаешь, где что урвать можно, да так и живешь! – Он наклонился ко мне: – Пан Тадек, ваша невеста сварила двадцать пять литров. Экономная девушка! Просто прелесть! И угля сожгла вдвое меньше. Работяга, ничего не скажешь!
– Она звонила, – буркнул я, не отрываясь от книги. – Поехала в город развозить самогон. Должна скоро вернуться.
Между печкой и вешалкой было темновато, но зато тепло. Разогретая спина приятно зудела. У меня шумело в голове, отрыгивалось водкой и яйцами. Книга о средневековых монастырях рождала сонные мысли о мрачных кельях, где, среди всеобщего мракобесия, кровавых междоусобиц, войн и пожарищ, работали над спасением человеческих душ.
– Ясик, а чемоданы в сохранности? – шепнула старуха глухо, как со дна колодца. – Знаете, в них теперь все, что у моей дочки осталось. Она такая беспомощная. Привыкла жить под маминым крылышком.
Греясь у печки, я смотрел на пол. Одеяло, свисавшее с топчана, не доставало до выкрашенных в красный цвет половиц, и из-под него видно было черную крышку «ремингтона». Я забрал пишущую машинку из сарая, чтобы она там не отсырела, и на всякий случай засунул ее под кровать.
– У нас все в сохранности, – начальник привычно потер ладони и взглянул на меня, – надежно, как в банке. Вы ведь меня знаете.
– А что если они меня здесь не найдут? Улочка маленькая и далеко от центра, – вдруг заволновалась старуха. – Я все же позвоню, – решила она и привстала.
– Вы что, спятили на старости лет? – рявкнул вдруг начальник и в гневе сощурил свои добрые, голубые глаза, почти полностью заслонив их белесыми ресницами. – Немцев вам здесь не хватает? Они же подслушивают! Звоните, если угодно, но только не отсюда. – Старуха испугалась и нахохлилась, как внезапно разбуженная сова. Она сложила руки на груди и машинально вертела в пальцах приколотую к платью брошь.
– А как вы сюда пробрались? – спросил я, чтобы разрядить обстановку.
Хлопнула дверь конторы. Клиент затопал ногами, сбивая снег с сапог. Начальник пнул ногой стул и вышел к нему навстречу. Старуха подняла на меня пустые глаза.
– Я двадцать семь раз была в уличной блокаде. Вы знаете, что такое блокада? Наверно, не очень? Ну, ничего, – прохрипела она взволнованно. – У нас был тайник за шкафом, в такой специальной нише. Двадцать человек! Маленькие дети научились, и, когда солдаты ходили, стучали прикладами в стены или стреляли, маленькие дети молчали и только глядели раскрыв глаза, представляете? Успеют они уйти?
Я подошел к книжной полке. Поставил книгу в отдел средних веков. Оглянулся на старуху:
– Кто, дети?
– Нет, нет, нет! Что дети! Зять и дочь выйдут ли? Зять в прекрасных отношениях со своим начальником, немцем. Вместе учились когда-то в университете в Гейдельберге.
– Почему он не ушел вместе с вами?
– У него там дела. Еще день, еще два… Там все кончается. Только и слышно: «Raus, raus, raus!» В домах пусто, на улице перо и пух, а людей вывозят, вывозят…
Она задохнулась и умолкла.
Из-за двери доносились резкие, спорящие голоса. Клиент договаривался с начальником о плате за доставку леса с разобранных домов гетто в Отвоцке, откуда вывезли евреев. Крейсгауптман продал их все оптом польскому предпринимателю. Скрипнула дверь, они ушли в лавку, чтобы скрепить сделку вином. Начальник вообще-то был непьющим, но в особо удачных случаях соглашался пропустить стаканчик.
– Я пойду посмотрю свои вещи, – сказала внезапно старуха, скинула пальто с колен и засеменила во двор.
Конторская служащая – маленькая тощая девица, удобно расположившаяся на кушетке и целыми днями читавшая бульварные романы, улыбнулась мне из-за стола. Ее прислал Инженер следить за кассой. По его расчетам получалось, что фирма дает слишком маленький доход. На вторую неделю ее работы в кассе не хватило тысячи злотых. Начальник покрыл недостачу из собственного кармана, а Инженер потерял к девице доверие. Она, впрочем, приходила в контору всего на несколько часов, ни разу не заглянула на склад, не умела отличить битумную мастику от простой, но зато с регулярностью почты доставляла мне подпольные газеты, украшенные гербом с изображением меча и плуга. Я завидовал ее тесному сотрудничеству с подпольем, ибо сам ограничивался размножением военных сводок, да и то больше как дилетант, а также чтением, сочинением стихов и выступлениями на поэтических утренниках.
– Ну, что старуха? Кучу мебели привезла? – иронически спросила девица. У нее была высокая, сбившаяся прическа.
– Каждый спасается как может.
– При помощи ближних. – Она язвительно улыбнулась. Ее тонкий нос на плохо напудренном лице блестел, как смазанный салом. – Ну, пан кладовщик, как стихи? Обложка высохла?
Начальник за руку привел старуху в контору. Зашел возчик погреться. Присел на корточки возле печки и, тяжело дыша, протянул к огню потрескавшиеся от мороза и ветра ладони. От его тулупа шел пар, воняло прелой кожей.
– На улицах жандармские фургоны, – сказал возчик. – Я был в управлении. Кругом пусто, даже страшно ехать. Говорят, как с евреями управятся, нас станут вывозить. И здесь их полно. Около церкви и у вокзала прямо в глазах рябит от жандармов.
– Вот это да! – фыркнула девица и в волнении встала из-за стола. Она шаркала ногами в слишком больших бурках, с бессознательным кокетством вертя костлявыми бедрами. – Как же я вернусь домой?
– Per pedes, – ответил я кисло и, накинув куртку, вышел из конторы. Резкий ветер со снегом ударил мне в лицо. Над ящиком с известью стоял, ритмично покачиваясь, рабочий. Притопывая от холода, он размешивал лопатой гашеную известь. Клубы белого пара, поднимаясь над бурлящим раствором, окутывали ему лицо. Он работал всю зиму напролет, готовясь к летнему сезону, и за день проворачивал на морозе до двух тонн сухой известки.
Ворота склада начальник прикрыл. Когда облава докатывалась до нашей улочки, мы запирали их на замок. Пьяные полицаи освобождали улицу от остатков толпы, уходившей в сторону полей. Немецкий жандарм, презиравший толпу и ее горести, но бдительно следивший за каждым жестом полицаев, равнодушно стучал коваными каблуками по мостовой. На площади, у стен домов, было еще многолюдно и шумно. Под окнами и подоконниками продавцы топали ногами в соломенных лаптях и хрипло орали над корзинами с булками, сигаретами, кровяной колбасой, пончиками, белым и черным хлебом. Казалось, что это трясется и кричит черная стена дома. В подворотнях взвешивали на самодельных весах парную свинину и поспешно разливали самогон. На площадке позади школы еще продолжалось гулянье. Карусель с единственным, обалдевшим ребенком на лошади медленно крутилась под звуки визгливой музыки. Пустые деревянные автомобили, велосипеды, лебеди с распростертыми крыльями мягко проплывали в воздухе, как на волнах. Рабочие, загороженные досками, тянули привод под каруселью. Около ярко раскрашенного тира и в зоологическом саду под шатром (где, как гласила поблекшая от снега афиша, должны были находиться крокодил, верблюд и волк) была безнадежная пустота. Несколько газетчиков, с пачками немецких газет под мышкой, нерешительно топтались у трамвайной остановки. Трамваи без пассажиров делали петлю вокруг площади и, громыхая, тащились вдоль бульвара. Деревья стояли заснеженные, сверкая на ярком солнце, словно вырезанные из ломкого хрусталя. Был обыкновенный базарный день.
В глубине улицы пространство замыкали глыбы домов и купы голых, отощавших деревьев. За виадуком, охраняемым проволочными заграждениями и таблицами с грозными надписями, окруженная цепью жандармов, бурлила толпа. Из толпы выныривали пузатые, крытые брезентом грузовики и, меся колесами снег, натужно тащились на мост. Вслед за последней машиной из толпы выскочила женщина. Не успела. Грузовик набрал скорость. Женщина с отчаянием вскинула руки и чуть не упала, но ее подхватил жандарм и втолкнул обратно в толпу.
«Любовь, конечно, любовь», – подумал я растроганно и убежал во двор, так как площадь начала пустеть перед приближающейся облавой.
– Звонила ваша невеста, – сказал начальник. Он был в хорошем настроении, мурлыкал песенку и приплясывал. – Едет сюда, но спешить боится. Всюду хватают. Будет только к вечеру.
Сухощавая девица взглянула на меня со скрытым злорадством.
– Наверное, и с нами начнут, как с евреями? Вы огорчены?
– Она должна пробраться, – сказал я начальнику. Я промерз до костей, поэтому подошел к печке, пошуровал, подкинул торфа. Из открытой топки повалил дым. – Похоже, в этом месяце нам вагонов не дадут? Все вагоны пойдут на вывозку людей.
Начальник сделал недовольную гримасу, сел и тонкими, как у пианиста, пальцами постучал по столу.
– А какой нам толк от вагонов? – спросил он с горечью. – Инженер боится держать цемент и гипс, известь у него только для немцев, так что вы хотите? Чтобы мы процветали? Гроховский завод получил три вагона цемента, у Боровика и Серебряного есть все, что душе угодно, а у нас? Коньковая черепица, крошка, мастика, циновки…
– Не прибедняйтесь, – перебила девица. – Если порыться в сараях, можно кое-что найти!
– Вот именно, кое-что! То, что я добываю собственным промыслом! А иначе кто бы к нам сюда приходил? Разве только лавочник, гирю одолжить!
Забренчал телефон. Начальник быстро повернулся, перехватил трубку у девицы и протянул мне, делая знак руками.
– Наша машина, – шепнул я, прикрыв ладонью микрофон. – Что сказать?
– Пусть везет пятьдесят.
– Fünfzig, – сказал я в трубку. – Abends? Ладно, пусть будет вечером.
– Отлично, тогда давайте перекусим.
Старуха неподвижно сидела на топчане, словно загнанное в угол животное. Начальник захлопотал, поставил на плитку бульон, освободил столик.
– Если Инженер будет получать от нас меньше дохода, то он, во-первых, выгонит эту девку, а во-вторых… ну как, вы решились?
– Мне за вами не угнаться, – ответил я уныло. – Мы все вложили в самогон. Вы же знаете. Купили немного книг, кое-какую одежонку и все. Бумага тоже стоила денег.
– Вы хоть продадите эти стихи?
– Не знаю, – ответил я обиженно. – Я писал не ради продажи. Это вам не пустотелый кирпич и не смола.
– Все равно, если стихи хорошие, покупатели найдутся, – сказал примирительно начальник, откусывая булку. – Вы этих пару тысяч для пая наскребете, у вас башка варит.
Старуха ела медленно, но с аппетитом. Золотой, массивный ряд зубов с наслаждением впивался в хлебную мякоть. Я смотрел, инстинктивно пытаясь определить вес и стоимость этой челюсти.
Хлопнула дверь, вошел покупатель. Монах из соседнего костела, в роговых очках и со смущенной улыбкой. Сообщив об облаве, он заказал пару мешков цемента и желтую мастику. И тут же расплатился связанными в пачки мелкими купюрами.
– Оставайтесь с богом, – сказал монах и, надев черную шляпу, вышел, шурша сутаной.
– Аминь, – ответила девица, закрыла печку и обрывком газеты вытерла пальцы. – Как вы думаете, что сделает старуха?
– Начальник подыщет ей квартиру. У нее слишком много денег, он их из рук не выпустит, – ответил я вполголоса.
– Да ну, – девица презрительно фыркнула, – значит, вы ничего не знаете? Когда начальник выходил, старуха звонила дочери. Они не могут выбраться из гетто. Слишком поздно. Там массовая облава.
– Что ж, мать погорюет и перестанет.
– Очень может быть.
Она закуталась в потертую шубу, уселась поудобнее на кушетке и вернулась к книге, не обнаруживая никакого желания продолжать разговор.
III
По вечерам я оставался на складе один среди сохнущих, как выстиранное белье, обложек поэтического сборника. Аполоний вырезал их из бумаги форматом in folio, приспособив к размерам пластины ручного гектографа; раздобытый нами для размножения радиосводок и ценных инструкций (со схемами) по ведению уличных боев в крупных городах, он послужил также для напечатания высокопарно-метафизических гекзаметров, выражающих мое отрицательное отношение к апокалипсическому вихрю истории. Обложка была украшена с обеих сторон черно-белыми виньетками, выполненными сенсационно-новой техникой: кусочки белковой матрицы, наклеенные на пластину, давали белые пятна, а сама пластина – черные. На это ушла уйма краски, и обложки сохли уже целую неделю безо всякого результата. И вот я осторожно снял их с веревок, обернул плотным пергаментом, увязал и засунул под деревянный топчан. Спущенное до самого пола одеяло скрывало от посторонних глаз сломанный радиоприемник, ожидающий механика, портативный гектограф, плоский, как портсигар, солидную пишущую машинку марки «ремингтон», взятую из сарая, чтобы не намокла, и подшивку изданий одной империалистической организации, оставленную на хранение выселенным из квартиры приятелем-коллекционером: даже лишившись крова, он не мог расстаться с любимым архивом.
По вечерам же, не щадя ни поясницу, ни колени, я старательно драил пол, вытирал стол, окно, а когда видел, что в комнате делалось чисто и уютно, как в ухе, прикрывал грибок зеленым абажуром и плотно закрывал дверь, чтобы не уходило тепло. Затем я садился в конторе у печки, делал подробные библиографические выписки, складывал их в специальные коробки, записывал на отдельных листочках глубокие мысли и меткие афоризмы, вычитанные в книгах, и заучивал их наизусть. Между тем подкрадывались сумерки и ложились на страницы книг. Я поднимал глаза и, глядя на дверь, ждал Марию.
За окном снег терял голубизну, смешиваясь с сумерками, как с серым цементом. Высокая стена сгоревшего дома, рыжая, как необожженный кирпич, наливалась чернотой, застывала, словно умолкнув, бесшумный ветер вздымал над рельсами клубы розового дыма, рвал их в клочья и швырял в синеву небес, словно снежные хлопья в прозрачную воду. Обыденные вещи, вязкая, как гнилая дыня, куча песка, извилистая дорожка, ворота, тротуары, стены и дома улицы исчезали во мраке, словно в волнах прилива. Остался только неуловимый шум, которым пронизана самая глубокая тишина, горячий пульс, который стучит в человеческом теле, и глухая тоска по вещам и чувствам, которых не будет никогда.
Во дворе еще возились люди. Возчик вытаскивал из темной глубины сарая, как из мешка, узлы и с размаха швырял их на подводу. На подводе стоял, расставив ноги, старый рабочий, прежде гасивший известь. Он подхватывал вещи и со знанием дела укладывал их на телеге, словно это были мешки с гипсом или известью. От усердия он оттопырил щеку языком.
Начальник стоял позади телеги рядом со старухой и машинально ковырял доску ногтем.
– Я не знаю, меня так не учили, – заговорил он, сердито надув губы. – К чему такая спешка? Где тут смысл? Где резон? И зачем было весь огород городить?
Старуха наклонила набок голову в шляпе с цветочками. От мороза на ее землистых щеках выступили темно-красные пятна. Губы дрожали от холода. Золотые зубы сверкали.
– Укладывайте осторожно! – прикрикнула она на рабочего. Лицо ее вздрагивало при каждом броске, будто не вещи, а ее самоё кидали на подводу. – Вы уж извините, Ясик, за беспокойство, – повернулась она к начальнику. – Но вы же не остались внакладе, правда?
– Да бросьте вы, – начальник пожал плечами. – Деньги ваши я отдал за квартиру, а это барахлишко, что вы у меня оставили, можно в любую минуту… Я на этом не наживусь.
Сгорбившись у стенки сарая, старуха переступала с ноги на ногу в своих поношенных, стоптанных туфлях, шмыгала носом и с молчаливой улыбкой смотрела на начальника слезящимися, красноватыми, близорукими глазами.
– Ну что там толку от вас? Им все равно каюк, – продолжал начальник, уставясь в землю, на спицы колес, на грязь под телегой. – Разве вы не знаете, как будет? Убьют, сожгут, уничтожат, растопчут, и все тут. Не лучше ли остаться жить? Я верю, придет время, и людям разрешат спокойно торговать.
Мощный дизель с прицепом вкатился на улицу и, плюясь дымом, подъехал к воротам. Начальник улыбнулся с облегчением и поспешил открывать второй сарай, в то время как я прямиком по снегу побежал к воротам. Трактор уперся задом в противоположный тротуар, как жук переполз через канаву во двор и остановился у раскрытого сарая. Из кабины выскочил шофер в грязном комбинезоне и немецкой фуражке на черных блестящих волосах.
– Abend. Пятьдесят? – спросил шофер и, громко хлопнув в ладоши, вошел, покачиваясь, в сарай.
– Ого-го! Все продали? – Он причмокнул, с любопытством озираясь кругом. – Большие обороты, большая прибыль. Но сейчас на десятку дороже с мешка. По тридцать пять?
– Этот номер не пройдёт. – Начальник выразительным жестом развел руками.
– Тридцать два. На рынке дают пятьдесят пять и больше, – терпеливо уговаривал солдат.
– Люди у него есть для разгрузки? – спросил у меня начальник. – Надо брать.
– Keine Leute, – засмеялся солдат. У него были здоровые, лошадиные зубы и гладкие, тщательно выбритые щеки. Подойдя к прицепу и расшнуровав брезент, он скомандовал: – Meine Herren, raus. Очень прошу – аusladen!
Двое рабочих, дремавших на мешках, сбросили пальто, которыми укрывались, вскочили, напуганные криком, и откинули борт. Один подтаскивал мешки к краю кузова, второй подхватывал их снизу, прижимая к груди, вносил внутрь склада и с шумом швырял на пол. Пришлось подойти и растолковать ему, как складывают цемент, закрепляя мешки, чтобы все не развалилось к черту.
Дремавший в кабине напарник шофера высунулся из окошка.
– Поторопи их, Петер. Нам надо ехать.
Опираясь подбородком на руки, он сонно наблюдал за разгрузкой. На запястье у него болтался дамский золотой браслет. Руки были волосатые, лицо смуглое, покрытое черной щетиной.
– Живее, живее, du alte Slawe, – пробормотал он сквозь зубы, а встретив мой пытливый взгляд, дружелюбно улыбнулся.
В сарае перепачканный цементом рабочий (кто не умеет обращаться с товаром, тот, перетаскивая мешки, обязательно разорвет несколько штук) повернул ко мне серебристое от цемента лицо и, вытирая его для вида верхом ладони, спросил шепотом:
– Есть пять лишних мешков. Возьмете?
– По двадцать, – буркнул я, не разжимая губ, и, обращаясь к солдату, сказал: – Пошли в контору, рассчитаемся.
Солдат погасил спичку, старательно затоптал ее подошвой, с наслаждением затянулся. Бледно-желтый огонек осветил его щеки и отразился в глазах.
– Fünfzig штук? Пятьдесят? – Он показал рабочему растопыренную пятерню.
– Ja, ja, шеф, я считаю! Ни одного больше! – заверил с готовностью рабочий на грузовике.
Возчик кончил грузить телегу. Помогавший ему рабочий подправлял багаж и затягивал веревки, которыми они тщательно обмотали всю подводу. Да, вещи были уложены умело. В середине то, что поценнее, кожаные чемоданы, брезентовые мешки с бельем, сверху же и по бокам – плетеные корзины, табуретки, дребезжащая посуда. Подвода стояла терпеливо, как ковчег. Старуха топталась у сарая, пряча руки в муфту. Увидев проходившего мимо солдата, испугалась и шмыгнула за дверь склада.
– На новую квартиру? – спросил шофер мимоходом.
– Конечно. Куда же еще?
Небо стало теснее и осело над мраком бесшумно, как птица. Безлистное дерево у рельсов боролось с ветром упорно, словно человек, решивший не сдаваться.
– Ну и спокойно же вы живете, – сказал солдат с добродушным презрением. – А наши за вас воюют.
Начальник разговаривал по телефону с женой и жестом пригласил нас сесть.
– Ну что, обед удался? Свеклу не надо. Возьми капусту. – Он снисходительно улыбнулся. – Малыш? Спит? Разбуди, сколько можно спать?
– Книг, я вижу, прибавилось, – солдат приоткрыл дверь в комнату. – О, как уютно! Еще только патефон завести! И девушка, да? Девушка? – Он ткнул пальцем в красный халат на вешалке. Осмотрел картины Аполония – нищенку у обшарпанной стены, держащую за руку лупоглазого ребенка, и натюрморт с желтым кувшином. Внес в комнату грязь и тяжелый солдатский дух.
Начальник достал из бумажника пачку аккуратно связанных купюр, пересчитал и протянул шоферу.
– Опять в среду, через неделю, да? – спросил шофер.
– Ist gut, – ответил начальник. – Ist sehr gut. Видите, пан Тадек, будь у нас свой склад, не пришлось бы прятать товар. Придержали бы его пару деньков – и заработок железный.
– Наша девица мигом наябедничает Инженеру.
– А он ничего не найдет. Сейчас же все продадим Черняковской фабрике. Да и вообще Инженер теперь не станет с нами задираться. Он вложил деньги в железнодорожную ветку, и ему самому туго приходится.
– Договаривайтесь насчет того склада. Я добавлю, сколько смогу.
– А если совсем запретят строить?
– Теперь тоже запрещают, а люди строят. На жизнь нам пока хватит тех денег, что у вас есть наличными. А после войны очень кстати будет иметь участок и пару сараев. Ну ладно, пошли, проводим старуху.
– Она здесь забыла пишущую машинку, – сказал начальник, приглаживая волосы и надевая форменную фуражку. На улице он изображал трамвайщика. Ездил бесплатно на трамваях и меньше боялся облав.
– Машинка пригодится в конторе.
– Ja, ist gut, – солдат пересчитал деньги, спрятал их в карман комбинезона и, крепко, хотя и вполне равнодушно, пожав нам руки, вышел, скрипя сапогами.
Возчик отнял у лошади мешок с сеном, зажег фонарь и закрепил его на телеге, взял в руки вожжи, причмокнул губами, и подвода, освещенная ярко, как карнавальная карета, со скрипом выехала из ворот на улицу.
Между пурпурным, как спекшиеся губы, одеялом, перетянутым белым шнурком от занавески, и пузатыми чемоданами, свернувшись клубочком, словно собака, сидела, поджав под себя ноги, старая еврейка, прикрытая сверху крышкой поставленного на попа стола, чьи ножки, как мертвые культяпки, торчали кверху и, подпрыгивая вместе с крышкой при каждом движении телеги, казалось, мстительно грозили небесам. Старуха прикрыла глаза, втянула голову в меховой воротник, должно быть, дремала. Несколько оборванных ребятишек бежали за подводой в надежде что-нибудь стащить.
Улица начинала жить вечерней жизнью. На синем небе золотая луна катилась, как ломтик ананаса, навстречу перистым облакам, металлический блеск ее падал на крыши домов, на стены, на хрустящий, словно листовое серебро, снег тротуара. Перед школой прохаживался дородный жандарм, весь голубой в сумерках. Девушки из прачечной пробегали под фиолетовым фонарем и исчезали в тени сгоревшего дома. От лавочника выходили на ночную вахту захмелевшие полицаи. Колокольчик в обновляемом нашим цементом и известью костеле начинал радостно ворковать, как резвящийся младенец, спугивая заснувших на колокольне голубей, которые, хлопая крыльями, взлетали вверх, чтобы тут же, как лепестки хризантем, сонно опуститься на крышу.
Трактор, привозивший нам цемент, осторожно объехал ямы с известью и, дав прощальный гудок, выкатился со двора. Я подбежал к прицепу и сунул деньги в протянутую руку рабочего. Тот крикнул: «Было десять, десять!» – и исчез под брезентом.
– Ну хватит, отработались, – сказал начальник, затягивая ремень на своей шинели трамвайщика. Он старался выглядеть худым и затянул ремень на совесть, изо всех сил. – Оставляю вас в одиночестве. Что-то невеста запаздывает.
– Я боюсь за нее. Облава идет весь день. Небось массу народу похватали.
– Что поделаешь? – тяжело вздохнул начальник. – Ваша невеста, видно, не может сюда пробраться. – Он положил в портфель кусок мяса, заготовленный для завтрашнего обеда.
– Подождите, я с вами, куплю чего-нибудь к ужину. Есть хочется после этого дурацкого дня. – Мы вышли, захлопнув калитку.
Немецкий трактор, загораживая пролет улицы, пыхтел и дымился. Прохожие собирались на тротуаре и смотрели на площадь. Возчик терпеливо ждал, пока освободится проезд.
Сумерки сгущались. За черной полосой поля, над серебристой лентой реки каменный мост дугой выгибался на фоне неба. На том берегу черная громада города погружалась в вязкую темноту. Высокие столбы прожекторов взметались ввысь ртутными лучами света, перечеркивали небо, словно руки марионеток, и, беспомощно опадая, ложились на землю. Мир суживался на мгновение до размеров одной улицы, пульсирующей, как вскрытая рана.
С грохотом, с зажженными фарами, подпрыгивая на ухабах, один за другим катились по мостовой набитые людьми грузовики. Человеческие лица, белые, словно обвалянные в муке, высовывались из-под брезента и тут же, как ветром сдутые, исчезали в темноте. Мотоциклы с солдатами в касках выскакивали из-под виадука и, хлопая крыльями тени, словно чудовищные бабочки, с грохотом мчались вслед за машинами. На улице стояла удушливая вонь выхлопных газов. Колонна шла к мосту.
– Около церкви переловили, – сказал лавочник за моей спиной, положив мне на плечи свои тяжелые ручищи. От него разило винным перегаром и махоркой. – Гады, ни дна им, ни покрышки!
– Да, взялись за нас, – сказал угрюмо дежурный полицай. Он снял фуражку и вытер лоб рукавом. Красная полоса от фуражки на лысом черепе бледнела на морозе. – Уж это точно, – добавил он сквозь зубы.
– Еврейка, что, съехала от вас? – шепнул конфиденциально лавочник. – Так быстро?
– Перебралась в другое место.
– А что с квартирой? – лавочник, обеспокоенный, наклонился к моему уху. – Я же договорился с людьми. Начальник обещал сегодня дать задаток.
– Вот и ищите начальника, – буркнул я нетерпеливо и сбросил с плеч его лапы.
– Простите, – шепнул лавочник. Свет фары ударил ему в лицо, и он зажмурился. Затем луч скользнул дальше, в улицу, лицо лавочника окутал мрак.
– Она поехала обратно в гетто. Там у нее дочь, которая уже не может выбраться.
– И правильно, – убежденно сказал лавочник. – По крайней мере, умрут вместе, как люди. – Он тяжело вздохнул и стал смотреть на колонну.
У поворота на бульвар образовалась пробка. Колонна остановилась, грузовики приблизились друг к другу. Послышались гортанные окрики. Мотоциклы выкатились из-за машин, осветив фарами мостовую, трамваи, тротуар и молчаливую толпу. Лучи скользнули по человеческим лицам, как по выбеленным костям; заглянули в черные, слепые окна квартир, выхватили светящуюся зелеными лампионами остановленную на полутакте карусель с покачивающимися на тросах пестрыми лошадками, лебедями с мягко выгнутыми шеями, деревянными автомобилями, велосипедами; прощупали площадку с лошадьми; коснулись шатра зоопарка с крокодилом, волком и верблюдом; исследовали внутренность трамваев, стоявших с выключенным светом, дернулись влево и вправо, как голова рассерженной гадюки, вернулись к людям, еще раз осветили глаза и направились в сторону машин.
Лицо Марии под широкими полями черной шляпы было белым, как известь. Мертвенно-бледные, меловые ладони она лихорадочным прощальным жестом прижала к груди. Мария стояла на грузовике, зажатая со всех сторон людьми, вплотную с жандармами. И напряженно смотрела мне в лицо, как слепая, прямо на фару. Пошевелила губами, будто собираясь крикнуть. Пошатнулась и чуть не упала. Машина задрожала, затарахтела и внезапно двинулась. Я стоял, совершенно не зная, что делать.
Потом я узнал, что Марию как арийско-семитскую Mischling вывезли с эшелоном евреев в печально знаменитый лагерь на побережье, умертвили в газовой камере, а тело ее, вероятно, пошло на мыло.
(Пер. с пол. Е. Гессен)
Цит. по: Боровский Т. Прощание с Марией; Рассказы. М.: Худож. лит., 1989.
Пер Фабиан Лагерквист ВАРАВВА Фрагменты
Варавва даже сам удивлялся, почему он застрял в Иерусалиме, где делать ему нечего. Он слонялся по улицам без всякого проку. А ведь в горах, наверное, ждали его, не понимали, куда он подевался. Зачем он остался в городе? Варавва и сам не знал.
Тостуха сперва подумала, что это из-за нее, но скоро она поняла свою ошибку. Ей было немного обидно, но – господи! – мужчины, они все неблагодарные, их нельзя баловать, а она спала с ним каждую ночь, и ей это нравилось. Хорошо, когда рядом с тобой лежит настоящий мужчина, с которым приятно потешиться. А в Варавве что еще хорошо: пусть ему на тебя наплевать, но ему же на всех наплевать – это уж точно. Ему никто не нужен. И всегда так было. А в общем, ей даже нравилось, что ему на нее наплевать. Ну, то есть, когда они любились. После-то ей горько бывало, случалось всплакнуть. Да ведь и это неплохо. И даже сладко, если подумать. Толстуха имела большой опыт в любви и не презирала ее ни в каких видах.
Но почему он ошивался в Иерусалиме – этого она не могла взять в толк. И где он пропадал целыми днями, чем занимался? Ведь он не из тех лоботрясов, которым бы только шляться по улицам, он человек, привычный к жизни трудной, опасной. На него непохоже эдак болтаться без дела.
Нет, он стал на себя непохож с тех пор, как это случилось, – с тех пор, как его чуть не распяли. Будто всё не свыкнется с тем, что его взяли да и отпустили, – так сказала себе толстуха, лежа на припеке, сложив на толстом животе руки. И она расхохоталась.
Время от времени Варавва набредал на последователей того распятого равви. Никто бы не мог сказать про Варавву, будто он очень об этом старается, просто они попадались ему на торжищах, на улицах, и, когда он их встречал, он с удовольствием останавливался с ними поболтать, и он расспрашивал их про того распятого и про странное это учение, в котором он никак не мог разобраться. Любить друг друга?.. На дворцовую площадь он не ходил и на соседние богатые улицы тоже, а бродил по закоулкам нижнего города, где ремесленники сидят и работают по своим лавчонкам да выкликают товар разносчики. Среди этих простых людей было много верующих, и они куда больше нравились Варавве, чем те, кого увидишь под колоннадой. Он кое-что узнал про странные их понятия, но не мог в них разобраться. Может, потому, что они очень глупо все объясняли.
Например, они свято верили, что их Учитель воскрес из мертвых и скоро объявится во главе небесного воинства и утвердит на земле свое царство. И все повторяли одно, видно, их так научили. Но вот в том, что он Сын Божий, не все они были убеждены. Некоторые считали, что как-то это странно: ведь они сами его видели, слышали, даже разговаривали с ним. А один даже сшил ему пару сандалий, и снимал мерку, и вообще. Нет, как-то не верится. А другие говорили, что все равно он Сын Божий и будет сидеть на облаке рядом с Отцом. Но сперва еще рухнет этот грешный, негожий мир.
Но что за чудные люди?
Они замечали, что Варавва ни во что такое не верит, и относились к нему с опаской. Иные явно держались с ним начеку, и почти все давали понять, что не очень-то рады Варавве. Варавва к такому отношению привык, но, странно, сейчас оно его задевало, чего прежде с ним не случалось. Люди вечно давали ему понять, что он им не нужен, старались держаться от Вараввы подальше. Может, это из-за его внешности, может, из-за ножевой раны под глазом, никто ведь не знал, откуда она у него, может, это из-за глаз, которые так глубоко запали, что их никто не мог разглядеть. Варавва все это прекрасно знал, но какое ему дело, что про него думают люди: он просто не замечал их отношения.
До сих пор он не знал, что оно задевает его.
А этих всегда и во всем объединяла их общая вера, а того, кто к ней непричастен, они боялись и подпустить. У них было их братство и вечери любви, где они преломляли хлеб, будто одной большой семьей. Все это, видно, было как-то там связано с их учением, с этим их «любите друг друга». Но еще неизвестно, любили они кого-то, кто был не такой, как они, или нет.
Варавву ничуть не тянуло на их вечери любви, этого еще не хватало, даже подумать противно. Чтобы так связаться с кем-то одной веревочкой! Варавва всегда был сам по себе, и меняться он не желал.
Но почему-то он искал с ними встреч.
Он даже прикинулся, будто хочет вступить в их братство, ему бы, мол, только понять хорошенько их веру. Они отвечали, что будут рады ему, что постараются разъяснить ему слова своего Учителя, на самом же деле радости он не заметил. Очень странно. Им было совестно, но они ничуть не радовались его предложению, тому, что могут обзавестись новым единоверцем, – а они ведь так всегда этому радовались. Какая же тут причина? Но Варавва знал, какая причина. Вдруг он встал и большими шагами пошел прочь, и шрам у него под глазом побагровел.
Верить! Как мог он поверить в того, кого своими глазами видел распятым на кресте! В это тело, давным-давно мертвое и – он точно удостоверился – никак не воскресшее. Одно их пустое воображение! Все от начала и до конца – одно их воображение! Никто из мертвых не воскресал: ни их бесценный «Учитель», никто! И вообще! Варавва не отвечает за то, кого тогда выбрали! Это их дело, не его! Кого хотели, того и выбрали, просто так вышло. Сын Божий! Да какой он Сын Божий! А если бы и так, неужели бы он повис на кресте, не пожелай он этого сам? Выходит, он сам этого пожелал! Чудно и противно – сам пожелал страдать. Ведь если он правда Сын Божий, ему б легче легкого было от этого увернуться. А он не хотел. Он решил страдать и умереть этой жуткой смертью и не хотел увернуться, и так оно и вышло, он поставил на своем, его не отпустили. Он сделал так, чтобы отпустили Варавву. Взял и повелел: отпустите Варавву, а меня распните.
Хотя никакой он не Сын Божий, это же ясно.
Странно воспользовался он своей силой, очень даже странно, так, будто ею и не воспользовался, предоставил другим решать, как хотят, будто ни во что и не вмешивался, а сам поставил на своем: чтобы его распяли и отпустили Варавву.
Они вот болтают, будто он умер за них, вместо них. Что ж! Возможно. Но вместо Вараввы-то он умер уж точно, этого-то никто отрицать не будет! И выходит, Варавва ближе ему, чем они, чем все вообще, он совсем иначе с ним связан, и они еще не подпускают к себе Варавву! Он избран, можно сказать, – избран, чтоб не страдать, чтоб избавиться от мучений. Он и есть настоящий избранник, его отпустили вместо самого Сына Божия – тот сам так пожелал, так повелел. Просто они ничего не знают!
А их «братство», и «вечери любви», и «любите друг друга» – это ему не нужно. Он сам по себе. И в своих отношениях с тем, кого они называют Сыном Божиим, с тем распятым, он тоже останется самим собой. Он не раб ему, вроде них. Сами пусть молятся и вздыхают.
Как это можно — хотеть страдать? Когда не надо, когда тебя никто не неволит? Даже представить себе нельзя, и тошно делается при одной мысли об этом. При мысли об этом ему снова виделось тощее, бедное тело, руки, на которых так трудно было висеть, и губы, такие иссохшие, что едва сумели выговорить слово «жажду». Нет, не нравился ему тот, кто сам нарывался на такие страсти, кто по своей воле повис на кресте. Вовсе он ему не нравился! А эти обожали своего распятого, носились с его страданиями, с его жалкой смертью – или она не казалась им жалкой? Они именно смерть обожали. Варавве было противно, даже подумать тошно. И не нужно было ему их учение, и сами они не нужны, и тот, в кого они верили, если их послушать.
Нет, он-то, Варавва, смерть не любил. Он ненавидел ее, он вообще не хотел умирать. Может, потому так и вышло? Может, потому именно он и был избран – избавлен от смерти? Если распятый действительно Сын Божий, значит, он всеведущий, и тогда он прекрасно знал, что Варавва не хотел умирать – ни страдать, ни умирать. Вот он и умер вместо Вараввы! А Варавве пришлось только проводить его на Голгофу и посмотреть, как его распинают. Больше ничего от него не требовалось, но и это для него было слишком, он ведь так ненавидел смерть и все, что с ней связано.
Да, он-то и есть тот человек, за которого умер Сын Божий! О нем, и ни о ком другом, было сказано: отпустите его, а меня распните!
Так думал Варавва, пока он шел прочь от них после того, как попробовал с ними соединиться. Пока он большими шагами шел из лавки в переулке Горшечников, где ему так ясно дали понять, что они не рады ему.
И он решил больше к ним не ходить.
Но когда назавтра он все-таки к ним пришел, они спросили, что для него непонятно в их вере, и ясно показали, что жалеют о вчерашнем, корят себя за оказанный ему холодный прием и готовы наставить и просветить его, раз он горячо к этому стремится. Так о чем он хотел спросить? Чего он не понял?
Варавва решил было просто пожать плечами и ответить, что он не понял ровным счетом ничего и, в общем, не очень об этом печалится. Но потом сказал, что вот, например, такая вещь, как воскресение, не укладывается у него в голове. Он не верит, что кто-то мог воскреснуть из мертвых.
Они подняли глаза от своих кругов, посмотрели на Варавву, потом друг на друга. Потом они пошептались, и старший из них спросил, не желает ли Варавва взглянуть на человека, которого Учитель воскресил из мертвых? Если угодно, они отведут к нему Варавву, но только вечером, после работы, потому что тот живет не в самом Иерусалиме.
Варавва испугался. Такого он не ждал. Он-то думал, они начнут рассуждать, излагать свои понятия, не будут навязывать ему такие грубые доказательства. Конечно, он понимал, что все это одно их воображение, благочестивый обман, что тот человек просто-напросто не умирал. И все-таки он испугался. Варавве ничуть не хотелось видеть того человека. Но не мог же он взять и все это выложить. Пришлось ему притвориться, будто он очень им благодарен и рад случаю убедиться в могуществе их Господа и Учителя.
Дожидаясь вечера, он бродил по улицам и час от часу сильней волновался. К концу дня он снова пошел в гончарню, и один юноша повел его за городские ворота, на Масличную гору.
Тот, к кому они шли, жил на краю небольшого селения на склоне горы. Когда молодой горшечник отодвинул соломенную завесу на двери, они увидели, что хозяин сидит боком к ним, за столом, положив на него руки и глядя прямо перед собой. Он, кажется, их не заметил, покуда юноша звонким голосом не поздоровался с ним. Тогда он медленно поворотил лицо к двери и поздоровался в ответ странно беззвучным голосом. Юноша передал ему привет от братьев в переулке Горшечников и объяснил, для чего они здесь, и он знаком предложил им сесть за стол.
Варавва сел напротив и стал разглядывать его лицо. Оно было желтое и с виду твердое, как костяное. Кожа совсем иссохла. Никогда не думал Варавва, что может быть такое лицо, и никогда еще и ни в чем он не видел такой покинутости. Лицо было как пустыня.
На вопрос юноши хозяин отвечал, что да, он умер, а потом его вернул к жизни равви из Галилеи, их Учитель. Четыре дня и четыре ночи пролежал он в гробу, и вот у него то же тело и та же душа, что прежде, он ничуть не переменился. И Учитель явил свою силу и славу и доказал, что он истинно Сын Божий.
Говорил он медленно, без выражения и все время смотрел на Варавву бледным, потухшим взглядом.
Потом они еще немного поговорили про Учителя и великие его дела. Варавва в разговор не вмешивался. Потом юноша пошел навестить мать и отца, которые жили в том же селении, и оставил их одних.
Варавва вовсе не хотел оставаться один с этим человеком. Но не мог же он взять и уйти, он не находил никакого предлога. А тот все смотрел на Варавву своим странным тусклым взглядом, который не выражал ровным счётом ничего, тем более интереса к Варавве, и все же непонятно его притягивал. Варавве хотелось уйти, вырваться и убежать, но он не мог убежать.
Сначала хозяин сидел молча, а потом он спросил Варавву, верит ли он в их равви, в то, что он – Сын Божий. Варавва помялся, а потом ответил «нет», потому что странно было лгать этому пустому взгляду, которому и неважно вовсе, лжешь ли ты или нет. Хозяин не обиделся, только кивнул и сказал:
– Да, многие не верят. Мать его вчера приходила – та тоже не верит. Но меня он воскресил из мертвых, чтобы я свидетельствовал о нем.
Варавва сказал, мол, ясное дело, тут уж как не поверить, и, ясное дело, теперь ему надо вечно благодарить за то, что над ним сотворили такое великое чудо.
Тот отвечал на это Варавве, что каждый день благодарит за то, что его возвратили к жизни, за то, что ему больше не надо быть в царстве мертвых.
– Царство мертвых? – выпалил Варавва и сам заметил, как чуть-чуть дрогнул у него голос. – Царство мертвых?.. Какое оно? Ты же там был! Расскажи!
– Какое оно? – отозвался тот и посмотрел на Варавву с недоумением. Ясно было, что суть вопроса непонятна ему.
– Да! Что там было? Что ты испытал?
– Я не испытал ничего, – отвечал тот неохотно, будто недовольный настойчивостью Вараввы. – Я был мертв. А смерть – это ничто.
– Ничто?
– Да. И чем же еще ей быть?
Варавва смотрел на него не отрываясь.
– Значит, ты хочешь, чтобы я тебе рассказал о царстве мертвых? Я не могу о нем рассказать. Царство мертвых – это ничто. Оно есть, но оно – ничто.
Варавва только смотрел на него не отрываясь, и покинутое лицо пугало его, но он не мог отвести от него глаз.
– Да, – сказал тот, глядя пустым взглядом мимо Вараввы, – царство мертвых – ничто. Но для того, кто там побывал, и все остальное – ничто. Странно, что ты о нем спрашиваешь, – продолжал он. – Другие не спрашивали.
И он рассказал, что братья в Иерусалиме часто посылали сюда людей, чтобы он обратил их, и многие обращались. Так служил он Учителю и выплачивал неоплатный долг ему за то, что возвратил его к жизни. Чуть не каждый день этот ли юноша или другой приводили к нему кого-нибудь, и он свидетельствовал о своем воскресении. Но про царство мертвых не говорил. Никто никогда не спрашивал у него про царство мертвых.
Стало темнеть в комнате. Он поднялся и зажег масло в светильнике, свисавшем с низкого потолка. Потом он принес хлеб и соль и поставил их на стол, преломил хлеб и протянул часть Варавве, а свою обмакнул в соль, приглашая Варавву сделать то же. Пришлось Варавве послушаться, хоть рука у него дрожала. Так они молча сидели и ели вместе в тусклом свете лампы.
Этот человек не побрезговал справить вечерю любви с Вараввой! Не то что братья в переулке Горшечников! Он-то не делает такого большого различия между людьми! Но когда сухие, желтые пальцы протянули Варавве преломленный хлеб и пришлось его есть, Варавве показалось, будто он жует мертвечину.
И почему, почему он стал есть вместе с Вараввой? Какой тайный смысл скрывался за этой вечерей?
Когда она кончилась, хозяин проводил Варавву до двери и отпустил с миром. Варавва пробормотал что-то в ответ и поскорее ушел во тьму. Он шагал в сторону города, вниз по склону, большими шагами, а неотвязные мысли теснились у него в голове.
Толстуха удивилась и обрадовалась тому, как жадно взял ее в тот вечер Варавва. Он был в тот вечер просто горяч. Она не могла понять, отчего бы, но сегодня его правда надо было утешить. А кому, как не ей, утешить Варавву? И грезилось ей, что она опять молодая и кто-то любит ее.
На другой день он старался держаться подальше от нижнего города, от переулка Горшечников, но один из них увидел Варавву под колоннадой Соломоновой и тут же спросил, как было вчера. Ну, что, разве ему сказали неправду? Он отвечал, что да, человек тот был мертв и потом воскрес, в этом нет никакого сомнения. Но лично он, Варавва, не понимает, зачем их Учителю понадобилось его воскрешать. Горшечник остолбенел, лицо у него стало серое от такого оскорбления их Господу, но Варавва от него отвернулся, и тому оставалось только уйти.
Наверное, об этом проведали не только в переулке Горшечников, но и у маслобойщиков, кожевников, ткачей и во всех других переулках, потому что, когда Варавва потом снова туда пришел, он заметил, что те верующие, с которыми он всегда разговаривал, вдруг переменились. Отмалчивались, подозрительно, искоса на него поглядывали. Близкой дружбы они с ним никогда не водили, но тут уж открыто показывали свое недоверие. А один сухонький старичок, которого Варавва и не знал вовсе, налетел на него и начал спрашивать, зачем он, Варавва, к ним повадился, и чего ему от них надо, и не подослала ли его дворцовая стража, или стража первосвященника, или саддукеи? Варавва не мог ничего ответить и смотрел на лысого старика, а лысина у того побагровела от злости. Варавва его отродясь не видывал и знать не знал, кто он такой, и только по синей и красной пряже, продетой в мочки ушей, догадался, что он красильщик.
Варавва понял, что они разобиделись и отношение к нему стало другое. На всех лицах он видел теперь холод, вражду, а иные буравили его взглядом, ясно показывая, что хотят вывести его на чистую воду. Но Варавва прикидывался, будто не замечает.
И вот наконец – случилось. Весть, как лесной пожар, понеслась по всем переулкам, где жили верующие, и вдруг ни единого не осталось, кто бы не знал: это он! Он! Кого отпустили вместо Учителя! Вместо Спасителя, Сына Божия! Это Варавва! Варавва-отпущенник!
Его преследовали злые взгляды, ненавистью горели глаза. Буря не улеглась и тогда, когда он совсем перестал к ним ходить.
– Варавва-отпущенник! Варавва-отпущенник!
* * *
В тюрьме под Капитолием собрали всех христиан, которых обвинили в поджоге, среди них был и Варавва. Его схватили на месте преступления, допросили и привели сюда, к ним. Он был теперь с ними.
Тюрьма была высечена прямо в скале, и влага сочилась по стенам. В полумраке нельзя было разглядеть лиц, и Варавва радовался этому. Он сидел на гнилой соломе, в сторонке, отвернувшись ото всех.
Они говорили все про этот пожар, про то, какая их ждет судьба. Конечно, обвинение в поджоге – только предлог, чтобы их схватить. Судья сам прекрасно знал, что ничего они не поджигали. Их же никого и не было там, на пожаре, они из домов-то не выходили, как узнали, что на них готовят облаву, что кто-то выдал место встречи в катакомбах. Они не виноваты. Но какая разница? Всем надо, чтоб они были виноваты. Всем надо верить тому, что орал подкупленный сброд: «Это христиане! Это христиане!..»
– Кто же их нанимал? – раздался голос из темноты. Но никто на него и внимания не обратил.
…Как могли они, последователи Учителя, устроить пожар, поджечь Рим? Ну можно ли поверить в такое? Учитель души людей сожигает огнем, не города их. Он Господь наш и Бог неба и земли, не преступник.
И стали они говорить про него, про того, кто Свет и Любовь, и про царство его, которого они ждали по его обетованию. И стали петь гимны, и в них были красивые, странные слова, каких Варавва не слыхивал прежде. Он сидел и слушал их, повесив голову.
Тут отодвинули снаружи железный засов, заскрипели дверные петли, и вошел надзиратель. Он оставил дверь приоткрытой, чтоб впустить немного света, пока он будет кормить заключенных. Сам же он, видимо, только что плотно поел и неплохо выпил, ибо был краснорож и болтлив. Грубо бранясь, он швырял им почти несъедобную пищу. Руганью своей он, правда, не хотел никого оскорбить, он просто говорил на языке, присущем тем, кто несет эту службу, все тюремщики во все времена говорят так. В общем, он был даже дружелюбен. Вдруг он заметил Варавву, на которого как раз падала полоса света из приоткрытой двери, и разразился хохотом.
– Этот болван тоже тут! – заорал он. – Бегал, Рим поджигал! Вот дурень! А вы еще врете, будто не вы поджигали! Его схватили, как раз когда он бросился с головней к складу горючего – Кая Сервия складу!
Варавва не поднимал глаз. Лицо у него застыло и не выражало ничего, только побагровел шрам под глазом.
Остальные узники разглядывали его с изумлением. Тут никто его не знал. Они-то думали, он преступник, чужой какой-то, его и допрашивали отдельно.
– Быть не может, – перешептывались они.
– Чего – не может? – удивился тюремщик.
– Не может он быть христианином, – отвечали ему. – Если все правда, что ты про него сказал.
– Нет? Не может? Да это собственные его слова. Мне говорили, которые схватили его. Он и на допросе признался.
– Мы его не знаем, – бормотали они смущенно. – Если б он был из наших, мы б его знали. А мы в первый раз его видим.
– Будет вам прикидываться! Погодите-ка, сейчас полюбуетесь! – И он подошел к Варавве и повернул у него на шее бирку. – Нате! Глядите! Это что – не вашего бога имя, а? Я каракулей этих не разбираю, но разве не так, а? Читайте-ка сами!
Они обступили его и Варавву и, потрясенные, рассматривали надпись на оборотной стороне бирки. Большинство не могло ее разобрать, но кое-кто шептал в тревоге:
– Иисус Христос… Иисус Христос…
Надзиратель перевернул бирку и торжествующе оглядел лица вокруг.
– Ну, теперь что скажете, а? По-вашему, он не христианин? Сам небось показал это судье да еще объявил, что он не кесарев раб, а бога этого, какому вы молитесь и которого давно вздернули. Ну вот, и самого его вздернут, тут уж я об заклад побиться могу. И всех вас, между прочим, тоже! Хоть вы-то куда ловчее, вот только не повезло вам, объявился между вами дурак, сам дался нам в руки и объявил, что он, мол, христианин!
Ухмыляясь, он обвел глазами их потерянные лица и ушел, заперев за собою дверь.
Снова они обступили Варавву и засыпали его вопросами. Кто он? Неужели христианин? К какому же он принадлежит братству? И неужели он действительно поджигал?
Варавва ничего не отвечал им. Лицо у него было совсем серое, и старые глаза глубоко прятали взгляд.
– Христианин! Да вы что – не видели, надпись-то перечеркнута!
– Перечеркнута? Имя Господа – перечеркнуто!
– Ну да! Вы же сами видели!
Кое-кто, правда, все заметил, но они не подумали о том, что могло это означать. Что же это означало?
Вот один потянул к себе бирку и принялся снова разглядывать, и, хоть совсем потускнел свет, они разглядели, что чьей-то, бесспорно, сильной рукой с помощью ножа четко, грубо, крест-накрест перечеркнуто имя.
– Почему перечеркнуто имя Господа? – спрашивали они. – Зачем? Что это значит? Ты что – не слышишь? Что это значит?
Но Варавва не отвечал ни единого слова. Он сидел, свесив голову, позволяя им делать что хотят с его биркой, но не отвечал ни единого слова. Их всё больше дивил и возмущал этот человек. Выдает себя за христианина, но не может такой быть христианином! Виданное ли дело! Наконец кто-то пошёл за стариком, который сидел поодаль во тьме застенка и не принимал никакого участия в общем переполохе. С ним поговорили, скоро он поднялся и подошёл к Варавве.
Был он крепко сложен и, хоть спина уже слегка согнулась, все еще очень высок ростом. Волосы у него были длинные, но поредели и совсем побелели, как и низко свисавшая на грудь борода. Все в нем вызывало почтение, но был он кроток, и синие глаза глядели открыто, почти по-детски, хоть мудрость старости стояла в них.
Сперва он долго вглядывался в Варавву, в его старое, опустошенное лицо. Потом как будто вспомнил что-то и качнул головой.
– Это же так давно было, – сказал он, оправдываясь, и опустился рядом с ним на солому.
Остальные, те, кто стоял вокруг, изумлялись. Неужели высокочтимый отец знает этого человека?
А он, безусловно, его знал, это сразу стало ясно, едва он заговорил. Он спрашивал у Вараввы, как прошла его жизнь. И Варавва рассказал о том, что выпало ему на долю. Не всё, конечно, куда там, но так, что тот многое понял и о многом мог догадаться. Когда он понимал что-то, о чем Варавва умалчивал, он только задумчиво кивал головой. Они хорошо поговорили, хоть Варавва не привык никому доверяться, да и теперь он доверялся старику только отчасти. Но он отвечал тихим, усталым голосом на вопросы старика и даже смотрел иногда в детские умные его глаза и в старое, морщинистое лицо, которое тоже не пощадили годы, но совсем иначе, чем лицо у Вараввы. Морщины врезались в него глубоко, но все равно лицо было другое, оно будто светилось покоем. Кожа была почти белая, и щеки запали, может, оттого, что зубов уже не много осталось. А вообще он почти не изменился. И говорил он в точности как когда-то, и тот же был у него простой, бесхитростный выговор.
Высокочтимый старик узнал постепенно, отчего перечеркнуто имя Господне и отчего Варавва помогал поджигать Рим – он хотел помочь им, помочь Спасителю спалить этот мир дотла. Горько покачал головой старик, услышав такое. И спросил у Вараввы, как мог он поверить, что это они, христиане, разжигали пожар. Это же все приказал сам Кесарь, и это ему помогал Варавва.
– Ты помогал властителю мира сего, – сказал он. – Тому, про которого значится у тебя на бирке, что он твой хозяин, а вовсе не Господу, чье имя у тебя перечеркнуто. Сам того не ведая, ты служил законному своему владельцу. Наш Бог есть Любовь, – прибавил он тихо. И он взял в руку бирку, болтавшуюся на седой волосатой груди у Вараввы, и горестно посмотрел на перечёркнутое имя своего Господа и Учителя.
Потом он выпустил ее и тяжко вздохнул. Он понял, что такая уж у Вараввы пластина, и носить ему ее до конца, и ничего, ничего нельзя тут поделать. И он понял, что Варавва тоже это понимает, он прочел это в робких, одиноких глазах.
– Кто это? Кто он? – закричали все наперебой, когда старик поднялся с места. Тот не хотел отвечать, хотел уклониться. Но они так наседали, что ему пришлось уступить.
– Это Варавва, тот, кого отпустили вместо Учителя, – сказал он.
В полном недоумении оглядывали они чужака. Ничто не могло сильней удивить их и возмутить.
– Варавва, – шептали они. – Варавва-отпущенник!
Это не умещалось у них в голове. И глаза их блестели во тьме гневом.
Но старик их утешил.
– Это несчастный человек, – сказал он, – и мы не вправе судить его. Сами мы полны изъянов и пороков, и не наша это заслуга, если Господь милует нас. Мы не вправе судить человека за то, что у него нету Бога.
Они стояли потупясь и словно не смели взглянуть на Варавву после этих слов, страшных слов. Молча отошли они от него и опять сели там, где сидели раньше. И старик нехотя, вздыхая, пошел следом за ними.
А Варавва опять остался один.
Так сидел он потом один все дни в застенке, в стороне и отдельно от всех. Он слышал, как они пением славили Бога, как поверяли друг другу мысли о смерти и о жизни вечной, которая их ожидала. И когда вынесли приговор, они еще больше говорили про это. Они верили, и не было в них никакого сомнения.
Варавва слушал их речи, но крепко задумавшись. Он тоже думал о том, что предстояло ему. Вспоминал он и человека на Масличной горе, который разделил с ним тогда хлеб и соль и который давно уже умер снова и давно уже скалится мертвым черепом в вечную тьму.
Жизнь вечная…
А был ли какой-то смысл в той жизни, что прожил Варавва? Вряд ли. Но ведь он ничего про это не знал. И не ему это было решать.
Поодаль, в кругу своих, сидел седобородый старик. Он их слушал и беседовал с ними на неповторимом своем галилейском наречии. А то вдруг умолкал, подперев ладонью большую голову. Может, вспоминались ему родные берега Геннисаретские, где он хотел бы лежать после смерти. Но не в его это было воле. Он повстречал на дороге Учителя, и тот сказал ему: «Следуй за мной». И ничего другого ему не осталось. Он смотрел прямо перед собой детским взглядом, и старое, морщинистое лицо излучало великий покой.
И вот повели их на распятие. Их сковали цепями по двое, но Варавве не хватило пары, и он шел последним, не скованный ни с кем. Просто так получилось. И еще получилось, что распяли его на самом дальнем кресте.
Собралась большая толпа, и, пока все кончилось, прошло много времени. И все это время распятые обнадеживали и утешали друг друга. Но никто не утешал Варавву.
Спустились сумерки, и зрители разошлись, истомившись долгим стоянием. Да все и умерли уже.
Только один Варавва висел еще живой. Когда он почувствовал, что пришла смерть, которая всегда так страшила его, он сказал во тьму, словно бы к ней он обращался: – Тебе предаю я душу свою. И он испустил дух.
(Пер. со швед. В. Суриц)
Цит. по: Лагерквист П. Избранное: сборник. М.: Прогресс, 1981.
Криста Вольф КАССАНДРА Фрагменты
<…> Меня всегда удивляло: греки делают то, что должно быть сделано, и быстро. И основательно. При ироническом умонастроении наших молодых людей во дворце такой запрет, запрет общаться с рабами, должен был бы существовать – именно существовать – очень долго, чтобы его просто поняли. Соблюдать его? О том, чтобы его соблюдать, вообще не могло быть и речи. В этом потерпел бы неудачу даже Эвмел. «Мы вот хотим вас спасти, – горько сказал он мне, – а вы за моей спиной сами вырываете почву у себя из-под ног». На свой лад он был прав. Он хотел видеть нас такими, какими мы были нужны войне. Такими же, как враг, чтобы суметь его победить. Но нам это было не по душе.
Мы хотели быть такими, какими мы были, непоследовательными, это слово прилепил к нам Пантой, пожимая плечами, примирившись с судьбою. Пантой. «Так ничего не получится, Кассандра. С греками воюют иначе!» Он это знал. Он сам отступил перед греческой целеустремленностью. Об этом он не упоминал. То, что его действительно затрагивало, он прятал глубоко. О его мнениях приходилось догадываться, составляя их из новостей, слухов и наблюдений.
Что мне давно бросилось в глаза: его страх перед болью, его чувствительность. В состязаниях на телесную выдержку он никогда не принимал участия. Я же, помню, славилась своим умением переносить боль. Я дольше всех держала руку над огнем, не меняясь в лице, без слез. Пантой, я заметила, всегда уходил. Я толковала это как его сочувствие мне. Это было просто перенапряжение нервов. Много позднее мне пришло в голову, что способность человека переносить боль рассказывает о его будущем больше, чем многие другие знаки, мне известные. Когда же перестала я кичиться тем, что хорошо переношу боль? Конечно, с начала войны, когда я увидела страх мужчин: чем иным был их страх перед битвой, как не страхом телесной боли, а чему иному служили их необычайные уловки, как не тому, чтобы убежать от борьбы, от боли. Но страх греков, казалось, далеко превосходил наш. «Разумеется, – сказал Пантой. – Они воюют на чужбине, а вы – дома». Что делал он, чужак, среди нас? Спросить его было невозможно.
Известно, Пантой – часть добычи двоюродного брата Лампоса с ПЕРВОГО КОРАБЛЯ, так называли это предприятие во дворце с тех пор, как за ним последовали второе и третье и, наконец, было решено вывести из употребления название, данное народом, – «Корабль в Дельфы», – заменив его нейтральным. Так вкратце объяснил мне это Анхиз, отец Энея, он обучал меня, царскую дочь и жрицу, троянской истории. «Ну-ка, послушай меня, девочка». У Анхиза удлиненная голова. Совершенно гладкий череп. Бесчисленное множество морщин на лбу. Густые брови. Светлый хитрый взгляд. Подвижные черты лица. Сильный подбородок. Живой, часто открытый в смехе, а чаще кривящийся усмешкой рот. Тонкие сильные руки. Руки Энея. «Так слушай. Дело было просто. Посылают корабль – предположим, если хочешь, твой отец, хотя я сомневаюсь, чтобы такая идея ему самому пришла бы в голову, ставлю на Калхаса, – итак, посылают одного из двоюродных братьев царя, этого Лампоса, вполне пригодного для роли начальника порта, но Лампос в качестве посланника царя с деликатным поручением? Посылают Лампоса на корабле с высокой тайной миссией в Грецию. Довольно глупо, или, скажем, неосторожно, было собрать в гавани при отплытии корабля ликующий народ. И меня, Анхиза, тоже. На руках у няни. Огни, восторг, флажки, сверкающая вода, могучий корабль – мое первое воспоминание. Вот она, суть. Могучий корабль. Позволь мне улыбнуться. Скромный корабль, я чуть было не сказал "лодка". Если бы мы были в состоянии снарядить могучий корабль, мы послали бы его не в Грецию. Тогда нам не нужны были бы ни эти назойливые греки, ни оказание почестей их оракулу. Мы не допустили бы переговоров о нашем исконном праве на проход через Геллеспонт. Так вот, краткое изложение событий: греки не согласились на наши условия. Лампос привез в Дельфы богатые, чуть ли не превосходившие наши возможности дары. Там его увидел Пантой, увязался за ним и приехал сюда. Ликующему народу можно было представить часть добычи. Пантоя. И наши дворцовые писцы, это такой народец, скажу я тебе, сделали задним числом из наполовину провалившейся затеи хвастливый ПЕРВЫЙ КОРАБЛЬ».
В последовательной методичной трезвости Анхиза всегда присутствовало нечто вроде поэзии, и я не могла ей не поддаваться. Ну а поскольку он сам был в плавании на ВТОРОМ КОРАБЛЕ, точность его сведений была неоспорима. Но во внутренних двориках, где мы ни о чем так не спорили, как о ПЕРВОМ КОРАБЛЕ, все звучало совсем по-другому. Мой старший брат, мягкосердечный Гектор, решительно не признавал никакого успеха за акцией номер один. Вовсе не для того, чтобы притащить с собой жреца, посылали дядю Лампоса к дельфийскому оракулу. Не для того? Так для чего же тогда? Гектор узнал об этом не вполне официальным путем, от жрецов. Лампос должен был спросить Пифию, не снято ли еще проклятие с холма, где возвышается Троя, то есть узнать, достаточно ли прочны город и его стены, только что основательно перестроенные. Неслыханное предположение! Для нас, молодых, Троя и всё, с чем связано было ее имя, выросло из этого холма Ате, из единственного возможного места на всей земле, в виду горы Иды, и сверкающей долины перед ней, и морским заливом с естественной гаванью, а вместе с городом выросли и стены, охраняющие, но и сжимающие его. В далёкой древности боги Аполлон и Посейдон помогали строить их, и потому эти стены нельзя ни разрушить, ни завоевать. Так говорили люди, а я жадно слушала их, но слушала также и противные речи: как ради страсти к жрецу Аполлона Пантою Лампос просто-напросто забыл спросить Пифию о самых важных для Трои обстоятельствах. И стены, укрепленные без благословения могущественного оракула, отнюдь не неприступны, а, напротив, уязвимы? Скейские ворота – их слабое место? А Пантой, выходит, он не как пленник, а по своей охоте последовал за невзрачным двоюродным братом царя? Приам же оказался достаточно слаб, чтобы посвятить чужеземца в жрецы Аполлона, а это не могло значить ничего иного, кроме признания верховенства Дельф в вопросах религии. По крайней мере в вопросе об этом боге Аполлоне.
Представить себе все это было трудно. Так глупо, так плохо придумано, что я и ребенком не желала верить в эти россказни. Но все равно я жадно ловила обрывки любого разговора об этом. Я пробивалась в кружок старших, проползая между тогда уже могучих ног Гектора, и, прислонившись к нему, не пропускала ни слова. Не рождению, вовсе нет, но этим разговорам во внутренних двориках дворца обязана я тем, что стала троянкой. А воркотне голосов около глазка, когда я сидела в заточении, – тем, что перестала ею быть. Теперь, когда Трои больше не существует, я опять стала ею, троянкой, и только ею.
Кому мне сказать об этом?
Да. Если ничем другим, то поначалу я превосходила грека Пантоя своей осведомленностью о том, что делается во внутренних двориках дворца, о любом волнении, проносившемся там и захватывающем меня тоже, благодаря моему тонкому слуху к любому изменению высоты тона каждого шепотка. Я однажды даже спросила Пантоя, почему он здесь, то есть там, в Трое. «Из любопытства, любовь моя», – сказал он легкомысленным тоном, усвоенным им в последнее время. «Но разве может кто-нибудь из любопытства покинуть оракула в Дельфах, центре мира?» – «Ах, моя маленькая недоверчивая Кассандра! Если бы ты его только знала, этот центр мира». Он часто давал мне прозвания, которые подошли мне только позднее.
Узнав Трою, мой центр мира, по-настоящему, я поняла Пантоя. Не любопытство погнало бы меня прочь – ужас! Но куда, на каком корабле поплыла бы я?
Я и вправду не знаю, почему меня так занимает Пантой. Может быть, это слово, прилипшее к его имени, хочет высвободиться из глубочайших глубин, куда мне не дано спуститься? Или образ?
Давняя, очень давняя картина расплывается, ускользает от меня, может быть, я смогу ее поймать, если освобожу свое внимание, дам ему свободно блуждать. Я вглядываюсь в глубину. Внизу словно бы вереница людей – поднятые лица, вплотную одно к другому, – толпятся на узкой улочке. Пугающие, жадные, дикие. Отчетливей, все отчетливей. Вот тихое белое средоточие толпы. Мальчик во всем белом ведет на веревке молодого белого бычка. Среди неистовства – неприкосновенное белое пятно. И возбужденное лицо няни, на руках у которой я сижу. Пантоя не видно, но я знаю, что он во главе шествия, сам еще почти мальчик, очень юный, очень красивый он был. Пантой проведет толпу к Скейским воротам и заколет быка, но мальчика отпустит. Бог Аполлон, охраняющий город, не хочет впредь жертвоприношений мальчиков. «Жертвоприношение мальчиков» – вот оно, слово. Я больше не видела такого в Трое, хотя. Для того чтобы отменить это жертвоприношение, Приаму понадобился Пантой. И когда на десятом году войны греки подошли к Скейским воротам и грозили их взять – ворота, у которых грек не допустил заклания мальчиков, – тогда прозвучало: «Пантой – предатель». Мой безобидный, легковерный народ! Я не выносила Пантоя в последнее время. Я не выносила в себе того, что он сделал для меня притягательным.
Кто живет, будет видеть. Мне пришло в голову, что я прослеживаю историю своего страха. Или, правильнее, историю его развязывания, а еще точнее – его высвобождения. Да, конечно, и страх может быть высвобожден, и тогда выясняется, что он во всем и всем связан с угнетенными. Дочь царя не может испытывать страха, страх – слабость, а от слабости помогает железная тренировка. У безумной есть страх, она обезумела от страха. У рабыни должен быть страх. Свободная учится отгонять свои ничтожные страхи и не бояться большого, серьезного страха, ибо она не столь горда, чтобы делить его с остальными. Формулы? Конечно.
Верно говорят: чем ближе смерть, тем ярче и ближе картины детства, юности. Целую вечность не вызывала я их перед своими глазами. Как трудно, почти невозможно было увидеть ВТОРОЙ КОРАБЛЬ тем, чем он, как провозгласила Гекуба, был на самом деле – вылазкой объятых страхом. О чем же шла речь, неужели было так важно послать на корабле таких людей, как Анхиз и Калхас-прорицатель? Анхиз вернулся стариком, а Калхас вообще не вернулся.
Речь шла о сестре царя, Гесионе. «Гесиона, – сказал мой отец Приам в совете и придал своему голосу плаксиво-патетическое звучание, – Гесиона, сестра царя, в плену у спартанца Теламона, ее похитившего». Члены совета были озадачены. «Так уж в плену, – насмехалась Гекуба. – Похищена. Все-таки она в Спарте не жалкая рабыня. Если нам правильно сообщили, этот Теламон женился на ней и сделал ее царицей. Или я не права?»
«Не в этом дело. Царь, который не делает попыток отвоевать похищенную сестру, теряет лицо». – «Ах так, – отрезала Гекуба. – Тогда нечего больше публично сетовать». Они спорили в ее мегароне, и, что было хуже всего, отец отослал меня. Его противоречивые чувства передались мне, уплотнились, сгустились и, казалось, расположились под ложечкой – вибрирующее напряжение, которое няня научила меня называть «страхом». «К чему столько страха, доченька? У ребенка слишком сильное воображение».
Флажки, кивки, ликование, искрящаяся вода, сверкающие весла – их пятьдесят, отметили дворцовые писцы, которые только и умели считать на глиняных табличках. Отправлялся ВТОРОЙ КОРАБЛЬ. Подзадоривающие выкрики. «Сестра царя или смерть!» – кричали остающиеся там, на палубе корабля. Около меня стоял Эней и кричал своему отцу: «Гесиона или смерть!» Я испугалась, но знала, что пугаться нельзя. Эней действовал в интересах царского дома, к которому я принадлежала, когда ради чужой женщины, по случайности сестры царя, желал смерти своему отцу. Я подавила свой ужас и принудила себя восхищаться Энеем. Тогда возникли во мне противоречивые чувства. И в Энее также, он мне потом сказал. Он сказал мне, что эта чужая женщина, чем дольше длилась затея с ее возвращением, становилась ему все безразличнее, даже ненавистнее, а тревога за отца росла. Как могла я это знать? Тогда это случилось, да, тогда: сны, в которых являлся мне Эней, а я испытывала наслаждение, когда он мне угрожал; сны, которые мучали меня и рождали ощущение непоправимой беды и собственной, приводящей в отчаяние странности. О, я могла бы рассказать, как возникают зависимость и страх. Только никто больше не спрашивает меня.
Я хотела быть жрицей. Я хотела пророческого дара во что бы то ни стало.
Чтобы не видеть зловещей действительности за блестящим фасадом, мы мгновенно изменяли наши ложные заключения. Случай, который возмутил меня, когда я еще могла возмущаться: ликующие троянцы, подобно мне, приветствовали отплытие ВТОРОГО КОРАБЛЯ, а позднее утверждали, будто именно с этого корабля пошла порча. Но как смогли они так скоро позабыть впитанное с молоком матери: что цепь неблагоприятных для нашего города событий теряется в серой предыстории, разрушение, и восстановление, и снова разрушение под властью сменяющих друг друга царей, по большей части неудачников. Что заставляло их, что заставляло нас верить, что именно этот царь, именно мой отец Приам, разобьет цепь несчастий, что именно он возвратит нам золотой век? Почему могущественнее всех оказываются в нас именно желания, покоящиеся на заблуждениях? Ни за что другое не осуждали они меня так, как за то, что я уклонилась и не разделяла с ними несчастного пристрастия к таким желаниям. Это мое уклонение, а не греки виной тому, что потеряла отца, мать, братьев, сестер, друзей, мой народ. А что я выиграла? Нет, о своих радостях я запрещаю себе думать до тех пор, пока это не понадобится.
Когда ВТОРОЙ КОРАБЛЬ наконец вернулся, разумеется – так говорил теперь каждый – без сестры царя, а также и без Калхаса-прорицателя, когда разочарованный народ, настроенный почти враждебно, собрался в гавани, ропща и негодуя (стало известно, что спартанец посмеялся над требованием троянцев), когда на лбу моего отца появились темные тени – я в последний раз плакала открыто. Гекуба, не торжествовавшая по поводу неудачи, предсказанной ею, запретила мне это, не резко, но вполне определенно. Из-за политики не плачут. Слезы затуманивают сознание. Если противник предается своим настроениям – смешно и тем хуже для него. То, что мы не увидим сестры отца, было ясно любому, кто не лишен здравого смысла. Народ, естественно, провожает отплытие и прибытие каждого корабля честолюбивыми надеждами и неизбежным разочарованием. Правители должны уметь владеть собою. Я протестовала против правил моей матери. Оглядываясь назад, я вижу: она принимала меня всерьез. Отец искал у меня только утешения. Больше никогда я не плакала открыто. И все реже тайно.
Оставался Калхас-прорицатель. Где был он? Умер по дороге? Нет. Убит? Нет. Значит, захвачен греками в качестве заложника. В это народ охотно поверил и верил некоторое время, ну что ж, если дурная слава греков еще укрепится, вреда в том нет. По переходам дворца бежала другая весть; когда она дошла до меня, я, сжав кулаки, с горечью запретила себе верить в нее. Но Марпесса упорствовала: это правда, это обсуждают в совете. И в спальне царя и царицы. «Как, Калхас перебежал к грекам? Наш уважаемый провидец, посвященный в самые сокровенные государственные тайны, изменник?» – «Именно так». – «Эта новость – ложь». Разгневанная, я отправилась к матери, безрассудно облегчила свою душу и вынудила Гекубу действовать. Марпесса исчезла. Няня появилась с заплаканными глазами, полными укора. Кольцо молчания сомкнулось. Дворец, самое родное мое место, отстранился от меня, мои любимые внутренние дворики замолкли. Я осталась со своей правотой одна.
Первый оборот круга.
Эней, которому я всегда верила, потому что боги забыли наделить его способностью ко лжи, Эней подтвердил мне все, слово в слово. Да, Калхас-прорицатель остался у греков по собственной воле. Он знает это точно от своего отца, словно на годы состарившегося Анхиза. Калхас-прорицатель боялся – вот сколь неутешительно банальны причины для решений с серьезными последствиями, – боялся, что после неудачи со ВТОРЫМ КОРАБЛЕМ его потребуют к ответу за его сулящие успех предсказания перед отплытием. Самое смешное: царский дом принудил его дать сулящие успех предсказания, не вопрошая богов.
А мне с самого начала было ясно, что Марпесса говорила правду. И я слышу, как я сказала Энею, что мне с самого начала все было ясно. Голос, проговоривший это, был чужим, и, конечно, я знаю сейчас, знаю давно, что не случайно этот чужой голос уже часто застревал у меня в горле и зазвучал впервые в присутствии Энея. Я намеренно выпустила его на свободу, чтобы он не разорвал меня. С тем, что произошло дальше, я уже совладать не могла. «Мне все было ясно, мне все было ясно» – снова и снова чужим, высоким, жалобным голосом.
Прибытие ТРЕТЬЕГО КОРАБЛЯ оставило меня странным образом спокойной. Он прибыл ночью, об этом позаботились, но тем не менее сбежался народ, высоко подняли факелы, но кто узнает в полутьме лица, кто различит их, кто сосчитает.
Там, несомненно, был Анхиз, его ни с кем не спутаешь, он до глубокой старости сохранил юношескую походку. Анхиз, казалось, спешил больше, чем обычно, ничего не объясняя, он допустил Эвмела сопровождать себя и скрылся во дворце. На корабле были юноши, которых я должна была бы ждать, но кого из них? Энея? Париса? Для кого из них забилось наконец сильней мое сердце? Никто не подходил к ним. Впервые вокруг пристани сомкнулось оцепление из людей Эвмела. Парис не вернулся на этом корабле – гласило сообщение, объявленное утром его родными в царском дворце. В Спарте снова уклонились от выдачи сестры царя, и потому Парис был вынужден привести в исполнение свою угрозу. Иначе говоря, он похитил супругу царя Менелая. Прекраснейшую женщину Греции – Елену. С ней вместе он окольным путем возвращается сейчас в Трою.
Елена. Имя прозвучало как удар. Красавица Елена. Мой маленький брат вовсе не совершал этого. Это можно было бы понять. И мы знали об этом. Я была свидетельницей того, как в метаниях между дворцом и храмом, в дневных и ночных заседаниях совета была изготовлена и выкована новость, твердая, гладкая, как копье. Парис, троянский герой, по велению нашей любимой богини Афродиты похитил у хвастливых греков прекраснейшую женщину Греции, Елену, и тем самым смыл оскорбление, нанесенное нашему могучему царю Приаму разбойничьим похищением его сестры.
Ликуя, толпился народ на улицах. Я увидела, как официальное сообщение становится правдой. И Приам обрел новый титул: «наш могучий царь». Позднее, когда все безнадежней становилась война, мы должны были называть его «наш всемогущий царь». «Целенаправленные нововведения, – сказал Пантой. – Тому, что повторяешь много раз, под конец начинаешь верить». – «Да, – сухо ответил Анхиз. – Под конец». Я решила выдержать по крайней мере словесную войну. Никогда не говорила я иначе чем «отец» или в крайнем случае «царь Приам». Но я очень хорошо помню беззвучный зал, куда падали эти слова. «Ты можешь себе это позволить, Кассандра», – слышала я. Правильно. Они могли себе позволить меньше бояться убийства, чем нахмуренных бровей своего царя или доноса Эвмела. Я же могла себе позволить немножко предвидения и капельку упрямства. Упрямства, не мужества.
Как давно я не думала о старых временах. Правда, что близкая смерть еще раз поднимает из-под спуда всю жизнь. Десять лет войны. Они были достаточно долгими, чтобы позабыть о том, как возникла война. В середине войны думаешь только о том, как она кончится. И откладываешь жизнь на потом. И когда так поступают многие, в нас образуется пустое пространство, куда устремляется война. Во мне тоже вначале победило ощущение, что сейчас я живу как бы временно, настоящая действительность еще предстоит мне, что я даю жизни проходить мимо. От этого я страдала больше всего. <…>
Отсутствующего Париса прославляли в песнопениях. Страх во мне подстерегал меня. И не только во мне. Без просьбы царя я истолковала сон, который он рассказал за столом. Два дракона сражались друг с другом, на одном был золотой кованый панцирь, у другого – остро отточенное копье. Один – неуязвим, но безоружный, другой вооружен и исполнен ненависти, но уязвим. Они сражаются вечно.
«Ты находишься в столкновении сам с собой. Ты сам не даешь себе действовать. Парализуешь себя».
«О чем говоришь ты, жрица, – ответил мне Приам официально. – Пантой уже давно истолковал этот сон. Дракон в золотом панцире – это, конечно, я, царь. Вооружиться следует мне, чтобы сокрушить лицемерного и вооруженного с головы до ног врага. Я уже приказал оружейникам увеличить количество изготовляемого оружия».
«Пантой», – окликнула я его в храме. «Но, – сказал он, – это же все звери, Кассандра. Полузвери-полудети. Они будут следовать своим вожделениям и без нас. Зачем нам становиться у них на дороге? Чтобы они нас растоптали? Нет. Я сделал выбор».
Ты сделал выбор: питать зверя в себе самом, разжигать его. Жуткая улыбка на застывшем лице. Но что я знаю об этом человеке?
Когда начинается война, мы сразу узнаем об этом, но когда начинается подготовка войны? Если только здесь есть правила, надо рассказать о них вам, передать другим. Оттиснуть на глине, высечь на камне, передавать из поколения в поколение. Что будет там написано? Прежде всех остальных слова: «Не дайте своим обмануть вас».
Парис, прибывший наконец почему-то на египетском судне, свел на берег скрытую плотным покрывалом фигуру. Народ, толпившийся, как теперь было принято, за цепью безопасности из людей Эвмела, замер. В каждом возник образ прекраснейшей из женщин, такой сияющий, что, доведись нам его увидеть, он ослепил бы всех. Сначала робко, потом воодушевленно толпа скандировала: Е-ле-на, Е-ле-на. Елена не показала лица. За праздничным столом она тоже не появилась. Она измучена долгой дорогой. Парис, совсем другой Парис, передал утонченные дары от царя Египта и рассказывал чудеса. Он говорил и говорил, размахивая руками, безудержно, замысловато, с выкрутасами, что, по-видимому, считал остроумным. Он вызвал много смеха. Он стал мужчиной. Я все время смотрела на него. Но заглянуть ему в глаза мне не удавалось. Откуда эта косая складка на его красивом лице, какое лезвие обострило его прежде мягкие черты?
С улицы во дворец доносился звук, такого прежде мы никогда не слышали, похожий на угрожающее жужжание улья, откуда вот-вот вылетит рой пчел. Мысль, что во дворце их царя находится прекрасная Елена, вскружила людям головы. В эту ночь я не допустила к себе Пантоя. В ярости он попытался прибегнуть к насилию. Я позвала няню, которой как раз не оказалось поблизости. Пантой ушел с перекошенным лицом. Грубая плоть под маской. Грусть, что затягивала иногда чернотой солнце, я старалась скрывать.
Каждой жилкой я запрещала себе чувствовать, что в Трое нет никакой прекрасной Елены. Когда остальные обитатели дворца давали понять, что они все поняли, когда я уже второй раз в утренних сумерках увидела милую Ойнону, выходившую из спальни Париса, когда рой легенд о невидимой красавице, жене Париса, сам собою сник и все взгляды опускались, когда я, одна только я, словно движимая какой-то силой, снова и снова называла имя Елены и даже предлагала сходить за нею, все еще слабой, мне отказывали – даже тогда я все еще не хотела поверить в невероятное. «Ты кого хочешь приведешь в отчаяние», – сказала мне Арисба. Я хваталась за любую соломинку, если можно было назвать соломинкой посольство Менелая, которое в сильных выражениях требовало возвращения их царицы. Раз они хотели ее вернуть, значит, она здесь. Мое чувство не оставляло сомнений: Елена должна вернуться в Спарту. И также ясно мне было: царь отклонит это требование. Всем сердцем стремилась я быть на его стороне, на стороне Трои. Убейте меня, но я не могу понять, почему в совете спорили еще целую ночь. Позеленевший, бледный Парис объявил, словно побежденный: «Нет, мы не выдадим ее». – «Друг, Парис, – закричала я, – радуйся!» Его взгляд, наконец-то его взгляд, показал мне, как он страдал. Этот взгляд вернул мне брата.
Потом мы все забыли, что было поводом к войне. После кризиса на третьем году войны даже солдаты перестали требовать, чтобы им показали прекрасную Елену. Больше терпения, чем может взрастить в себе человек, понадобилось, чтобы по-прежнему повторять имя, которое все сильнее отдавало пеплом, пожаром, разорением. Они отбросили это имя и стали оборонять самих себя. Но для того, чтобы приветствовать войну ликованием, это имя годилось. Оно поднимало их над самими собой. «Обратите внимание, – говорил нам Анхиз, отец Энея, который охотно поучал нас и, когда уже можно было различить конец войны, принуждал нас обдумать ее начало. – Предположим, они взяли эту женщину. Слава и богатство даются и мужчине. Но красота? Народ, который сражается за красоту!» Сам Парис, словно против воли, появился на рыночной площади и бросил народу имя Елены. Никто не заметил его растерянности. Я заметила ее. «Почему ты так холодно говоришь о своей горячей жене?» – спросила я. «Моя горячая жена, – был его язвительный ответ. – Опомнись, сестра. Ее здесь нет».
Мои руки рванулись вверх еще прежде, чем я подумала: да, я верю ему. Мне уже давно было не по себе, меня терзал страх. Приступ, подумала я еще трезво, но уже слышала тот голос: «Горе, горе, горе». Я не знаю, кричала я громко или говорила шепотом: «Мы погибли. Горе, мы погибли».
(Пер. с нем. Э. Львовой)
Цит. по: Вольф К. Избранное: сборник. М.: Радуга, 1988.
Энтони Бёрджесс ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬСИН[35] Фрагмент
7
Я не верил своим usham. Казалось, меня держат в этом поганом meste целую вечность и будут держать еще столько же. Однако вечность целиком уместилась в две недели, и наконец мне сказали, что эти две недели кончаются: «Завтра, дружок, на выход», да еще большим пальцем этак, словно показывая, где этот самый выход располагается. А потом и санитар, который toltshoknul меня, но продолжал носить мне на подносе zratshku и провожать на ежедневную пытку, подтвердил:
– Последний тяжелый день тебе остался. Вроде как выпускной экзамен, – и гаденько при этом zauhmylialsia.
В то утро я ожидал, что меня, как обычно в пижаме и тапочках, поведут в этот их кинозал. Но нет. Мне вернули мою рубашку, нижнее belljo, боевой костюм и govnodavy, причем все вычищенное и наглаженное. Отдали мне даже опасную бритву, которой я вовсю пользовался во дни веселых выступлений. Так что, одеваясь, я только озадаченно хмурился, но nedonosok в белом лишь ухмылялся, ничего не объясняя, бллин.
Меня вполне вежливо проводили туда же, куда всегда, но там кое-что изменилось. Киноэкран задернули занавесом, а под отверстиями для проекторов никаких матовых стекол уже не было – их, видимо, подняли или раздвинули в стороны, как дверцы шкафа. Там, где когда-то были только звуки – kashl-kashl-kashl – и неясные тени, теперь открыто восседала публика, и в этой публике кое-какие litsa были мне знакомы. Присутствовал комендант Гостюрьмы, присутствовал капеллан – священник, или свищ, как мы его между собой называли, присутствовал начальник охраны и присутствовал тот самый важный и шикарно одетый vek, который оказался министром то ли внутренних, то ли нутряных дел. Остальных я не знал.
Там же были и доктор Бродский с доктором Браномом, правда уже не в белых халатах – теперь они были одеты так, как и положено одеваться inteliam, достаточно преуспевающим, чтобы следить за модой. Доктор Браном стоял молча, а стоящий рядом с ним доктор Бродский, обращаясь к собравшимся, что-то им по-ученому втолковывал. Увидев меня в дверях, он произнес:
– А-аа! Теперь прервемся, джентльмены, чтобы познакомиться с самим объектом. Как вы сами можете убедиться, он здоров и прекрасно выглядит. Он выспался, хорошо позавтракал, наркотиков не получал, гипнотическому воздействию не подвергался. Завтра мы уверенно выпустим его в большой мир, и будет он добр, как самаритянин, всегда готовый на помощь словом и делом. Не правда ли, разительное превращение – из отвратительного громилы, которого Государство приговорило к бессмысленному наказанию около двух лет назад и который за два этих года ничуть не изменился. Не изменился, я сказал? Это не совсем так. Тюрьма научила его фальшивой улыбке, лицемерным ужимкам, сальной льстивой ухмылочке. Она и другим порокам обучила его, а главное – утвердила в тех, которым он предавался прежде. Но, джентльмены, довольно слов. Дела свидетельствуют вернее. А потому – за дело. Смотрите же!
Я был слегка ошеломлен всем этим govoritingom, никак не мог взять в толк, каким боком это касается меня. Потом везде погас свет и зажглись вроде как два прожектора, светивших из проекционных отверстий, причем один из них осветил вашего скромного многострадального повествователя. А в круг, очерченный другим, вступил какой-то здоровенный dylda, которого я раньше не видел. У него была жирная усатая haria и жиденькие, будто наклеенные, волосы на лысеющей голове. На вид ему было что-нибудь лет тридцать, или сорок, или пятьдесят – не важно, одним словом – stari kashka. Он двинулся ко мне, и вместе с ним двинулся луч прожектора, пока оба луча не слились в один яркий световой круг. Отвратительно ухмыльнувшись, он сказал мне: «Привет, дерьма кусок. Фуу, да ты, видно, не моешься, судя по запаху!» Потом он, вроде как пританцовывая, отдавил мне ногу – левую, потом правую, потом пальцем щелкнул меня по носу, uzhasno больно, у меня даже слезы на glazzja навернулись, потом крутанул мне uho, будто это телефонный диск. Из публики донеслось хихиканье, а пару раз кто-то даже громко хохотнул. У меня ноги, нос и uho разболелись как bezumni, и я сказал:
– Зачем ты так делаешь? Я ведь ничего плохого тебе не сделал, koresh!
– Я, – отозвался этот vek, – это делаю, – (тресь-тресь опять меня по носу), – и вот это делаю, – (снова жгучая боль в скрученном uhе), – и вот это, – (бац мне опять каблуком на правую ногу), – потому что ненавижу таких гадов, как ты. А если хочешь со мной за это посчитаться, давай начинай!
Я уже знал, что britvu надо выхватить очень быстро, пока не накатила убийственная тошнота, которая превратит радость боя в ощущение близости собственной uzhasnoj кончины. Однако, едва лишь моя рука нащупала в кармане britvu, перед моим внутренним оком пронеслась картина того, как этот merzavets, захлебываясь кровью, вопит и просит пощады, и сразу за этой картиной нахлынули ужасная тошнота, сухость в горле и боль, так что мне стало ясно: надо skorennko менять свое отношение к этой skotine, поэтому я похлопал себя по карманам в поисках сигарет или babok, но ведь, бллин, – ни того ни другого. И я плаксивым таким голосом говорю:
– Я бы угостил тебя сигаретой, koresh, да только нету их у меня.
А тот в ответ:
– Ах-ах-ах! Уй-юй-юй! Поплачь, поплачь, сосуночек! – И снова он – тресь-тресь-тресь мне своим поганым черепаховым ногтем по носу, отчего зрители в темном зале, судя по доносящимся звукам, пришли в буйный восторг. А я, уже в полном отчаянии пытаясь умаслить этого отвратительного и настырного vekа, изо всех сил старался не дать повода к тому, чтобы нахлынули тошнота и боль.
– Пожалуйста, позволь мне что-нибудь для тебя сделать, – взмолился я, роясь в карманах и не находя там ничего, кроме своей верной britvy, поэтому я вынул ее и, подав ему, проговорил: – Прошу тебя, возьми, пожалуйста, вот это. Маленький презент. Пожалуйста, возьми себе… – На что он ответил:
– Нечего совать мне свои паршивые взятки. Этим ты меня не проведёшь. – И он ударил меня по руке, отчего britvа полетела на пол. А я говорю:
– Прошу тебя, я обязательно должен что-нибудь для тебя сделать. Можно я почищу для тебя ботинки? – И тут, бллин, – отрежьте мне мои bejtsy, если вру, – я опустился на колени, высунул мили на полторы красный язык и принялся лизать его griaznyje вонючие башмаки. А он за это хрясь мне сапогом в rot, правда, не слишком больно. В этот миг мне подумалось, что, может быть, тошнота и боль не настигнут меня, если всего лишь обхватить его как следует руками за лодыжки и дернуть, чтобы этот подлый vyrodok свалился на пол. Так я и поступил, и он, к несказанному своему изумлению, с грохотом рухнул под хохот всех этих svolotshej, сидевших в зале. Однако, едва лишь я увидел его на полу, сразу ужас и боль охватили меня с новой силой, и в результате я протянул ему руку, чтобы он поскорее встал. После чего он изготовился врезать мне зубодробительный toltshok в litso, но доктор Бродский остановил его:
– Хорошо, спасибо, хватит. – А этот гад вроде как поклонился и танцующей походкой комедианта ушел со сцены, на которой зажегся свет, выставивший меня на всеобщее обозрение в самом пакостном виде: полные слез глаза, перекошенный плаксивый morder и т. д. К публике обратился доктор Бродский:
– Наш объект, как видите, парадоксально понуждается к добру своим собственным стремлением совершить зло. Злое намерение сопровождается сильнейшим ощущением физического страдания. Чтобы совладать с этим последним, объекту приходится переходить к противоположному модусу поведения. Вопросы будут?
– Как насчет выбора? – пророкотал глубокий грудной бас. То был знакомый мне голос тюремного свища. – Ведь он лишен выбора, не так ли? Только что нами виденный чудовищный акт самоуничижения его заставили совершить боязнь боли и прочие своекорыстные соображения. Явно видна была его неискренность. Он перестает быть опасным для окружающих. Но он также перестает быть существом, наделенным способностью нравственного выбора.
– Это все тонкости, – чуть улыбнулся Бродский. – Мотивациями мы не занимаемся, в высокую этику мы не вдаемся. Нам главное – сократить преступность и.
– И, – подхватил щеголеватый министр, – разгрузить наши отвратительно переполненные тюрьмы.
– Болтай, болтай… – обронил кто-то вполголоса.
Тут разгорелся спор, все заговорили разом, а я стоял, совершенно забытый всеми этими подлыми недоумками, так что пришлось подать голос:
– Э-э-э! А что же со мной? Мне-то теперь как же? Я что теперь, животное какое-нибудь получаюсь, собака? – И от этого все зашумели, в мой адрес полетели всякие раздраженные slova. Я опять в kritsh, еще громче: – Я что, по-вашему, заводной апельсин? – Не знаю, что побудило меня произнести эти слова, бллин, они вроде как сами собой возникли у меня в голове. На минуту-другую воцарилось молчание. Потом встал один тощий профессорского вида kashka с шеей, похожей на сплетение проводов, передающих энергию от головы к телу, и сказал:
– Тебе не на что жаловаться, мальчик. Ты свой выбор сделал, и все происшедшее лишь следствие этого выбора. Что бы теперь с тобой ни случилось, случится лишь то, что ты сам себе избрал.
И тут же голос тюремного свища:
– О, как трудно в это верится! – Причем комендант тут же бросил на него взгляд, в котором читалось: все, дескать, все твои надежды высоко взлететь на поприще тюремной религии придется тебе похоронить. Шумный спор разгорелся снова, и тюремный свищ кричал наравне со всеми что-то насчет Совершенной Любви, которая Изгоняет Страх и всякий прочий kal. Тут с улыбкой от uha до uha заговорил доктор Бродский:
– Я рад, джентльмены, что вы затронули тему любви. Сейчас мы увидим на практике то поведение, которое считалось невозвратно исчезнувшим еще со времен средневековья. – Тут свет погасили, и опять зажглись прожекторы, один из которых направили на меня, бедного и исстрадавшегося вашего друга и повествователя, а в другой бочком вступила молодая kisa, причем такая, красивее которой – я клянусь – вам в жизни, бллин, не приходилось видеть. То есть, во-первых, obaldennyje grudi, выставленные прямо напоказ, потому что платье у нее было с таким низким-низким вырезом. Во-вторых, божественные ноги, а походка такая, что прямо в кишках sverbit, и вдобавок litso красивое и детски невинное. Она подошла ко мне в луче прожектора, свет которого показался мне сиянием Благодати Господней, которую, как и весь прочий kal, она вроде как несла с собой, и первой промелькнувшей у меня в голове мыслью было, что нехудо было бы ее тут же на полу и оформить по доброй старой схеме sunn-vynn, но сразу же откуда ни возьмись нахлынула тошнота, будто какой-то подлый мент из-за угла все подглядывал, подглядывал да вдруг как выскочит и сразу тебе руки за спину. Даже vonn ее чудных духов теперь заставляла меня лишь корчиться, подавляя рвотные позывы в желудке, так что пришлось мне постараться подумать о ней как-нибудь по-другому, пока меня окончательно не раздавили вся эта боль, сухость во рту и ужасающая тошнота. В отчаянии я закричал:
– О красивейшая из красивейших devotshek, я бросаю к твоим ногам свое сердце, чтобы ты его всласть потоптала. Если бы у меня была роза, я подарил бы ее тебе. Если бы шел дождь и на земле была сплошная грязь и kal, я подстелил бы тебе свою одежду, чтобы ты не запачкала изящные ножки. – И вот я говорю все это, а сам чувствую, как дурнота вроде как съеживается, отступает. – Позволь мне, – заходясь в kritshe, продолжал я, – позволь мне поклоняться тебе и быть твоим телохранителем, защищать тебя от этого svolotshnogo мира. – Тут я немного задумался, подыскивая слово, нашел его и, проговорив: – Позволь мне быть твоим верным рыцарем, – вновь пал на колени и стал бить поклоны, чуть не стукаясь лбом об пол.
И вдруг я почувствовал себя shutom каким-то, посмешищем: оказывается, это опять была вроде как игра, потому что вновь загорелся свет, а devotshkа улыбнулась и ускакала, поклонившись публике, которая разразилась рукоплесканиями. При этом glazzja у всех этих griaznyh kashek прямо чуть не на лоб вылезли, до того похотливыми взглядами они ее, бллин, провожали.
– Вот вам истинный христианин! – воскликнул доктор Бродский. – Он с готовностью подставит другую щеку; он взойдет на Голгофу, лишь бы не распинать других; при одной мысли о том, чтобы убить муху, ему станет тошно до глубины души. – И он говорил правду, бллин, потому что, когда он сказал это, я подумал о том, как убивают муху, и сразу почувствовал чуть заметный наплыв тошноты, но тут же справился, оттолкнул и тошноту, и боль тем, что стал думать, как муху кормят кусочками сахара и заботятся о ней, будто это любимый щенок, padla этакая. – Перевоспитан! – восторженно выкрикнул Бродский. – Господи, возрадуются уповающие на Тебя!
– Главное, – зычно провозгласил министр внутренних дел, – метод работает!
– Да-а, – протянул тюремный свищ вроде как со вздохом, – ничего не скажешь, работает. Господи, спаси нас всех и помилуй.
(Пер. с англ. В. Бошняка)
Цит. по: Бёрджесс Э. Заводной апельсин. СПб.: Азбука, 2000.
Эмиль Ажар ВСЯ ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ Фрагмент
В дверь, значит, позвонили, я пошел открыть, а там стоит какой-то мозгляк жутко унылого вида, с длинным крючковатым носом, и глаза у него какие-то не такие и еще к тому же испуганные. Он был бледный и весь в поту, дышал часто, а руку прижимал к сердцу, но вовсе не по причине чувств, а потому что подъем на седьмой этаж очень сильно влияет на сердце. Воротник пальто у него был поднят, волос на голове кот наплакал, что характерно для лысых. Шляпу он держал в руке, словно желая показать, что она у него имеется. Я тогда еще не знал, откуда он вышел, но точно скажу: я никогда еще не видел такого неуверенного в себе мужика. Он растерянно и со страхом пялился на меня, и я ему ответил той же монетой, потому как можете мне поверить: достаточно было только глянуть на этого хмыря, чтобы усечь, в каком он был состоянии, а был он в состоянии страшной паники.
– Мадам Роза здесь живет?
В таких случаях всегда нужно быть осторожным, потому что незнакомые люди взбираются на седьмой этаж не для того, чтобы доставить вам удовольствие.
Я прикинулся дурачком, что вполне простительно для моего возраста.
– Кто?
– Мадам Роза.
Я задумался. В таких случаях всегда важно выиграть время.
– Это не я.
Он вздохнул, вытащил из кармана носовой платок, вытер лоб, а потом положил платок в карман и опять вздохнул.
– Я болен, – сообщил он. – Я вышел из больницы, где находился одиннадцать лет. Я поднялся на седьмой этаж вопреки запрещению врача. Я пришел сюда, чтобы увидеть перед смертью своего сына, я имею на это полное право, и любой закон разрешает это, даже среди дикарей. Я хочу всего-навсего посидеть минутку, отдышаться, увидеть моего сына, больше мне ничего не нужно. Я сюда пришел? Одиннадцать лет назад я доверил своего сына мадам Розе, и у меня даже есть расписка.
Он покопался в кармане пальто и протянул мне до невозможности засаленный листок бумаги. Спасибо мосье Хамилю, которому я всем обязан, я смог прочесть, что там написано. Не будь его, фиг бы я что прочитал. «Получено от мосье Кадира Юсефа пятьсот франков в качестве аванса за малолетнего Мохаммеда мусульманского вероисповедания седьмого октября 1956 года». Меня как по голове оглоушило, но я быстренько подсчитал: сейчас семидесятый год, так что получается четырнадцать лет, а значит, это не я. Мохаммедов у мадам Розы, наверно, перебывала куча, чего-чего, а этого добра в Бельвиле хоть задом ешь.
– Погодите, я посмотрю.
Я пошел к мадам Розе и сказал ей, что за дверью стоит хмырь с гнусной рожей, который хочет знать, нет ли тут его сына, ну и она, ясное дело, жутко сдрейфила.
– Господи, Момо, но здесь только ты и Мойше.
– Значит, это Мойше, – ответил я ей, потому что это мог быть или он, или я, и это была с моей стороны законная защита.
Мойше как раз дрых в другой комнате. Дрыхнуть он любит больше, чем любой другой соня из всех, кого я знаю.
– Может, он собирается шантажировать мамашу, – протянула мадам Роза. – Ладно, поглядим. Уж котов-то я не боюсь. Он ничего не сможет доказать. Мои фальшивые документы в полном порядке. Впусти его. В случае чего, если он разойдется, сбегаешь за мосье Н'Да.
Я впустил этого хмыря. Три волосинки, которые еще остались у мадам Розы, она накрутила на бигуди, и наштукатурена она была в полном порядке, а одета в красное кимоно, и, когда этот хмырь увидел ее, он тут же присел на кончик стула, и колени у него дрожали. Я видел, что мадам Роза тоже дрожит, но у нее это было не так заметно, потому что она была толстая и у дрожи не хватало силы всколыхнуть все ее жиры. Но если не обращать внимание на все остальное, глаза у нее были потрясающе красивого карего цвета. Значит, хмырь этот шляпу держал на коленях и сидел на краешке стула напротив мадам Розы, которая восседала в своем кресле, а я постарался встать спиной к окну, чтоб он не больно мог меня разглядеть, – на всякий случай. Я совсем не был похож на этого хмыря, но у меня есть одно железное правило в жизни: никогда нельзя рисковать. Тем более что он повернулся ко мне и изо всех сил пялился на меня, как будто потерял свой нос и теперь искал его на мне. Все молчали, никто не хотел начинать первым, до того все были перепуганы. Я даже сходил поднял Мойше, потому как у этого хмыря имелась расписка по полной и законной форме и надо было представить все, что мы имеем.
– Итак, что вам угодно?
– Мадам, одиннадцать лет назад я доверил вам своего сына, – начал он, и должен сказать, говорил он с трудом, все еще никак не мог отдышаться. – Я не имел возможности раньше подать вам признаков жизни, поскольку находился в закрытой больнице. У меня не было даже вашей фамилии и адреса, у меня все отняли, когда туда заперли. Ваша расписка находилась у брата моей несчастной жены, которая, как вам, несомненно, известно, трагически погибла. Сегодня утром меня выпустили, я взял расписку и явился сюда. Меня зовут Кадир Юсеф, и я пришел увидеть своего сына Мохаммеда. Я хочу приветствовать его.
В тот день с головой у мадам Розы было в полном порядке, и это нас спасло.
Я увидел, что она побледнела, но для этого нужно было знать ее, потому как незнакомый человек при всей ее штукатурке увидел бы только красное да синее. Она надела очки, а ей они здорово шли, и глянула на расписку.
– И что вы хотите сказать?
Хмырь этот расплакался.
– Мадам, я болен.
– Ну, а кто не болен, кто нынче здоров, – набожно произнесла мадам Роза и даже возвела глаза к небу, словно желая возблагодарить его.
– Мадам, мое имя Кадир Юсеф, а санитары звали меня Юю. Я одиннадцать лет находился в психушке после той трагедии, что была в газетах, за которую я не несу никакой ответственности.
И тут вдруг я припомнил, что мадам Роза все время интересовалась у доктора Каца, не психический ли я. Одним словом, не унаследовал ли я. Хотя мне накласть, это ведь не я. Мне не четырнадцать, а десять. Так что пошло оно все.
– И как, говорите вы, звали вашего сына?
Мадам Роза смотрела на него так пристально, что я даже еще больше забезал.
– А имя его матери вы не припомните?
И тут я подумал, что этот хмырь сейчас откинет копыта. Он позеленел, челюсть у него отвалилась, колени ходили ходуном, а на глазах выступили слезы.
– Мадам, вы же прекрасно знаете, что я был невменяемым. Это было признано и медицински удостоверено. Даже если моя рука и совершила это, я тут ни при чем. Сифилиса у меня не обнаружили, хотя санитары говорили, что все арабы – сифилитики. Я это сделал в момент умопомрачения, упокой Боже ее душу. Я стал очень набожным. Каждый час молюсь за ее душу. При той профессии, которая была у нее, ей это необходимо. Я действовал в припадке ревности. Вы только представьте, она пропускала до двадцати мужчин в день. В конце концов я стал ревновать ее и убил, да, не отрицаю. Но я был невменяем. Это признали самые лучшие французские врачи. Я ведь после этого даже ничего не помнил. Я безумно ее любил. И не мог жить без нее.
Мадам Роза ухмыльнулась. Никогда раньше я не видел, чтобы она так ухмылялась. Это было… Нет, я даже не могу сказать вам, как это было. У меня даже в заднице похолодело.
– Само собой, мосье Кадир, вы не могли жить без нее. В течение нескольких лет Айша приносила вам по сто тысяч старых франков в день. Вы пришили ее, потому что хотели, чтобы она приносила больше.
Хмырь тихо вскрикнул и расплакался. Впервые я увидел плачущего араба, ну, если не считать меня самого. Мне даже немножко жалко его стало, при всем при том, что плевал я на него.
Мадам Роза как-то вдруг смягчилась. Видно, ей доставило удовольствие, что она прищемила яйца этому парню. Наверно, она почувствовала, что все еще остается женщиной.
– Ну, а как чувствуете себя, мосье Кадир?
Хмырь утер слезы кулаком. У него даже не хватило сил слазить в карман за платком, слишком это был большой труд.
– Спасибо, мадам Роза, ничего. Я скоро умру. Сердце.
– Мазлтов, – благожелательно ответила мадам Роза. По-еврейски это означает: «Примите поздравления».
– Спасибо, мадам Роза. Я хотел бы увидеть своего сына, если вы не против.
– Мосье Кадир, вы должны мне за три года за пансион. Вот уже одиннадцать лет, как вы не подавали никаких признаков жизни.
Хмырь так и подскочил на стуле.
– Признаков жизни, признаков жизни, признаков жизни! – запричитал он, воздев глаза к небу, где ждут нас всех. – Признаков жизни!
Нельзя сказать, что произносил он эти слова так, как того требует их смысл, и каждый раз при этом подпрыгивал на стуле, точно ему без всякого уважения давали пенделя в зад.
– Признаков жизни! Вы, наверно, смеетесь надо мной!
– И в мыслях не держала такого, – разуверила его мадам Роза. – Вы бросили своего сына, словно это был кусок дерьма, в полном значении этого слова.
– Но у меня же не было ни вашей фамилии, ни вашего адреса. Расписка хранилась у дяди Айши в Бразилии. А я был заперт в психушке! Вышел только сегодня утром! И отправился в Кремлен-Бисетр к своей невестке, но они все поумирали, кроме ее матери, которая почти ничего не помнила! Расписка была приколота к фотографии Айши вместо фото нашего сыночка. Признаков жизни! Что, интересно, вы подразумеваете под признаками жизни?
– Деньги, – весьма здравомысляще ответила ему мадам Роза.
– Где же, по-вашему, мадам, я мог их взять?
– А вот это меня никак не касается, – промолвила мадам Роза, обмахивая лицо японским веером.
Мосье Кадир Юсеф с такой жадностью глотал воздух, что кадык у него ходил вверх-вниз, точно скоростной лифт.
– Мадам, когда мы доверили вам своего сына, я был в отличной форме и полностью отвечал за свои поступки. У меня было три жены, они работали на Центральном рынке, и одну из них я нежно любил. Я мог позволить себе обеспечить своему сыну наилучшее воспитание. У меня была даже официальная известность, мое имя, Юсеф Кадир, было хорошо известно полиции. Да, мадам, хорошо известно полиции, именно так, черным по белому, было напечатано в газете. «Юсеф Кадир, хорошо известный полиции.» Хорошо известный, мадам, прошу отметить, а не плохо известный. А потом у меня случилась невменяемость, и я стал причиной собственного несчастья…
Этот хмырь рыдал, прямо как какая-нибудь старая еврейка.
– Нет такого закона, чтобы бросать своего сына, точно кусок дерьма, и не платить за него, – строго произнесла мадам Роза и яростно взмахнула веером.
Но меня-то во всем этом интересовало только одно – четко узнать, я этот самый Мохаммед или не я. Если я, то тогда мне не десять, а четырнадцать, а это важно, потому что если мне четырнадцать, то я уже не такой сопляк, и это, прямо скажем, даже замечательно. Мойше стоял у дверей и спокойно слушал, не больно беспокоясь, потому как если этого плаксивого хмыря зовут Юсефом да еще по фамилии Кадир, то вряд ли он окажется евреем. Заметьте, я вовсе не утверждаю, что быть евреем такая уж большая удача, потому что у них своих бед выше головы.
– Мадам, может, я неправильно понимаю ваш тон, а может, в чем-то ошибаюсь, потому что не так все воспринимаю по причине моего психического состояния, но я одиннадцать лет был отрезан от внешнего мира и лишен всех материальных средств. У меня имеется медицинское свидетельство, которое удостоверяет…
И он начал нервно копаться в карманах. Он был из тех людей, которые никогда ни в чем не уверены, и вполне возможно, что у него не было никакой бумаги из психушки, хотя он думал, будто она у него есть, потому что искренне воображал, что его держали в психушке. Психи – это люди, которым все время объясняют, что они вовсе не те, кем они себя считают, и видят совсем не то, что видят, и потому в конце концов шарики у них окончательно заходят за ролики. Впрочем, он нашел в кармане эту бумагу и хотел дать ее мадам Розе.
– Да не желаю я никаких документов, которые что-то доказывают, тьфу, тьфу, тьфу, – ответила мадам Роза и сделала вид, будто плюет через левое плечо, чтобы отогнать неприятности, как в таких случаях и полагается делать.
– Сейчас я психически совершенно здоров, – объявил мосье Юсеф Кадир и поочередно оглядел нас, чтобы удостовериться, что так оно и есть.
– Ну что ж, могу вам только пожелать, чтоб так продолжалось и дальше, – произнесла мадам Роза, так как что другого тут еще можно было сказать.
Но, по правде говоря, не похоже было, что у этого парня все в порядке со здоровьем, особенно если принять во внимание его глаза, которые все время искали помощи, а ведь по глазам-то это проще всего определить.
– Я не мог посылать вам деньги, потому что меня объявили невменяемым и не ответственным за убийство, которое я совершил, и поместили в психушку. Думаю, деньги вам посылал дядя моей бедной жены, пока не скончался. А я, я – жертва судьбы. Поверьте мне, я не совершил бы преступления, если бы находился в состоянии, не представляющем опасности для окружающих. Айшу воскресить я не могу, но я хочу, прежде чем умру, обнять своего сына, хочу попросить у него прощения и попросить, чтобы он молился за меня Богу.
Нет, этот хмырь просто доконал меня своими отцовскими чувствами и требованиями. И потом, не с его рожей набиваться мне в папаши; мой отец должен быть настоящим мужчиной, крутым из крутых, а не слизняком. Кстати, если моя мать работала на Центральном рынке и, как он сам сказал, очень даже неплохо зарабатывала, то никто не может заявить, будто он мой отец. Я родился от неизвестного отца, и это железно на сто процентов – потому как закон больших чисел. Но мне было приятно узнать, что мою мать звали Айша. Красивее этого имени трудно придумать.
– Меня очень хорошо лечили, – рассказывал мосье Юсеф Кадир. – У меня больше не бывает приступов бешенства, в этом смысле я излечился. Но жить мне осталось недолго, сердце у меня, мадам, не переносит волнений. Врачи выпустили меня, мадам, учитывая мои чувства. Я хочу увидеть своего сына, обнять его, попросить простить меня и…
Ну, повело. Заело пластинку.
– …и попросить его молиться за меня.
Он повернулся и уставился на меня с жутким испугом по причине волнения, которое он испытывал:
– Это он?
Но голова у мадам Розы была в полном порядке и даже больше. Она обмахивалась веером и смотрела на мосье Юсефа Кадира, словно заранее наслаждалась тем, что произойдет.
Значит, она молча обмахивалась, а потом обратилась к Мойше:
– Мойше, поздоровайся со своим папой.
– Здравствуйте, папаша, – сказал Мойше, который знал, что он точно не араб и тут его ни с какой стороны не ухватишь.
Мосье Юсеф Кадир побледнел до последней крайности.
– Простите. Я не ослышался? Вы сказали: Мойше?
– Да, Мойше. А в чем дело?
Хмырь вскочил. Вскочил, словно под ним пружина сработала.
– Мойше – это еврейское имя, – сообщил он. – И в этом, мадам, я абсолютно уверен. Мойше – не имя для доброго мусульманина. Нет, возможно, у кого-то так называют, но только не в моей семье. Я, мадам, доверил вам Мохаммеда, а не Мойше. Я не желаю иметь сына-еврея, мне, мадам, этого не позволяет здоровье.
Мы с Мойше переглянулись, но все-таки удержались, не заржали.
Мадам Роза выглядела страшно удивленной. Удивление ее все росло и росло. Она продолжала обмахиваться веером. Стояло такое безмерное, безграничное молчание, когда может произойти все, что угодно. Хмырь продолжал стоять, но его всего трясло.
Мадам Роза несколько раз цокнула языком, покачивая головой:
– Вы уверены?
– В чем уверен, мадам? Я абсолютно ни в чем не уверен, мы живем не в таком мире, где можно быть в чем-то уверенным. У меня слабое сердце. Я говорю только то, что знаю, и пусть я знаю немного, но от того, что я знаю, не откажусь. Одиннадцать лет назад я доверил вам сына-мусульманина трехлетнего возраста по имени Мохаммед. Вы дали мне расписку на моего сына-мусульманина Мохаммеда Кадира. Я – мусульманин, мой сын был мусульманин. Его покойная мать была мусульманка. Скажу даже больше: я вручил вам сына-араба в должном и надлежащем виде и хочу получить назад сына-араба. Я категорически не желаю сына-еврея, мадам. Не желаю, и на этом конец, точка. Здоровье не позволяет мне этого. Вам, мадам, был отдан Мохаммед Кадир, а не Мойше Кадир, и я не хочу снова сойти с ума. Я ничего не имею против евреев, мадам, да простит их Бог. Но я – араб, я – мусульманин, и сын у меня был тоже араб, мусульманин, Мохаммед. Я вам доверил его в мусульманском состоянии и хочу, чтобы точно в таком же состоянии вы мне его и вернули. Я позволил вам уже сообщить, что не могу выносить подобных волнений. Всю свою жизнь я подвергался преследованиям, и у меня имеются подтверждающие это медицинские справки, которые со всей очевидностью свидетельствуют, что я являюсь жертвой преследований.
– Но в таком случае вы уверены, что вы не еврей? – с надеждой осведомилась мадам Роза.
По лицу мосье Кадира Юсефа несколькими волнами пробежали нервные судороги.
– Мадам, я подвергался преследованиям, хоть и не являюсь евреем. У вас больше нет монополии. С еврейской монополией, мадам, покончено. И кроме евреев имеются люди, у которых есть полное право подвергаться преследованиям. Я хочу получить своего сына Мохаммеда Кадира в том самом состоянии араба, в каком я его вручил вам в обмен на вашу расписку. И ни под каким видом не желаю сына-еврея, у меня и без этого полно неприятностей.
– Хорошо, хорошо, вы только не волнуйтесь. Вполне возможно, произошла ошибка, – успокоила его мадам Роза, потому как видела, что внутренне он страшно возбужден. По правде сказать, его было немножко жалко, особенно если подумать, сколько арабы и евреи уже выстрадали вместе.
– Боже мой, ну конечно же, произошла ошибка, – произнес мосье Юсеф Кадир, и ему пришлось сесть, потому что ноги не держали его.
– Момо, принеси мне посмотреть бумаги, – попросила мадам Роза.
Я вытащил из-под кровати здоровенный семейный чемодан. Я часто рылся в нем в поисках сведений о моей матери, и потому никто лучше меня не разбирается в том бардаке, который там внутри. Мадам Роза записывала детей шлюх, когда принимала их на пансион, на малюсеньких клочках бумажки, из которых ни хрена невозможно понять, потому как главное у нас – это соблюдение тайны, так что заинтересованные могут спать спокойно. Никто не сможет их разоблачить как матерей, занимающихся проституцией, и лишить родительских прав. И если бы какому-нибудь сутинёру пришло в голову шантажировать их этим, чтобы заставить поехать в Абиджан, ему не удалось бы добыть из этих листков никаких сведений о ребенке, даже если бы он стал проводить специальное расследование.
Я подал всю кучу бумажек мадам Розе, она послюнила палец и сквозь очки стала изучать их.
– Вот, нашла! – с торжеством объявила она и ткнула пальцем. – Седьмого октября тысяча девятьсот пятьдесят шестого года с мелочью.
– С какой мелочью? – плаксиво протянул мосье Кадир Юсеф.
– Это для округления. В тот день я получила двух мальчиков, одного мусульманского, а второго еврейского вероисповедания.
Она задумалась, и лицо ее просветлело, оттого что она все поняла.
– Ну вот, все ясно! – радостно объявила она. – Я, должно быть, спутала религию.
– Как? – спросил живо заинтересовавшийся мосье Юсеф Кадир. – Как спутала?
– Видимо, я воспитывала Мохаммеда как Мойше, а Мойше как Мохаммеда, – объяснила мадам Роза. – Я получила их в один и тот же день и перепутала. Маленький Мойше сейчас живет в правоверной мусульманской семье в Марселе, где к нему очень хорошо относятся. А ваш малыш Мохаммед – вот он, я воспитала его евреем. Бармицвах и все прочее. Можете не волноваться, он всегда ел только кошерное.
– Как – ел все кошерное? – пискнул мосье Кадир Юсеф, раздавленный до такой степени, что у него даже не было сил вскочить со стула. – Мой сын Мохаммед всегда ел только кошерное? И вы сказали — бармицвах? Мой сын Мохаммед стал евреем?
– Так я же и другого перепутала, – успокоила его мадам Роза. – Понимаете, когда из двоих перепутываешь одного, то обязательно перепутываешь и другого, тут уж ничего не поделать. Трехлетние малыши очень похожи, даже обрезанные. Я спутала, кто как обрезан, и воспитала вашего Мохаммеда правоверным евреем, так что на этот счет вы можете не волноваться. И вообще, если бросаешь своего сына на одиннадцать лет, нечего удивляться, что он стал евреем…
– Но я же не имел возможности по клиническим обстоятельствам! – простонал мосье Кадир Юсеф.
– Ну так что ж, он был арабом, а теперь он немножечко еврей, но ведь это все равно ваш сын! – с доброй материнской улыбкой заявила мадам Роза.
Хмырь подскочил. Негодование придало ему силы, и он смог встать со стула.
– Я требую сына-араба! – заорал он. – Я не желаю сына-еврея!
– Но это ведь тот же самый ваш сын, – с подколом сказала мадам Роза.
– Нет, не тот же самый! Его крестили!
– Тьфу, тьфу, тьфу, – сплюнула мадам Роза, потому как терпение ее имеет пределы. – Никто его не крестил, упаси нас от этого Бог! Мойше – хороший правоверный еврей. Мойше, ты ведь правда правоверный еврей?
– Да, мадам Роза, – радостно подтвердил Мойше, которому было наплевать и на это, и на то, кто его отец и мать.
Мосье Юсеф Кадир стоял и смотрел на нас глазами, полными ужаса. Потом он затопал ногой, точно танцевал на месте танец отчаяния.
– Я требую вернуть мне сына в том состоянии, в каком я его отдал! Требую сына нормальной арабской национальности, а не ненормальной еврейской!
– Еврейской он или арабской национальности, не имеет никакого значения, – промолвила мадам Роза. – Если вы хотите получить своего сына, вы возьмете его в том состоянии, в каком он есть. Сперва вы убиваете мать ребенка, потом делаете так, что вас объявляют психическим, а теперь устраиваете скандал, оттого что ваш сын вырос евреем, и это вместо благодарности! Мойше, подойди и обними своего папочку, даже если это его убьёт. Всё-таки он – твой отец.
– И нечего убиваться, – сказал я, но при всем при этом чувствовал какое-то странное облегчение от того, что стал на четыре года старше.
Мойше направился к мосье Юсефу Кадиру, и тот произнес ужасные слова для человека, который не знал, что говорит святую истину.
– Это не мой сын! – душераздирающе крикнул он.
Мосье Юсеф Кадир встал, сделал шаг в сторону двери, и тут произошло совсем не то, что он собирался. Он выказывал совершенно ясное намерение уйти, но вместо этого прошептал «ах!», потом «ох!», прижал руку к левой стороне груди, там, где сердце, и рухнул на пол, словно ему больше нечего было сказать.
– Никак с ним что-то случилось? – спросила мадам Роза, продолжая обмахиваться японским веером, потому что ничего другого сделать она не могла, – Что с ним? Посмотри.
Признаков жизни он не подавал, и непонятно было, то ли он загнулся, то ли это с ним ненадолго. Мы немножко подождали, но он не шевелился. Мадам Роза заволновалась, потому что в нашем положении нам не хватало только полиции, которая если уж прицепится, то конца этому не будет. Она велела мне сбегать за кем-нибудь, чтобы помочь ему, но я понял, что мосье Кадир Юсеф сыграл вчистую в ящик; это было видно по тому безграничному спокойствию, какое появляется на лицах людей, которым больше не о чем тревожиться. Я щипал мосье Юсефа Кадира за разные места, подносил к его губам зеркальце, но тут уж можно было не сомневаться. Мойше, само собой, слинял, он всегда линяет, ежели что, а я помчался к братьям Заумам сообщить, что имеется налицо жмурик и его надо бы вынести на лестницу, чтобы не получилось так, будто он отбросил коньки у нас. Они поднялись к нам и перетащили его на площадку пятого этажа, к дверям мосье Шарметта: он на сто процентов француз по национальности и может позволить себе иметь покойника у своих дверей.
Но я все-таки спустился, присел рядышком с мертвым мосье Юсефом Кадиром и посидел какое-то время, и неважно, что ни он мне, ни я ему уже ничего не можем сделать.
Нос у него был гораздо длиннее, чем у меня, но ведь пока человек живет, нос у него растет.
Я обшарил его карманы, поискал, нет ли чего на память, но там была только пачка сигарет, синие «Голуаз». А в пачке всего одна, и я выкурил ее, сидя рядом с ним, и у меня было какое-то странное ощущение, оттого что все остальные сигареты скурил он, а я вот докуриваю последнюю.
Я даже немножко поплакал. И мне это было приятно, как будто он и впрямь был кем-то для меня, и вот я его потерял. Потом я услышал, как подъехала полиция, и быстренько поднялся наверх, чтобы не нарваться на неприятности.
(Пер. с франц. Л. Цывьяна)
Цит. по: Ажар Э. (Ромен Гари). Голубчик; Вся жизнь впереди: Романы. СПб.: Симпозиум, 2000.
Джон Фаулз ЛЮБОВНИЦА ФРАНЦУЗСКОГО ЛЕЙТЕНАНТА Фрагмент
13
Но темны помышленья Творца, и не нам их дано разгадать…
А. Теннисон. Мод (1855)Я не знаю. Все, о чем я здесь рассказываю, – сплошной вымысел. Герои, которых я создаю, никогда не существовали за пределами моего воображения. Если до сих пор я делал вид, будто мне известны их сокровенные мысли и чувства, то лишь потому, что, усвоив в какой-то мере язык и «голос» эпохи, в которую происходит действие моего повествования, я аналогичным образом придерживаюсь и общепринятой тогда условности: романист стоит на втором месте после Господа Бога. Если он и не знает всего, то пытается делать вид, что знает. Но живу я в век Алена Роб-Грийе и Ролана Барта, а потому если это роман, то никак не роман в современном смысле слова.
Но, возможно, я пишу транспонированную автобиографию, возможно, я сейчас живу в одном из домов, которые фигурируют в моем повествовании, возможно, Чарльз не кто иной, как я сам в маске. Возможно, все это лишь игра. Женщины, подобные Саре, существуют и теперь, и я никогда их не понимал. А возможно, под видом романа я пытаюсь подсунуть вам сборник эссе. Возможно, вместо порядковых номеров мне следовало снабдить главы названиями вроде: «Горизонтальность бытия», «Иллюзии прогресса», «История романной формы», «Этиология свободы», «Некоторые забытые аспекты викторианской эпохи»… да какими угодно.
Возможно, вы думаете, что романисту достаточно дернуть за соответствующие веревочки и его марионетки будут вести себя как живые и по мере надобности предоставлять ему подробный анализ своих намерений и мотивов. На данной стадии (глава тринадцатая, в которой раскрывается истинное умонастроение Сары) я действительно намеревался сказать о ней все – или все, что имеет значение.
Однако я внезапно обнаружил, что подобен человеку, который в эту студёную весеннюю ночь стоит на лужайке и смотрит на тускло освещенное окно в верхнем этаже Мальборо-хауса; и я знаю, что в контексте действительности, существующей в моей книге, Сара ни за что не стала бы, утерев слезы, высовываться из окна и выступать с целой главой откровенных признаний. Случись ей увидеть меня в ту минуту, когда взошла луна, она бы тотчас повернулась и исчезла в окутывавшем ее комнату сумраке.
Но ведь я романист, а не человек в саду, так разве я не могу следовать за ней повсюду, куда мне заблагорассудится? Однако возможность – это еще не вседозволенность. Мужья нередко имеют возможность прикончить своих жен (и наоборот) и выйти сухими из воды. Но не приканчивают.
Вы, быть может, полагаете, что романисты всегда заранее составляют планы своих произведений, так что будущее, предсказанное в главе первой, непременно претворится в действительность в главе тринадцатой. Однако романистами движет бесчисленное множество разных причин: кто пишет ради денег, кто – ради славы, кто – для критиков, родителей, возлюбленных, друзей; кто – из тщеславия, из гордости, из любопытства; а кто – просто ради собственного удовольствия, как столяры, которым нравится мастерить мебель, пьяницы, которым нравится выпивать, судьи, которым нравится судить, сицилианцы, которым нравится всаживать пули в спину врагу. Причин хватит на целую книгу, и все они будут истинными, хотя и не будут отражать всю истину. Лишь одна причина является общей для всех нас – мы все хотим создать миры такие же реальные, но не совсем такие, как тот, который существует. Или существовал. Вот почему мы не можем заранее составить себе план. Мы знаем, что мир – это организм, а не механизм. Мы знаем также, что мир, созданный по всем правилам искусства, должен быть независим от своего создателя; мир, сработанный по плану (то есть мир, который ясно показывает, что его сработали по плану), – это мертвый мир. Наши герои и события начинают жить только тогда, когда они перестают нам повиноваться. Когда Чарльз оставил Сару на краю утеса, я велел ему идти прямо в Лайм-Риджис. Но он туда не пошел, а ни с того ни с сего повернул и спустился к сыроварне.
Да бросьте, скажете вы, на самом-то деле, пока вы писали, вас вдруг осенило, что лучше заставить его остановиться, выпить молока… и снова встретить Сару. Разумеется, и такое объяснение возможно, но единственное, что я могу сообщить – а ведь я свидетель, заслуживающий наибольшего доверия, – мне казалось, будто эта мысль определенно исходит не от меня, а от Чарльза. Мало того, что герой начинает обретать независимость, – если я хочу сделать его живым, я должен с уважением относиться к ней и без всякого уважения к тем квази-божественным планам, которые я для него составил.
Иными словами, чтобы обрести свободу для себя, я должен дать свободу и ему, и Тине, и Саре, и даже отвратительной миссис Поултни. Имеется лишь одно хорошее определение Бога: свобода, которая допускает существование всех остальных свобод. И я должен придерживаться этого определения.
Романист до сих пор еще бог, ибо он творит (и даже самому что ни на есть алеаторическому авангардистскому роману не удалось окончательно истребить своего автора); разница лишь в том, что мы не боги викторианского образца, всезнающие и всемогущие, мы – боги нового теологического образца, чей первый принцип – свобода, а не власть.
Я бессовестно разрушил иллюзию? Нет. Мои герои существуют, и притом в реальности не менее и не более реальной, чем та, которую я только что разрушил. Вымысел пронизывает все, как заметил один грек тысячи две с половиной лет назад. Я нахожу эту новую реальность (или нереальность) более веской, и хорошо, если вы разделите мою уверенность, что я командую этими порождениями моей фантазии не больше, чем вы – как бы вы ни старались, какую бы новую миссис Поултни собою ни являли – командуете своими детьми, коллегами, друзьями и даже самими собой.
Но ведь это ни с чем не сообразно? Персонаж либо «реален», либо «воображаем». Если вы, hypocrite lecteur[36], и в самом деле так думаете, мне остаётся только улыбнуться. Даже ваше собственное прошлое не представляется вам чем-то совершенно реальным – вы наряжаете его, стараетесь обелить или очернить, вы его редактируете, кое-как латаете… словом, превращаете в художественный вымысел и убираете на полку – это ваша книга, ваша романизированная автобиография. Мы все бежим от реальной реальности. Это главная отличительная черта homo sapiens.
Поэтому, если вы думаете, что сие злополучное (глава-то ведь все-таки тринадцатая) отступление не имеет ничего общего с вашей Эпохой, с вашим Прогрессом, Обществом, Эволюцией и прочими ночными призраками с заглавной буквы, которые бренчат цепями за кулисами этой книги, я не стану спорить. Но все равно буду держать вас под подозрением.
Итак, я сообщаю лишь внешние обстоятельства, а именно, что Сара плакала в темноте, но не покончила самоубийством, что она, вопреки строжайшему запрету, продолжала бродить по Вэрской пустоши. Вот почему в каком-то смысле она и впрямь выбросилась из окна и жила как бы в процессе затянувшегося падения, ибо рано или поздно миссис Поултни неизбежно должна была узнать, что грешница упорствует в своем грехе. Правда, теперь Сара ходила в лес реже, чем привыкла, – лишение, которое вначале облегчили две недели дождливой погоды. Правда и то, что она приняла кое-какие меры предосторожности. Проселок постепенно переходил в узкую тропу, немногим лучше этого образцового проселка, а тропа, изгибаясь, спускалась в широкую лощину, известную под названием Вэрской долины, и затем на окраине Лайма соединялась с главной проезжей дорогой, ведущей на Сидмут и Эксетер. В Вэрской долине было несколько респектабельных домов, и потому она считалась вполне приличным местом для прогулок. К счастью, из этих домов не видно было то место, где проселок переходит в тропу. Очутившись там, Саре достаточно было удостовериться, что кругом никого нет. Однажды ей захотелось погулять по лесу. Выйдя на дорогу к сыроварне, она увидела на повороте верхней тропы двоих гуляющих, направилась прямо к ним, скрылась за поворотом, и, убедившись, что они идут не к сыроварне, повернула назад и, никем не замеченная, углубилась в чащу.
Она рисковала встретить других гуляющих на самом проселке, и, кроме того, всегда оставался риск попасться на глаза сыровару и его домочадцам. Но этой последней опасности ей удалось избежать – оказалось, что одна из таинственных тропинок, уводящих наверх, в заросли орляка, огибая сыроварню, ведет кружным путем в лес. По этой тропе она всегда и ходила вплоть до того дня, когда столь опрометчиво – как мы теперь понимаем – появилась прямо перед обоими мужчинами.
Причина была проста. Она проспала и боялась опоздать к чтению Библии. В этот вечер миссис Поултни была приглашена обедать к леди Коттон, и чтение перенесли на более ранний час, чтобы дать ей возможность подготовиться к тому, что всегда было – по сути, если не по видимости – оглушительным столкновением двух бронтозавров, и хотя стальные хрящи заменял черный бархат, а злобный скрежет зубов – цитаты из Библии, битва оставалась не менее жестокой и беспощадной.
Кроме того, Сару испугало лицо Чарльза, смотревшего на нее сверху; она почувствовала, что скорость ее падения возрастает, а когда неумолимая земля несется навстречу и падаешь с такой высоты – к чему предосторожности?
(Пер. с англ. М. Беккер и И. Комаровой) Цит. по: Фаулз Дж. Любовница французского лейтенанта. СПб.: Худож. лит., 1993.
Джулиан Барнс ИСТОРИЯ МИРА В 10 1/2 ГЛАВАХ Фрагмент
Интермедия
Я хочу кое-что рассказать вам о ней. На дворе та срединная часть ночи, когда занавески не пропускают света, уличную тишину нарушает лишь ворчанье какого-нибудь бредущего домой Ромео, а птицы еще не начали своей повседневной, но жизнерадостной суеты. Она лежит на боку, отвернувшись от меня. Я не вижу ее в темноте, но по тихому и мерному ее дыханию я мог бы очертить вам контуры ее тела. Когда она счастлива, она может спать в одной позе часами. Я подолгу наблюдал за ней в эту пору глубинных ночных течений и твердо знаю, что она даже не шевелится. Конечно, это можно списать на хорошее пищеварение и спокойные сны; но мне это кажется признаком счастья.
Наши ночи не похожи друг на друга. Она засыпает, словно подхваченная ласковой, теплой приливной волной, которая доносит ее, безмятежную, до самого утра. Я засыпаю менее охотно, борясь с прибоем, не желая расставаться с удачным днем или все еще сетуя на свое сегодняшнее невезение. Разные потоки струятся сквозь наше дремлющее сознание. Меня часто сбрасывает с постели страх времени и смерти, панический ужас пред надвигающейся пустотой; просыпаясь – ноги на полу, руки сжимают виски, – я выкрикиваю бессмысленное (и удручающе невыразительное) «нет, нет, нет». Тогда ей приходится гладить меня, успокаивая, точно пса, с лаем выскочившего из грязной речки.
Бывает, что и ее сон прерывается вскриком, и тогда наступает мой черед бросаться на помощь. Я мгновенно выныриваю из забытья, и она сонными губами шепчет мне, что ее напугало. «Очень большой жук», – поясняет она, словно из-за жука поменьше не стала бы меня беспокоить; или: «Ступеньки были скользкие»; или просто (сбивая меня с толку тавтологической загадочностью этих слов): «Ужасная гадость». Затем, избавившись от мокрой жабы или мусорной пробки, она вновь засыпает спокойным сном. Я лежу, сжимая склизкое земноводное, баюкая в руках комок влажной грязи, встревоженный и восхищенный. (Между прочим, я не хочу сказать, что мои сновидения значительнее. Сны демократизируют страх. Во сне потерять ботинок или опоздать на поезд – ничуть не меньшая трагедия, чем попасть в лапы герильеров или угодить под ядерный обстрел.) Я восхищаюсь ею, потому что она гораздо лучше меня справляется с этой работой, которую мы обязаны выполнять регулярно до самой смерти: ведь людям на роду написано спать по ночам. Она ведет себя как опытный путешественник, бесстрашно вступающий в зал нового аэропорта. А я лежу во тьме просроченным паспортом, подталкивая свою скрипящую багажную тележку не к тому транспортеру.
Короче говоря… она спит на боку, спиной ко мне. Вдоволь наворочавшись и убедившись в бесплодности обычных уловок, помогающих нырнуть обратно в забвение, я решаю продублировать мягкий зигзаг, образованный ее телом. Когда я начинаю пристраивать свою голень к ее икре, мышцы которой расслаблены сном, она чувствует мою возню; не просыпаясь, она поднимает левую руку и сдвигает свои волосы с плеч на затылок, чтобы я мог уткнуться в ее голую шею. В ответ на эту неизменную инстинктивную любезность я всякий раз содрогаюсь от прилива чувств. Мои глаза щиплет от слез, и я едва сдерживаюсь, так мне хочется разбудить ее и напомнить о том, как я ее люблю. Своим бессознательным жестом она затрагивает самые основы моей любви к ней. Конечно, она ни о чем не догадывается; я никогда не говорил ей об этой крохотной ночной радости, которую она дарит мне с таким постоянством. Хотя, наверное, говорю сейчас.
Вы думаете, что на самом-то деле она успевает на секунду проснуться? Я понимаю, что это ее движение может казаться сознательным актом вежливости – мелочью, которая сама по себе приятна, однако едва ли свидетельствует о том, что корни любви уходят куда-то под смоляной пласт сознания. Вы правы в своем скептицизме; влюбленным можно доверять лишь до известного предела, ведь они тщеславны, как политики. Но я докажу вам свою правоту. Вы уже поняли, что волосы у нее до плеч. Но несколько лет назад, когда нам пообещали затяжную летнюю жару, она коротко постриглась. Ее шея была открыта для поцелуев круглые сутки. И в темноте, когда мы лежали под одной простыней и я истекал потом, как калабриец, когда срединная часть ночи была коротка, но одолеть ее все равно было непросто, – я поворачивался к этой стилизованной букве S рядом с собой, и она, что-то неразборчиво бормоча, пыталась убрать с шеи несуществующие волосы.
«Я люблю тебя, – шепчу я в этот спящий затылок, – я люблю тебя». Все романисты знают, что их искусство выигрывает от недоговоренности. Соблазняясь дидактикой, писатель должен представлять себе щеголеватого капитана корабля перед надвигающимся штормом: как он кидается от прибора к прибору в фейерверке золотой тесьмы, как отдает в переговорную трубу решительные команды. Но внизу никого нет; машинное отделение отсутствует, и руль отказал много веков назад. Капитан может разыграть прекрасный спектакль, убедив не только себя, но и кое-кого из пассажиров; все-таки судьба их плавучего мира зависит не от него, а от безумных ветров и угрюмых течений, от айсбергов и случайных рифов.
Однако иногда обиняки литературы все же вызывают у романиста естественное раздражение. В нижней части эльгрековских «Похорон графа Оргасского» в Толедо есть группа угловатых фигур в плоеных воротниках. Предающиеся своей показной печали, они смотрят в разные стороны. И только один из них с мрачной иронией смотрит прямо на нас – и мы не можем не заметить, сколь нелестен его взгляд. По традиции считается, что это изображение самого Эль Греко. Вот я, говорит он. Я и есть автор. И я за все это в ответе, потому и не прячу глаз.
Поэтам, видимо, проще писать о любви, чем прозаикам. Для начала у них есть это уклончивое «я» (если я напишу «я», вы потребуете, чтобы не позже чем через пару абзацев вам объяснили, кто имеется в виду – Джулиан Барнс или какой-нибудь вымышленный персонаж; поэт может вальсировать между тем и другим, не теряя ни в глубине чувства, ни в объективности). Еще поэты, похоже, могут обращать плохую любовь – любовь эгоистическую, дрянную – в хорошую лирическую поэзию. Прозаикам не дано навевать этот восхитительный обман. Плохую любовь мы можем обратить только в прозу о плохой любви. Поэтому мы слегка завидуем (и не совсем доверяем) пишущим о любви поэтам.
А они сочиняют то, что именуется любовной поэзией. Из их опусов составляются книги под названиями типа «Поющие Сердца – Антология Шедевров Любовной Лирики». Кроме того, есть еще письма; из них получаются сборники, озаглавленные «Сокровищница Золотого Пера, Лучшие Любовные Послания Всех Времен и Народов» (книга – почтой). Но нет такого жанра, который подходил бы под определение любовной прозы. Это звучит неуклюже, почти парадоксально. «Любовная Проза: Справочник Работяги». Продается в магазинах плотницкого инвентаря.
Канадская писательница Мейвис Галлант сказала: «Тайна, которую представляет собой любящая пара, это, пожалуй, единственная настоящая тайна, еще не раскрытая нами, и когда мы раскроем ее, литература – да и любовь тоже – будет уже не нужна». Прочтя это впервые, я нарисовал на полях шахматную пометку «!?», означающую красивый, но, возможно, ошибочный ход. Однако со временем точка зрения канадки возобладала, и пометка сменилась на «!!».
«Пусть мы умрем – но будет жить любовь». К такому выводу осторожно подобрался в своем стихотворении «Арундельская могила» Филип Ларкин. Эта строчка удивляет нас, ибо почти все творчество поэта есть похожее на выкручиванье фланелевой тряпицы избавление от иллюзий. Нам приятно, когда нас подбадривают; но сначала прозаику положено нахмуриться и спросить: а не сфальшивила ли эта поэтическая фанфара? Действительно ли любовь переживет нас? Мысль, конечно, соблазнительная. Было бы куда как приятно, если бы любовь оказалась источником, который будет излучать энергию и после нашей смерти. На экранах старых телевизоров, когда их выключали, оставалось световое пятно размером с флорин – потом оно понемногу таяло, превращаясь в микроскопическую искорку, и исчезало. Мальчишкой я ежевечерне наблюдал этот процесс, смутно желая замедлить его (и с юношеской меланхолией усматривая в нем подобие неизбежного исчезновения во вселенском мраке крохотного огонька человеческой жизни). Что ж, и любовь будет так вот светиться, когда телевизор уже выключат? Мой опыт этого не подтверждает. Вместе с последним из любящих умирает и любовь. Если от нас что и останется, так скорее что-нибудь другое. Ларкина переживет отнюдь не его любовь, а его стихи; это очевидно. Перечитывая конец «Арундельской могилы», я всегда вспоминаю Уильяма Хаскиссона. В свое время он был очень известным политиком и финансистом; но теперь мы помним его только потому, что 15 сентября 1830 года, на открытии Ливерпульско-Манчестерской железной дороги, его первого задавило насмерть поездом (вот чем он стал, во что обратился). Любил ли Уильям Хаскиссон? Пережила ли его эта любовь? Никто не знает. Все, что от него осталось, – это тот миг роковой беспечности; смерть превратила его в камею, в иллюстрацию безжалостной поступи прогресса.
«Я тебя люблю». Первым делом спрячем эти слова на верхнюю полку; в железный ящичек, под стекло, которое при случае полагается разбить локтем; в надежный банк. Нельзя разбрасывать их где попало, точно трубочки с витамином С. Если эти слова всегда будут под рукой, мы начнем прибегать к ним не думая; у нас не хватит сил воздержаться. Мы-то, конечно, уверены в обратном, но это заблуждение. Напьемся, одолеет тоска или (самое вероятное) взыграет известного рода надежда, и вот пожалуйста – слова уже использованы, захватаны. Нам может показаться, что мы влюбились, и захочется проверить, так ли это. Как мы узнаем, что у нас на уме, покуда не услышим собственных слов? Остерегитесь – они не отмываются. Это высокие слова; мы должны быть уверены, что заслужили их. Вслушайтесь, как звучат они по-английски: «I love you». Подлежащее, сказуемое, дополнение – безыскусная, незыблемая фраза. Подлежащее – коротенькое словцо, которое как бы помогает влюбленному самоустраниться. Сказуемое подлиннее, но столь же недвусмысленно – в решающий миг язык торопливо отскакивает от неба, освобождая дорогу гласной. В дополнении, как и в подлежащем, согласных нет; когда его произносишь, губы складываются словно для поцелуя. I love you. Как серьезно, как емко, как веско это звучит.
Мне видится тайный сговор между всеми языками мира. Собравшись вместе, они постановили придать этой фразе такое звучание, чтобы людям было ясно: ее надо заслужить, за нее надо бороться, надо стать ее достойным. Ich liebe dich: полуночный сигаретный шепот, в котором счастливо рифмуются подлежащее и дополнение. Je t'aime: здесь сначала разделываются с подлежащим и дополнением, чтобы вложить весь сердечный пыл в долгий гласный последнего слова. (Грамматика тут надежнее; заняв второе место, предмет любви может уже не бояться, что его заменят кем-то другим.) Я тебя люблю: дополнение снова занимает вселяющую уверенность вторую позицию, но теперь – несмотря на оптимистическую рифму в начале – здесь слышится намек на трудности, препятствия, которые нужно будет преодолеть. Ti amo – возможно, это чересчур смахивает на аперитив, но выигрывает благодаря твердому согласию подлежащего и сказуемого, делателя и действия, слитых в одно слово.
Извините за любительский подход. Я охотно передаю эту тему на рассмотрение какой-нибудь филантропической организации, стремящейся увеличить сумму человеческих знаний. Пусть созданная при ней исследовательская группа изучит эту фразу на всех языках мира, пронаблюдает за ее изменениями, попытается понять, что слышат в ее звуках те, к кому она обращена, как от богатства ее звучания зависит мера даримого ею счастья. Вопрос к залу: есть ли на земле племена, в лексиконе которых отсутствуют слова «я тебя люблю»? Или все они давно уже вымерли?
Пусть эти слова лежат у нас в ящичке, под стеклом. А вынув их оттуда, будем обращаться с ними бережно. Мужчины говорят «я тебя люблю», дабы залучить женщин в постель, женщины говорят «я тебя люблю», дабы женить на себе мужчин; и те, и другие говорят «я тебя люблю», дабы держать страх на привязи, дабы обрести ложную уверенность, дабы убедить себя в том, что благословенное состояние достигнуто, дабы не замечать того, что все уже позади. Не нужно использовать эти слова в таких целях. Я тебя люблю не должно звучать слишком часто, становиться ходкой монетой, пущенной в оборот ценной бумагой, служить для нас источником прибыли. Конечно, вы можете принудить эту послушную фразу играть вам на руку. Но лучше приберегите ее для того, чтобы прошептать в шею, с которой только что были убраны несуществующие волосы.
Сейчас мы далеко друг от друга; наверное, вы догадались. Трансатлантический телефон передразнивает меня своим эхом, точно хочет сказать: слыхали, мол. «Я тебя люблю» – и прежде чем она успевает ответить, мой металлический двойник повторяет: «Я тебя люблю». Это малоприятно; тиражируясь, произнесенная мною фраза превращается в общее достояние. Пробую еще раз, с тем же успехом. I love you, I love you – выходит какая-то популярная песенка из тех, что с месяц держатся на пике моды, а затем сдаются в репертуар клубных турне, где коренастые рок-певцы с сальными волосами и томлением в голосе пытаются с их помощью раздеть вольготно расположившихся в первых рядах девиц. I love you, I love you – а ведущая гитара хихикает, и в открытом рту барабанщика лежит влажный язык.
К любви, к ее словарю и жестам нужно относиться бережно. Если ей суждено спасти нас, мы должны смотреть на нее так же честно, как хорошо бы научиться смотреть на смерть. Следует ли преподавать любовь в школе? Первый триместр – дружба; второй триместр – нежность; третий триместр – страсть. Почему бы и нет? Наших детей учат готовить, и чинить машины, и трахаться так, чтобы не залететь; и мы полагаем, что дети умеют все это гораздо лучше, чем в свое время умели мы, но какой им прок от всего этого, если они не умеют любить? Считается, что тут они и без нас как-нибудь разберутся. Природа, мол, возьмет свое, она будет служить им автопилотом. Однако Природа, на которую мы привыкли сваливать ответственность за все, чего не понимаем сами, не слишком надежно работает в автоматическом режиме. Доверчивые девицы, мобилизованные в армию замужних женщин, по выключении света обнаруживают, что Природа знает ответы отнюдь не на все вопросы. Доверчивым девицам говорили, что любовь – земля обетованная, ковчег, на котором дружная чета спасается от Потопа. Может, она и ковчег, но на этом ковчеге процветает антропофагия; а командует им сумасшедший старик, который чуть что пускает в ход посох из дерева гофер и может в любой момент вышвырнуть тебя за борт.
Давайте начнем сначала. Любовь делает вас счастливым? Нет. Любовь делает счастливой ту, кого вы любите? Нет. Благодаря любви все в жизни идет как надо? Разумеется, нет. Когда-то я, конечно, во все это верил. А кто же не верил (и у кого эта вера до сих пор не лежит где-нибудь в трюме души)? Об этом пишут книги, снимают фильмы; это закат тысячи историй. Если любовь не решает всех проблем, тогда зачем же она? Разве мы не можем быть уверены – ведь нам так этого хочется, – что любовь, стоит только найти ее, облегчит наши ежедневные муки, станет для нас чем-то вроде дармового анальгетика?
Двое любят друг друга, но они несчастны. Какой мы делаем вывод? Что один из них любит другого не по-настоящему; что их любовь недостаточно крепка? Я против этого «не по-настоящему»; я против этого «недостаточно». За свою жизнь я любил дважды (по-моему, это не так уж мало), раз счастливо, раз несчастливо. Больше всего о природе этого чувства я узнал благодаря несчастной любви – хоть и не сразу, а только годы спустя. Даты и подробности – выбирайте их по своему усмотрению. Но я любил и был любим очень долго, много лет. Сначала я был беспардонно счастлив, преисполнен надежд и обуян солипсическим восторгом; но большую часть времени, как это ни странно, я был удручающе несчастен. Что же, я недостаточно крепко ее любил? Я знаю, что это не так, – ради нее я пожертвовал половиной своего будущего. Может быть, она недостаточно крепко меня любила? И это не так – ради меня она отказалась от половины своего прошлого. Мы много лет прожили бок о бок, мучительно стараясь понять, что же неладно в нашей связке. Взаимная любовь не делала нас счастливыми. Но мы упрямо не желали этого признавать.
Позже я разобрался в том, каково было мое представление о любви. Мы считаем любовь активной силой. Моя любовь делает ее счастливой; ее любовь делает меня счастливым – где тут может быть ошибка? А ошибка есть: неверна сама модель. Подразумевается, что любовь – это волшебная палочка, которая в мгновение ока распускает запутанные узлы, наполняет цилиндр платками, а воздух – хлопаньем голубиных крыльев. Но модель надо заимствовать не из магии, а из физики элементарных частиц. Моя любовь отнюдь не обязательно сделает ее счастливой; она может лишь раскрыть в ней способность к счастью. И тогда все становится понятнее. Отчего я не могу сделать ее счастливой, отчего она не может сделать счастливым меня? Очень просто: ожидаемой ядерной реакции не происходит, у луча, которым мы бомбардируем частицы, не та длина волны.
Но любовь не атомная бомба, так что давайте подберем более мирное сравнение. Я пишу эти строки в гостях у одного приятеля в Мичигане. У него обычный американский дом со всеми хитроумными устройствами, какие только может измыслить современная технология (кроме устройства для выпечки счастья). Вчера мой друг привез меня сюда из Детройтского аэропорта. Свернув на подъездную аллею, он вытащил из бардачка прибор дистанционного управления, коснулся нужной кнопки, и перед нами распахнулись ворота гаража. Вот модель, которую я предлагаю. Вы возвращаетесь домой – во всяком случае, хотите так думать – и с помощью привычного волшебства пытаетесь открыть гараж. Однако ничего не происходит – двери по-прежнему закрыты. Вы пробуете еще раз. Опять ничего. Сначала удивленный, потом встревоженный, потом разъяренный этим загадочным непокорством, вы сидите в машине с работающим мотором; сидите неделю, месяц, год, много лет и ждете, когда же откроются двери. Но вы находитесь не в той машине, не у того гаража, ждете не перед тем домом. Вот в чем одна из бед: наше сердце не сердцевидно.
«Жребий наш – любить иль умереть», – написал У. Х. Оден, что побудило Э. М. Форстера заявить: «Поскольку он написал "жребий наш – любить иль умереть", он имеет право приказать мне следовать за собой». Однако сам Оден был недоволен своей знаменитой строкой из «1 сентября 1939». «Это брехня! – высказался он. – Умереть нам все равно придется». Поэтому, переиздавая стихотворение, он заменил вышеприведенную фразу на более логичное «Жребий наш – любить и умереть». Позже он и вовсе убрал ее.
Эта замена «или» на «и» – одна из самых знаменитых в поэзии. Узнав о ней впервые, я восхитился неумолимой объективностью Одена-критика, скорректировавшего Одена-поэта. Если звонкая фраза таит в себе ложь – прочь ее; такой подход радует отсутствием у автора самовлюбленности. Теперь мое мнение уже не столь однозначно. Разумеется, «жребий наш – любить и умереть» выглядит логичнее; кроме того, в этом примерно столько же новизны и красоты, как и во фразах «жребий наш – слушать радио и умереть» или «жребий наш – регулярно мыть посуду, а затем умереть». Оден был прав, не слишком доверяя собственной риторике, но сказать, что строка «жребий наш – любить иль умереть» грешит против истины, поскольку умирать придется всем (или поскольку те, что никого не любят, вовсе не мрут из-за этого как мухи), может лишь человек недалекий или забывчивый. Есть не менее логичные и более убедительные способы прочтения варианта с «или». Первый, самый очевидный, таков: будем же любить друг друга, ибо в противном случае мы друг друга поубиваем. Второй таков: будем же любить друг друга, ибо в противном случае, если любовь не будет придавать нашей жизни смысл, нам ни к чему и жить. Ведь утверждать, что те, кто черпает наивысшее наслаждение не в любви, а из других источников, живут пустой жизнью, что они похожи на чванливых раков, которые ползают по дну морскому, щеголяя чужими панцирями, вовсе не значит заниматься «брехней».
Тут мы вступаем на трудную территорию. Нам нужно быть точными и стараться не впадать в сентиментальность. Желая противопоставить любовь таким коварным и могучим соперникам, как власть, деньги, история и смерть, мы не должны скатываться к самовосхвалению и напускать кругом снобистского туману. Враги любви критикуют ее за расплывчатость притязаний, за ярко выраженную склонность к изоляционизму. Так с чего же мы начнем? Любовь может дать счастье, а может и не дать; но она всегда высвобождает скрытую в нас энергию. Вспомните, как вы любили впервые, – разве когда-нибудь еще вы говорили так гладко, спали так мало, занимались сексом так жадно? Анемичный – и тот оживает, а обыкновенный здоровый человек становится просто невыносимым. Далее, она распрямляет вам спину, наделяет уверенностью. Вы чувствуете, что наконец-то крепко стали на ноги; пока это чувство с вами, вы способны на все, вы можете бросить вызов миру. (Справедливо ли будет такое различие: что любовь добавляет уверенности, а сексуальные победы всего лишь укрепляют людей в их эгоизме?) Затем она сообщает ясность видению: глаза влюбленного точно снабжены автомобильными «дворниками». Разве в пору первой любви вы не видели все гораздо яснее обычного?
Когда любовь вступает в игру? Мы глядим на животных – и не находим ответа. Кажется, представители некоторых видов действительно выбирают себе пару на всю жизнь (хотя представьте себе, сколько возможностей для адюльтера открывается во время всех этих долгих морских миграций и перелетов); но, как правило, мы видим только проявления силы, доминирование одних над другими и погоню за сексуальным комфортом. Сторонники и противники феминизма интерпретируют природу по-разному. Первые ищут в животном царстве бескорыстия и обнаруживают, что самцы иногда выполняют работу, которая у людей обычно выпадает на долю женщин. Возьмите, например, королевского пингвина: самец высиживает яйца, носит их у себя на ногах и месяцами защищает от антарктического холода под жировой складкой внизу живота… Ладно, отвечают вторые, а как насчет самца морского слона? Валяется целый день на пляже и трахает всех самок в пределах досягаемости. Как это ни огорчительно, похоже, что поведение морского слона более типично, чем поведение пингвина. К тому же, хорошо зная свой пол, я склонен усомниться в альтруизме последнего. Скорее всего самец пингвина просто сообразил, что коли уж приходится торчать в Антарктиде столько лет кряду, разумнее будет сидеть дома и нянчиться с яйцом, покуда самка ловит рыбу в ледяной воде. То есть просто избрал самую выгодную для себя тактику.
Так когда же вступает в игру любовь? Ведь в ней вроде бы нет особой нужды. Мы можем, как бобры, строить без любви плотины. Можем, как пчелы, объединяться без любви в сложные сообщества. Можем, как альбатросы, преодолевать без любви огромные расстояния. Можем, как страусы, прятать без любви голову в песок. Можем, как дронты, вымереть без любви до последнего экземпляра.
А что если любовь – полезная мутация, которая помогает человечеству в его борьбе за существование? Я не вижу, чем это подтверждается. Была ли она, к примеру, изобретена ради того, чтобы воины, сохранившие где-то глубоко в сердце щемящие воспоминания о родном камельке, отчаяннее дрались за свою жизнь? Непохоже: мировая история учит нас, что решающими факторами в войне являются новая форма наконечника стрелы, благоразумие генерала, полный желудок и перспектива грабежа, а отнюдь не сентиментальность вздыхающих о доме вояк.
Значит, любовь – это роскошь, прерогатива мирного времени, нечто вроде вышивания полотенец? Нечто приятное, сложное, но необязательное? Этакое побочное достижение, продукт культуры, лишь по случайности оказавшийся любовью, а не чем-то другим? Иногда мне кажется, что в этом есть доля правды. Когда-то на дальнем северо-западе Соединенных Штатов обитало индейское племя (это не выдумка), ведущее необычайно беззаботную жизнь. Воевать в их далеком краю было не с кем, а земля приносила огромные урожаи. Стоило им бросить через плечо горстку сухих бобов, как сзади сразу подымался целый бобовый лес и осыпал их стручками. К тому же эти здоровые и довольные люди были лишены всякого вкуса к междоусобным войнам. В результате у них образовалась уйма свободного времени. Без сомнения, они преуспели в занятиях, порождаемых праздностью: стали плести корзины в стиле рококо, подняли искусство эротики до высокого гимнастического уровня и научились погружаться в наипродолжительнейшие трансы, используя для этой цели перетертые листья неких растений. Мы не осведомлены об этих сторонах их жизни, однако знаем, каково было главное развлечение, помогающее им коротать долгие часы досуга. Они пристрастились к воровству – вот что им нравилось и вот что они культивировали. Когда к ним начинал ластиться очередной погожий денек, они вылезали из вигвамов, втягивали в себя медвяной воздух и спрашивали друг у друга, не случилось ли этой ночью чего интересненького. В ответ следовало робкое, а то и нахальное признание в краже. Серый Волчонок опять умыкнул одеяло у старика Краснощека. Серьезно? А он таки делает успехи, наш Серый Волчонок. Ну а ты чем занимался? Я-то? Да я всего-навсего слямзил брови с верхушки тотемного столба. Что, еще раз? И как тебе, право, не надоест.
Значит, нам наконец удалось нащупать верный подход? Мы можем прожить и без любви, так же как индейцы без воровства. Однако благодаря ей мы обретаем индивидуальность, обретаем цель. Отнимите у индейцев их невинное хобби, и им будет труднее определить себя. Стало быть, это просто неожиданный мутационный выброс? Любовь не способствует развитию человечества; наоборот, она враждебна всякой организованности. Не будь любви, нам было бы гораздо проще удовлетворить свои сексуальные притязания. Браки были бы откровенней – и, наверное, много прочнее, – если бы мы не тосковали по любви, не радовались ее зарождению, не боялись, что она нас покинет.
На общем фоне мировой истории любовь кажется чем-то чужеродным. Это какой-то нарост, уродство, запоздалое добавление к повестке дня. Она напоминает мне те половинки домов, которых согласно обычным правилам картографии как бы не существует. Недавно я ездил по такому североамериканскому адресу: Йонг-стрит, 2041 1 /2. Наверное, владелец дома номер 2041 продал когда-то маленький участок, а на нем был построен этот полупризнанный дом с половинчатым номером. А люди вполне комфортабельно в нем устроились, называют его родным. Тертуллиан сказал о вере в Христа: она истинна, потому что абсурдна. Возможно, и любовь так важна потому, что не обязательна.
Та, что теперь снова рядом со мной, – центр моего мира. Армяне верили, что центр мира – Арарат, но его поделили между собой три великие империи, а армянам в конце концов ничего не осталось, так что я не буду развивать свое сравнение. Я тебя люблю. Я снова дома, и эхо больше не передразнивает меня. Je t'uime. Ti amo (с содовой). А если бы вы были лишены дара речи, не имели в своем распоряжении медной трубы языка, вы сделали бы так: скрестили бы свои руки в запястьях, обратив ладони к себе; прижали бы скрещенные запястья к сердцу (или хотя бы к середине груди); потом чуть отвели бы руки вперед и разомкнули их, обернув ладонями к предмету вашей любви. По выразительности это не уступит словам. И заметьте, сколько возможностей открывается здесь для более тонкой передачи чувства, сколько изыска вы можете привнести в этот жест, соединяя ладони, целуя костяшки пальцев или играя их кончиками, которые несут в себе неповторимый узор, печать вашей индивидуальности.
Но сомкнутые ладони могут ввести нас в заблуждение. Сердце не сердцевидно, вот в чем одна из бед. Мы ведь воображаем себе этакую аккуратную двустворчатую ракушку, форма которой говорит о том, что любовь объединяет две половинки, два отдельных существа в одно целое, не правда ли? Этот четко очерченный символ представляется нам алым, словно бы залитым ярким румянцем; ал он и от прилива крови, сопутствующего вспышке страсти. Учебник по медицине разочаровывает нас не сразу: здесь сердце похоже на схему лондонской подземки. Аорта, левая и правая легочные артерии и вены, левая и правая подключичные артерии, левая и правая венечные артерии, левая и правая сонные артерии. Тут все кажется изящным и продуманным; мы верим, что эта сложная система трубок безупречна в работе. Уж она-то не подведет, думаем мы.
Знаменательные факты:
– сердце развивается в эмбрионе раньше всех прочих органов; мы еще величиной с фасолину, а уже видно, как оно пульсирует внутри;
– относительный вес сердца ребенка намного больше, чем у взрослого: у первого он составляет 1/130 общего веса тела, у второго – 1/300;
– в течение жизни размеры, форма и положение сердца претерпевают существенные изменения;
– после смерти сердце принимает форму пирамиды.
Бычье сердце, купленное мною в магазине «Корриганс», весило 2 фунта 13 унций, а стоило 2 фунта 42 пенса. Самое крупное на прилавке, это было сердце животного, однако многое роднило его с человеческим. «У него сердце быка» – фраза из детства, из приключенческой литературы Империи. Все эти рыцари в тропических шлемах, которые одним метким выстрелом из армейского револьвера отправляли злобного носорога на тот свет, покуда дочь полковника дрожала за баобабом, имели довольно простую душевную организацию; но сердца у них, если судить по приобретенному мной экземпляру, были далеко не простыми. Этот увесистый, плотный, окровавленный ком походил на свирепо сжатый кулак. В отличие от железнодорожной схемы из учебника по медицине настоящее сердце не торопилось выставлять напоказ свои тайны.
Я вскрыл его вместе с одной приятельницей, рентгенологом. «Этот бык в любом случае недолго бы протянул», – заметила она. Если бы это сердце принадлежало кому-нибудь из ее пациентов, он недалеко ушел бы по джунглям со своим мачете. Наше собственное маленькое путешествие было проделано с помощью кухонного ножа «сабатье». Мы врубились в левое предсердие и левый желудочек, подивившись толщине мышц, из которых вышел бы добрый бифштекс. Погладили элегантную шелковистую подкладку, запустили пальцы в зияющие ходы и выходы. Вены легко растягивались, артерии смахивали на крепеньких головоногих. В левом желудочке лежал темно-багровый шматок засохшей крови. Мы часто теряли ориентацию в этом хитросплетении тканей. Вопреки моим наивным ожиданиям, сердце не желало с легкостью распадаться пополам; две его половинки тесно приникали друг к другу, словно тонущие влюбленные. Мы дважды забирались в один и тот же желудочек, думая, что попали в новый. Нас восхитило мудрое устройство клапанов и chordae tendineae, которые не дают клапанам раскрываться до предела: маленькая, прочная подвесная система, которая не позволяет куполу парашюта разворачиваться больше, чем надо.
По окончании наших трудов сердце пролежало на заляпанной газете весь остаток дня; теперь это была лишь заготовка для малообещающего обеда. В поисках руководства я перелистал поваренные книги. Там нашелся один рецепт фаршированного сердца с гарниром из риса и ломтиков лимона, но это блюдо показалось мне не слишком аппетитным. Оно явно не заслуживало названия, которое дали ему его изобретатели, датчане. Они нарекли его так: Пламенная Любовь.
Помните парадокс, связанный со временем, загадку первых недель и месяцев Пламенной Любви (поначалу нам всегда хочется написать эти слова с большой буквы, как название блюда)? Вы любите, и восторженность борется в вашей душе с дурными предчувствиями. Какой-то частью своего существа вы хотите затормозить время: ибо сейчас, говорите себе вы, наступила лучшая пора моей жизни. Я люблю – и хочу смаковать свою любовь, изучать ее, упиваться ее сладким томлением; пусть сегодняшний день длится вечно. Таково мнение живущего в вас поэта. Однако рядом с ним приютился еще и прозаик, которому хочется не тормозить время, а подгонять его. Почем ты знаешь, что это любовь, нашептывает он вам на ухо, словно скептически настроенный адвокат, ведь прошло всего несколько недель, несколько месяцев. Ты не узнаешь, серьезно ли это, пока позади не останется ну хотя бы год; вот единственный способ проверить, не повторяешь ли ты ошибку стрекозы. Проживи этот отрезок времени поскорей, как бы он тебя ни радовал, и если твои (и ее) чувства не изменятся, ты убедишься в том, что вы действительно любите друг друга.
В кювете с проявителем возникает фотография. Прежде это был всего-навсего чистый лист фотобумаги в светонепроницаемом пакетике; теперь он приобрел значение, смысл, определенность. Мы быстро переносим его в кювету с фиксажем, чтобы уберечь этот ясный, легко уязвимый миг от распада, сделать изображение надежным и стойким, сохранить его совершенство – пусть лишь в течение нескольких лет. Но что если фиксаж не сработает? Процесс, идущий в вашей душе, эта эволюция любви, может воспротивиться закреплению. Видели, как фотография иногда неумолимо проявляется, пока не почернеет совсем, пока не сотрется всякое воспоминание о ее звездном миге?
Нормально ли само состояние влюбленности? С точки зрения статистики, конечно, ненормально. Лица жениха и невесты на свадебных фотографиях не так интересны, как лица стоящих рядом гостей: младшей сестры невесты (неужели и меня это ждет? Невероятно), старшего брата жениха (пусть ему повезет больше, и она не окажется стервой вроде моей), матери невесты (до чего это напоминает мне молодость), отца жениха (если бы только парень знал то, что я знаю теперь, – эх, кабы мне тогда это знать), священника (удивительно, какими красноречивыми делают эти древние клятвы даже самых застенчивых), хмурого юнца (на хрена им жениться-то?) и так далее. Состояние тех двоих, что находятся в центре, совершенно ненормально; но попробуйте-ка сказать им об этом. Они чувствуют себя нормальнее, чем когда бы то ни было. Сейчас с нами все нормально, говорят они друг другу; а вот раньше, когда нам казалось, что все нормально, мы жестоко ошибались.
И эта убежденность в своей правоте, эта вера в то, что их сущность была проявлена и закреплена любовью, а теперь, вставленная в рамочку, сохранится навеки, сообщает им трогательное высокомерие. Что, конечно же, ненормально: когда еще высокомерие бывает трогательным? А здесь оно трогает. Посмотрите на фотографию снова: каким серьезным самодовольством дышит эта сцена в счастливом окаймлении зубчиков! Разве это может не тронуть? Шумные излияния влюбленных (до них ведь никто не любил – во всяком случае, не так, правда?) могут надоесть, но этих людей нельзя высмеять. Даже когда имеется что-нибудь, вызывающее у конформиста по части эмоций невольную ухмылку: ошеломляющая разница в облике, возрасте, образовании, несходство социальных претензий, – все равно это сейчас не имеет значения; пузырящийся плевок смеха просто испаряется. Юноша рядом с женщиной постарше, неряха об руку с франтом, танцовщица в союзе с анахоретом – все они чувствуют себя абсолютно нормально. И это не может не трогать нас. Они-то могут смотреть на нас свысока, потому что мы не захлестнуты торжествующей любовью; но нам лучше не спешить проявлять снисходительность.
Не поймите меня превратно. Я не отстаиваю преимуществ одной формы любви перед другой. Я не знаю, что лучше – осторожная любовь или безрассудная, что надежнее – любовь с полной мошной или без гроша, что сексуальней – разнополая любовь или однополая, что сильнее – любовь в браке или вне оного. Впасть в менторский тон легко, но это не книга полезных советов. Я не могу сказать вам, любите вы или не любите. Раз спрашиваете, то, наверно, нет, вот и все, что я способен ответить (и даже это может оказаться неправдой). Я не скажу вам, кого любить или как; будь в школах соответствующие курсы, там учили бы не столько тому, что и как надо делать, сколько тому, чего и как делать не надо (это похоже на уроки писательского мастерства: вы не можете объяснить ученикам, как и что писать, только указываете им на ошибки, благодаря чему они экономят время). Но я могу сказать вам, зачем любить. Взгляните: ведь история мира, которая притормаживает у домика любви, строения с дробным номером, лишь для того, чтобы своим бульдозерным ножом превратить его в груду щебня, без нее просто нелепа. Без любви самомнение истории становится невыносимым. Наша случайная мутация так важна, потому что необязательна. Любовь не изменит хода мировой истории (вся эта болтовня о носе Клеопатры годится только для самых сентиментальных); но она может сделать нечто гораздо более важное: научить нас не пасовать перед историей, игнорировать ее наглое самодовольство. Я не принимаю твоих законов, говорит любовь; извини, но они не внушают мне почтения, да и дурацкий же мундир ты на себя нацепила. Разумеется, мы любим не ради того, чтобы помочь миру избавиться от эгоизма; но это одно из непременных следствий любви.
Любовь и правда, это жизненно важная связка – любовь и правда. Разве вы когда-нибудь говорили правду чаще, чем в пору первой любви? Разве видели мир яснее? Любовь заставляет нас видеть правду, обязывает говорить правду. Ложь не для ложа: вслушайтесь в звучащее здесь предостережение. Ложь не для ложа – эта фраза словно взята из букваря. Но не сочтите ее просто каламбуром: это моральное предписание. Не надо закатывать глаза, испускать показные стоны, изображать оргазм. Пусть ваше тело говорит правду, даже если – особенно если – этой правде не хватает мелодраматизма. В постели легче всего лгать, не рискуя быть пойманным, вы можете вопить и хрипеть в темноте, а потом хвастать, как ловко вы ее «разыграли». Секс – не спектакль (в какое бы восхищение ни приводил нас собственный сценарий); секс напрямую связан с правдой. То, как вы обнимаетесь во тьме, определяет ваше видение истории мира. Вот и все – очень просто.
Мы боимся истории; мы позволили датам запугать себя.
В год тысяча четыреста девяносто второй Колумб переплыл океан голубой.И что же? У людей прибавилось после этого ума? Они перестали строить новые гетто и практиковать в них старые издевательства? Перестали совершать старые ошибки, или новые ошибки, или старые ошибки на новый лад? (И действительно ли история повторяется, первый раз как трагедия, второй – как фарс? Нет, это слишком величественно, слишком надуманно. Она просто рыгает, и мы снова чувствуем дух сандвича с сырым луком, который она проглотила несколько веков назад.)
Даты не говорят правды. Они только и знают, что орать на нас: налево, направо, налево, направо, а ну пошевеливайся, ты, жалкий позер. Они хотят заставить нас верить в прогресс, в неуклонное движение вперед. Но что случилось после 1492 года?
В год тысяча четыреста девяносто третий Он вновь объявился в Старом Свете.Вот какие даты мне нравятся. Давайте праздновать не 1492-й, а 1493-й; не открытие, а возвращение. Что было в 1493-м? Ну конечно, неизбежные чествования, королевские милости, лестные изменения в геральдике рода Колумбов. Но было и другое. Перед отплытием тому, кто первый увидит Новый Свет, была обещана премия в 10 000 мараведисов. Эту щедрую награду заслужил простой матрос, однако по возвращении Колумб приписал честь открытия себе (голубь снова выпихнул ворона из истории). Обиженный матрос уехал в Марокко, где, по слухам, сменил веру. Это был любопытный год, 1493-й.
История – это ведь не то, что случилось. История – это всего лишь то, что рассказывают нам историки. Были-де тенденции, планы, развитие, экспансия, торжество демократии; перед нами гобелен, поток событий, сложное повествование, связное, объяснимое. Один изящный сюжет влечет за собой другой. Сначала это были деяния королей и архиепископов с легкой закулисной коррекцией божественных сил, потом это были парад идей и движение масс, потом мелкие события местного значения, за которыми якобы стоит нечто большее; но это всегда связи, прогресс, смысл, одно вытекает из другого, третье ведет к четвертому. А мы, читающие историю, страдающие под ее игом, мы окидываем взглядом весь этот узор, надеясь сделать благоприятные выводы на будущее. Мы упорно продолжаем смотреть на историю как на ряд салонных портретов, чьи участники легко оживают в нашем воображении, хотя она больше напоминает хаотический коллаж, краски на который наносятся скорее малярным валиком, нежели беличьей кистью.
История мира? Всего только эхо голосов во тьме; образы, которые светят несколько веков, а потом исчезают; легенды, старые легенды, которые иногда как будто перекликаются; причудливые отзвуки, нелепые звуки. Мы лежим здесь, на больничной койке настоящего (какие славные, чистые у нас нынче простыни), а рядом булькает капельница, питающая нас раствором ежедневных новостей. Мы считаем, что знаем, кто мы такие, хотя нам и неведомо, почему мы сюда попали и долго ли еще придется здесь оставаться. И, маясь в своих бандажах, страдая от неопределенности, – разве мы не добровольные пациенты? – мы сочиняем. Мы придумываем свою повесть, чтобы обойти факты, которых не знаем или которые не хотим принять; берем несколько подлинных фактов и строим на них новый сюжет. Фабуляция умеряет нашу панику и нашу боль; мы называем это историей.
История хороша одним: она умеет находить спрятанное. Мы многое пытаемся скрыть, но историю не обманешь. Время на ее стороне, время и наука. Как бы отчаянно ни вымарывали мы свои первые мысли, история все равно прочтет их. Мы тайно хороним наши жертвы (удавленных принцев, зараженных радиацией оленей), но история выносит наши поступки на свет Божий. Казалось бы, мы навеки утопили «Титаник» в чернильных фантомах, но дело выплыло наружу. Не так давно у берегов Мавритании были обнаружены останки «Медузы». Никто не надеялся отыскать там что-нибудь ценное; несколько медных гвоздей из корпуса фрегата да пара пушек – вот и все, что удалось поднять со дна морского через сто семьдесят пять лет после крушения. Но работы были проведены, и то, что можно было найти, нашли.
На что еще способна любовь? Коли уж мы рекламируем ее, нам стоит заметить, что это отправная точка для гражданских добродетелей. Любя, мы обретаем недюжинную способность к сочувствию, обязательно начинаем видеть мир иначе. Без этого дара вы не сможете стать ни хорошим любовником, ни хорошим художником, ни хорошим политиком (прикинуться-то, конечно, сможете, но речь не об этом). Покажите мне тирана, который прославился бы в роли влюбленного. Я говорю не о сексе; все мы знаем, что власть разжигает похоть (одновременно способствуя развитию нарциссизма). Даже наш герой-демократ Кеннеди обслуживал женщин, как конвейерный рабочий с распылителем на покраске автомобильных кузовов.
В течение последних тысячелетий, по ходу отмирания пуританизма, не раз вспыхивали споры о связи сексуальной ортодоксии с обладанием властью. Если президент не может держать штаны на застежке, теряет ли он право руководить нами? Если слуга народа обманывает жену, значит ли это, что он надует и избирателей? По мне, лучше уж пусть у кормила стоит донжуан и гуляка, чем строгий приверженец целибата или болезненно верный супруг. Продажные политики обычно специализируются на коррупции, так же как преступники – на отдельных видах преступлений. А посему разумнее не изолировать донжуанов от общественной деятельности, а наоборот, выбирать их. Я не говорю, что надо прощать им измены; нет, лучше ругать их почаще. Но их ненасытность поможет нам добиться того, чтобы они грешили лишь в сексуальной сфере, компенсируя свой блуд собранностью в государственных делах. Впрочем, это только моя теория.
В Великобритании, где политикой в основном занимаются мужчины, члены партии консерваторов имеют обыкновение интервьюировать жен своих потенциальных кандидатов. Процедура эта, конечно, унизительная: местные товарищи претендента по партии проверяют его жену на нормальность. (Здорова ли она психически? Уравновешенна ли? Каковы ее симпатии? Трезвый ли у нее взгляд на вещи? Хороши ли манеры? Как она будет выглядеть на фотографиях? Можно ли поручать ей сбор голосов?) Они задают этим женам, которые послушно соревнуются друг с другом в обнадеживающей серости, уйму вопросов, и жены торжественно заверяют их, что они тверды в своих взглядах на проблему ядерного вооружения и не сомневаются в святости института семьи. Но им не задают самого главного вопроса: любит ли вас ваш муж? Не надо считать этот вопрос чисто практическим (надежен ли ваш брак?) или сентиментальным; это тест, помогающий выяснить, способен ли муж экзаменуемой быть представителем других людей. Это проверка кандидата на способность к сочувствию.
Когда речь идет о любви, мы должны быть точными. Ах, вон оно что – вы, пожалуй, ждете описаний? Какие у нее ноги, грудь, губы, какого цвета волосы? (Это уж извините.) Нет, быть точными в любви значит быть верными сердцу, его биению, его убежденности, его правде, его силе – и его несовершенствам. После смерти сердце превращается в пирамиду (которая всегда была одним из чудес света); но даже при жизни сердце никогда не бывает сердцевидным.
Обратите внимание на разницу между сердцем и мозгом. Мозг аккуратен, поделен на доли, состоит из двух половинок – таким правильным мы представляем себе сердце. С мозгом можно поладить, думаете вы; это восприимчивый орган, размышление – его стихия. Мозг выглядит толково. Конечно, он сложен: стоит только поглядеть на все эти морщины и борозды, желобки и канальцы; он похож на коралл, и вы невольно задаетесь вопросом, а не живет ли он самостоятельной жизнью, полегоньку разрастаясь без вашего ведома. У мозга есть свои тайны, хотя криптоаналитики, строители лабиринтов и хирурги наверняка смогут раскрыть их, если возьмутся за дело сообща. Как я уже сказал, с мозгом можно поладить; он выглядит толково. А вот в сердце, в человеческом сердце – в нем, боюсь, сам черт не разберется.
Любовь антимеханистична, антиматериалистична – вот почему плохая любовь все равно хороша. Она может сделать нас несчастными, но она кричит, что нельзя ставить материю и механику во главу угла. Религия выродилась либо в будничное нытье, либо в законченное сумасшествие, либо в некое подобие бизнеса, где духовность путается с благотворительными пожертвованиями. Искусство, обретая уверенность благодаря упадку религии, на свой лад возвещает о трансцендентности мира (и оно живет, живет! искусство побивает смерть!), но его открытия доступны не всем, а если и доступны, то не всегда воодушевляющи или приятны. Поэтому религия и искусство должны отступить перед любовью. Именно ей обязаны мы своей человечностью и своим мистицизмом. Благодаря ей мы – это нечто большее, чем просто мы.
Материализм, конечно, нападает на любовь; на что он только не нападает. Вся любовь сводится к феромонам, говорит он. Этот стук сердца в груди, эта ясность видения, эта внутренняя сила, эта моральная определенность, этот восторг, эта гражданская добродетель, это тихое я тебя люблю имеют единственную причину – незаметный запах, исходящий от одного партнера и подсознательно воспринимаемый другим. Мы вроде того жука, который в ответ на постукиванье карандашом тычется головой в стенку спичечного коробка; только что покрупнее. Верим ли мы этому? Ладно, давайте на минутку поверим: тем ярче будет триумф любви. Из чего сделана скрипка? Из деревяшек да из овечьих кишок. Но разве музыка становится от этого пошлее или банальнее? Наоборот, благодаря этому она восхищает нас все больше.
И я не утверждаю, будто любовь сделает вас счастливым – уж что-что, а это вряд ли. Скорее она сделает вас несчастным – либо сразу же, если вы напоретесь на несовместимость, либо потом, годы спустя, когда древесные черви проделают свою тихую разрушительную работу и епископский трон падет. Но можно понимать это и все же стоять на том, что любовь – наша единственная надежда.
Это наша единственная надежда, даже если она подводит нас, несмотря на то что она подводит нас, потому что она подводит нас. Я говорю слишком неопределенно? Но я ищу всего лишь верного сравнения. Любовь и правда – вот важнейшая связка. Все мы знаем, что объективная истина недостижима, что всякое событие порождает множество субъективных истин, а мы затем оцениваем их и сочиняем историю, которая якобы повествует о том, что произошло «в действительности»; так сказать, с точки зрения Бога. Сочиненная нами версия фальшива – это изящная, невозможная фальшивка вроде тех скомпонованных из отдельных сценок средневековых картин, которые разом изображают все страсти Христовы, заставляя их совпадать по времени. Но даже понимая это, мы все-таки должны верить, что объективная истина достижима; или верить, что она достижима на 99 процентов; или, на худой конец, верить в то, что истина, объективная на 43 процента, лучше истины, объективной на 41 процент. Мы должны в это верить – иначе мы пропадем, нас поглотит обманчивая относительность, мы не сможем предпочесть слова одного лжеца словам другого, спасуем перед загадкой всего сущего, вынуждены будем признать, что победитель имеет право не только грабить, но и изрекать истину. (Между прочим, чья правда лучше – победителя или побеждённого? Пожалуй, гордость и сострадание искажают действительность ничуть не слабее, чем стыд и страх.)
Так же и с любовью. Мы должны верить в нее, иначе мы пропали. Мы можем не найти ее, а если найдем, она может сделать нас несчастными; но все-таки мы должны в нее верить. Без этой веры мы превратимся в рабов истории мира и чьей-нибудь чужой правды.
В любви все может пойти вкривь и вкось; так оно обычно и бывает. Сердце, этот загадочный орган, похожий на кусок бычьего мяса, не выносит прямых и открытых путей. В нашу современную модель вселенной входит понятие энтропии, что на бытовом уровне переводится так: чем дальше, тем больше путаницы. Но даже когда любовь подводит нас, мы должны по-прежнему в нее верить. Действительно ли в каждой молекуле уже заложено, что все безнадежно запутается, что любовь непременно подведет? Может быть. Но мы все-таки должны верить в любовь, как верим в свободную волю и объективную истину. А если любовь не удастся, винить в этом надо историю мира. Оставь она нас в покое, мы могли бы быть счастливы, наше счастье не покинуло бы нас. Любовь ушла, и в этом виновата мировая история.
Но пока этого еще не случилось. А может, и не случится. Ночью мы способны бросить вызов миру. Да-да, это в наших силах, история будет повержена. Возбужденный, я взбрыкиваю ногой. Она шевелится и испускает подземный, подводный вздох. Не будить ее. Сейчас это кажется огромной правдой, а утром решишь, что не стоило тревожить ее из-за этого. Она вздыхает тише, спокойнее. Я ощущаю во тьме рядом с собой контуры ее тела. Поворачиваюсь на бок, ложусь параллельным зигзагом и жду сна.
(Пер. с англ. В. Бабкова)
Цит. по: Барнс Дж. История мира в 10 У главах. М.: АСТ: ЛЮКС, 2005.
ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА
Ажар Э. Псевдо. Страхи царя Соломона. Жизнь и смерть Эмиля Ажара. СПб., 2000.
Андреев Л. Художественный синтез и постмодернизм // Вопросы литературы. 2001. № 1. С. 3—34.
Апт С. Горькая доля пророчицы // Иностранная литература. 1984. № 5. С. 239–241.
Барт Р. Критика и истина // Зарубежная эстетика и теория литературы ХІХ – ХХ вв. Трактаты, статьи, эссе. М., 1987. С. 349–422.
Барт Р. Избранные работы: Семиотика: Поэтика. М., 1989.
Белякова Е. Русский Амаду, или Русско-бразильские литературные связи / 10.10.2005 г. [Электронный ресурс] Lib.Ru: Жоржи Амаду / Режим доступа: -big-pictures.html.
Бердяев Н. Самопознание. М., 2004.
Блонский Ян. Бедные поляки смотрят на гетто // Новая Польша. 2009. № 3. [Электронный ресурс] Новая Польша / Режим доступа: .
Боровский Т. Прощание с Марией; Рассказы. М., 1989.
Босенко В. Гари-Гари, Ажар-Ажар // Литературная газета. 2000. № 38. 20–26 сентября.
Британишский В. Речь Посполитая поэтов. СПб., 2005.
Вельш В. «Постмодерн». Генеалогия и значение одного спорного понятия // Путь. М., 1992. № 1. С. 109–136.
Визель М. Гипертексты по ту и эту сторону экрана // Иностранная литература. 1999. № 10. С. 169–177.
Владимирова Н. Г. Условность, созидающая мир: Поэтика условных форм в современном романе Великобритании. Великий Новгород, 2001.
Волкова Е. В. Трагический парадокс Варлама Шаламова. М., 1998.
Вольф К. Разговор с Константином Симоновым // «С моей точки зрения…»: Советские и зарубежные писатели: диалоги, интервью, размышления / Сост. А. А. Клышко. М., 1986. С. 183–194.
Вольф К., Вольф Г. Исследование сути человеческого бытия // Вопросы литературы. 1988. № 9. С. 169–175.
Вольф К. Истоки одной повести: Кассандра. Франкфуртские лекции // Вольф К. От первого лица. М., 1999.
Гаврон Е. Зажечь огонь надежды // В мире книг. 1982. № 8. С. 68–70.
Гараджа А. В. После времени: Французские философы постсовременности // Иностранная литература. 1994. № 1. С. 54–56.
Гари Р. О творчестве: Выдержки из интервью // Вопросы литературы.
1991. № 11–12. С. 215–231.
Гари Р. Ночь будет спокойной // Иностранная литература. 1994. № 12. С. 212–233.
Геворкян Э. Чем вымощена дорога в рай? // Антиутопии ХХ века: Евгений Замятин, Олдос Хаксли, Джордж Оруэлл. М., 1989. С. 5—13.
Горичева Т. М. О кенозисе русской культуры // Христианство и русская литература: сб. статей. СПб., 1994.
Гречаная Е. П. Комментарии // Зарубежная эстетика и теория литературы XIX–XX вв. М., 1987.
Гюго В. Собрание сочинений: В 15 т. М., 1986. Гюго В. Отверженные. Киев, 1986. Денисова Т. Н. Ернест Хемінгуей. Київ: Дніпро, 1972. Денисова Т. Н. Экзистенциализм и современный американский роман. Киев, 1985.
Долинин А. Паломничество Чарльза Смитсона (О романе Джона Фаулза «Любовница французского лейтенанта») // Дж. Фаулз. Любовница французского лейтенанта. СПб., 1993. С. 444–458. Евнина Е. М. Виктор Гюго. М., 1976.
Ерофеев В. Мистификация, и ужас, и любовь // Э. Ажар. Жизнь впереди. М., 1988. С. 5—15.
Жлуктенко Н. Ю. Английский психологический роман ХХ века. Киев, 1988.
Заманская В. В. Экзистенциальная традиция в русской литературе ХХ века. Диалоги на границах столетий: учеб. пособие. М., 2002.
Затонский Д. В. Модернизм и постмодернизм: Мысли об извечном коловращении изящных и неизящных искусств. Харьков, 2000.
Звєрєв О. «Повірити, що життя – це добро» // П. Лагерквіст. Маріамна; Повісті. Київ, 1988. С. 5—20.
Зверев А. ХХ век как литературная эпоха // Вопросы литературы.
1992. № 2. С. 3—57.
Зверев А. Послесловие к роману Дж. Барнса «История мира в 10 У главах» // Иностранная литература. 1994. № 1. С. 229–231.
Зиник З. Блумов день // Новое время. № 27. 4 июля, 2004. Зонина Л. Тропы времени: Заметки об исканиях французских романистов (60–70 гг.). М., 1984.
Ивашева В. В. Литература Великобритании // История зарубежной литературы ХХ века (1945–1980) / Под ред. Л. Г. Андреева. М., 1989. Ильин И. А. Сочинения: В 2 т. Т. 1. М., 1993. Ильин И. П. Постмодернизм: словарь терминов. М., 2001.
Кабанова И. Тема художника и художественного творчества в английском романе 60—70-х гг. (Дж. Фаулз и Б. С. Джонсон): автореф. дис… канд. филол. наук. М., 1986.
Камю А. Прометей в аду // Вопросы литературы. 1980. № 2.
Камю А. Бунтующий человек. Философия. Политика. Искусство. М., 1990.
Камю А. Миф о Сизифе // А. Камю. Собр. соч. Т. 2. Харьков, 1997.
Кант И. Сочинения: В 6 т. Т. 4, ч. 2. М., 1963–1966.
Карельский А. Поэзия и мысль: Заметки о творчестве Кристы Вольф // Иностранная литература. 1988. № 1. С. 219–223.
Карпентьер А. Царство земное // А. Карпентьер. Избранное / Пер. с исп.; сост. и предисл. В. Земскова. М., 1988.
Кинг М. Л. Паломничество к ненасилию // Этическая мысль: научно-публицист. чтения. 1991 / Под общ. ред. А. А. Гусейнова. М., 1992. С. 168–181.
Клопова Т. А., Иванова И. В. Интерпретация Троянского цикла мифов в повести К. Вольф «Кассандра» // Традиции и новаторство в литературах стран Западной Европы и Америки XIX–XX вв.: межвуз. сб. Горький, 1989. С. 45–55.
Коган П. Очерки по истории западноевропейских литератур. Т. 2. М., 1905.
Коплстон Ф. История философии. ХХ век. М., 2002.
Косиков Г. К. Ролан Барт – семиолог, литературовед // Р. Барт. Избранные работы: Семиотика: Поэтика. М., 1989. С. 3—45.
Котек Ж., Ригуло П. Век лагерей: лишение свободы, концентрация, уничтожение. Сто лет злодеяний. М., 2003.
Кутейщикова В. Континент, где встречаются все эпохи: Заметки о современной латиноамериканской прозе // Вопросы литературы. 1974. № 4. С. 74–97.
Лапланш Ж, ПонталисЖ.-Б. Словарь по психоанализу. М., 1996.
Лиотар Ж.-В. Заметка о смыслах «пост» // Иностранная литература. 1994. № 1. С. 56–59.
Липовецкий М. Н. Русский постмодернизм. (Очерки исторической поэтики): монография. Екатеринбург, 1997.
Литвиненко Т. Е. Интертекст и его лингвистические основы (на материале латиноамериканских художественных текстов): автореферат дис… доктора филол. наук. Иркутск, 2008.
Лосский Н. О. Условия абсолютного добра. М., 1991.
Лошаков А. Г. Сверхтекст как словесно-концептуальный феномен: монография. Архангельск, 2007.
Лошакова Т. В. Об экзистенциальном содержании эпиграфа в «Медальонах» Зофьи Налковской // Res philologica. Ученые записки Северодвинского филиала Поморского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Архангельск, 2004. Вып. 4. С. 293–295.
Лошакова Т. В. Экзистенциальная проблематика «Медальонов» З. Налковской // Творчество Зофьи Налковской и славянские культуры: мат-лы Междунар. научн. конф. (19–22 мая 2004) / Отв. ред. С. Ф. Мусиенко. Гродно: ГрГУ, 2005. С. 122–132.
Лошакова Т. В. Польская лагерная проза: от факта – к образу // Семиозис и культура. Вып. 4: сб. научн. статей по мат-лам V Междунар. конф. «Семиозис и культура: методологические проблемы современного гуманитарного знания» (17–18 апреля 2008 года) / Отв. ред. И. Е. Фадеева. Сыктывкар: Изд-во Коми пед. ин-та, 2008. С. 150–155.
Лошакова Т. В., Лошаков А. Г. «Мальчик с Библией» и Лагерный сверхтекст Тадеуша Боровского // Диалог языков и культур: теоретический и прикладной аспекты: сб. науч. статей: вып. 1 / Сост. и отв. ред. Т. С. Нифанова. Архангельск: ПГУ, 2006. C. 205–212.
Льюис К. С. Страдание // Этическая мысль: научно-публицист. чтения. 1991 / Под общ. ред. А. А. Гусейнова. М., 1992. С. 374–438.
Мамонтов С. П. Испаноязычная литература стран Латинской Америки ХХ века: учеб. пособие для студентов филол. фак. ун-тов. М., 1983.
Манн Т. Собрание сочинений: В 10 т. Т. 9. М., 1960.
Манн Т. Письма. М., 1975.
Манн Ю. В. Автор и повествование // Историческая поэтика: Литературные эпохи и типы художественного сознания. М., 1994.
Маньковская Н. Б. Эстетика постмодернизма. СПб., 2000.
Мережковский Д. С. Было и будет. Дневник 1910–1914; Невоенный дневник. 1914–1916 / Сост., предисл. Е. Л. Домогацкой, Е. А. Певак. М., 2001.
Милош Ч. Стихотворения / Пер. Н. Горбаневской // Новая Польша. 1996. № 4 [Электронный ресурс] Новая Польша / Режим доступа: .
Монтень М. Опыты. Кн. 1. М., 1979.
Монтень М. Опыты. Кн. 3. Калининград, 1997.
Мотрошилова Н. В. Экзистенциализм // История философии: Запад – Россия – Восток (Кн. 4: Философия ХХ века). М., 1999. С. 3—93.
Мотылева Т. Предисловие к повести К. Вольф «Кассандра» // Иностранная литература. 1986. № 1. С. 100–101.
Муравьев В. Н. Письма. Внутренний путь. Философские заметки, афоризмы // Вопросы философии. 1992. № 1. С. 97—114.
Мусиенко С. Ф. Творчество Зофьи Налковской. Минск, 1989.
Неустроев В. П. Литература Скандинавских стран (1870–1970). М., 1980.
Неустроев В. П. Художник-мыслитель // П. Лагерквист. Избранное: сборник. М., 1981. С. 5—15.
Николаевская А. Требования жанра и корректива времени: Заметки об антиутопии в английской литературе 60—70-х годов // Иностранная литература. 1979. № 6.
Павличко С. Д. Інтелектуальна проза Джона Фаулза // Всесвіт. 1989. № 5. С. 116–121.
Пас О. Новая антология: поэзия и антология // Иностранная литература. 1991. № 1. С. 224–234.
Поляков М. Я. Вопросы поэтики и художественной семантики. М., 1978.
Руднев В. П. Словарь культуры ХХ века. М., 1997.
Руцкая Г. С. Поэтика трагического в повести К. Вольф «Кассандра» // Проблемы метода и поэтики в зарубежной литературе XIX–XX вв.: межвуз. сб. научн. тр. Пермь: Пермский университет, 1995. С. 165–179.
Сартр Ж.-П. Экзистенциализм – это гуманизм? // Сумерки богов. М., 1989.
Семенова С. Метафизика искусства А. Камю // Теории, школы, концепции. М., 1975.
Смирнова Н. А. Эволюция метатекста английского романтизма: Байрон – Уайльд – Гарди – Фаулз: автореф. дис… д-ра филол. наук. М., 2002.
Старосельская Н. Возвращенные имена // Литературное обозрение. 1991. № 9. С. 44–49.
Столович Л. Н. Об общечеловеческих ценностях // Вопросы философии. 2004. № 7. С. 86–97.
Сучков Б. Л. Роман-миф // Т. Манн. Иосиф и его братья. М., 1968.
Тертерян И. А. Баия, добрая и суровая земля Баия // Ж. Амаду. Жубиаба; Мертвое море. М., 1983. С. 5—20.
Тимофеев В. Г. Уроки Джона Фаулза. СПб., 2003.
Тимофеев Л. Поэтика лагерной прозы // Октябрь. 1991. № 3. С. 182–195.
Флоренский П. А. Имеславие как философская предпосылка // П. А. Флоренский. Сочинения. Т. II. М., 1990.
Фомичев С. По пушкинскому следу (о прозе В. Т. Шаламова) // Шаламовский сборник. Вып. 3. Вологда, 2002. С. 71–91.
Франкл В. Человек в поисках смысла. М., 1990.
Фрейбергс В. Творческий путь Дж. Фаулза: автореф. дис… канд. филол. наук. М., 1986.
Фрумкина С. История, увиденная Барнсом // Иностранная литература. 2002. № 7. С. 275–277.
Фуко М. Порядок дискурса // М. Фуко. Воля к истине. М.: Касталь, 1996.
Хартунг Э, Брейдо Е. Гипертекст как объект лингвистического анализа // Вестник Московского университета. Серия 9. Филология. 1996. № 3. С. 61–77.
Хачатурян Н. Иносказания Ромена Гари // Вопросы литературы. 1991. № 11–12. С. 206–214.
Хорев В. А. Польская литература // История литератур Восточной Европы после Второй мировой войны. Т. 1. 1945–1960 гг. / Отв. ред. В. А. Хорев. М., 1995. (Институт славяноведения и балканистики РАН).
Хорев В. А. Польская проза в поисках правды о Второй мировой войне // Итоги литературного развития в ХХ веке в проблемно-типологическом освещении. Центральная и Юго-Восточная Европа. М., 2006. С. 119–147.
Цыбенко Е. З. Польская литература о войне // Славяноведение. 1996. № 3. С. 84–85.
Шаламов В. <Письмо А. Кременскому> // Знамя. 1993. № 5.
Шаламов В. Т. О прозе // Несколько моих жизней. Проза. Поэзия. Эссе. М., 1996.
Шестаков В. П. Эволюция русской литературной утопии // Русская литературная утопия. М., 1986.
Щирова И. А. Психологический текст: деталь и образ. СПб., 2003.
Элиот Т. С. Полые люди // Избранная поэзия. СПб., 1994.
Эко У. Заметки на полях «Имени розы» // У. Эко. Имя розы. М.: Книжная палата, 1989. С. 427–482.
Эпштейн М. От модернизма к постмодернизму: Диалектика «гипер» в культуре ХХ века // Новое литературное обозрение. 1995. № 16. С. 32–46.
Ясперс К. Смысл и назначение истории. М., 1994.
Яшенькина Р. Ф. Повесть К. Вольф «Кассандра» (История, миф и литературная традиция) // Традиции и взаимодействия в зарубежной литературе XIX–XX вв.: межвуз. сб. научн. тр. Пермь: Пермский университет, 1988. С. 130–139.
Bartelski L. Sylwetki polskich pisarzy współczesnych. Warszawa, 1975.
Borowski T. Wspomnienia. Wiersze. Opowiadania. Warszawa, 1972.
Buryla S. Granice kamiennego świata. Problematyka wartości w opowiadaniach oświęcimskich Tadeusza Borowskiego // Akcent. 1999. R. 20. № 3/4. S. 36–47.
Drewnowski T. Posołwie // Borowski T. Wspomnienia. Wiersze. Opowiadania. Warszawa, 1972.
Lisiecka A. Borowski – nonconformista // Z problemów literatury polskiej XX wieku. Warszawa, 1965. S. 52–65.
Łoshakowa T. Nowa proza Borowskiego i Szałamowa // Tygiel kultury. 2006. № 4–6. S. 58–64.
Nałkowska Z. Pisma wybrane. T. 2. Warszawa, 1956. Nałkowska Z. Widzenie blizkie i dalekie. Warszawa, 1957. Podgórzec Z. Mój Chrystus. Rozmowy z Jerzym Nowosielskim. Białystok, 1993.
Stępień M. Od mowy pozornie zależnej do «czarnego potoku» świadomości // Literatura wobec wojny i okupacji. Wrocław, 1976. S. 163–185.
Werner A. Zwyczajna apokalipsa. Tadeusz Borowski i jego wizja świata obozów. Warszawa, 1971.
Wirth A. Odkrycie tragizmu // Z problemów literatury polskiej XX wieku. Warszawa, 1965. S. 42–51.
Wyka K. Pogranicze powieści. Warszawa, 1974. Zaworska H. Medaliony Zofii Nałkowskiej. Warszawa, 1969.
Примечания
1
Характеризуя такого рода тенденции, Е. В. Волкова, в частности, пишет: «Чем менее ценилась личность в эпоху глобальных катастроф ХХ века, тем более о ее ценности говорили философия и искусство. Уже русская религиозная философия начала ХХ века отстаивала мысль о том, что идея вечного не есть отвлеченное благо, а суть принадлежащего мне, требующего моего личного участия. Только в этой личностной укорененности в бытии происходит обнаружение и вопрошание высшего смысла» [Волкова 1998: 33].
(обратно)2
Сопоставляя понимание абсурда Сартром и Камю, С. Семенова в своей работе «Метафизика искусства А. Камю» отмечает: «У Сартра абсурден лишь мир и материальное бытие человека. Абсурд отступает перед личным сознанием, перед человеком. У Камю, напротив, абсурд приходит в мир вместе с человеком. Этот абсурд неизбывен, человек не может вырваться из него, более того – он обязан его „поддерживать“, считаться с ним как с основным фактом человеческого бытия и, уже исходя из него, строить свои жизненные ценности. <…> Сартр обожествляет человека: пусть несчастный и несовершенный, но в акте действия, на основе выбора творя смысл и ценности, он у него становится „заместителем“ бога. Природа – мрачная, враждебная сила, негативный Абсолют, Абсурд. У Камю природа, напротив, прекрасное богатство, но, увы, безразличное к судьбе человека. Хотя Сартр и Камю исходят из противоположного отношения к природе, тем не менее они приходят к одному результату: противопоставлению человека и мира, сознания и материи» [Семенова 1975: 95].
(обратно)3
Философы-экзистенциалисты понимают существование как «особый модус бытия человека, где и подлинная и неподлинная экзистенция открыты ему как потенциальности, как возможные детерминации его собственного бытия» [Коплстон 2002: 171].
(обратно)4
Тексты произведений из сборника З. Налковской «Медальоны» (пер. с пол. Г. Языковой) цитируются по изданию: Налковская З. Избранное. М.: Художественная литература, 1979.
(обратно)5
Причину того, что творчество Боровского, чьи книги стали хрестоматийными в Польше и активно переводились и издавались в 1960—1970-е годы в Европе, было практически неизвестно русскоязычному читателю, В. Британишский справедливо усматривает в том, что «Боровского у нас – боялись. Боялись, что его освенцимские рассказы кому-то напомнят о колымских рассказах Шаламова, что слово „музулман“ из освенцимского жаргона нельзя будет перевести иначе как словом „доходяга“ из жаргона наших лагерей, что само название рассказа „День в Хармензах“ может напомнить рассказ „Один день Ивана Денисовича“» [Британишский 2005: 352].
(обратно)6
Под сверхтекстом нами понимается ряд самостоятельных словесных текстов, выступающих под воздействием единой телеологической и модальной авторской установки в качестве целостного произведения. См. о нем: [Лошаков 2007].
(обратно)7
Тексты произведений Т. Боровского цитируются по изданию: Боровский Т. Прощание с Марией; Рассказы / Пер. с пол. под ред. С. Тонконоговой; сост. С. Ларина; предисл. Т. Древновского. М.: Художественная литература, 1989.
(обратно)8
Ср. у А. Камю: «Из сосуда Пандоры, где кишели человеческие несчастья, греки выпустили надежду последней, после всех других – как самое ужасное из них. Я не знаю более потрясающего символа. Ибо надежда, в противоположность тому, что о ней думают, равнозначна смирению. А жить – не значит смиряться. <…> Надежда на другую жизнь не должна застилать жизни этой» («Лето в Алжире»); «Следует с открытыми глазами встречать смерть, а не предаваться утешительным надеждам на другую жизнь, обесценивающим жизнь в настоящем. Ибо если и есть грех против жизни, так это не столько отчаяние в ней, сколько чаяние другой жизни, означающее бегство от неумолимого величия этой жизни» («Ветер в Джемиля»); и у В. Шаламова: «Надежда для арестанта – всегда кандалы. Надежда всегда несвобода. Человек, надеющийся на что-то, меняет свое поведение, чаще кривит душой, чем человек, не имеющий надежды» («Колымские рассказы»).
(обратно)9
В конце ХХ века знаменитый польский иконописец Ежи Новосельский в одном из интервью говорил по этому поводу: «.Освенцим, опыт которого мы знаем, это только одно из проявлений природы, истории. <…> Тех вещей, которые немцы делали в Освенциме, было в истории немало. То же самое чинили вавилоняне, ассирийцы. Разница только в количестве <…> Немцы не были исключением» [Podgorzec 1993: 55, 57–58].
(обратно)10
Кашкин И. Эрнест Хемингуэй // Э. Хемингуэй. Избранные произведения: В 2 т. Т. 1. М.: Художественная литература, 1959. С. 19.
(обратно)11
Денисова Т. Ернест Хемінгуей. Київ: Дніпро, 1972. С. 109.
(обратно)12
См.: Копыстянская Н. Ф. Понятие «жанр» в его устойчивости и изменчивости // Контекст. М., 1987. С. 201.
(обратно)13
Текст повести Лагерквиста «Варавва» (пер. со швед. В. Суриц) цитируется по изданию: Лагерквист П. Ф. Избранное: сборник: пер. со швед. / Сост.: Т. Величко, В. Мамонова; предисл. В. Неустроева. М.: Прогресс, 1981.
(обратно)14
Текст повести К. Вольф «Кассандра» (пер. с нем. Э. Львовой) цитируется по изданию: Вольф К. Избранное. М.: Радуга, 1988.
(обратно)15
В цикле «Франкфуртских лекций» (1983) К. Вольф по этому поводу пишет: «Вот как я представляю себе историю Кассандры: Кассандра, старшая дочь и любимица троянского царя Приама, живо интересуется вопросами общественной жизни и политики, не хочет, подобно своей матери и своим сестрам, сидеть у домашнего очага, не хочет выходить замуж. Она хочет чему-нибудь научиться. Для женщины знатного рода единственно возможная профессия – жрица, прорицательница. Кассандра получает эту привилегированную профессию, предполагается, что она будет исполнять свою должность рутинно. Но как раз этого она не хочет и не может потому, что уверена: на свой лад она лучше сумеет послужить родичам и согражданам, с которыми она ощущает глубокую внутреннюю связь, она осознает: родичи ей уже не родичи, а чужие. Болезненный процесс отчуждения, вследствие которого ее – за „ясновидение“ – сначала объявляют безумной, а потом бросают в темницу по приказу отца, которого она так любит. Она „видит“ будущее, потому что имеет мужество глядеть в глаза настоящему и его правде. Она сознательно становится аутсайдером, отрекается от всех привилегий, подвергается издевкам, подозрениям: такова цена независимости» [Вольф 1991: 233].
(обратно)16
Text+Kritik. Zeitschrift für Literatur / Hrsg. von H. L. Arnold. Christa Wolf. 4. Aufl. 1994. Н. 46. S. 90.
(обратно)17
Текст романа Э. Бёрджесса цитируется по изданию: Бёрджесс Э. Заводной апельсин / Пер. с англ. В. Бошняка. СПб.: Азбука, 2000.
(обратно)18
Текст романа Э. Ажара цитируется по изданиям: Ажар Э. (Ромен Гари). Голубчик; Вся жизнь впереди: Романы / Пер. с франц. Л. Цывьяна. СПб.: Симпозиум, 2000; Ажар Э. Жизнь впереди / Пер. с франц. В. Орлова. М.: Художественная литература, 1988.
(обратно)19
Суры Корана цитируются по изданию: Коран / Пер. с араб. акад. И. Ю. Крачковского. М.: СП ИКПА, 1990.
(обратно)20
Е. Белякова [2005] подчеркивает, что знакомство советских читателей с феноменом «мифологического сознания», «магического реализма» произошло в 1951 г., когда в СССР была опубликована эта книга, но «советским исследователям понадобилось более 20 лет, чтобы понять значимость феномена».
(обратно)21
Термин «магический реализм» впервые предложил немецкий искусствовед Франц Рох (1925), но применительно к живописи постэкспрессионизма. Под «магическим реализмом» он подразумевал особый способ отражения реальности, при котором обычные объекты предстают как совершенно новые, незнакомые. В 1948 г. венесуэльский критик А. Услару-Пьтри назвал некоторых латиноамериканских писателей «магическими реалистами», тем самым дав термину новую жизнь.
(обратно)22
Раздел написан в соавторстве с А. Г. Лошаковым.
(обратно)23
«...приставка „пост“ в слове „постмодерн“ <…> обозначает не движение типа соте back, flash back, feed back, т. е. движение повторения, но некий „анапроцесс“, процесс анализа, анамнеза, аналогии и анаморфозы, который перерабатывает нечто „первозабытое“» [Лиотар 1994: 59].
(обратно)24
По словам Л. Г. Андреева, «самое, пожалуй, краткое определение художественного синтеза дал один из лучших российских прозаиков последнего десятилетия – Андрей Дмитриев <…>: „Реализм, который вобрал в себя приемы тоталитарных направлений – от авангарда до постмодернизма“» [Андреев 2001: 34].
(обратно)25
Речь идет о книге Ю. Кристевой «Власть ужаса. Эссе о мерзости» (1980).
(обратно)26
Текст романа Дж. Фаулза цитируется по изданию: Фаулз Дж. Любовница французского лейтенанта: Роман / Пер. с англ. М. Беккер и И. Комаровой. СПб.: Худож. лит., 1993.
(обратно)27
Текст романа Дж. Барнса цитируется по изданию: Барнс Дж. История мира в 10 1/2 главах / Пер. с англ. В. Бабкова // Иностранная литература. 1994. № 1.
(обратно)28
Для постмодернистского писателя «реальностью обладают только прерывистость и эклектизм, а любое разумное обоснование исторического, мифологического и психологического плана заведомо ложно и искусственно, произвольно и просто лживо. Как пишет американский писатель Д. Барлем в рассказе „Смотри на луну“, „фрагменты – это единственная форма, которой я доверяю“» [Ильин 2000: 135].
(обратно)29
Цит. по: [Ильин 2001: 133].
(обратно)30
См. об этом: [Хартунг, Брейдо 1996; Визель 1999; Лошаков 2007] и др.
(обратно)31
Фантазм – термин З. Фрейда. В психоаналитической литературе «это особый продукт воображения, а вовсе не мир фантазий и не деятельность воображения в целом» [Лапланш, Понталис 1996: 532].
(обратно)32
Цит. по: [Косиков 1989: 39–40].
(обратно)33
Ср. у Р. Барта: «…с того момента, как я сам подчиняюсь требованиям символического кода, лежащего в основе произведения, иными словами, обнаруживаю готовность вписать свое прочтение в пространство, образованное символами, – с этого момента произведение оказывается не в силах воспротивиться тому смыслу, которым я его наделяю; однако оно не может и удостоверить этот смысл, ибо вторичный код произведения имеет не предписывающий, а ограничительный характер: он намечает смысловые объемы, а не смысловые границы текста; он учреждает многосмысленность, а не один какой-нибудь смысл» [Барт 1987: 372–373].
(обратно)34
Выше и ниже А. Зверев указывает, сочетание каких поэтических черт создает в тексте впечатление неоднородности – это бурлеск и пародии, репортаж в форме писем и телеграмм, откровенная беллетристика и столь же откровенная эссеистика, сменяющие друг друга несхожие протагонисты, мозаика пейзажей и др.
(обратно)35
Приводится текст 7-й главы из части третьей романа.
(обратно)36
Лицемерный читатель (фр.).
(обратно)
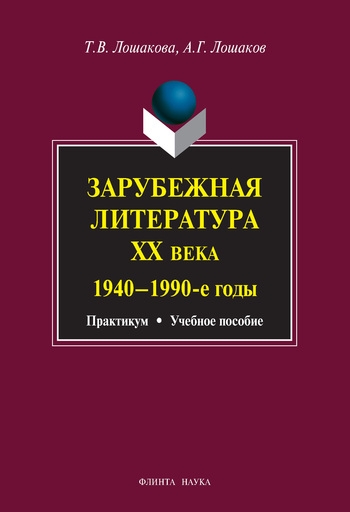

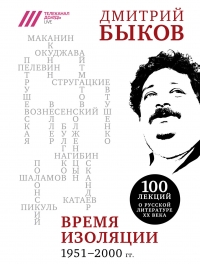


Комментарии к книге «Зарубежная литература ХХ века. 1940–1990 гг.: учебное пособие», Александр Геннадьевич Лошаков
Всего 0 комментариев