Аркадий Островский Говорит и показывает Россия. Путешествие из будущего в прошлое средствами массовой информации
© Arkady Ostrovsky, 2015, 2017
© Т. Азаркович, перевод на русский язык, 2019
© А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2019
© ООО “Издательство Аст”, 2019
* * *
Памяти Бориса Немцова и Игоря Малашенко
Когда готовился к выходу английский вариант этой книги, пришла страшная новость: в самом центре Москвы, в считанных метрах от Кремля, застрелен Борис Немцов. Он был для меня не просто исторической фигурой 1990-х, но и человеком лично близким и важным. Немцов был едва ли не единственным российским политиком, сочетавшим в себе честность, храбрость, порядочность, силу и обаяние. Он никогда не изменял тем ценностям, которые привели его на политическую сцену, и по праву стал олицетворением той России, о которой многие мечтали в конце 1980-х и начале 1990-х: России, открытой миру, демократической, энергичной. И я согласен с Игорем Малашенко, мрачно сказавшим после его убийства: “Они отняли у нас символ”.
Прошло четыре года. Я заканчивал редактировать русский вариант книги, когда из жизни трагически ушел один из ее главных героев – Игорь Малашенко. Он был одним из самых значительных и поистине драматических персонажей новейшей российской истории. В конце советской эпохи перед ним встал практический вопрос: как и где найти применение своим талантам и энергии, не утратив при этом самоуважения? “Я очень четко сознавал: или моя жизнь пройдет напрасно, или системе придется измениться”, – объяснил он мне во время одной из наших многочисленных долгих бесед. Тогда система изменилась, и он сумел успешно применить свои таланты, однако спустя четверть века этот незаурядный человек вновь оказался невостребованным, выброшенным из исторического потока…
Его жизнь и жизнь Бориса Немцова были неразрывно связаны с историей страны, которую они пытались построить. Трудно было найти двух столь различных людей. Экстраверт и интроверт, публичный политик, общительный и жизнелюбивый, и убежденный индивидуалист, обладающий жестким и даже, пожалуй, мрачным умом, – нет, они вовсе не были друзьями. Но было то, что их объединяло. И Немцов, и Малашенко превыше всего ценили личное достоинство и свободу, олицетворяя собой надежду на то будущее, которое так и не наступило – во всяком случае, для них. Теперь они лежат рядом на Троекуровском кладбище в Москве. Я посвящаю русское издание этой книги их памяти.
Благодарности
Замыслом этой книги – как и своей журналистской карьерой – я обязан моему другу, коллеге и наставнику Джону Ллойду, с которым я познакомился в Москве в 1992 году, где он возглавлял московское бюро газеты Financial Times. Через двенадцать лет я был уже московским корреспондентом FT и Джон предложил мне написать для ее еженедельного приложения, редактором которого он являлся, о российском телевидении и о его воздействии на политику. Из той статьи и выросла настоящая книга. Я никогда бы не дерзнул даже приступить к ней, если бы не поддержка и дружба Джона.
Тоби Манди, бывший глава издательства “Атлантик-букс”, поверил в идею этой книги и заказал мне ее после одного-единственного нашего с ним разговора. Его энтузиазм, поддержка и интерес к теме позволили мне расширить рамки обзора и исследовать различные смежные области, хотя намеченные сроки окончания работы срывались один за другим. Уйдя из “Атлантик-букс”, Тоби вверил меня заботам Джеймса Найтингейла, чей спокойный профессионализм, любознательность и терпение позволили довести эту книгу до печати. Он превратил редактирование текста в творческий и приятный процесс. Я благодарен своему русскому издателю и другу Варе Горностаевой и всем тем, кто помогал выходу этой книги – Татьяне Азаркович, Анне Косинской. Инне Безруковой и Андрею Бондаренко.
Мария Липман уделила мне огромное количество времени, согласившись прочитать всю рукопись целиком. Она уберегла меня от множества ошибок, и под ее влиянием я изменил некоторые свои прежние представления. Я просто пропал бы без помощи Ксении Бараковской, которая стоически выверяла все сноски и находила отсутствующие ссылки. Ее помощь в подготовке книги к печати была поистине бесценной.
Я бесконечно благодарен моему учителю, другу и одному из самых близких мне людей Инне Натановне Соловьевой. Пока я писал эту книгу, она по обыкновению направляла мои мысли и поддерживала меня в минуты отчаяния. Она читала все черновые варианты и давала бесценные советы, касавшиеся содержания и композиции будущей книги. На протяжении долгих лет ее мысли, ее сила воли, ее этическая позиция и поразительная душевная щедрость играли и продолжают играть определяющую роль в моей жизни.
Игорь Малашенко помог мне концептуализировать эту книгу и снабдил меня бесценными сведениями. Наши долгие беседы в Киеве и в Москве во многом определили мое понимание российской политики и истории 1990-х годов. До конца его дней он был важным для меня собеседником, служа источником мыслей и наблюдений. Его рассказ о создании НТВ лег в основу глав о 1990-х годах и помог структурировать книгу в целом.
Мне очень помогли ненавязчивые советы блестящего историка культуры Андрея Зорина, чьи исследования, посвященные развитию советской интеллигенции, составили основу глав, где рассказывается о последних днях Советского Союза. Андрей и Ирина Зорины любезно предоставили мне с семьей возможность пожить в их оксфордском доме летом 2012 года. Кирилл Рогов помог продраться сквозь шум и туман путинской эпохи, обозначив ключевые события и поворотные пункты на пути России к ее нынешнему состоянию. Сэм Амиль предложил название для одной из глав. Михаил Ямпольский, философ и историк культуры, любезно прокомментировал начальные главы книги и оспорил некоторые общепринятые взгляды, высказанные там. Многие люди щедро уделяли мне время, давали интервью и предоставляли документы.
Евгений Киселев во всех подробностях вспомнил историю НТВ, воссоздав изначальные побуждения его творцов и последовательность событий. Ирина Яковлева увлеченно рассказывала о своем покойном муже, Егоре Яковлеве, который по праву стал одним из главных действующих лиц моего повествования. Я благодарю сэра Родрика Брейтвейта за разрешение ознакомиться с его неопубликованными московскими дневниками. Мне также очень помогла Валентина Сидорова из Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ), позволившая работать с документами из архива Егора Яковлева еще до того, как они попали в каталог. С телевизионными архивами НТВ мне помогала Наталья Куракина. Я благодарю за уделенное мне время и за высказанные мысли: Петра Авена, Евгению Альбац, Нину Андрееву, Виктора Анпилова, Алексея Венедиктова, Александра Волошина, Марию Гайдар, Наталию Геворкян, Михаила Горбачева, Льва Гудкова, Владимира Гусинского, Михаила Дмитриева, Сергея Доренко, Бориса Дубина, Наталью Иванову, А. Крейга Копетаса, Веронику Куцылло, Юлию Латынину, Алексея Левинсона, Виктора Лошака, Дмитрия Муратова, Алексея Навального, Александра Невзорова, Бориса Немцова, Елену Нусинову, Александра Ослона, Глеба Павловского, Леонида Парфенова, Сергея Пархоменко, Ирину Петровскую, Ирину Прохорову, Григория Ревзина, Юрия Сапрыкина, Машу Слоним, Анатолия Смелянского, Максима Соколова, Светлану Сорокину, Александра Тимофеевского, Михаила Фишмана, Михаила Фридмана, Михаила Ходорковского, Анатолия Чубайса, Мариэтту Чудакову, Константина Эрнста, Анатолия Яковлева, Владимира Яковлева и всех остальных, кто делился со мной рассказами. В своем повествовании я опирался и на первичные, и на вторичные источники. Отличная биография Бориса Ельцина, написанная Леоном Ароном, стала для меня бесценным гидом по эпохе 1980-х и 1990-х. Пророческая книга Брюса Кларка “Новое платье для империи”, дневники Вероники Куцылло и репортажи Сергея Пархоменко помогли мне представить картину националистического и коммунистического мятежа в октябре 1993 года. В описании эпохи олигархов я опирался на основательный и исчерпывающий труд Дэвида Хоффмана “Олигархи” и яркую работу Кристи Фриланд “Продажа века”. Книга “Кремль поднимает голову” Питера Бейкера и Сьюзен Глассер помогла мне понять начало 2000-х, а авторитетный труд Фионы Хилл и Клиффорда Гэдди “Оперативник в Кремле” остается на настоящий момент лучшим и наиболее полным портретом Путина и его окружения. В основу глав, посвященных 2000-м, легли и мои собственные репортажи для Financial Times и The Economist.
Я с благодарностью вспоминаю хорошую компанию и вдохновляющую рабочую обстановку в Сент-Энтониз-колледже и Рейтеровском институте изучения журналистики в Оксфорде, а также в венском Институте гуманитарных наук. Кроме того, я благодарю за помощь, советы и дружбу Марию Александрову, Елену Амелину, Энн Эпплбаум, Нила и Эмму Бакли, Эдварда и Шарлотту Баринг, Кэтрин Белтон, Каху Бендукидзе, Инну Березкину, Тони и Кэтрин Брамуэлл, Ларису Буракову, Маркуса и Салли Вержетт, Тома де Ваала и Джорджину Уилсон, Дину Годер, Марию Гордон, Лилию и Сергея Грачевых, Игоря Гуровича, Наталью Зоркую, Нато Канчели, Лидию Колпачкову, Ивана Крастева, Катарину Куденхове-Калерги, Джеймса Кумарасвами и Нанетт Ван дер Лаан, Андрея Курилкина, Доминика Ливен, Майкла Макфола, Елену Немировскую, Квентина и Мэри Пил, Илларию Поджолини, Марка и Рэчел Полонски, Петра Померанцева, Павла Понизовского и Ричарда Уоллиса, Ирину Резник, Саймона Себаг-Монтефиоре, Юрия Сенокосова, Роберта Сервиса, Адель и Себастьяна Смит, Татьяну Смолярову, Ноя Снайдера, Екатерину Сокирянскую, Александра Сорина и Катю Бермант, Анджелу Стент, Ольгу Степанову, Тиффани Стерн и Дэна Гримли, сэра Томаса Стоппарда, Кэролин Сэндз, Джона Теффта, Джона и Кэрол Торнхилл, Максима Трудолюбова, Алекса, Руперта и Джосса Уилбрахем, Эндрю Уилсона, Петра Фаворова, Ольгу Федянину, Ральфа Файнса, Флориану Фоссато, Эндрю Хиггинса, Фиону Хилл, Гая Чезана, Любу Шац.
Мне очень повезло с коллегами и друзьями в журнале The Economist: благодаря их доброжелательной снисходительности у меня было достаточно времени для написания книги. Я очень признателен Эндрю Миллеру и Эмме Белл, помогавшим мне советами и терпеливой поддержкой.
Моей незыблемой опорой всегда была моя семья. Я благодарен моему брату Сергею, моим родителям Михаилу и Раисе Островским за их постоянную безоговорочную поддержку, любовь и заботу. Благодарю Диану Хьюитт за то, что присматривала за мной в горах Уэльса. Но в самом большом долгу я перед своей женой Бекки, которая стойко несла бремя этой книги. Она безотказно читала и редактировала различные черновые варианты рукописи и все это время вела наше домашнее хозяйство. Спасибо ей за терпение. Мои дети Петя, Лиза и Полина давали мне силы и стимул для работы; надеюсь, когда-нибудь они прочтут эту книгу.
Пролог Молчаливое шествие
Новейшая российская история знает пока только два случая добровольного ухода глав государства со своего поста. Соответственно, есть лишь две прощальные речи лидеров страны – речи Горбачева и Ельцина. Михаил Горбачев, первый и последний президент СССР, обратился к стране 25 декабря 1991 года.
Судьба так распорядилась, что, когда я оказался во главе государства, уже было ясно, что со страной неладно. Всего много: земли, нефти и газа, других природных богатств, да и умом и талантами Бог не обидел, а живем куда хуже, чем в развитых странах, все больше отстаем от них… Общество задыхалось в тисках командно-административной системы… Все попытки частичных реформ… терпели неудачу одна за другой. Страна теряла перспективу. Так дальше жить было нельзя. Надо было кардинально все менять…[1]
Спустя восемь лет, 31 декабря 1999 года, к стране обратился первый президент России Борис Ельцин.
Я хочу попросить у вас прощения… за то, что не оправдал некоторых надежд тех людей, которые верили, что мы одним рывком, одним махом сможем перепрыгнуть из серого, застойного, тоталитарного прошлого в светлое, богатое, цивилизованное будущее. Я сам в это верил. Казалось, одним рывком – и все одолеем. Одним рывком не получилось… Я ухожу. Я сделал все, что мог… Мне на смену приходит новое поколение, поколение тех, кто может сделать больше и лучше[2].
Виктор Черномырдин, возглавлявший российское правительство большую часть ельцинского правления, прощальной речи не произносил, но афористично сформулировал то, что отзывалось трагическими нотами в речах и Горбачева, и Ельцина: “Хотели как лучше, а получилось как всегда”. Смысловой акцент при этом обыкновенно делался на второй части – ну вот, опять у нас все как всегда. В этом был и фатализм, и оправдание собственного бездействия: “такие уж мы есть… что поделать”.
Историку, однако, стоит задуматься о том, “чего хотели”, на что надеялись и почему не получилось. Хотели-то и вправду чтобы было лучше: дали возможность нормально зарабатывать, отказались от репрессий, сняли запреты, открыли границы, перестали воевать со всем миром, вывели войска из Афганистана, а потом и из Восточной Европы, проявили человечность, заслужили всеобщее признание и симпатии – чего же плохого? Назвать распад Советского Союза “главной геополитической катастрофой” ХХ века тогда и в голову бы никому не пришло. Люди не ощущали себя ни проигравшими, ни несправедливо обиженными. Никакого ресентимента, так усердно насаждаемого пропагандой последнего десятилетия, в конце 1980-х годов не было и в помине, скорее наоборот – было ощущение торжества здравого смысла, радости от того, что страна открывается, и, самое главное, – ощущение будущего. Бытовые проблемы с лихвой компенсировались появившимися возможностями. Во всяком случае, так казалось тогда мне, студенту-первокурснику театроведческого факультета ГИТИСа (ныне Российского института театрального искусства).
Моя семья была не богатой, но, по советским меркам, вполне благополучной и обеспеченной. Политика как таковая меня в те годы интересовала мало; другое дело – сама жизнь, в которой впечатления театральные и впечатления чисто бытовые сливались воедино, давая редкое ощущение нахождения в центре исторических событий. В Москву приезжали лучшие мировые режиссеры – Ингмар Бергман, Питер Брук и другие. Радость от их спектаклей дополнялась закулисными встречами с актерами. Я тогда еще очень плохо знал английский, но сама возможность говорить с ними на одном языке о театре и стране была важнее того, о чем мы говорили. Жизнь представлялась пестрой и очень занятной.
Ощущение свободы рождалось не из политических речей, а из самого воздуха, самой атмосферы, царившей, к примеру, в 39-ой аудитории ГИТИСа на третьем этаже московского особняка, где студенты Петра Фоменко играли дипломный спектакль “Волки и овцы”. Спектакль начинался часов в семь или восемь – лучи заходящего солнца освещали окна, на которых были нарисованы замоскворецкие пейзажи. В какой-то момент окна распахивались; теплый воздух заполнял зал и сам спектакль. На улице радовали глаз деревья с ярко-зеленой листвой. Естественный свет преломлялся в художественное впечатление. В вечернем воздухе, сладостно щемя сердце, разливался романс, под звуки которого на гамаке раскачивалась Глафира – Галя Тюнина; она дурманила и кружила голову Лыняеву (Юра Степанов). Жизнь за окном сливалась с жизнью на сцене – дыхание было легким и свободным.
Юношеский максимализм уверял, что подобные чувства испытывают вокруг практически все. Но, оглядываясь теперь назад, я понимаю, что тогдашнее ощущение подъема, оптимизма и открывающихся возможностей было типично лишь для относительно небольшой группы, принадлежность к которой определяли уровень образования, возраст (отчасти), социальный статус и прописка. Для большинства же населения России развал Советского Союза означал резкое падение уровня жизни и социального статуса и был неразрывно связан с растерянностью и неопределенностью. Однако в тот момент людям моего круга и поколения казалось, что история на нашей стороне и что будущее принадлежит нам. Ни страха, ни чувства унижения не было. Помню, как студентом я ехал на поезде (самолет был не по карману) в Лондон через всю Восточную Европу и гордился своей страной, которая ассоциировалась тогда со свободой. Правда, поесть в этом поезде было решительно негде и нечего, но это не омрачало путешествия.
Августовский путч 1991 года был последним и нелепым спазмом режима, который не осознал, что уже несколько лет как умер. Конец Советского Союза пришелся на конец года, и провожали его именно как старый год, который успел порядком надоесть. Речь Горбачева 25 декабря 1991 года и спуск советского флага воспринимались не как точка перелома, а как констатация реальности.
Реальными стали свободные выборы, свобода печати, религиозные свободы, представительные органы власти, многопартийность. Права человека были признаны высшим принципом… Мы живем в новом мире: покончено с холодной войной, остановлена гонка вооружений… Мы открылись миру, отказались от вмешательства в чужие дела, от использования войск за пределами страны. И нам ответили доверием, солидарностью и уважением… Жизненно важным мне представляется сохранить демократические завоевания последних лет. Они выстраданы всей нашей историей, нашим трагическим опытом. От них нельзя отказываться ни при каких обстоятельствах и ни под каким предлогом[3].
В 1992-м, через год после того, как Советский Союз прекратил свое существование, я поступил в аспирантуру в Кембридж – писать диссертацию о русско-английских культурных связях. За возможность свободно путешествовать и учиться я был благодарен Горбачеву, о чем и сказал ему, тогда уже бывшему президенту страны, десять лет спустя, когда вернулся в Москву в качестве корреспондента сначала газеты Financial Times, а потом – журнала The Economist. Горбачев, которого на тот момент благодарил редко кто, ответил, что старался он с единомышленниками не для себя и даже не для своих детей: дай Бог, чтобы внуки смогли воспользоваться достижениями перестройки… К тому времени президентом России уже стал бывший сотрудник КГБ, вернувший государственный гимн СССР и символику страны, которую вроде бы проводили десятью годами раньше.
Процесс “реставрации”, естественно, не восстановил Советский Союз, а привел Россию в новое и куда более опасное состояние. Имперский национализм и коррупция стали главными механизмами власти, угрожающими как самой стране, так и ее соседям. Могущество ФСБ несопоставимо сейчас даже с могуществом КГБ. Пропагандисты центральных телеканалов, вроде Дмитрия Киселева, грозятся превратить Америку в радиоактивный пепел. Приоритет общечеловеческих ценностей и прав перед государственными интересами, провозглашенный когда-то Горбачевым, похоронен вместе с неприкосновенностью человеческой жизни и собственности. Россия снова вмешивается в дела других государств и воюет далеко за своими пределами. Конфронтация с Западом стала главным способом удержания власти в Кремле, и она же остановила модернизацию страны.
Я был в Грузии, когда в Гори вошли российские танки, был в Крыму, когда там высадились “зеленые человечки”; в Донецке – когда российские “туристы” раскачивали ситуацию на юго-востоке Украины; в Москве, когда у стен Кремля застрелили Бориса Немцова – одного из немногих по-настоящему порядочных российских политиков… Как и другие журналисты, я знал Немцова лично. Незадолго до гибели он раздавал листовки с призывом прийти на антивоенное шествие в Москве. Вместо этого люди собрались на траурную манифестацию, посвященную памяти самого Немцова. Спустя два дня после его убийства я, моя жена и наш девятилетний сын шагали вместе с десятками тысяч москвичей к месту, где его убили. Шли молча.
Как Россия 1991 года превратилась в себя нынешнюю? Где та точка, на которой страна развернулась в прошлое? Кто и когда совершил контрреволюцию, и как я, работая журналистом в Москве с 2003 года, пропустил ее? Что это было? Приход Путина к власти? Война в Чечне? Разгром НТВ? Дело ЮКОСа? Нет, не все так просто. На мой взгляд, после распада Советского Союза вообще невозможно назвать то единственное, ключевое, событие, что определило сегодняшнее положение России.
Сколь бы соблазнительным ни казалось желание свалить всю вину на Путина, это мало что объяснит. Пусть на нем и лежит огромная доля ответственности, но он – не только причина, но и следствие тех решений, которые принимались до него. Когда я брался за эту книгу, то думал начать ее с событий 1991 года, но чем глубже я погружался в материал, тем дальше в прошлое приходилось мне отодвигать начало повествования.
Каждое поколение, пережившее травму и крушение надежд, искало точку, с которой все пошло не так, и пыталось вернуться к ней, чтобы избрать другой путь. Но подобные попытки абсолютно бесплодны. Отмотать время назад, сделать его, так сказать, “непрошедшим”, не под силу даже Богу. Предрасположенность к тем или иным кризисам, безусловно, была заложена прошлым, но не стоит думать, что то, как развивались события в России последние тридцать лет, являлось исторической неизбежностью. Судьбоносных точек было много, и каждая из них сужала коридор возможностей; в конечном итоге все эти точки выстроились в траекторию.
Эта книга – попытка разобраться в пути от свободы и открытости к самоизоляции и войне и проследить те идеи, которые овладевали страной и вызывали кризисы. Я не ставил перед собой задачи написать политическую или экономическую историю России. Меня интересовали изменения в массовом сознании и те, кто это сознание формировал. Главные герои моей книги – не политики и экономисты, а люди, создававшие смыслы для целой страны, программировавшие и транслировавшие ее образ: идеологи, журналисты, редакторы газет, телевизионные начальники – то есть те, которые “говорили и показывали”.
Еще со времен горбачевской перестройки журналисты перестали быть только ретрансляторами чужих замыслов. Они сами конструировали идеи и концепции, а потому в равной степени несут ответственность как за выход России из авторитаризма, так и за возвращение к нему. Впрочем, эта книга не является и историей российских СМИ; скорее, это краткая хронология той страны, которую они, по сути, создали.
Идеи и слова всегда играли особую, часто гипертрофированную роль в жизни России. Россия – страна идеоцентричная. Слова здесь не столько описывают реальность, сколько создают ее, и недаром в мире Россию воспринимали как страну Толстого, Достоевского, Чехова. Как говорит Белинский в трилогии Тома Стоппарда “Берег Утопии”, которую мне посчастливилось переводить на русский язык, “литература может заменить, собственно, превратиться в… Россию! Она может быть важнее и реальнее объективной действительности… Какая литература и какая жизнь – это один и тот же вопрос. В других странах каждый по мере сил старается способствовать улучшению нравов. А в России – никакого разделения труда. Литературе приходится справляться в одиночку”.
Об этом же говорил Иван Павлов в своих публичных лекциях “Об уме вообще, о русском уме в частности”, прочитанных в Петрограде весной 1918 года. “Задача ума – это правильное видение действительности, ясное и точное познание ее”. Однако, добавляет он, “русский ум не привязан к фактам. Он больше любит слова и ими оперирует”[4]. В частности, “перед революцией русский человек млел уже давно. Как же! У французов была революция, а у нас нет! Ну и что же, готовились мы к революции, изучали ее? Нет, мы этого не делали. Мы только теперь, задним числом, набросились на книги и читаем. Я думаю, что этим надо было заниматься раньше”.
Большевики, взявшие власть в огромной стране, действовали во имя утопической, милленаристской идеи, не считаясь с реальностью жизни, ломая эту реальность и насилуя ее[5]. Первым делом они захватывали типографии и телеграф, устанавливали монополию на печатное слово. Слова использовались не для описания действительности, а для сокрытия фактов и искажения реальности. Советская система держалась на двух столпах – лжи и репрессиях. Лживые слова оправдывали репрессии. Репрессии подкрепляли и насаждали ложь. Противоречие между действительностью и ложью разрешалось с помощью двоемыслия – психологического механизма, описанного Джорджем Оруэллом в романе “1984”. Однако система, созданная силой слова, от слова и погибла. Советский Союз развалился не потому, что у него закончились деньги, а потому, что у него закончились слова.
“Жить не по лжи” – как написал в день своего ареста Александр Солженицын – было единственным способом разрушить систему. Парадокс, впрочем, заключался в том, что только полуправда в газетах могла привести к возникновению свободных от цензуры СМИ. Сквозь трещины в системе в виде первых прямых телетрансляций и публицистических статей на свет начала прорываться реальность. И в этих условиях Советский Союз выстоять не смог. Как говорил Александр Яковлев, главный идеолог перестройки, чтобы захватить Кремль, нужно было захватить телевидение. Именно вокруг телевизионных центров и телебашен разворачивались главные и кровавые бои в момент распада СССР. В 1990-е годы российское телевидение и крупнейшие газеты оказались в руках либерально настроенной и прозападной элиты. Однако в итоге элита, лишенная чувства исторической ответственности, использовала медиаресурсы для личного обогащения и укрепления собственной власти, а не для обустройства страны.
Путина, никому не известного сотрудника КГБ, телевидение за считанные месяцы превратило в президента России. И именно телевидение он первым делом взял под свой контроль, что и позволило ему уничтожить альтернативные центры власти, перетянув на свою сторону одних, посадив или выдавив из страны других и распределив командные высоты в экономике между друзьями по Петербургу и бывшими соратниками по КГБ. Телевидение стало для него главным орудием власти, и оно же превратилось в главное оружие в “гибридной войне” вначале с Грузией, а затем с Украиной.
Сильвио Берлускони, бывший премьер-министр Италии, медиамагнат и друг Путина, однажды заметил: “То, чего не показывают по телевизору, просто не существует”. Путин же пошел еще дальше: то, чего не существует, с помощью телекартинки он превращает в реальность. И аннексия Крыма, и война на Украине были результатом как раз подобной операции. Информационные войны вели к реальным, исчисляемым тысячами, жертвам. Те, кто командовал и командует информационными силами, разжигая ненависть и агрессию в собственном населении с единственной целью – удержать в своих руках власть и деньги, не являются оголтелыми националистами, помешанными на идее мирового господства; но они и не простые пешки на шахматной доске диктатора.
Это умные, хорошо образованные люди, начавшие карьеру во время перестройки и добившиеся успеха в 1990-е, при Ельцине. Сегодня они выступают в роли демиургов, создающих реальность. Возможно, они тоже когда-то хотели “как лучше”, но то, что в итоге у них получилось “как всегда”, не было случайностью или роковым стечением обстоятельств. Так вышло не само собой, а в результате их стараний и их личного выбора. Могло статься и иначе. Какие медиа и какая страна – это, в сущности, один и тот же вопрос.
Часть первая
Глава 1 Советские вельможи
“У нас еще много времени”
Вечером 25 декабря 1991 года без пяти минут семь Михаил Горбачев быстрым шагом прошел по кремлевскому коридору в комнату № 41, заполненную фотографами, осветителями, звукоинженерами и операторами, которым предстояло запечатлеть последнюю речь президента СССР. В руках у него были текст его выступления и указ о сложении с себя полномочий президента СССР и главнокомандующего его вооруженными силами. Горбачев сел за стол, отложил в сторону бумаги и взглянул на часы. “О, у нас еще много времени”, – сказал он сам себе. Иронии никто не оценил. Через минуту Советский Союз станет историей, а вместе с ним – и его президент.
Пока все ждали, когда часы покажут ровно семь, у стола возник энергичный, крупный, седой человек с волевыми, почти патрицианскими, чертами лица. Он наклонился к Горбачеву и уверенно произнес: “Не подписывайте ничего сейчас. Прежде всего [вы скажете]: «Я хочу подписать указ о сложении с себя полномочий». Камера наезжает… отъехала… потом начнете”. Человеком, случайно попавшим в кадр, был Егор Яковлев, руководитель советского телевидения и бывший главный редактор “Московских новостей” – важнейшей перестроечной газеты. Именно он убедил Горбачева в том, что его последние дни на посту президента СССР должны быть сняты советскими и американскими телевизионными группами. Результатом съемок должен был стать документальный фильм “Уход”.
Последний час перед записью отречения Яковлев и Горбачев провели вместе, но сейчас Горбачев смотрел на него так, будто видел впервые. Пролистав лежавшие перед ним бумаги, Горбачев сказал: “Я его просто подпишу, да и все, и будем двигаться”. Затем резко повернулся к своему пресс-секретарю, Андрею Грачеву, взял ручку и попробовал ее на чистом листе бумаги. “Лучше бы помягче”, – сказал Горбачев[6]. Президент телекомпании CNN, прилетевший в Москву, чтобы взять интервью у Горбачева в последний день его пребывания на посту, протянул ему свою шариковую ручку Montblanc. Горбачев взял ее и размашисто подписал свой последний указ. Часы пробили семь, и Горбачев начал свое выступление. “Его голос поначалу звучал глухо и неестественно. Было ощущение, что он вот-вот может дрогнуть, как и его подбородок,” – рассказывал Грачев; но постепенно голос окреп[7].
Как вспоминает один из присутствующих, когда Горбачев закончил речь, около него вновь появился Егор Яковлев. Ему показалось, что Горбачев говорил недостаточно уверенно, и он предложил записать речь заново. Горбачев изумился: предложение Яковлева было не только бестактным, но и абсурдным. Историческое событие – это не цирковой номер. Его нельзя отрепетировать или повторить, как нельзя “перезаписать” развал империи. Развевавшийся над Кремлем флаг СССР был спущен навсегда, его место занял российский триколор.
Советского Союза на карте мира больше не было. Через несколько минут Горбачев передал “ядерный чемоданчик” Ельцину. Российские журналисты быстро потеряли интерес к бывшему президенту. Парадокс, но в фильме об уходе Горбачева рассказчиком выступил американский журналист Ричард Каплан, а сняла его команда телекомпании NBC, которую привлек Яковлев и которая дневала в Кремле, пытаясь запечатлеть все, что касалось последних часов Горбачева у власти. Как записал в своем дневнике помощник Горбачева Анатолий Черняев, “если б не это – остался бы М. С. в информационной блокаде до самого своего конца в Кремле. Но и это – симптоматично – позорно для нас, что только западные ТВ-журналисты вертелись вокруг него, олицетворяя ту значимость Горбачева для всего мира, которую западная общественность ему справедливо придает”[8]. Причиной этому было не только разное отношение к фигуре Горбачева, но и разное понимание того, что считать историческим событием. В советском сознании историческое значение того или иного события определялось государством и его идеологией. Для западных СМИ личность важнее идеологии. Горбачев для них был фигурой исторической и во многом трагической. Для советских граждан к концу своего правления он стал фигурой мало значимой.
Спустя несколько часов, когда Кремль опустел и свет в окнах погас, Горбачев и еще пятеро человек собрались в Ореховой комнате за скромным ужином, напоминавшим скорее поминки. Одним из этих людей был Александр Яковлев.
Его роль в трансформации СССР уступала разве что роли самого Горбачева, а возможно, даже была ей равнозначна. Он был идеологом и духовным лидером гласности. Занимая один из ключевых постов в Политбюро ЦК КПСС, Яковлев формально отвечал за пропаганду и идеологию, но по сути именно он похоронил и то, и другое, освободив информацию от контроля государства. В отличие от экономической части горбачевских реформ, гласность сработала и во многом и привела к развалу советской империи. Она освободила СМИ от идеологических установок, разрушив один из важнейших элементов советского строя – ложь.
Отношения Александра Яковлева с Горбачевым были сложными, часто напряженными. Несмотря на то, что он не отвернулся от Горбачева в самые трудные минуты, тот не пришел проститься с Яковлевым после его смерти. Незадолго до “отречения” Горбачева Яковлев выступил в качестве посредника между последним президентом СССР и первым президентом России Ельциным. В своих мемуарах он вспоминал о впечатлении, которое оставил Ельцин: “Это шел победитель” – так Яковлев говорил о Борисе Ельцине, который шагал по кремлевскому коридору твердо, решительно, “словно на плацу”.
Проводив взглядом Ельцина, Яковлев пошел в кабинет Горбачева и застал его лежащим на кушетке.
“В глазах стояли слезы. «Вот видишь, Саш, вот так», – говорил человек, может быть, в самые тяжкие минуты своей жизни, как бы жалуясь на судьбу и в то же время стесняясь своей слабости… Как мог, утешал его. Да и у меня сжималось горло… Душило чувство, что свершилось нечто несправедливое. Человек, еще вчера царь кардинальных перемен в мире и в своей стране, вершитель судеб миллиардов людей на Земле, сегодня – бессильная жертва беспощадного каприза истории”[9]. Ирония заключалась в том, что маховик этой истории раскрутили как раз Горбачев и Яковлев.
За ужином в Кремле рядом с Александром Яковлевым сидел Егор Яковлев, его тезка. Несмотря на одинаковую фамилию, их редко путали друг с другом. Старшего Яковлева всегда называли Александром Николаевичем, а младшего – просто Егором, редко добавляя отчество и часто не упоминая фамилию. Даже в собственных некрологах он остался просто Егором. Это отлично отражало его статус человека-легенды: не главный редактор “Московских новостей”, а просто – “главный редактор”. В журналистской среде ходили и до сих пор ходят легенды о его обаянии и таланте; о том, как он выращивал авторов; о том, как покорял женщин; о том, как быстро увлекался людьми и так же быстро в них разочаровывался; о его деспотичных замашках и энергии.
Двух Яковлевых не связывали узы родства, но душевная связь между ними безусловно была. Для Егора Александр Николаевич, или просто “дядя Саша”, был кем-то вроде ангела-хранителя либо приемного отца. Он позволял Егору раздвигать границы дозволенного и приходил на помощь, когда тот эти границы переходил. Разница в возрасте между ними составляла всего семь лет, но они принадлежали к разным поколениям, разделенным опытом войны. Александр родился в 1923 году и, в отличие от Егора, воевал. Но закончили свою жизнь они почти одновременно: Егор умер 18 сентября 2005 года. Александр Николаевич – ровно месяц спустя. Горбачев, который считал Егора одним из самых близких своих друзей – “близких по духу, по отношению к жизни и к людям”, – говорил с не обычной для политика искренностью: “Все что делал Егор, вся его жизнь – это своего рода камертон, по которому люди проверяют себя”. Его “Московские новости” были газетой, которая испытывала советскую идеологию на прочность.
Советская система держалась на двух опорах – идеологии (пропаганде) и насилии, которые создавали напряжение и усиливали друг друга по принципу арочной конструкции: пропаганда оправдывала насилие, насилие поддерживало ложь и пропаганду.
Никита Хрущев, пришедший к власти после смерти Сталина, репрессии ослабил, сделав ставку не на насилие, а на идеологию и пообещав построить коммунизм к 1980 году. Писателям и пропагандистам он отводил роль не менее, а может, и более существенную, чем службам госбезопасности. Выступая в 1957 году на совещании советских писателей, Хрущев заявил: “Как солдат не может воевать без патронов, так партия в идеологическом вопросе не может воевать без печати. Печать – это наше главное идейное оружие, и мы не можем отдать его в руки ненадежные, это должно быть в руках самых верных, самых надежных, которые действительно стреляли бы из этого оружия и разили бы насмерть врагов рабочего класса”[10].
К 1980 году идеология совершенно выдохлась. Экономика вошла в длительную стагнацию, а мечта о прекрасном будущем стала предметом анекдотов. Один из ведущих советских журналистов перестроечной эпохи Александр Бовин, писавший до этого речи Леониду Брежневу, вспоминал: “Только ложь, конечный продукт идеологов, обеспечивала эффективность насилия (актуального или потенциального), на котором держалась система”[11]. Страх поддерживался не массовым террором, а ограниченным насилием, направленным главным образом против диссидентов. Когда из-под системы выбили вторую опору – тотальную ложь, – она рухнула, похоронив под собой тех, кто взялся ее реформировать. Обвал СССР определялся не столько экономическим упадком, революционными настроениями в центре (они проявлялись слабо) или борьбой за независимость на периферии империи, а крушением идей. Без лжи Советский Союз не мог сохранить легитимность. Властные элиты больше не видели необходимости защищать строй, ущемляющий их личный комфорт и препятствующий росту их благосостояния. Пропагандистская машина, однако, остановилась не случайно и не в один день. Как написал в своих мемуарах Отто Лацис, видный экономист и журналист той поры, друг Егора Яковлева и один из постоянных авторов “Московских новостей”, это было “тщательно спланированное самоубийство”[12].
Решающий удар нанесли не диссиденты (хотя их деятельность, безусловно, подрывала режим), а люди, контролировавшие СМИ. Горбачев нес знамя перестройки, но лозунги и призывы на нем писали Александр Яковлев и его команда журналистов и редакторов, в том числе Егор и Лацис.
Как сформулировал сам Егор, “это был совершенно потрясающий период. Все газеты, хором, требовали ликвидации этого государства, этого строя. А в то же время все газеты прекрасно жили за счет денег, которые давало государство, и получалось, что государство оплачивало создание общественного мнения, направленного на его уничтожение”[13]. Напрашивается вопрос: почему едва ли не самые привилегированные в стране люди пошли на это “самоубийство”? В своих мемуарах Александр Яковлев записал:
Я часто спрашивал себя: зачем тебе все это было нужно? Ты член Политбюро, секретарь ЦК, власти – хоть отбавляй, всюду красуются твои портреты, их даже носят по улицам и площадям во время праздников. Какого рожна еще-то надо?
Но мучило меня совсем другое. Многие годы я предавал самого себя. Сомневался и возмущался про себя, выискивая всяческие оправдания происходившему вокруг, чтобы утихомирить ворчливую совесть. Все мы, особенно номенклатура, так и жили двойной, а вернее, тройной жизнью. Думали – одно, говорили – другое, делали – третье. Шаг за шагом подобная аморальность становилась образом жизни, получила индульгенцию и стала именоваться нравственностью, а лицемерие – способом мышления[14].
Эти люди не были еретиками, напротив, многие искренне верили в социализм: они изучали его “священные тексты”, поклонялись его богам и отправляли все требуемые обряды. Их перестроечный запал был не кризисом веры, а горячим желанием очистить подлинную идею от бюрократических наслоений. Александр Яковлев называл перестройку реформацией. Подобно европейским протестантам XVI века, новые реформаторы восстали против духовенства, извратившего изначальное учение.
Они боролись с коррумпированной номенклатурой, вооружившись томами Ленина и требуя “Больше социализма!”. Они верили в идеалы справедливости и равенства, надеясь сделать существующий строй более гуманным и нравственным. За любые другие стремления их ждала бы участь советских диссидентов, которых лишали работы, а иногда и свободы, отправляя в тюрьмы и психиатрические лечебницы. Риторика реформаторов укладывалась в стилистические нормы советского языка. Отступление от канонов, нарушение стиля вызывало гораздо более сильную отрицательную реакцию со стороны системы, чем ее критика, выдержанная в рамках принятых языковых и стилистических конструкций. Литературовед и писатель Андрей Синявский, приговоренный к семи годам колонии за антисоветскую пропаганду, говорил, что его “расхождения с советской властью – чисто стилистические”. Для поколения коммунистов-реформаторов несогласие с советским строем носило этический характер.
“Мы, реформаторы 1985 года, пытались разрушить большевистскую церковь во имя истинной религии и истинного Иисуса, еще не осознавая, что и религия обновления была ложной, а наш Иисус фальшивым”[15], – писал Александр Яковлев. Идеолог советской системы шел к свободе более осознанно и уверенно, чем любой из его соратников, включая и самого Горбачева. “Я возненавидел Сталина – это чудовище, жестоко обманувшее меня и растоптавшее мой романтический мир надежд”[16]. Яковлев был одним из немногих – если не единственным – в руководстве страны, кто выбрал для себя путь личного покаяния и искупления и прошел его до конца.
То, что “реформация” началась с печати, свидетельствовало о почти религиозном отношении к текстам. Большевики уничтожали церкви, но особый пиетет к слову они позаимствовали именно у религии. Сочинения Ленина и Маркса, которые в обязательном порядке изучались в школах и вузах, определяли подход к истории и мировоззрение в целом. Баталии на страницах газет велись с использованием цитат из “священных текстов” классиков марксизма-ленинизма.
Неслучайно одним из первых шагов большевистской власти стала “национализация” печатного слова. Вначале черные списки запрещенных книг, в которые среди прочих попали Библия и множество произведений для детей, составляла Надежда Крупская. В 1930-е годы под судом, а затем и в ссылке оказалась библиотекарь Татьяна Шанько – за то, что выдавала читателям книги по философии, хотя и не входившие в число запрещенных, но не вписывавшиеся в марксистскую картину мира. В “спецхраны” – особые закрытые отделы библиотек – можно было проникнуть только по специальному разрешению, а на многих книгах стоял гриф “для служебного пользования”. Строгий контроль за подпиской на литературные журналы и газеты, уничтожение тиражей – страх перед письменным и печатным словом пронизывал всю советскую систему.
Слова приравнивались к самой жизни. Запрет на слово – “десять лет без права переписки” – означал смерть. В 1940-х годах, когда десятилетние сроки стали приближаться к концу, семьи репрессированных начали искать информацию о своих родных. Ответы, как правило, были устными: “родственники умерли, отбывая срок наказания”. Запрет на выдачу письменных свидетельств сохранился и после смерти Сталина. Лишь в 1989-м, спустя три года после начала перестройки, КГБ разрешил обнародовать информацию о репрессированных и стал выдавать официальные документы и свидетельства о смерти.
Как и людей, слова держали за “железным занавесом”. Публикация книги на Западе без разрешения государства считалась не меньшим преступлением, чем незаконное пересечение границы без специальной выездной визы. В 1958 году Бориса Пастернака исключили из Союза писателей и подвергли травле за то, что он решился напечатать своего “Доктора Живаго” на Западе. Иосиф Бродский, изгнанный из СССР в 1972 году, верил в способность слова преодолевать государственные границы. Когда ему отказали в праве повидаться с отцом и матерью перед их смертью, он написал о родителях по-английски – на языке, которого они не знали, пояснив: “Это единственная возможность для них повидать меня и Америку” и “Это единственный способ для меня увидеть их и нашу комнату”[17].
В 1980-е годы главные идеологические баталии разворачивались не на телевидении или радио, а именно в печати. А во главе реформ встали люди, которые профессионально занимались словами и текстами. Егор по образованию был историком-архивистом, он написал биографию Ленина, и это придавало ему вес в “богословских спорах” о чистоте ленинского учения. Отто Лацис работал редактором журнала “Коммунист”. Александр Бовин писал речи для Брежнева. Этот список можно продолжать до бесконечности. Все они, включая Горбачева, принадлежали к поколению “шестидесятников” и формулировали его ценности.
Детство этих людей пришлось на эпоху сталинских репрессий. Чтение было одним из главных их увлечений. Вторую мировую войну все они встретили подростками, и это сыграло ключевую роль в их дальнейшей жизни – как и победа СССР, оправдавшая существование советского строя. Они закончили вузы в 1953-м, в год смерти Сталина, а начало их продвижения по карьерной лестнице совпало с исторической речью Никиты Хрущева на ХХ съезде КПСС, в которой тот разоблачал сталинизм и “культ личности”.
Отказ от неограниченного насилия давал поколению шестидесятников возможность не становиться ни жертвами, ни палачами. Шестидесятники – это не определение возраста, а общая среда и общие ценности целого поколения. Большинство представителей этого “клуба единомышленников” были интеллигентами и либералами, часто “западниками”, но всегда – антисталинистами. Они держались вместе и искали подобных себе. Многие из них вышли из семей старых большевиков, расстрелянных или погибших в лагерях. Стремление восстановить справедливость, вернуть родным доброе имя и продолжить их дело – вот один из главных мотивов, одна из главных мотиваций их жизни.
Пытаясь, так сказать, “обрести корни”, молодые журналисты эпохи перестройки часто обращались за советами к шестидесятникам, но уже несколько лет спустя, как это нередко случается между “отцами и детьми”, они стали отвергать и осмеивать своих предшественников.
Отблеск костра
На каждом человеке лежит отблеск истории. Одних он опаляет жарким и грозным светом, на других едва заметен, чуть теплится, но он существует на всех. История полыхает, как громадный костер, и каждый из нас бросает в него свой хворост.
Юрий Трифонов, “Отблеск костра”, 1965[18]Картонная папка с личным делом Егора Яковлева; на ней – стандартная фотография, какие делались на советский паспорт: серьезное лицо советского человека в темном костюме и очках в роговой оправе. “Яковлев, Егор Владимирович, 1930-го года рождения, член Коммунистической партии с 1953 года. В 1954 году окончил Московский историко-архивный институт. Пишет статьи о партийной пропаганде, о развитии СССР и коммунистической этике; уделяет особое внимание ленинской тематике”. Затем – стандартная характеристика: “политически грамотен, морально устойчив, идеологически выдержан”[19].
Егор не был ни самым талантливым, ни самым умным представителем своего поколения. Но он был одним из самых ярких. Поколенческие черты просматривались в нем ясно и не были “замутнены” личным гением. На поле российской политической жизни он оставался дольше, чем многие другие. В его судьбе отразилась драма поколения, которое пыталось перестроить Советский Союз и в результате предрешило его распад. Так каким же образом “идеологически выдержанный” журналист, автор книг о Ленине стал могильщиком системы, которая его породила? Что придавало ему и людям его круга силу и решимость для того, чтобы подниматься наверх? Можно начать с незаменимого исторического документа советской эпохи – с анкеты. Ее множество раз приходилось заполнять каждому гражданину СССР: при приеме в институт и на работу, вступлении в комсомол и партию, продвигаясь по службе, перед поездкой за границу… Егор впервые заполнял подробную анкету в 1949 году, когда поступал в Историко-архивный институт. Анкета эта начиналась с вопроса о родителях. Пожелтевшая бумага плохого качества, поблекшие синие чернила, убористый почерк: “Отец: Яковлев Владимир Иванович, участник революционного движения с 1911 года, член Коммунистической партии с 1 января 1919 года. В первые годы после революции работал в ЧК Украины…”[20].
ЧК – Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем – изначально была призвана покончить с грабежом и мародерством. Однако этот орган довольно быстро превратился в тайную политическую полицию, задача которой сводилась к пресечению контрреволюционной деятельности и ликвидации “классовых врагов”. Отец Егора возглавлял отдел ЧК в Одессе, которая перешла в руки большевиков в апреле 1919 года. Иван Бунин (первый из русских писателей, удостоенный Нобелевской премии по литературе), не принявший революцию и уехавший из России, в 1919 году по пути в Константинополь оказался в Одессе – в то самое время, когда там служил отец Яковлева: “Мертвый, пустой порт, мертвый, загаженный город…”. “Чрезвычайка [отдел ЧК, где служил отец Яковлева – авт.], в мокром асфальте жидкой кровью текут отражения от красных флагов, обвисших от дождя и особенно паскудных”[21]. И далее: “…день и ночь живем в оргии смерти. И все во имя «светлого будущего», которое будто бы должно родиться именно из этого дьявольского мрака. И образовался на земле уже целый легион специалистов, подрядчиков по устроению человеческого благополучия”[22].
Егор представлял себе другую Одессу – ту, что описывал приветствовавший революцию Исаак Бабель в своих рассказах о Бене Крике. В воображении Егора те, с кем сражался его отец, “были затянуты в малиновые жилеты, их стальные плечи охватывали рыжие пиджаки…”[23]. Считалось, что именно Яковлев-старший поймал легендарного бандита Мишку Япончика, который и послужил прототипом для бабелевского Бени Крика. Действительно ли отец Егора изловил Япончика, доподлинно не известно. Зато известно другое: по свидетельству Григория Беседовского, бывшего советского дипломата, в 1928 году бежавшего из посольства и попросившего политического убежища в Париже, Владимир Яковлев был “странным и зловещим” человеком и отличался чрезвычайной жестокостью. За три месяца пребывания на посту начальника одесской ЧК он отдал приказы о расстреле 5000 человек – в том числе и собственного отца, который был активным членом ультранационалистической, монархической и антисемитской организации “Союз русского народа”. Сам Егор рассказывал, что дед сильно пил, занимался рукоприкладством и часто угрожал ножом жене – бабушке Егора. Когда его задержали за контрреволюционную деятельность, отец Егора решил поступить по законам революционного времени и отдал приказ о расстреле. После этого бабушка Егора, по-видимому, покончила с собой в квартире сына.
Можно ли назвать такой поступок бесчеловечным? Пожалуй. Однако Егор никогда не забывал и о судьбе сестры своего отца, которую забили насмерть железными прутьями казаки, когда при обыске нашли при ней революционную литературу. Беспощадность тех лет диктовалась “чистотой революции и ее идеалов”, а также “нетерпением – самым удивительным качеством революционера”[24], – писал Егор в своей небольшой книжке, вышедшей в 1965 году. Книга называлась “Я иду с тобой” и была написана в форме воображаемой беседы с отцом. В том же году был напечатан полудокументальный роман Юрия Трифонова “Отблеск костра” – о жизни собственного отца, участника революции и гражданской войны. Дети старых большевиков и впрямь жили в отблеске того костра, который развели родители и который их же и погубил; советскую историю эти люди воспринимали как семейную.
Отца Егора не стало в 1935-м – за два года до начала Большого террора, уничтожившего огромную часть старых большевиков. Егору было тогда пять лет. Отец вроде бы умер от рака, но ходили слухи, что его отравили. “Прошло всего несколько лет – и почти все бывшие сослуживцы его отца куда-то пропали. Егор вспоминал, как в 1937 году к его матери пришел друг семьи и начал рассказывать о том, что людей забирают посреди ночи. И как мать спокойно ответила на это расхожей фразой: «Лес рубят – щепки летят»”[25].
Яковлев-старший был одним из тех, кто руководил рубкой леса – в прямом смысле. В конце 1920-х – начале 1930-х годов он отвечал за заготовку древесины, проводившуюся в основном силами узников ГУЛАГа. Когда Егор родился, отец был в отъезде: налаживал работу в Вологде и Архангельске.
Часть леса продавали за границу, в том числе в Англию. На британские лесные склады приходили бревна с отметинами и надписями, сделанными узниками ГУЛАГа. “С такими муками вам достается русский лес!” гласила одна из этих надписей[26]. Во время командировки в Англию (возможно, связанной с экспортом леса) отец Егора и познакомился со своей будущей женой, служившей тогда в советском торгпредстве. В 1929 году – в год сталинского “Великого перелома” – мать Егора, уже беременная, вернулась в Москву. Поскольку Яковлев-старший принадлежал к высшему эшелону советской номенклатуры, семье полагалась квартира в только что законченном “доме на набережной”, где вырос Трифонов и откуда забрали его отца, как и большинство старых большевиков. Но мать Егора предпочла бывший купеческий особняк в тихом Замоскворечье.
Сталинские репрессии обрели такой размах, что не знать о происходящем было сложно. Показательные процессы над “врагами народа” проходили публично; не было недостатка и в рассказах тех, кто чудом возвращался из лагерей. Но если знали о терроре многие, то понимали дьявольскую сущность происходящего лишь единицы, обладавшие незамутненным сознанием. Егор к их числу не принадлежал. Он вырос с культом отца в сердце и с портретом Сталина на стене. В своей книге об отце Егор вспоминал, как в 1949 году его школьный товарищ принялся ругать Сталина и как он выставил его за дверь. “Я еще никогда не слышал, чтобы так говорили о нем. Он называл лицемерами всех, кто говорил о любви к Сталину, он подбирал к его имени самые оскорбительные эпитеты. Это было невероятно. А Вилька продолжал говорить спокойно и уверенно, так же, как отвечал сегодня утром урок по астрономии. Сперва я поспорил, а потом сказал: «Уходи, Вилька! Уходи. Ты сволочь!» Он спускался по ступенькам, а я стоял на лестничной площадке и кричал что-то обидное ему вслед”[27].
В следующий раз Егор услышал нечто подобное в адрес вождя лишь в 1956 году – через три года после смерти Сталина. На этот раз обличительные слова произносил Никита Хрущев в Большом Кремлевском дворце.
Смерть Сталина стала таким же важным водоразделом, как и его приход к власти: закончилась одна страна – и началась другая. Осознание этого события пришло не сразу. В первые дни после смерти Отца народов СССР, словно затаив дыхание, погрузился в гробовое молчание. Известие о случившемся встречали со смешанными чувствами неверия, страха и горя: ведь боги не умирают, как простые смертные.
Культ личности воздействовал даже на самые выдающиеся умы. Академик Андрей Сахаров писал в те дни своей первой жене: “Я под впечатлением смерти великого человека. Думаю о его человечности”[28]. Впоследствии Сахаров цитировал это письмо в своих воспоминаниях, силясь объяснить свою тогдашнюю реакцию.
Оцепенение стало спадать, когда место Сталина занял Никита Хрущев. В отличие от предшественника, даже внешностью своей наводившего страх, новый первый секретарь вызывал улыбку. Круглолицый, лысый как шар, с оттопыренными ушами, в косоворотке, Хрущев уже одним своим видом контрастировал с образом Сталина – в наглухо застегнутом военном френче с жестким воротником-стойкой. Хрущев расстегнул воображаемый воротник и ослабил удавку, выпустив тысячи политзаключенных.
Сахарову Хрущев понравился “в высшей степени, ведь он так отличается от Сталина”[29]. Хрущев – хамоватый, необразованный, взбалмошный, принимавший, как и все, кто окружал Сталина, участие в терроре – обладал человеческими чертами. Подобно сказочному герою, который убивает дракона и отворяет ворота замка, он едва ли не первым делом постановил открыть Кремль для посещения. Страх, сковывавший всю страну на протяжении долгих лет сталинского правления, начал понемногу отступать. “Люди по-прежнему боялись делать резкие телодвижения, но удавка на шее внезапно ослабла”[30].
Егор Яковлев, вступивший в компартию незадолго до смерти Сталина, к моменту ХХ съезда находился на одной из нижних ступеней партийной лестницы и организовывал уличные патрульные отряды, которые должны были помогать милиции отлавливать пьяных и проституток в центре Москвы. “Впервые мы шагали по улицам Москвы как хозяева, сознавая собственную силу”[31]. Еще несколько месяцев назад хозяевами на ночных московских улицах были сотрудники НКВД. На Красную площадь вернулась торговля. Всего через три недели после смерти Сталина в торговых рядах напротив Кремля открылся главный универсальный магазин страны – ГУМ. Журналистская карьера Егора как раз и началась в выпускаемой ГУМом газете-малотиражке – “За образцовую торговлю”.
Главным событием, сформировавшим поколение Егора, стал секретный доклад Хрущева на ХХ съезде КПСС в 1956 году, в котором он разоблачил культ личности Сталина и огласил масштаб внутрипартийных чисток. Эта четырехчасовая речь, произнесенная на внеплановом секретном заседании в последний день съезда, произвела эффект разорвавшейся бомбы. “Все казалось нереальным, даже то, что я здесь, в Кремле… Все [чем я жил] разлеталось на мелкие кусочки, как осколочные снаряды на войне”, – вспоминал Александр Яковлев[32]. Текст доклада в газетах не печатался и по радио не передавался. Самые важные события в Кремле, определявшие судьбу миллионов людей, держались в секрете от простых смертных. Несколько сотен экземпляров речи Хрущева было напечатано для внутреннего пользования с грифом “совершенно секретно”. Спустя пару недель текст доклада вышел на английском языке в газете The New York Times. В советской же прессе он появился только в 1989 году.
Роль газет в советской политической системе заключалась не в том, чтобы информацию сообщать, а в том, чтобы ее скрывать. Поэтому партийное руководство решило довести содержание доклада Хрущева до рядовых членов партии устно. Возможно, устное слово и впрямь более убедительно, чем печатное – в конце концов в церковь верующие приходят, чтобы услышать слово Божие, а не прочитать его.
Егор стал одним из тех “священников” партии, кому поручили огласить доклад Хрущева на партсобрании. Прочитанное ему не понравилось, мало того – вызвало возмущение. Вернувшись в тот день домой, он увидел, что жена сняла со стены портрет Сталина, и, не поверив своим глазам, даже пощупал гвоздь. Святотатство жены Егора взбесило, и он потребовал вернуть “икону” вождя на место. Вскоре, правда, он сам снял этот портрет – уже навсегда. Но фотография Дзержинского, лично подаренная основателем ЧК его отцу, осталась висеть – как часть семейной истории.
Егор был не одинок в своем неприятии хрущевской речи: многие партийцы не хотели верить разоблачениям Хрущева или считали, что, кроме вреда, они ничего не принесут. “Кому от этого будет хорошо? – спрашивал Вячеслав Молотов, один из главных подручных Сталина. – Что это даст нам? Зачем ворошить прошлое?”[33]. В середине 50-х годов Советский Союз мог бы пойти примерно по тому же пути развития, по какому пошел Китай после смерти Мао Цзэдуна. Не трогая портретов Сталина, его наследники могли бы развернуть экономику страны в сторону рынка, как это сделал Дэн Сяопин в Китае в 1970-е годы. Роль Дэн Сяопина мог сыграть Лаврентий Берия, возглавлявший НКВД и одновременно руководивший ядерным проектом. Возможность его прихода к власти и опасность, которую он представлял для номенклатуры страны, стоила ему жизни. После смерти Сталина Берия был расстрелян по указанию Хрущева – как английский шпион. Но что же двигало Хрущевым, когда он решил низвергнуть культ Сталина?
Отчасти тут сработал инстинкт самосохранения. Хрущев, как и большинство высокопоставленных членов партийной номенклатуры, устал жить в постоянном напряжении и страхе перед очередной волной массовых чисток, которую, очевидно, готовил Сталин. Но, возможно, главная причина имела даже не рациональный, а эмоциональный характер: он разоблачил Сталина просто потому, что хотел и мог это сделать. Как написал биограф Хрущева Уильям Таубман, отчасти это был “способ вернуть себе репутацию порядочного человека, наконец-то сказав вслух правду. Позднее он вспоминал, что в тот вечер, когда он прочитал доклад, ему «слышались голоса погибших товарищей»”[34].
Доклад Хрущева имел несколько важных последствий. Прежде всего он освободил людей – особенно партийную элиту – от страха смерти. После казни Берии в 1953 году, осуществленной, впрочем, в абсолютно сталинском духе, партийная верхушка отказалась от физического насилия как главного способа решения внутрипартийных конфликтов. На деле же первое испытание новых правил состоялось в 1957-м, спустя год после исторического доклада. Тогда группа сталинистов (в том числе Молотов, Каганович и Маленков), считавших, что Хрущев подрывает основы режима, устроила заговор с целью отстранить того от руководства страной. Пресса по обыкновению безмолвствовала. Однако на сторону Хрущева встал министр обороны маршал Георгий Жуков, доставивший военными самолетами в Москву членов ЦК и сорвавший тем самым попытку переворота. Заговорщиков окрестили “антипартийной” кликой. Еще несколько лет назад подобное клеймо означало бы смертный приговор. Но на этот раз никого не расстреляли и даже не посадили. В 1964 году это же правило спасло жизнь и самому Хрущеву, когда в результате внутрипартийного заговора его все-таки отстранили от власти. Соблюдалось оно и после: в 1991 году Михаил Горбачев пощадил путчистов, которые попытались захватить власть в стране, а в 1993-м Борис Ельцин хоть и отправил в тюрьму людей, возглавивших вооруженный мятеж, но вскоре выпустил их на свободу.
По сути, главной причиной, по которой заговор 1957 года провалился, была значительная перемена настроений элиты. Как писал Александр Яковлев, новое поколение партийцев, поддержавшее Хрущева в 1957 году, а затем ополчившееся на него в 1964-м, не хотело возвращаться к напряжению и страху сталинского времени. Те, кто пришел к власти вслед за Хрущевым, мечтали о размеренной, безопасной и спокойной жизни. Главная цель руководства сводилась к тому, чтобы пожизненно оставаться у власти, не боясь никаких чисток. Это устраивало не только политиков высокого ранга, но и представителей советской элиты в целом. Членов правящей верхушки, которые впадали в немилость, просто отодвигали в сторону, “ссылали” на работу в посольства, отправляли на пенсию или – в крайнем случае – сажали под домашний арест, однако физически не устраняли.
В 1960-е годы благодаря этим вегетарианским правилам смогла уцелеть и новая элита, преследовавшая собственные цели. Эти люди радовались не столько смерти Сталина, сколько своей молодости, своим надеждам, силам и – что самое главное – тому, что они остались живы. Хрущев и в буквальном, и в переносном смысле открыл кремлевские ворота для поколения людей, родившихся в начале 30-х годов.
К этому поколению принадлежал и Александр Бовин, входивший в аппарат ЦК КПСС и писавший речи Брежнева. Как он вспоминал в своих мемуарах, “начала накапливаться критическая масса, которая всего лишь через четверть века разнесет самый мощный тоталитарный режим ХХ века”[35]. Незаметно и постепенно происходила смена поколений – двигатель всех больших общественных перемен в России.
Люди, воодушевленные ХХ съездом КПСС, не стремились разрушить государственную систему. Они пытались внедриться в нее, завладеть ее орудиями и обратить их против адептов Сталина. Разоблачение культа личности не ослабило в них веру в идею социализма и советского государства. Осуждение сталинских репрессий было подтверждением самоочистительной силы социализма. Сталинизм воспринимался не как производное советского режима, а как его искажение. Поколение, к которому принадлежали Яковлев и Бовин, намеревалось улучшить систему доказательств, а не ниспровергнуть саму теорию. Вот как рассуждал Егор:
Мы поступились бы прежде всего памятью тех, кто безвинно пострадал, если бы приняли культ личности за наш строй… Нет, культ личности никогда не был нашим строем. Он возник вопреки ему… Величие революции не только в том, что трудящиеся взяли власть в свои руки, – оно в создании такого строя, который неминуемо отвергал бы все несвойственное ему[36].
Поколение Егора жило с “гамлетовским комплексом”: эти люди ощущали потребность вернуть отцам доброе имя и выполнить их заповеди, одновременно соотнося свои поступки с нравственными принципами. “Гамлет” – пьеса, фактически попавшая под запрет при Сталине, – вернулась на советскую сцену вскоре после его смерти, когда люди нового поколения окончили университеты и вступили во взрослую жизнь. В спектакле режиссера Николая Акимова – первой постсталинской постановке “Гамлета” в Москве в 1954 году – ощущался напор жизненной энергии, силы и решимости: произнося монолог Гамлета “Быть иль не быть?”, актер Николай Охлопков яростно тряс железные решетки, опускавшиеся с колосников.
Дети старых большевиков были советскими принцами или патрициями. Приняв доставшееся им по наследству право на власть, они взяли на себя и личную ответственность за страну. Они не укрывались от советской действительности и никогда не задумывались об эмиграции. Это была их страна, и они хотели изменить ее в соответствии с собственными потребностями и представлениями о том, что правильно, а что нет. Мысль о том, что было бы, “если бы наверху был я”, как говорил Егор, укоренилась в них прочно. Они родились для деятельной жизни, имели для нее достаточно сил и постоянно искали дело, к которому можно было бы эти силы приложить.
Частные размышления
Что значит в мартовские стужи, Когда отчаянье берет, Все ждать и ждать, как неуклюже Зашевелится грузный лед. А мы такие зимы знали, Вжились в такие холода, Что даже не было печали, Но только гордость и беда. И в крепкой, ледяной обиде, Сухой пургой ослеплены, Мы видели, уже не видя, Глаза зеленые весны. Илья Эренбург, 1958После окончания террора в стране наконец появилось поле для мыслей и действий; этой новой возможностью поспешили воспользоваться советские художники, писатели и журналисты. Именно они впоследствии окажут решающее влияние на тех людей, которые тридцатью годами позже запустят перестройку. Слово “оттепель”, выбранное Ильей Эренбургом в 1954 году в качестве названия своего романа, обозначило целый период в советской истории. Оно точнее всего передавало всеобщее ощущение: оттепель – не то же самое, что весна, и даже не окончание зимы, а лишь ослабление суровых морозов посреди нее; оттепель может смениться и новыми заморозками. Но после сталинского террора люди испытали облегчение: их больше не душат и не убивают без разбора. Как говорит один из персонажей Михаила Зощенко, “высшую меру я… с трудом переношу. Остальное как-нибудь с божьей помощью”.
Советский строй не допускал частной собственности на землю, однако личное пространство для частных мыслей и чувств понемногу стало расширяться. Массовое строительство хрущевских пятиэтажек в корне изменило жизнь миллионов людей. Из коммунальных квартир с общей кухней и одной уборной на несколько семей они переезжали в собственное жилье. Квартиры в хрущевках были тесными, неудобно спланированными, зато отдельными. В личных квартирах граждан начали появляться личные магнитофоны и личные телевизоры. В стране образовался круг художников, поэтов и бардов, формировавших интеллектуальное пространство той эпохи. Конструкции сталинского мира с его гигантизмом ломались. Среди них, под ними, из-под них пробивались совсем другие интонации и образы, зарождался иной способ взаимодействия с реальностью. Искусство возвращалось и возвращало людей к простейшим радостям: к ощущению тепла, нежности и искренности, к нормальным словам и чувствам, сопоставимым с масштабом частной человеческой жизни.
Частное становилось массово востребованным. Поэт Евгений Евтушенко собирал тысячные аудитории. Песни Окуджавы наполняли городскую среду новым, искренним и личным звуком. Театр “Современник”, вокруг которого объединились Олег Ефремов, Анатолий Эфрос, Александр Володин, Виктор Розов, дарил ощущение свежего воздуха, освобождал от штампов, формировал чувства, мысли и поведение людей 60-х годов.
“Современник” произрастал из корневой системы Художественного театра – не того советского окостенелого МХАТа, пропитанного цинизмом и фальшью, какой сложился в концу сталинской эпохи, а того, который – как “товарищество на вере” – создали в 1898 году Станиславский и Немирович-Данченко.
Коллектив театра обсуждал, как наладить новое дело. Олег Ефремов горячо убеждал: “Театр – кооперативное товарищество актеров. Надо пробовать эту форму. Главное в театре – коллектив, построенный и управляемый демократически. Выборный художественный совет, выборное правление”. Ему спокойно возражал гениальный Анатолий Эфрос: “Мы организаторы нового театра. Это наша идея, наша инициатива… Станем ли мы более авторитетны, если нас «изберут»?.. Ты говоришь: «кто нас уполномочил?» Никто. А кто уполномочивал Станиславского и Немировича-Данченко? Хватит ждать, чтобы нас кто-то уполномочивал. Надо действовать самим. Нас уполномочила совесть…”[37].
Записи о театре “Современник” – из дневников Владимира Саппака, литературного критика и публициста. Саппак же писал и о возникавшем в то время телевидении – как о новом способе взаимодействия с реальностью.
В “Новом мире”, который возглавлял крупный советский поэт Александр Твардовский, вышла статья Владимира Саппака “Телевидение, 1960. Из первых наблюдений”[38]. Статья была наброском будущей книги о природе телевидения. Саппак скончался 23 ноября 1961 года. Неоконченную рукопись складывали в книгу два близких ему человека – Вера Шитова и Инна Соловьева. Воспоминания Соловьевой, выдающегося историка Московского Художественного театра и русской культуры XX века в целом, стоит цитировать наиболее полно. Соловьева в то время тесно сотрудничала с “Новым миром”.
Книгу издали быстро. Ей дали бумажную веселую обложку. По страницам в текст забегали рисуночки: занятные, милые. Книгу назвали как хотел того автор: “Телевидение и мы”. Саппак обещал телевидению судьбу нового вида искусства и нового способа людского сближения. Хотелось довериться его прогнозам. Возможно, этим прогнозам еще настанет время сбыться. Но тогда, по ходу 60-х, у нас с телевидением, однако, все складывалось не так. Совсем не так. Наверное, особая тема – место “ящика” в доме в первые десятилетия русской жизни без Сталина: как и почему “ящик” стал важен в ее составе, как она – русская жизнь – медленно и неуверенно укладывалась после марта 1953-го. “Ящик” везут с собою, когда переселяются в пятиэтажки всяческих Черемушек (на веселой бумажной обложке большой квадратик экрана обозначен над условными белыми прямоугольничками, беленькие пятиэтажки и дома повыше). Возникает во множественном числе жилье частное – коммуналкам возникает антитеза высотою в два с половиной метра. В сущности – новый способ бытия. То ли очеловечивание образа жизни, то ли истолчение его в пыль[39].
В русской словесности мало закреплены первые недели после марта 1953-го. Тем дороже строчки о столице, еще не очнувшейся от сталинских похорон: “Вот был он – и вот нет его, гиганта и героя…”[40].
Москва была не грустная Москва была пустая. Нельзя грустить без устали. Все до смерти устали.Остановившись в точке, до которой довел свои бдения у голубого экрана Владимир Саппак, работавшие над его записками Соловьева и Шитова предложили “Новому миру” цикл работ – “портреты людей, которые так или иначе, в тех или иных целях создавали и варьировали то, что станет именоваться СМИ – средства массовой информации, они же – средства общения с людскими множествами”. В качестве основоположника такого общения выбрали Алексея Суворина, первого русского медиамагната, издателя одиозного “Нового времени”, “организатора, идеолога и гения обыденного сознания”.
Работу, сотворенную в середине 60-х, тогда не напечатали. По воспоминаниям Соловьевой, второй в цикле предполагалась статья об “Огоньке” в его противостоянии с редакцией Александра Твардовского. “Огонек” существовал давно. После смерти Сталина тонкий иллюстрированный журнал получил в свое распоряжение Анатолий Софронов, автор конъюнктурных комедий, возглавивший в конце 1940-х годов антисемитскую кампанию против театральных “критиков-космополитов”, в число которых входила и Соловьева.
Как пишет Соловьева, Софронов повел журнал “умело и убежденно”: “Он видел своими подписчиками обитателей всяческих Черемушек, был рад за них на их скромных личных квадратных метрах. Желал им спокойной жизни, печатал для них в каждом номере репродукцию приятной картины. Заботы, которые душевно потрясали читателей «Нового мира», от своих читателей он отводил… Вслед за Сувориным Софронов создавал печатную империю с имперской властной установкой на агрессию, с установкой на расширение и с истинно здешними комплексами: нас не любят и не ценят”[41].
Главным врагом Софронов видел именно “Новый мир”. “За «Новым миром» Твардовского было то, что встало с обвалом сталинской системы. Встала воля к освобождению, оно же усилие узнавать и понимать; встала воля к «правде сущей». Воскрешалось собственное достоинство”[42].
Как вспоминал Егор, “в те годы мы все – я говорю о людях своего круга – буквально молились на «Новый мир», мы жили по «Новому миру»”[43]. Главным редактором “Нового мира” Твардовский стал по назначению ЦК КПСС. К этому моменту поэт уже прославился на всю страну как автор “Василия Тёркина”. Фольклорная по интонации и содержанию и одновременно художественно правдивая поэма “Тёркин” (или “Книга о бойце”) была одним из самых любимых произведений во время Великой Отечественной войны. Короткие рифмованные строфы легко запоминались и пересказывались в окопах между боями.
Не прожить, как без махорки, От бомбежки до другой Без хорошей поговорки Или присказки какой – Без тебя, Василий Тёркин, Вася Тёркин – мой герой, А всего иного пуще Не прожить наверняка – Без чего? Без правды сущей, Правды, прямо в душу бьющей, Да была б она погуще, Как бы ни была горька.По словам Александра Солженицына, который сам читал “Василия Тёркина” на фронте,
в потоке угарной агитационной трескотни, которая сопровождала нашу стрельбу и бомбежку, Твардовский сумел написать вещь вневременную, мужественную и неогрязнённую – по редкому личному чувству меры, а может быть и по более общей крестьянской деликатности… Не имея свободы сказать полную правду о войне, Твардовский останавливался, однако, перед всякой ложью на последнем миллиметре, нигде этого миллиметра не переступил, нигде! – оттого и вышло чудо[44].
Твардовский впервые узнал о Солженицыне в декабре 1961 года. Никому не известный учитель из Рязани прислал в “Новый мир” свою повесть “Щ-854”, которая была опубликована под названием “Один день Ивана Денисовича”. Чтобы ее напечатать, Твардовскому пришлось обратиться напрямую к Хрущеву. История о трудолюбивом мужике, оказавшемся в сталинских лагерях, Хрущева тронула – она подтверждала его собственные взгляды и критику Сталина. Хрущев печатать разрешил. Как записал Твардовский в своем дневнике, “я начинаю с записи факта, знаменательного не только для моей каждодневной жизни и не только имеющего, как мне кажется, значения в ней поворотного момента, но и обещающего серьезные последствия в общем ходе литературных (следовательно, и не только литературных) дел…”[45].
Связь литературы и дел нелитературных Твардовский ощущал остро – как и связь между Иваном Денисовичем и собственной историей. Во время коллективизации его отец, брат и сестры были раскулачены и сосланы, но все мировоззрение Твардовского формировалось именно крестьянской средой. Его отец был сыном солдата, купившего землю на деньги, которые он заработал кузнечным ремеслом. “Нам, маленьким ребятишкам, он с самого раннего возраста внушал уважение к этой подзолистой, кислой, недоброй и скупой, но нашей земле, нашему, как он в шутку называл, «имению»…”[46]. Английский писатель Чарльз Перси Сноу, встречавшийся с Твардовским в Лондоне, описывал его так: “Честный и основательный человек. Он казался твердым, как скала, и обладал исключительной тонкостью чувств, большой силой и простотой ума”.
Твардовский видел в “Одном дне…” не подрыв системы, как считал сам Солженицын, а мощную, живую и потому целительную прозу, которая поможет залечить раны, нанесенные сталинским террором. Повесть была напечатана в ноябрьском номере за 1962 год и произвела примерно тот же эффект, что и доклад самого Хрущева на ХХ съезде. Новизна и сила этого произведения заключалась не в описании лагерной системы, а в выборе главного героя. Иван Денисович не был изобретателем, художником или даже коммунистом. Это простой русский крестьянин, работящий, сознательный и полагающийся только на себя, такой же, как Тёркин из поэм Твардовского.
“Один день…” и “Василия Тёркина” объединяла общая тема: упорство человека и стремление выжить в любых обстоятельствах. Жизнь реальная и жизнь художественная, жизнь в окопах и лагерях обладала своей логикой, которую не могли себе подчинить ни политика, ни война. И Тёркин, и Иван Денисович выживали, сохраняя в себе лучшие качества русского крестьянства, как бы ни пыталась истребить их государственная система. После выхода повести Солженицына пригласили в Кремль, где Хрущев произнес тост в его честь, называя при этом Иваном Денисовичем.
Тем не менее, выпустив тысячи таких Иванов Денисовичей из лагерей, Хрущев не был готов предоставить им экономическую свободу. Он разрешил индивидуальное мышление, но не разрешил индивидуальную деятельность, не дал права на частную собственность или экономическую независимость. Как писал Александр Яковлев, Хрущеву удалось совершить прорыв в сознании, но тронуть экономические устои социализма он не посмел.
Экономический журналист Отто Лацис, еще один герой горбачевской перестройки, в своих воспоминаниях описал драконовские законы в области частной собственности, существовавшие в конце 1950-х и начале 1960-х годов. Его отца, старого большевика, исключили из партии только из-за того, что он на собственные деньги и собственными руками построил загородный дом, размеры которого не соответствовали нормам, установленным государством. По закону, человек не мог владеть частным домом жилой площадью более 60 м², сколько бы человек в этом доме ни проживало. Этот же закон запрещал владельцам садовых домиков в садово-огородных кооперативах иметь печки для обогрева и ограничивал высоту потолка в подвале: “в этих подвалах буквально, в прямом физическом смысле заставляли сгибать спину перед волей власти: подвал в полный рост человека запрещался”[47].
Молодая партийная элита, к которой принадлежали Егор Яковлев, Бовин и Лацис, прежде всего хотела экономических и политических реформ, и неспособность Хрущева провести эти преобразования вызывала у них разочарование и чувство неудовлетворенности. Они не восприняли его отстранение от власти в 1964 году ни как катастрофу, ни как конец оттепели – эти ощущения пришли позже. Бовин так описывал настроения, царившие в тот период среди либерально мыслившей элиты: “Менее чем за десять лет Хрущев исчерпал свой позитивный ресурс… И стал превращаться в памятник самому себе… Точнее: не мешал другим превращать себя в памятник самому себе. Беда в том, что Хрущева снимали люди более мелкого калибра. Хрущев мешал им жить спокойно. Хрущев дестабилизировал их. Не систему, но каждого. И поплатился за это”[48].
Заговор против Хрущева готовили сразу две партийные группировки, соперничавшие между собой. Одна из них состояла из неосталинистов и националистов во главе с Александром Шелепиным и его протеже, председателем КГБ Владимиром Семичастным. Другая представляла более заурядный, зато и менее воинственный региональный клан во главе с Леонидом Брежневым. В итоге Брежневский клан взял верх и оставался у власти почти два десятилетия.
Брежнев не был кровожаден. Он прошел войну, хотя и не рядовым солдатом, а политруком. Он не являлся реформатором, но не был и сталинистом или националистом, как Шелепин. Можно сказать, что его девизом было “Живи и давай жить другим”. Страстный охотник, Брежнев гораздо больше любил стрелять дичь в своей загородной резиденции Завидово, чем заниматься международными делами в Кремле. Не получив образования, он, будучи человеком добродушным, ничуть не стыдился признаваться в собственном невежестве даже своему спичрайтеру Александру Бовину.
– А знаешь, что такое боровая дичь?
Бовин пожал плечами.
– Давай так, – предложил Брежнев. – Ты мне расскажешь про конфронтацию, а я тебе – про боровую дичь[49].
Бовин, имевший степень доктора философских наук, согласился.
В отличие от Егора Яковлева и Отто Лациса – детей старых большевиков, – семья Бовина имела отдаленное отношение к революции. Его дед был священником, а отец – военным, служившим на Дальнем Востоке. Бовин учился на юриста, получил две научные степени и некоторое время работал судьей. Жизнерадостный, тучный, с гусарскими усами и бакенбардами, он походил на Портоса из “Трех мушкетеров”. Однако за почти комедийной внешностью скрывался человек умный, тонкий и порядочный.
Проработав несколько лет во влиятельном журнале “Коммунист”, в начале 1960-х Бовин стал штатным консультантом ЦК КПСС. Он попал в отдел по работе с коммунистическими партиями стран соцлагеря, который возглавлял Юрий Андропов. “Нужны были люди, которые, с одной стороны, не внушали сомнения относительно своей приверженности существующему политическому режиму и господствующей идеологии, а с другой – могли бы смотреть на мир открытыми глазами, были бы способны понять, объяснить надвигающиеся перемены”[50].
Важнейшая перемена после смены власти состояла в том, что страну больше нельзя было удерживать в узде террором. Полностью изолироваться от внешнего мира тоже уже не получалось. “Железный занавес”, конечно, оставался, но напоминал теперь, скорее, затемненное и пуленепробиваемое зеркальное стекло. Заглянуть внутрь советского общества извне было затруднительно – да и мало кто пытался это сделать, – но советская интеллигенция могла наблюдать за жизнью Запада из-за стекла. Для большинства творческих людей выезд из страны был закрыт, но остановить проникновение западных идей, моды, фильмов и музыки было невозможно. В СССР просачивалась мода на мини-юбки и длинные распущенные волосы, на песни The Beatles и фильмы Феллини, чья картина “8½” даже получила гран-при на Московском кинофестивале 1963 года.
Желание видеть мир приводило к тому, что люди надевали рюкзаки и отправлялись путешествовать по стране, попутно создавая новую туристскую субкультуру, с бардами и песнями под гитару у костра. Журналистика вышла за пределы чисто идеологической работы и превратилась в романтичную и модную профессию.
Начало этой моде положил как раз Егор Яковлев, назначенный главным редактором нового журнала “Журналист”. Современное оформление, иллюстрации и фотографии Анри Картье-Брессона и Денниса Стока из знаменитого агентства Magnum сразу привлекли внимание молодого городского класса. “Журналист” во многом был ответвлением “Нового мира”, имел ту же корневую систему; круг его авторов и тем пересекался с журналом Твардовского. Но “Журналист” был изданием бойким и обращался к аудитории 30–40-летних специалистов: к инженерам, сотрудникам НИИ, аспирантам – к тем, кого вскоре назовут “технической интеллигенцией” и советским средним классом, на который будет опираться Горбачев спустя 20 лет. “Журналист” принес мысли и темы “Нового мира” в среду массовой культуры.
До прихода Егора “Журналист” носил название “Советская печать”, средний возраст его сотрудников был 65–70 лет, и тираж медленно, но верно падал. Егор предложил издание закрыть, а на его месте начать новое под названием, заимствованным у журнала, выходившего в 1920-е годы. “Журналист” был журналом не столько о профессии, сколько о мире и стране, какими их видели сами журналисты и в особенности сам Егор. Ему хотелось, чтобы “Журналист” рассказывал о том, о чем люди его круга “говорят на московских кухнях”. Журнал с легкостью можно было бы назвать “Путешественник”.
Кухонные разговоры либеральной интеллигенции часто заменяли им реальные дела и работу. Разговоры приносили людям облегчение, но почти не давали плодов; создавали уютную среду, но и выстраивали невидимые перегородки между “нами” и “ими”, отграничивая, таким образом, внутреннее пространство интеллигенции. Егор был человеком дельным: он и среду расширял, и кухонные разговоры выводил за пределы кухни. Через два года тираж журнала перевалил за четверть миллиона экземпляров. К тому моменту, правда, Егора уже уволили.
Чтобы придать новому “Журналисту” веса, Егора ввели в редколлегию газеты “Правда”. К членству прилагалось удостоверение с магической аббревиатурой ЦК КПСС, дававшее Егору власть и привилегии, обычному журналисту не доступные. Оказавшись в одном провинциальном городе, Егор испытал силу красной книжечки на местном партийном начальнике, который “ломал” местного журналиста. При виде удостоверения хамоватый начальник вдруг растаял, как эскимо. Эпизод вызвал у Яковлева двоякое чувство превосходства и отвращения. Книжечка оказалась не только знаком доверия, но и заявкой на власть и влияние.
Манифест журнала был напечатан в первом номере под названием “Сословие людей государственных”: “В издании, принявшем имя «Журналист», с первых же строк следует договориться о назначении нашей профессии… Суть профессии – партийность”. Стоит, впрочем, разделять то, что манифестировалось, и то, что делалось. Подкрепляли манифест, как и было положено, цитаты из Ленина и постановлений съездов, но само определение журналистов как “людей государственных” было взято у Пушкина. Кто хотел, мог заглянуть в первоисточник, тем более что новое десятитомное издание сочинений поэта вышло всего несколькими годами раньше. “Некоторые из наших писателей видят в русских журналах представителей народного просвещения, указателей общего мнения и проч. и вследствие сего требуют для них того уважения, каким пользуются Journal des débats и Edinburgh review. Определяйте значение слов, говорил Декарт. Журнал в смысле, принятом в Европе, есть отголосок целой партии, периодические памфлеты, издаваемые людьми, известными сведениями и талантами, имеющие свое политическое направление, свое влияние на порядок вещей. Сословие журналистов есть рассадник людей государственных – они знают это и, собираясь овладеть общим мнением, они страшатся унижать себя в глазах публики недобросовестностью, переметчивостью, корыстолюбием или наглостью”[51].
Егор Яковлев возвращал себе сословный титул и право на формирование повестки и на самостоятельное мышление.
“Давайте думать, – призывал “Журналист” в статье одного из лучших публицистов Анатолия Аграновского. – Публицистика призвана будить общественную мысль… Хорошо пишет не тот, кто хорошо пишет, а тот, кто хорошо думает”[52]. В рецензии на документальный фильм “Альфа и омега” “Журналист” хвалил автора ленты Алексея Габриловича (сына писателя Габриловича, по сценарию которого был снят фильм “Коммунист”) за то, что он, поднимая сущностные вопросы, не пытался с наскоку на них ответить.
Фильм состоял из калейдоскопа сцен: класс начальной школы, молодежь, танцующая под песню Money Can’t Buy Me Love, ночная смена на сталелитейном заводе, зрительный зал, вслушивающийся в монолог Гамлета. В своей рецензии “Журналист” подводил читателя к вопросу: если мы такие грамотные и высокообразованные, если мы справляемся со сложнейшей техникой, так почему же мы не можем самостоятельно думать и анализировать действительность? Зачем эти убогие диспуты и собрания? “Нам не о чем говорить с теми, кто изрекает на диспуте заранее «расписанные» истины, такими вроде бы современными, и есть о чем с Гамлетом. Вам не нравится такое прочтение «Альфы и омеги»? Не надо, не соглашайтесь, предлагайте свое. Только думайте, а не ждите, когда подумают и решат за вас”[53].
Журнал искал и требовал “насущных” фактов или насущной правды. Статья под заголовком “Факт наш насущный” вышла в феврале 1968 года. Ее автором был писатель и публицист, специальный корреспондент “Правды” Юрий Черниченко. За образец насущности фактов Черниченко брал “Слово о полку Игореве” – первую русскую документальную хронику: “Безымянный автор опорой своей провозгласил были его времени, документ, факт, максимальную подлинность он предпочел вымыслу, полету фантазии”. Черниченко восхищался подлинностью мелких деталей: “Прием гениально прост: проверьте меня в малом – поверите мне в большом… Вместо хвалебных песнопений великие мира сего должны были услышать высшую правду века: княжеские междоусобицы – предательство Русской земли. Новая истина не может быть провозглашена, она должна быть доказана”[54].
В стране, державшейся на официальной лжи, где было строго запрещено писать о любых авариях и катастрофах, кроме тех, что происходили за рубежом, факты ценились на вес золота и подрывали устои системы. Отстаивая право на факты, Черниченко брал в союзники Дмитрия Писарева – революционного критика, послужившего прототипом Базарова в “Отцах и детях”. Черниченко цитировал его памфлет “Пчёлы” – переработку очерка немецкого естествоиспытателя Карла Фохта “Государство пчёл”: “Темнота совершенно необходима для поддержания существующего порядка. Вылетая из улья, пчела является свободным, усердным работником; у себя дома она подавлена, принесена в жертву внешней стройности государственного тела, и потому, чтобы покоряться таким тягостным условиям… ей необходимо игнорировать настоящее положение дел, не видать и не понимать того, как проводят время царица и трутни. Первый луч света пугает работницу, освещая грязь и бедность ее вседневной жизни; ей становится тяжело и страшно; она приписывает свое неприятное ощущение не тому зрелищу, которое осветил ворвавшийся луч, а именно самому лучу; она старается устранить его, как мы, люди, стараемся порою устранить возникающее сомнение…”[55].
Тот факт, что 22-летний Писарев за эту аллегорию был посажен царской полицией в тюрьму и в связи с этим привечен советской властью, которая включила его в канон революционной литературы, позволял Черниченко цитировать его слова без угрозы разделить его участь. Уж что-что, а аллегории читатели и авторы “Журналиста” считывать умели. Поведение пчелы, описанной Писаревым, вполне соответствовало двоемыслию советского человека, описанному Оруэллом, а за ним Юрием Левадой: “Лукавый человек – на всех уровнях, во всех его ипостасях – не только терпит обман, но и готов обманываться, более того, постоянно нуждается в самообмане. Для того же (в том числе психологического) самосохранения, для преодоления собственной раздвоенности, для оправдания собственного лукавства”[56].
Журналист своими статьями ворошил улей, наглядно показывая, как советская государственная система истощала природные и человеческие ресурсы страны.
Черниченко вырос в деревне, разоренной коллективизацией и пережившей страшный голод и каннибализм (в детстве родители не оставляли его дома одного, опасаясь, что сына украдут и съедят). К русской деревне Черниченко обратился в поисках положительных, работящих, предприимчивых людей. В статье “Молоко или веревка” он рассказывал о председателе колхоза Иване Андреевиче Снимщикове, наладившем молочное дело, но каждый раз оказывавшемся в убытке из-за заниженных государственных цен. Чтобы покрыть убытки, Снимщиков организовал промысловую артель в старом колхозном сарае, где крутили веревку. Дело оказалось прибыльным, колхоз стал процветать, молодежь начала возвращаться в деревню. Но Снимщикова обвинили в нэпничестве, спекуляции и развращении тружеников высоким заработком. Не посадили его только потому, что была объявлена экономическая реформа Косыгина. Мораль была простой: освободите человека из-под государственного гнета, и все заработает.
Статьи о деревенской жизни, созвучные деревенской прозе, которая вскоре даст националистические ростки, на страницах “Журналиста” непринужденно соседствовали со статьями о западной жизни, интересной для советской городской среды. Егор и люди его круга не были ни националистами, ни империалистами. Они верили в идею интернационализма, унаследованную ими от отцов, некоторые из которых, как, например, отец Лациса, отправились на гражданскую войну против Франко в Испанию в 1936 году и тем самым спасли себя от сталинских репрессий. Война в Испании и роман Хемингуэя “По ком звонит колокол” очень занимали воображение шестидесятников. В СССР это произведение ходило в самиздате, что только повышало интерес к нему. Фотографии писателя в свитере грубой вязки с высоким горлом продавались сотнями тысяч и выставлялись на застекленных полках домашних библиотек как особый знак, по которому распознавали людей своего круга. Хемингуэй стал символом мужественности, романтики и русского западничества.
В одном из номеров “Журналиста” Егор опубликовал свое интервью с Хаджи Мамсуровым, советским разведчиком, воевавшим в Испании под видом македонского партизана. Мамсуров встречался с Хемингуэем; его истории вошли в роман. Разговор Егора с Мамсуровым переносил читателя в наполненный табачным дымом (и фантазией Егора) бар Валенсии.
В том же номере журнала, в разделе “Если будете в…”, Егор поместил иллюстрированный очерк о Суздале, написанный художницей Татьяной Мавриной. Затейливая, фольклорная, но при этом тонкая и наивная живопись, напоминавшая о лубке и народной игрушке, сопровождалась не менее затейливыми заметками-зарисовками, приоткрывающими окно в мир русской народной сказки – с жар-птицей, веселыми ярмарками и языческими богами. Маврина рассказывала о сумеречном небе, которое “лучше всего писать золотом, как на иконах, на нем хорошо, именно сумеречно будут сиять белые куски Покровского монастыря и розовые – нагорного Спасо-Ефимьевского”, и о суздальском черноземе после дождей, напоминавшем “коврижку”: “При солнце эта жирная земля густо-фиолетовая; малиново-фиолетовая среди кусков яркой весенней зелени”[57].
Очерк Мавриной и произведения Хемингуэя были теми координатами, в которых существовал читатель “Журналиста”. Их объединение в одном номере выглядело органично. В рисунках Мавриной отсутствовали пафос и напор, свойственные национализму. Они были частью русской культуры в той степени, в какой русская культура была частью европейской. И суздальские церкви, и “Слово о полку Игореве” привлекали прежде всего не национальной аутентичностью, а своей неразрывной связью с европейской культурой, частью которой они и являлись. Возможное противопоставление подсознательно снимал Егор: то, что составляло особенности национальной культуры, как раз и делало ее частью культуры европейской.
Об одном из плеяды “русских европейцев” рассказывала статья писателя Ефима Дороша, человека, близкого Мавриной (она делала иллюстрации к его деревенской прозе). Дорош печатался в “Новом мире” и, хотя масштабом уступал Солженицыну и Твардовскому, был важным элементом того базового, питательного культурного слоя, который сформировался к концу 60-х годов. Статья Дороша в “Журналисте” была посвящена книге Николая Кузьмина, графика и иллюстратора русской и мировой классической литературы. Кузьмин даже не столько иллюстрировал поэзию, сколько превращал стихотворную строфу в поэтическую линию рисунка. Его графика напоминала наброски Пушкина на полях собственных сочинений. Книга Кузьмина называлась “Штрих и слово” и включала в себя статьи о книжной иллюстрации. Дорош, написавший к ней послесловие, делился с читателем “Журналиста” своими мыслями и чувствами, “какие возникли, когда [он] взял в руки только что вышедший из типографии несколько удлиненный томик в белой глянцевой суперобложке, две трети которого сверху заняты мелкими, исполненными пером и отпечатанными коричневой краской рисунками Кузьмина из различных его книг, а внизу, на свободном поле, оттиснут знакомый, характерный энергический росчерк – «Н. Кузьмин»”.
Первый рисунок в книге Кузьмина датировался 1914 годом. Последний – 1964-м. Кузьмин соединял эпохи, разделенные революцией 1917 года, великим переломом 1929 года и последовавшим за ним террором – одной, легкой линией. “Эта связь мастера с теми, кто и до него жил и работал на земле, когда, например, разглядывая рисунки Пикассо, вспоминаешь и фантастические видения Гойи, и очертания античных статуй, и наскальные изображения быков, словно бы раздвигает границы времени, позволяет, любуясь данным произведением, одновременно, даже не сознавая этого, чувствовать общность свою с духовным миром предков”[58]. Сквозь графику Кузьмина просвечивал “Мир искусства”, стройность стиля ампир и легкость импрессионистов. Сквозь публикации “Журналиста” просвечивали “Новый мир” и статьи Герцена.
“Журналист” не только расширял временные рамки, но и преодолевал географические или политические границы, отделявшие Советский Союз от Запада и Востока. Если сталинская пропаганда усиленно возводила железный занавес и культивировала образ осажденной крепости, то “Журналист” наводил мосты и связи с внешним миром. Борис Вахтин, блестящий китаист, писал в журнале о “культурной революции” Мао Цзэдуна и его хунвейбинах со смесью антропологического любопытства и европейской отстраненности. “Журналист” водил своих читателей по американской телестудии, по лондонской Флит-стрит, приглашал в башню на Сент-Джеймс стрит, где размещалась редакция The Economist, и в чикагский особняк Хью Хефнера, издателя Playboy, где стояла круглая вращающаяся кровать и висели фотографии Мэрилин Монро как первой “девушки месяца”. Это были не набившие оскомину пропагандистские статьи о буржуазной прессе, а на удивление точные и уважительные описания работы западных СМИ. Конечно, статья о Playboy была написана французским журналистом и сопровождалась комментарием советского “корифея журналистики”, сетовавшего на “испорченность и деградацию” западных читателей. Однако этот комментарий, помещенный на полях, сбоку от основного текста, да еще белыми буквами на черном фоне, смотрелся в буквальном смысле маргинально.
Статьи-экскурсии неизбежно наталкивали на сравнения, сеяли сомнения среди тех, кому полагалось “распространять, агитировать и организовывать”. Поколение Егора пыталось решить заведомо неразрешимое, так сказать, разобраться с “квадратурой круга” с помощью линейки и циркуля: вписать социализм, отвергавший частную собственность, в круг личной инициативы и свободы, запустить идею партийной печати в свободный поток информации. И задача, стоявшая перед ними, была не математической и даже не философской, а самой что ни на есть практической, насущной. Эти люди оставались верны социалистическим идеям общественной справедливости и равенства, но мечтали о хорошей жизни для себя и своих детей. Им хотелось жить не хуже, чем жили их ровесники на “загнивающем Западе”.
В какой-то момент показалось, что ответ найден в чешских реформах, начатых в 1967–68 годах правительством Александра Дубчека. Они освобождали экономику от государственного контроля и вводили принцип конкуренции. “В наших условиях нет глухих стен между экономикой и нравственностью: рубль при социализме поощряет честный и чистый творческий труд”, – радостно сообщал “Журналист”, приводя в качестве примера опыт социалистической Чехословакии и цитируя чешского министра внутренних дел: “Это первая проблема – научить сапожника, продавца и парикмахера не бояться много зарабатывать”. Это был гимн частному предпринимательству и здравому смыслу[59].
Идея Дубчека – “социализм с человеческим лицом” – была тем самым решением задачи “квадратуры круга”. Чешские реформы, обещавшие больше демократии, больше экономических свобод и меньше контроля со стороны всемогущих служб госбезопасности, вдохновляли. Впечатленный Пражской весной, Андрей Сахаров написал статью “Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе”. Она предупреждала об угрозе термоядерного конца света и призывала к экономическому, социальному и идеологическому сближению с Западом. В СССР статья ходила в самиздате, а по всему миру было напечатано 18 миллионов экземпляров – это больше, чем тираж любого из романов Агаты Кристи. Для Кремля, однако, сближение с Западом было опаснее ядерной войны. Советское начальство прекрасно понимало, что в открытой конкуренции с Западом ему у власти не удержаться. Связь между Пражской весной и ростом вольнодумства в СССР была очевидна.
В июне 1967 года “Журналист” опубликовал новый чехословацкий закон о СМИ, гарантировавший свободу слова, но – не передачу государственных СМИ в частные руки. Группа интеллектуалов, куда входил и Сахаров, предложила ввести подобный закон и в СССР. “По сути, там провозглашается право любого гражданина печатать любые материалы, ставить любые спектакли и показывать любые фильмы”, – докладывал КГБ Центральному комитету, добавляя, что уже “принимает меры для пресечения дальнейшей деятельности тех, кто составил этот документ”[60]. Зимой 1967 года “Журналист” писал: “Ведь в ряде стран, например, в Чехословакии, уже существуют законы о печати, и наши чехословацкие коллеги единодушно утверждают, что такой закон сыграл большую, плодотворную роль… Может быть, наступает пора, когда и нам надо подумать об общем законе о печати…”[61].
В апреле 1968 года Егора уволили – формально за то, что он напечатал эротическую черно-белую фотографию, а также репродукцию советской картины, изображавшую обнаженную женщину в бане. Однако истинная причина его увольнения была другой – публикация чешского закона о свободе печати. В Кремле заговорили о том, что если “Журналист” не закроют, советское руководство вскоре столкнется с такой же ситуацией, какая сложилась в Чехословакии.
Судя по стенограммам телефонных разговоров и личных бесед Брежнева с Дубчеком, вопрос о СМИ волновал советское руководство гораздо больше, чем все остальные стороны чешских реформ. “Времени у нас мало, – заявил Брежнев Дубчеку 13 августа 1968 года. – Я вновь обращаюсь к тебе с беспокойством по вопросу о том, что средства массовой пропаганды не только неправильно освещают наши Совещания в Чиерне-над-Тиссой, Братиславе, но и усиливают атаки на здоровые силы, проповедуют антисоветизм, антисоциалистические идеи… Мы договаривались о том, что все средства массовой пропаганды: печать, радио и телевидение – будут взяты под контроль Центрального комитета КПЧ и правительства и будут прекращены антисоветские и антисоциалистические публикации…”[62]. Опираясь на данные КГБ, Брежнев обвинял Дубчека в нарушении соглашений.
Чешские реформаторы уверяли московских начальников в приверженности Советскому Союзу и пытались доказать, что выступают не против социализма, а против “бюрократии, которая медленно и неуклонно хоронит социализм в мировых масштабах”. Советская бюрократия восприняла угрозу серьезно и начала готовиться к военному вторжению. Несколько разумно настроенных людей в ЦК, в том числе Бовин, пробовали отговорить Брежнева от такого решения. 14 августа, на следующий день после разговора Брежнева с Дубчеком, Бовин представил Андропову докладную записку, где объяснял, что военное вмешательство может быть оправданным лишь в том случае, если Чехословакия попытается переметнуться к Западу, а в данном случае речь об этом не идет. Применение силы, писал Бовин, нанесет непоправимый ущерб репутации СССР среди социалистических стран. Кроме того, оно изолирует Советский Союз от остальной Европы, подтолкнув Западную Европу к более тесному альянсу с США – за счет СССР. (Такая ситуация во многом повторилась почти полвека спустя – в действиях России против Украины.)
Бовин изложил свои взгляды Брежневу, и тот ответил ему: “Решение политбюро уже состоялось. Мы с тобой не согласны. Принципиально. Ты имеешь право думать как хочешь. А дальше так – или уходи, выходи из партии, или выполняй принятое решение. Как положено по уставу. Решай”[63]. 19 августа 1968-го Бовин записал в своем дневнике: “Дело идет к развязке. Те, кто принял решение о вводе войск, тем самым подписали себе обвинительный приговор. Когда он будет приведен в исполнение – вопрос времени”[64]. 21 августа советские войска вошли в Прагу. Исполнение “приговора” было отсрочено, но состоялось двадцать лет спустя, когда Горбачев с помощью Яковлева, Лациса и Бовина запустил механизм перестройки.
Московская интеллигенция восприняла вторжение как катастрофу: советские танки раздавили не только “весну” Дубчека, но и надежды советских либералов, мечтавших реформировать социализм в нечто человечное и справедливое. Ввод войск в Чехословакию показал, что советский строй можно удержать только силой. Это был переломный момент. Советское руководство оттолкнуло от себя самую умную и творческую часть общества, утратило всякий контроль над интеллектуальной жизнью страны, размышлял Александр Яковлев. Егор Яковлев, Бовин и Лацис, верившие в идею “социализма с человеческим лицом”, переживали случившееся как личное поражение.
Смеешь выйти на площадь?
И все так же, не проще, Век наш пробует нас: Можешь выйти на площадь? Смеешь выйти на площадь? Можешь выйти на площадь, Смеешь выйти на площадь В тот назначенный час?! Александр Галич, “Петербургский романс”Подавление Пражской весны разделило интеллигенцию на тех, кто примкнул к диссидентскому движению, пытаясь создать давление на систему извне, и тех, кто осудил вторжение, но остался внутри системы, пытаясь хоть как-то сдерживать ее эксцессы. Два лагеря не боролись, а скорее дополняли друг друга.
В первое воскресенье после вторжения, 25 августа 1968 года, на Красную площадь вышли восемь диссидентов с транспарантами. Они развернули их, когда часы на Спасской башне пробили полдень. На одних плакатах было написано по-чешски At’ žije svobodné a nezávislé Československo! (“Да здравствует свободная и независимая Чехословакия!”), на других по-русски – “Свободу Дубчеку!” и “Руки прочь от ЧССР!”. Один лозунг гласил: “За вашу и нашу свободу!”. Спустя несколько минут демонстрантов затолкали в машину и увезли. Двоих – искусствоведа Виктора Файнберга и поэта Наталью Горбаневскую – признали невменяемыми. Файнберга насильно поместили в психиатрическую больницу, где он провел четыре года. Горбаневскую, у которой было двое несовершеннолетних детей, вначале передали на попечение матери, но через год снова арестовали за “распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй” и отправили на принудительное лечение в спецпсихбольницу в Казани.
Пятерых осудили. Владимира Дремлюгу приговорили к трем годам лишения свободы в колонии общего режима, Вадима Делоне – к двум годам и десяти месяцам. Остальных отправили в ссылку: Павла Литвинова – на пять лет, Ларису Богораз – на четыре, а Константина Бабицкого – на три года. “Подсудимые получили свое. Получили по заслугам. Находившиеся в зале представители общественности Москвы с одобрением встретили приговор суда. Пусть наказание, вынесенное Бабицкому, Богораз-Брухман, Делоне, Дремлюге и Литвинову, послужит серьезным уроком для тех, кто, может быть, еще думает, что нарушение общественного порядка может сходить с рук. Не выйдет!” – написала “Вечерняя Москва”[65].
“Демонстрация 25 августа – явление не политической борьбы… а явление борьбы нравственной… Исходите из того, что правда нужна ради правды, а не для чего-либо еще; что достоинство человека не позволяет ему мириться со злом, если даже он бессилен это зло предотвратить”, – написал в письме поэт, переводчик и правозащитник Анатолий Якобсон[66].
“В эти дни выступление П. Литвинова, Л. Богораз и их товарищей было действительно чудом, тем поступком, который восстанавливает честь целой страны. Они простояли на Лобном месте только минуту…” – записал в дневнике Сахаров[67].
Бовин, Егор Яковлев и Лацис на Красную площадь не выходили и писем в защиту осужденных не писали. Не вышли они и из партии в знак протеста. И дело не только в инстинкте самосохранения, хотя и он сыграл тут немалую роль. Они верили, что смогут принести больше пользы, оставаясь внутри системы. Они шли на компромиссы с собой: не говорили прямо то, что думают, но и подлостей не делали и по возможности избегали откровенного вранья. Их роль в крушении советского порядка была не меньшей, чем роль тех, кто боролся с системой в открытую. Как признавался сам Бовин, их легко было осуждать. Они шли против своих взглядов, часто хитрили и приспосабливались, вызывая раздражение и даже отповеди тех, кто уходил в диссиденты. Но эти люди видели свою задачу в том, чтобы не дать до конца растоптать ростки, взошедшие после двадцатого съезда. Им это удалось, и без их усилий по спасению таких ростков была бы невозможна Перестройка, невозможно освобождение от идеологии, которую породили их отцы. На поколении детей ХХ съезда КПСС лежало Эдипово проклятье: им суждено было отстаивать идеалы отцов и изо всех сил защищать идеи социализма, но в конце концов им же выпало его умертвить – не танками, а словами.
“Слово – тоже дело” – так назывался трактат, сочиненный одним из ближайших друзей Егора, Леном Карпинским. Его отец был соратником и литературным редактором Ленина, в честь которого и назвал сына. Эссе “Слово – тоже дело” автор зачитывал на секретном собрании в квартире Егора. Карпинский предлагал создать подпольный политический кружок, а собственное сочинение сделать его манифестом. “Наши танки в Праге были, если угодно, анахронизмом, «неадекватным» оружием, – писал он. – Они «стреляли» в идеи. Без малейшей надежды попасть по цели”[68]. И напротив, рассуждал Карпинский, единственное оружие, которое образованный класс советской интеллигенции должен использовать против бюрократии, монополизировавшей власть, – это слова и идеи. Бюрократическая система просто не выстоит под напором фактов и идей и рухнет, заключал он. Интересно, что идеологи советской бюрократии сделали ровно такой же вывод, осознав, какие риски влечет за собой свобода СМИ, провозглашенная в ходе Пражской весны.
Главный охранитель идеологии режима, Михаил Суслов, объяснял своим соратникам в августе 1968 года: “Известно, что между отменой цензуры в Чехословакии и вводом [туда] советских танков прошло всего несколько месяцев. Я хочу знать, [если мы отменим цензуру,] кто будет вводить танки к нам?”[69]. Вместо послабления цензуры власти ввели тюремные сроки за распространение антисоветских идей. Но, как писал Карпинский, остановить процессы, которые начались в рядах самой партии, без массовых репрессий было уже невозможно, а к ним руководство страны готово не было. “Новое время просачивается в аппарат и формирует в нем слой партийной интеллигенции. Слой этот тонок и разрознен, постоянно вымывается подкупом и кадровым отбором, густо проложен карьеристами, льстецами, болтунами, трусами и другими творениями бюрократической селекции. Но слой этот может пойти на союз со всей общественной интеллигенцией, если к тому сложатся благоприятные условия”[70]. Когда-нибудь, предсказывал Карпинский, “наши слова станут их делами”. Сколько придется этого момента ждать, в 1968 году никто не знал.
С августа 1968 года время словно остановилось. Официально решения ХХ съезда никто не отменял, но сама тема сталинских репрессий больше не поднималась и разговоры о хрущевской оттепели не велись. Как писал Александр Яковлев, политика тех лет сводилась к “ползучей реабилитации Сталина”[71]. Главные политические столкновения переместились из кремлевских коридоров на страницы литературных журналов. “Новый мир” Твардовского, отказавшийся поддержать вторжение войск в Чехословакию и продолжавший отстаивать линию ХХ съезда, оказался под ударом со стороны националистов и сталинистов. Реакционные журналы “Октябрь” и “Молодая гвардия” выступали против “заблудших интеллигентов”, попавших под “тлетворное влияние” Запада, которое угрожало особому русскому духу и образу жизни. “Нет более лютого врага для народа, чем искус буржуазного благополучия”, – писала “Молодая гвардия”, советуя Кремлю положиться на “простого русского крестьянина”[72].
Отбиваясь от националистических нападок, защитники “Нового мира” в качестве щита использовали марксистские постулаты об интернационализме и равенстве. Атака на Твардовского тем не менее продолжалась: КГБ не оставил без внимания закономерную связь между публикациями в “Новом мире” и “буржуазными” идеями свободы в экономике и личной жизни. “Огонек” под началом Софронова охотно примкнул к травле Твардовского, опубликовав коллективное письмо одиннадцати малоизвестных писателей.
Уволить Твардовского “по-тихому” было невозможно: его защищали и писательская слава, и статус кандидата в члены ЦК КПСС. Кремль был вынужден снимать главного редактора в несколько этапов, уволив вначале его первых заместителей и навязав ему отставку, в которую он и подал 12 февраля 1970 года. В тот же день ему позвонили из ЦК и сообщили, что он по-прежнему будет получать щедрое жалованье, спецпаек из кремлевского распределителя, а также останется прикрепленным к кремлевской больнице. Кроме того, ему пообещали, что особым, подарочным изданием выйдет сборник его стихов. “Итак, вместо журнала – «властителя дум», – кремлевское питание, синекура в 500 рублей и перспектива юбилею моему быть отмеченным на «высшем уровне»”[73], – записал Твардовский в дневнике. Потерю журнала и компенсацию “синекурой” Твардовский не пережил. Вскоре ему поставили диагноз – рак. Похороны состоялись 17 декабря 1971-го. Софронов стоял у гроба в почетном карауле.
“Духобор”
Борьба вокруг “Нового мира” обнажила конфликт между сталинистами и антисталинистами внутри партийной верхушки, и одной из главных фигур в этом столкновении сделался Александр Яковлев. Небольшого роста, прихрамывающий, с умными и веселыми глазами, Яковлев официально отвечал за прессу. Он написал и прощальную передовицу о Хрущеве для “Правды”, и первую приветственную речь для Брежнева. При этом сам он всегда оставался в стороне от одиозных кампаний против диссидентов. Для националистов и сталинистов в ЦК Яковлев, начавший карьеру при Хрущеве, стал главным оппонентом и мишенью.
После того как Твардовский оказался в опале, Яковлев решил наносить ответные удары. Во внутренних докладных записках для ЦК, выдержанных в стилистике партийных документов, он указывал на опасность русского национализма и шовинизма для государства и партии. Он пустил в ход все свое влияние и бюрократическую сноровку, чтобы главного редактора “Молодой гвардии” сняли с должности. В 1972 году Яковлев опубликовал в “Литературной газете” статью под названием “Против антиисторизма”. Мощная критика русских шовинистов, антизападников и антисемитов в высших эшелонах компартии заняла целый разворот[74].
Используя все ту же характерную советскую фразеологию, автор обвинял националистов в извращении марксистско-ленинского принципа о верховенстве классовых интересов над национальными. Патриархальные пережитки, за которые держались националисты, стоят на пути социалистического прогресса и угрожают советскому обществу расколом, писал Яковлев.
Однако никакая фразеология не могла замаскировать сущность конфликта и опасность выбранной цели. “А ты знаешь, что тебя снимут с работы за эту статью? – спросил Яковлева главный редактор “Литературной газеты”. – Не знаю. Но подозреваю”, – ответил Яковлев[75]. Ставки были высокие. Яковлев понимал, что смесь национализма и сталинизма мало чем отличалась от фашистской идеологии. Сталин опирался не на марксистские идеи рабочего интернационала, а на идеи имперского национализма. В годы Великой Отечественной войны он стал заигрывать с церковью, эксплуатируя национализм и православие и взывая к духу древних святых-воителей вроде Александра Невского. Как писал Солженицын в письме “к вождям” в 1973 году, “Сталин от первых же дней войны не понадеялся на гниловатую порченую подпорку идеологии, а разумно отбросил ее, почти перестал ее поднимать, развернул же старое русское знамя, отчасти даже православную хоругвь!”[76]
В 1945 году, когда в честь победы в Кремле состоялся торжественный прием для полководцев, Сталин произнес здравицу за русский народ, назвав его “старшим братом” всех прочих советских народностей. “Я хотел бы поднять тост за здоровье нашего советского народа и, прежде всего, русского народа… Он является наиболее выдающейся нацией из всех наций, входящих в состав Советского Союза”[77]. Вскоре Сталин затеял кампанию против всего чужестранного и против “безродного космополитизма”.
Антисемитизм, поддерживавшийся в среде эмигрантов-белогвардейцев с их неприятием революции и перенятый Сталиным у Германии после окончания Второй мировой, сплотил сталинистов с националистами. Националисты считали евреев виновниками большевистского переворота; сталинисты – агентами западного влияния. И те, и другие полагали их врагами традиционной русской веры и русской государственности. Враждебно настроенные по отношению к коммунистической идеологии, приверженцы имперского национализма видели в советском режиме союзника в противостоянии с либералами и западниками.
В романе Василия Гроссмана “Жизнь и судьба”, где открыто проводятся параллели между сталинизмом и фашизмом, эсэсовец Лисс говорит старому большевику Мостовскому:
Когда мы смотрим в лицо друг другу, мы смотрим не только на ненавистное лицо, мы смотрим в зеркало. В этом трагедия эпохи. […] Сегодня вас пугает наша ненависть к иудейству. Может быть, завтра вы возьмете себе наш опыт. […] Вы, как и мы, знаете: национализм – главная сила двадцатого века. Национализм – душа эпохи![78]
Скорее всего Яковлев с рукописью Гроссмана был знаком. Гроссман закончил роман в 1959 году и отдал его в редакцию одного из литературных журналов. К нему домой немедленно пришли с обыском и изъяли все экземпляры рукописи, записные книжки и даже ленту из пишущей машинки. Члены политбюро книгу читали и обсуждали. Яковлев в тот момент работал в отделе идеологии, которым руководил Суслов. Ему, что называется, читать полагалось по службе. Однако его ненависть к сталинизму и фашизму была порождена не литературой, а собственной жизнью и судьбой.
Он родился в 1924 году в крестьянской семье в деревне под Ярославлем. Его происхождение выдавали внешность, окающий волжский говор и характерные черты крестьянина – смекалка, достоинство и уважение к труду. Яковлев был немногим старше Горбачева, но принадлежал к другому поколению: когда началась сталинская коллективизация, ему было уже шесть лет. Он помнил, как в их деревне арестовали конюха за порчу социалистической собственности (“якобы в ночном он очень тесно ноги путал лошадям”), а школьного учителя – “за оскорбительное отношение к вождю” (тот вырвал портрет Сталина из газеты, которая служила туалетной бумагой, и прилепил его к стенке сортира, “как бы из уважения”).
Отец Яковлева тоже едва не угодил в лагерь. Его спас человек по фамилии Новиков, военный комиссар Ярославского района, заранее предупредивший о готовящемся аресте. По счастливой случайности он оказался сослуживцем Яковлева-старшего во время гражданской войны.
Яковлев окончил школу весной 1941 года, за несколько недель до нападения Германии на Советский Союз. Уже 6 августа его призвали на фронт. В 18 лет лейтенант Шестой отдельной бригады морской пехоты Балтийского флота Яковлев командовал взводом в сражениях под Ленинградом. Он вспоминал, как трупы молодых солдат выглядывали из-под талого снега: “Они были мертвы, но не знали об этом”[79]. В одном из боев Яковлев сам едва не погиб: получил три пули в ногу, еще одна прошла рядом с сердцем. С поля боя его вытащили четверо товарищей; трое из них погибли. Яковлева в бреду и беспамятстве привезли на телеге в полевой госпиталь, потом самолетом – в другой госпиталь. Врач-армянин все-таки спас ногу, но хромота у Яковлева осталась на всю жизнь.
В том же 1943 году он вступил в партию. Яковлев обладал чертами главного (и одного из самых любимых в народе) персонажей военной поэзии Твардовского – Василия Тёркина. Или скорее иначе: в Тёркине были черты таких людей, как Яковлев.
Два ремня да две лопаты, Две шинели поперек. – Береги, солдат, солдата. – Понесли. Терпи, дружок. Норовят, чтоб меньше тряски, Чтоб ровнее как-нибудь, Берегут, несут с опаской: Смерть сторонкой держит путь.После войны Яковлев учился на историческом факультете Ярославского педагогического института и постепенно поднимался по партийной лестнице. В 1959 году он стал одним из первых стипендиатов программы Фулбрайта и на год отправился в Колумбийский университет изучать американскую “пропаганду”. Он слушал лекции Джорджа Кеннана, одного из самых блистательных и проницательных американских дипломатов и политологов своего времени, автора знаменитой “длинной телеграммы”, написанной в 1946 году и легшей в основу политики “сдерживания”. Главным впечатлением, с которым Яковлев вернулся из Америки, стало расхождение между пропагандой и реальной жизнью – что в СССР, что в США. Личный опыт и взгляды оказались убедительнее советской идеологии, которой он заведовал. Несмотря на должность, с годами он не утратил врожденного крестьянского чутья, как и певучего говора родных мест.
То, что Яковлев схлестнулся с националистами и сталинистами именно из-за Твардовского и “Нового мира”, не было случайностью. С Твардовским его многое роднило – в том числе чувство собственного достоинства и органическое неприятие национализма и антисемитизма. Сталинисты увидели в яковлевской статье 1972 года ровно то, чем она и была: объявление войны. Главный редактор “Огонька” Софронов уговорил Михаила Шолохова – главного советского писателя – пожаловаться на Яковлева в ЦК.
Брежневу статья тоже не понравилась – не потому, что он разделял идеи противоположного лагеря, а потому, что любые внутрипартийные конфликты, особенно на идеологической почве, нарушали принцип единомыслия и консенсусного правления. Он не был ни националистом, ни либералом, а потому решил избавиться от обеих групп, чтобы те не раскачивали лодку и не создавали угроз его правлению. Александр Шелепин, возглавлявший сталинистское и националистическое крыло партии, и его соратники, нападавшие на Твардовского, лишились административных должностей, но та же участь постигла и Яковлева: его отправили за океан – послом в Канаду.
Яковлев сам выбрал именно Канаду, и в его выборе просматривалась определенная логика: как раз туда на рубеже ХХ века при помощи Льва Толстого переселялись русские духоборы. Уже работая в этой стране, Яковлев поехал в одно из их поселений. “Изумительные люди – трудолюбивые, открытые, обходительные”, – вспоминал он потом[80]. Его поразило, что русские люди, много лет живущие на другой половине земного шара, сохранили и язык, и традиции страны, которую давным-давно покинули. Было бы, конечно, преувеличением говорить, что на Яковлева как-то повлияли их идеи, но едва ли он мог удержаться от того, чтобы не провести параллели между их судьбой и своей собственной. Ведь он тоже пошел наперекор господствующей “церкви”.
В мемуарах Яковлева духоборам посвящено несколько страниц: он пишет об их поведении, о достоинстве, смирении, стремлении к совершенству и вере в первостепенность человеческой жизни. Тут же Яковлев рассказывает, как его мучило чувство глубокого и жгучего стыда за советскую политику, которую ему приходилось представлять и защищать. “Почти каждый год приходилось объясняться по поводу тех, кого вышвыривали из страны за инакомыслие, за «антисоветскую пропаганду». И, потупив глаза, откровенно врать. Стыдно было объяснять причины ввода наших войск в Афганистан… читать и распространять материалы из Москвы о… Солженицыне, Щаранском и Ростроповиче…”[81].
В том же году, когда Александра Яковлева отослали в Канаду, Егора Яковлева и Отто Лациса отправили в Прагу в журнал “Проблемы мира и социализма”. Это издание продолжало дело Коминтерна – международной коммунистической организации, которая существовала с 1919 по 1943 год. Главная польза лет, проведенных в комфортном изгнании, была в том, что они дали журналистам время собраться с мыслями.
Время для размышлений
“Дорогие соотечественники! Дорогие товарищи и друзья! Идут последние минуты тысяча девятьсот семидесятого года. Советский народ провожает его с сознанием исполненного долга, с хорошим настроением. Это был незабываемый год… новых побед и свершений. Повсюду на советской земле – от Балтики до Тихого океана, от северных морей до Карпатских гор – уходящий год оставил добрый след”. Так Леонид Брежнев, генеральный секретарь ЦК КПСС, обратился к стране в новогоднюю ночь 1971 года.
Страна вступила в десятилетие “развитого социализма”, или, как его назовут позднее, застоя, – периода, когда количество пустых слов и лозунгов, посвященных экономическим успехам, соперничало разве что с числом анекдотов про них же. Как говорилось в одном из таких анекдотов, это была такая эпоха, когда “трудности роста превращались в рост трудностей”. И каждый Новый год, с 1970-го по 1982-й, до самой своей смерти, Брежнев обращался к народу, провозглашая достижения и победы социализма. Лишенные всякого смысла, эти телевизионные обращения служили сигналом для откупоривания бутылок “Советского шампанского”. С годами речь становилась все менее членораздельной, а мяса в салатах оливье – все меньше.
Оттепель оказалась недолгой. Сталинская стужа не возвращалась, но страну опять подморозило. Новости и освещение событий сменились бесконечным празднованием юбилеев. Люди и слова, еще недавно жившие на страницах “Нового мира”, были загнаны в подполье самиздата.
Режим, на страже которого стоял секретарь ЦК КПСС и главный идеолог партии Михаил Суслов, использовал уныло-циничную систему поощрений и наказаний. Поощрения часто принимали форму заграничных поездок, а наказания выражались в запретах на публикацию или театральную постановку. Тех, кто заходил слишком далеко (давал интервью западным журналистам или печатался “там”), ждала ссылка. В самых тяжелых случаях – психиатрическая больница или тюрьма. Среди тех, кто испытал на себе крайности режима, оказались Александр Солженицын, Андрей Синявский, Иосиф Бродский и Владимир Буковский. Те, кто предпочел остаться внутри системы – в том числе Егор Яковлев, Лацис и Бовин, – все еще пытались раздвинуть ее рамки, чтобы не дать себе и стране задохнуться окончательно.
В 1974 году, после того как во Франции вышел “Архипелаг ГУЛАГ”, Солженицына лишили советского гражданства и выдворили из страны. На прощанье он написал письмо-воззвание к советской интеллигенции, назвав его “Жить не по лжи!”. (“Ибо: насилию нечем прикрыться, кроме лжи, а ложь может держаться только насилием”.) Письмо было составлено в форме проповеди: “Личное неучастие во лжи! Пусть ложь всё покрыла, пусть ложь всем владеет, но в самом малом упрёмся: пусть владеет не через меня!”. Он наставлял: “Мы так безнадёжно расчеловечились, что за сегодняшнюю скромную кормушку отдадим все принципы, душу свою, все усилия наших предков, все возможности для потомков – только бы не расстроить своего утлого существования. Не осталось у нас ни твёрдости, ни гордости, ни сердечного жара… Нам только бы не оторваться от стада, не сделать шага в одиночку – и вдруг оказаться без белых батонов, без газовой колонки, без московской прописки”[82].
Солженицын взывал к чувству собственного достоинства и индивидуальному сознанию подлинной интеллигенции, обличая при этом тех, кого он называл уродливым словом “образованщина”. “Интеллигенция-образованщина как огромный социальный слой закончила свое развитие в теплом болоте и уже не может стать воздухоплавательной”[83], – писал он.
Его главная претензия к советской интеллигенции состояла в том, что она не справилась с самой важной из своих задач – говорить от лица народа, угнетаемого авторитарным государством. Представители интеллигенции сами сделались частью государственной системы, уютно устроившись в ее складках, уголках и щелях. “Сто лет назад, – писал он в 1974 году, – у русских интеллигентов считалось жертвой пойти на смертную казнь. Сейчас представляется жертвой – рискнуть получить административное взыскание”. У образованщины было мало общего с той интеллигенцией, которую смели революция и сталинские репрессии[84].
Ядром советской интеллигенции оставались ученые, связанные так или иначе с военно-промышленным комплексом. В особо привилегированном положении были физики-ядерщики, для которых государство создавало условия, близкие к идеальным. Кураторы атомного проекта знали, что, помимо оборудования, улучшенного питания и академических поселков в лесу, ученым еще требовалась определенная степень свободы. Недоступные – или малодоступные – для посторонних наукограды обеспечивались не только спецпайками, но и искусством, причем зачастую подцензурным, полулегальным. Благодаря своему политическому влиянию ученые могли приглашать поэтов и художников, которым не позволялось давать официальные концерты и устраивать выставки. Частыми гостями таких городков бывали, к примеру, Владимир Высоцкий и Булат Окуджава.
Как заметил историк культуры Андрей Зорин, советские военные нужды привели к перепроизводству не только ученых, но и творческой интеллигенции. По мере дряхления режима потребителями культуры становились миллионы младших и старших сотрудников различных научно-исследовательских институтов и конструкторских бюро с почтовым номером вместо адреса. На протяжении 1970-х годов численность и экономический вес интеллигенции многократно увеличились. Количество людей, имевших высшее образование, с начала 1960-х до середины 1980-х удвоилось и составило 20 миллионов человек. Число специалистов, занятых в экономике, возросло более чем втрое – с 9 до 33 миллионов человек.
Текст Солженицына отчасти послужил ответом Андрею Амальрику – историку по образованию и диссиденту по убеждениям, чей очерк под названием “Просуществует ли Советский Союз до 1984 года?” был напечатан несколькими годами ранее. Как и Солженицын, Амальрик отказывался рассматривать интеллигенцию под каким-либо духовным или этическим углом, а описывал ее скорее как особый социальный слой, как советское подобие “среднего класса”:
К нему принадлежат люди, обеспечившие себе и своим семьям относительно высокий, по советским меркам, уровень жизни (регулярную хорошую пищу, хорошую одежду, кооперативную квартиру с хорошей обстановкой и иногда даже автомобиль, и, разумеется, какие-то развлечения), обладающие профессией, дающей им уважаемое место в обществе… Сюда относятся лица свободных профессий (как писатели и артисты), лица, занятые научной и научно-административной работой, лица, занятые управленческой работой в экономической области, и т. д.[85]
Свою классовость (и массовость) городская интеллигенция начала осознавать в 1970-е годы. Постепенно она начала приобретать и материальное, и культурное сходство с европейским средним классом. Стало модным проводить отпуск в Прибалтике, наиболее приближенной к Западу, или ездить “дикарем” в Крым. В 1970 году Советский Союз купил старый завод Fiat и запустил в массовое производство “Жигули” – первую отечественную машину для среднего класса. За два следующих десятилетия количество владельцев автомобилей в СССР возросло в десять раз. Благодаря росту цен на нефть в 1970-е годы быт советских граждан начал потихоньку налаживаться. Хронический дефицит товаров и услуг отражал не только неспособность плановой экономики удовлетворить спрос, но и рост самого спроса. Люди вставали в многолетние очереди на кооперативные квартиры, машины и дачи. Советскому среднему классу, как и во всем мире, требовались определенные свободы, но, как и во всем мире, средний класс не желал рисковать своим благополучием.
В действительности советская экономика, настроенная на военные нужды, не могла задействовать всех этих специалистов. Как говорилось в популярном анекдоте, “мы делаем вид что работаем, а государство делает вид, что платит”. В достатке было только время. Огромное количество образованных, умных, но практически невостребованных людей в возрасте от 30 до 40 лет, не имевших почти никаких карьерных перспектив, становилось идеальной средой для брожения либеральных идей. Диссидентами они не были, потому что материально зависели от государства, но им до смерти надоели запреты, навязанные советской идеологией, и на кухнях они охотно рассказывали анекдоты и ругали строй, поднимая тосты “за успех нашего безнадежного дела”. Как отмечал Зорин, все развивалось по уже известному сценарию: вначале государство создает образованное сословие для военных нужд, а затем это сословие эмансипируется и начинает подрывать само государство; в итоге государство рушится и просвещенный класс оказывается погребен под его обломками.
1970-е годы были плохим временем для свободы и самореализации и настоящим золотым веком для накопления знаний и художественных впечатлений. Этот резерв питал страну еще очень много лет. Настоящая жизнь разворачивалась в библиотеках, на сценах театров и в кино. Для тех же, кто имел дело с повседневной реальностью – а к числу таких людей относились и журналисты, – 1970-е были наименее плодотворными годами.
Поскольку честно описывать современную жизнь было невозможно, журналисты обращались к истории. Лацис, например, воспользовался свободным временем, появившимся у него в Праге, для написания книги, которая должна была ответить на вопрос, мучивший все его поколение: как же получилось, что революция, обещавшая всеобщее счастье, привела к обратному? Когда и что именно пошло не так? И как вернуться на ту развилку?
Он обратился к 1929 году, который Сталин назвал “Годом великого перелома” – то есть к моменту, ознаменовавшему конец ленинского НЭПа и начало первой пятилетки и принудительной коллективизации: событиям, приведшим к физическому истреблению крестьян и ликвидации крестьянства как класса. Для Лациса и людей его круга идея о том, что “развилка” была пройдена еще в 1917 году, казалась неприемлемой. Главной положительной фигурой для поколения шестидесятников был расстрелянный в 1938 году Николай Бухарин, призывавший крестьян “обогащаться” и отстаивавший принцип соревнования между частными и государственными предприятиями.
Либерально настроенным коммунистам Бухарин давал веру в возможность другого, правильного социализма “с человеческим лицом”. Возможность эта, не реализованная ни в 1920-е, ни в 1968 году в Праге, манила. Запрет на упоминание имени Бухарина, наложенный властью, только усиливал притягательность его идей. Табу соблюдалось строго: когда секретная рукопись Лациса попала в руки КГБ, у автора начались неприятности.
Если Лацис, человек более академичного склада, еще находил какое-то удовлетворение в своих интеллектуальных занятиях, то Егор, более энергичный и менее склонный к рефлексии, испытывал депрессию и тревогу. Работа в Праге не приносила ему ни малейшего удовлетворения. “Он приходил домой, ужинал и ложился спать в девять вечера. Ему просто хотелось, чтобы очередной день поскорее прошел”, – вспоминала его жена[86].
После возвращения из Праги Егор снова попал в “Известия”, но ему посоветовали “поменьше писать”. Тогда он обратился к теме, запретить которую было сложно, – к Ленину. К 1970-м годам Ленин уже давно превратился в мифологическую конструкцию, лишенную человеческих или даже исторических черт. Мифом пользовались по-разному и с разными целями. Используя цитаты из Ленина, можно было отстаивать диаметрально противоположные политические позиции. В 1930-е годы ленинскими цитатами подтверждали правильность большого сталинского террора. В 1950-е и в начале 1960-х их использовали как орудие против сталинизма. А в 1970-е трудами Ленина вооружились либералы, чтобы показать несостоятельность советской экономической и политической системы.
Для того чтобы такой политический маневр сработал, новый Ленин должен был разительно отличаться от своего мумифицированного подобия. Егор был одним из тех, кто направил собственные энергию и способности на “оживление” образа Ленина, или, как более грубо выразился Солженицын, на создание той “утешки”, которую интеллигенция “посасывала втихомолку: что «идеи революции были хороши, да извращены»”[87]. Сам Егор признавался: “Мне Ленин нужен был только для одного: показать, что строй, при котором мы живем, не имеет ничего общего с Лениным”[88]. По сути, эти интеллектуальные игры были занятием опасным и дорогостоящим – причем не только для тех, кто их затеял, но и для будущего всей страны. Они создавали вокруг фигуры Ленина целую либеральную мифологию, которая просуществовала вплоть до конца советского режима, удерживая страну в плену давным-давно умершей идеи.
В начале 1980-х годов мало кто верил, что в обозримом будущем наступят хоть какие-то перемены. Время тянулось медленно, исторические контуры эпохи размывались. Даже физическое старение и уход вождей, казалось, ничего не могут изменить. После смерти Брежнева в 1982-м ему на смену пришел Юрий Андропов, проживший после этого всего полтора года, а затем главой государства стал Константин Черненко, который, как говорилось в одном анекдоте, “вступил в должность, не приходя в сознание”. Вскоре, 10 марта 1985 года, он тоже приказал долго жить. Быструю смену генеральных секретарей острословы назвали “гонками на лафетах”. Казалось, все это не кончится уже никогда.
У людей вроде Лациса, Бовина и Яковлева самое сильное раздражение в те годы вызывали даже не нарастающий дефицит или закрытость границ (они-то как раз выезжали за рубеж, да и быт у них был налажен), а полнейшая бесплодность и бессмысленность собственной работы, ощущение, что жизнь протекает впустую. Когда умер Брежнев, им только исполнилось пятьдесят. Они были активны, но чувствовали, что все их усилия уходят в песок. Бессодержательная имитация интеллектуальной деятельности была одновременно утомительной и унизительной.
Лацис в своих воспоминаниях описал чувство тоски, которое мучило его в те годы. После вынужденного ухода из “Известий” в конце 1980-х годов он оказался в Институте экономики мировой социалистической системы Академии наук, где тратил недели, месяцы, годы жизни на писание нудных и никчемных бумажек для советского правительства. Ради работы над очередным докладом создавались многочисленные комиссии, которые отправлялись в ведомственный санаторий Совета министров “Сосны” и там месяцами писали, переписывали и переставляли местами слова, не имевшие ни малейшего смысла и цели.
По советским партийным меркам “работа с документами” в подмосковном санатории с телевизором в номере, фруктами в вазе и бесплатным трехразовым питанием, включавшим в себя всяческие деликатесы, была желанной привилегией. С точки же зрения здравомыслящего и уважающего свой труд человека, каким был Лацис, бессмысленная работа лишь унижала. “Больше всего изнуряла неэффективность и бессмысленность труда в компании косноязычных совминовских чиновников”[89]. Одна из “санаторных” командировок Лациса оказалась особенно тягостной: дома, в Москве, его тринадцатилетняя дочь попала в больницу с аппендицитом; операция дала осложнения, и девочку перевели в реанимацию. Запертый в “Соснах” Лацис даже не мог ее навестить.
Когда он вернулся в Москву, дочь уже выписали, но боли у нее продолжались. Лациса не отпускало чувство вины и раздражения на себя и всю систему в целом. “Вдруг посетила меня совсем посторонняя мысль, которую я гнал от себя уже несколько лет. Там, дома, происходит настоящая жизнь и настоящая жизненная драма: дорогой мне человек мучается, борясь за свою жизнь. А я сижу в компании чинуш, которая занимается никчемной болтовней, изображая заботу о важных государственных делах. Здесь все ненастоящее…”. Держать в себе он этого не мог и на очередном бессмысленном заседании выпалил: “Дальнейшая наша работа никому не нужна, и я в ней участвовать не хочу”[90]. В протесте Лациса начала 1980-х годов было что-то от эмоционального взрыва Войницкого из чеховского “Дяди Вани”, накинувшегося на профессора Серебрякова, чьи пустые статьи он годами переписывал: “Я талантлив, умен, смел… Если бы я жил нормально, то из меня мог бы выйти Шопенгауэр, Достоевский… Я зарапортовался! Я с ума схожу…”.
“Дядю Ваню” поставили в Московском художественном театре как раз в 1981 году. Войницкого играл Андрей Мягков, Серебрякова – Иннокентий Смоктуновский. 30 апреля 1985 года, за день до майского парада на Красной площади, на спектакль пришел только что избранный генсеком Михаил Горбачев. Через неделю он позвонил Олегу Ефремову, художественному руководителю театра, чтобы поделиться с ним впечатлениями. Как вспоминал Анатолий Смелянский, соратник и биограф Ефремова, присутствовавший при этом телефонном разговоре, Горбачев говорил о том, как ему понравился доктор Астров… но вот дядя Ваня, сказал он Ефремову, просто душу надрывает. Горбачев предложил режиссеру встретиться и произнес фразу, все значение которой вряд ли мог тогда предвидеть даже он сам: “надо нам наш маховик раскручивать”[91]. В 1998 году, через семь лет после того, как Горбачев ушел с поста президента СССР, а “маховик”, им запущенный, разрушил советскую империю, он вспоминал, почему именно спектакль “Дядя Ваня” произвел на него тогда такое мощное впечатление: “Я осознал, что мы, все общество, серьезно больны, и что всем нам необходимо немедленное хирургическое вмешательство”[92].
Глава 2 Новое начало или тупик?
“Так жить нельзя!”
Март в Москве – тяжелый месяц. Снег, выпавший еще в ноябре, превращается в серую кашу. На улицах по-зимнему зябко, ветер усиливается, и все вокруг выглядит как-то особенно безжизненно и враждебно. Холод, нехватка солнечного света и вечный снегопад изматывают и физически, и душевно. Осознание того, что где-то поют птицы и распускаются нарциссы, делает раннюю московскую весну особенно тоскливой. Но к 10 марта 1985 года, дню смерти Константина Черненко, подобной тоской была уже охвачена вся страна. Правда, и зима длилась очень долго – почти восемнадцать лет… В ту ночь Горбачева назначили руководить похоронами Черненко и, согласно неписаному правилу передачи власти, выработанному в последние советские годы, – всей страной. Вернувшись на дачу в четыре часа утра 11 марта 1985-го, Горбачев вышел с Раисой Максимовной в сад. Прогуливаясь по заснеженным дорожкам, он произнес фразу, очевидную по смыслу и радикальную по своим последствиям: “Так дальше жить нельзя”. Так дальше и не жили. Изменения обозначились задолго до программных речей.
Своего нового лидера с родимым пятном на темени страна разглядела поближе через два месяца, во время его первой поездки в Ленинград. Репортаж о визите генсека на родину революции привычно занял практически весь эфир программы “Время”. Ничто не нарушало ритуала: советские чиновники в серых костюмах встречали генсека у трапа самолета, пионеры в парадной форме отдавали ему салют на взлетной полосе, первым мероприятием в программе было возложение цветов к братской могиле. Но вдруг в череде знакомых картинок что-то изменилось: Горбачев быстро подошел к людям, собравшимся неподалеку. С улыбкой он рассказывал о том, как собирается оживить экономику и поднять уровень жизни. Женщина в толпе, ошеломленная таким непринужденным общением, выпалила заготовленное: “Будьте поближе к народу, и народ вас не подведет”. Горбачев, которого обступили со всех сторон так, что он едва мог повернуться, пошутил в ответ: “Да куда уж ближе!”. Толпа разразилась смехом – настоящим, не постановочным.
После чреды геронтократов, возглавлявших страну, относительно молодой и энергичный лидер, заговоривший живым человеческим языком, расположил к себе всю страну. В Ленинграде Горбачев повторил то, что сказал Раисе на даче: “Нам всем придется меняться”. Длинные речи о перестройке были позже, но началось все именно тогда – прямо перед телевизионными камерами. Свобода проявляла себя не в форме указов и манифестов, а в стиле общения и в восприятии нового генсека. Словно что-то вдруг сдвинулось с места – и страна начала медленно открывать окна, проветривать дом, впускать в себя другой воздух и другой звук. Горбачев объявил об эпохе “нового мышления”. Сами мысли, впрочем, были не новыми.
Дежавю и радость узнавания стали главными ощущениями первых лет перестройки. Подводя итоги театрального сезона 1985–86 годов, Анатолий Смелянский, театральный критик и заведующий литературной частью Московского художественного театра, выразил то, что чувствовали тогда многие: “Что-то изменилось в литературном климате. Открываешь очередной номер толстого литературно-художественного журнала, который многие годы и просматривать-то не хотелось, и не можешь оторваться. Будто время открутило назад свою ленту и вернуло нас лет на двадцать назад в эпоху «Нового мира» Александра Трифоновича Твардовского”[93]. В точном описании Смелянского заключался парадокс: энергия и чувство обновления середины 1980-х во многом определялись выходом книг, фильмов и спектаклей, которые создавались до перестройки и долго держались под запретом. Это была архивная революция: всего за четыре-пять лет были опубликованы ранее не печатавшиеся в СССР произведения Бориса Пастернака, Василия Гроссмана и Анны Ахматовой. Тиражи толстых литературных журналов взлетели до уровня западных таблоидов. К концу 1980-х “Новый мир”, где впервые в Советском Союзе были напечатаны “Доктор Живаго” и “Архипелаг ГУЛАГ”, выходил тиражом около трех миллионов экземпляров.
Воздух 1980-х снова наполнился идеями и идеалами Твардовского. В 1987 году сразу два литературных журнала опубликовали его антисталинистскую поэму, созданную в конце 1960-х, – “По праву памяти”. В качестве сопровождения публикации Юрий Буртин – тончайший литературный критик и бывший сотрудник “Нового мира” – написал очерк, который назвал “Вам, из другого поколенья…”. Духовные корни перестройки он искал и находил в эпохе Твардовского.
Как писал Буртин, Твардовский и его единомышленники образовали “социалистическую оппозицию”, которая исходила “из идеи социализма, открытого демократическому саморазвитию” и не нуждающегося в насилии. “Это была позиция внутренне прочная… Запас ее прочности оказался… настолько велик, что и сегодня… в своих надеждах на перестройку мы ведь живем именно этой идеей, никакой другой”[94]. В 1980-е эта “оппозиция” пришла к власти не путем выборов, а благодаря смене поколения, осуществив свое главное желание – влиять на будущее, которое теперь зависело от ее шагов и решений. Неудивительно, что эта “оппозиция” обратилась к идеям и ценностям, сформировавшим когда-то в юности ее взгляды.
Они начали с того момента, когда, по их мнению, страна пошла по неверному пути, – с августа 1968-го. Перестройка начиналась под лозунгами Пражской весны о “социализме с человеческим лицом”. Ее целью было возрождение ленинских принципов, искаженных, как казалось ее идеологам, вначале сталинизмом, а затем восемнадцатью годами брежневского застоя. Возрождались идеи, в которые горбачевское поколение шестидесятников поверило еще в эпоху хрущевской оттепели и которые затем были задавлены советскими танками в Праге. Горбачев надеялся завершить реформы, прерванные в 1968-м в Чехословакии. Одним из печальных последствий подавления пражских реформ было возникновение мифа о совместимости социализма в его советском варианте с демократией, мифа о том, что, если бы не тогдашнее военное вмешательство, “социализм с человеческим лицом” восторжествовал бы на всем пространстве советской империи. По сути, это была утопия. До тех пор, пока Чехословакия находилась в сфере влияния СССР, серьезные реформы были невозможны, а если бы их все же дали провести, то скорее всего дело закончилось бы выходом Чехословакии из советской политической и экономической системы и присоединением к капиталистическим странам Западной Европы. Сорвав эксперимент, советское правительство превратило чешские реформы в призрачный, недостижимый идеал, к которому двадцать лет спустя устремились перестроечные реформаторы.
Горбачева Пражская весна затронула лично. Правая рука Дубчека Зденек Млынарж был одним из его ближайших друзей, с которым они вместе учились в Московском университете. В 1967 году Млынарж навестил Горбачева в его родном Ставрополье, где тот работал секретарем обкома; старые товарищи обсуждали реформы в Чехословакии. В 1968 году, когда советские танки вошли в Прагу, Млынаржа и Дубчека доставили к Брежневу в Москву против их воли.
Через год после советского вторжения Горбачева отправили в Прагу в составе комсомольской делегации – для восстановления отношений с чешской молодежью. С Млынаржем (которого к тому времени уволили) он не встречался – это было бы политическим самоубийством. В Праге он увидел антисоветские лозунги и враждебно настроенных рабочих, которые отказывались разговаривать с посланниками из СССР. Поездка оказалась крайне неудачной. “Я понял, что с нашей страной что-то неладно”, – признался Горбачев Млынаржу во время одного из их более поздних разговоров[95]. И вот теперь у него появилась возможность исправить давние ошибки. Казалось, что все так просто: достаточно сдвинуть тяжелую глыбу мертвенной советской бюрократии – и народ воспрянет, ощутив невероятный прилив сил. Реформаторы эпохи Горбачева верили, что подлинный социализм позволит людям полностью реализовать свой потенциал.
Перестроечные реформаторы были буквально одержимы представлением об истории, как о кинопленке, которую можно отмотать назад до нужного кадра. В 1986 году они отматывали ее к 1968-му году и дальше – к эпохе ленинского НЭПа. В поисках здоровых сил, нужных для экономических преобразований, они обратились к фермерам и мелким предпринимателям. Одной из первых знаковых публицистических работ перестроечных лет был документальный фильм под названием “Архангельский мужик”, снятый режиссером Мариной Голдовской по сценарию писателя и журналиста Анатолия Стреляного. Главным героем фильма стал Николай Сивков, первый советский фермер с севера Архангельской области, взявший семейный подряд и наладивший крепкое семейное хозяйство вопреки советской бюрократии, истории и климату.
За кадром Стреляный неспешно рассказывал о хуторской жизни образцового русского фермера, сохранившего мышечную память, умения и здравый смысл крестьянства, истребленного коллективизацией и социалистическим хозяйством. По-северному окающий Сивков был в чем-то сродни солженицыновскому Ивану Денисовичу, имел ту же смекалку и привычку к труду. Сивков, что называется, на пальцах объяснял Стреляному свое понимание государственной пользы: “Ты, я, Петька, Митька – а мы государство. Петька, Митька, я, он будем жить хорошо, богато – значит, и государство будет жить богато. Ты думаешь, я один такой? Ты думаешь, мало таких?”. Для создателей фильма Сивков, родившийся в один год с Горбачевым, был человеком-матрицей, зерном той жизни, которая должна была восстановиться, если снять с нее гнет. За длинными кадрами северного пейзажа, медленной и широкой реки Двины, сенокосов и лесов, высоко поставленных деревянных домов звучал будто заклинающий голос Стреляного: “Есть Сивковы, есть. Не может не быть”.
Чудесного возрождения, тем не менее, не произошло. Историю нельзя отмотать назад. Сивков был редким экземпляром, чудом уцелевшим в условиях насилия и “отрицательной селекции”. Таких Сивковых еще можно было найти в конце 1950-х, но к середине 1980-х их уже почти не осталось. Сам Сивков умер в 1993 году в возрасте 62 лет.
Пару лет спустя после начала реформ Горбачев недоумевал: с 1985 года было принято больше шестидесяти постановлений о сельском хозяйстве, но ситуация не менялась. Проблема, однако, заключалась не в количестве постановлений, а в отсутствии людей, способных отозваться на них: корни, придавленные могильным камнем социалистического хозяйства, уже успели засохнуть. Настойчиво пытаясь отмотать назад пленку истории, реформаторы как будто разыгрывали сказку о Спящей Красавице. Они верили, что страна, заснувшая в 1960-е, могла очнуться через двадцать лет свежей и полной сил.
Горбачев официально объявил о начале перестройки в феврале 1986 года, на XXVII съезде КПСС – спустя тридцать лет после того, как Хрущев зачитал свой секретный доклад. За годы, которые прошли после хрущевской оттепели, страна оказалась измотана, деморализована, она переживала экономический упадок и, что самое главное, испытывала нехватку человеческих ресурсов. Она все меньше походила на хутор Сивкова и все больше напоминала дом, описанный Владимиром Высоцким:
Кто ответит мне, что за дом такой? Почему во тьме, как барак чумной? Свет лампад погас, воздух вылился, Али жить у вас разучилися? Двери настежь у вас, а душа взаперти, Кто хозяином здесь? Напоил бы вином… А в ответ мне: видать, был ты долго в пути И людей позабыл, мы всегда так живем. Траву кушаем, век на щавеле, Скисли душами, опрыщавели. Да еще вином много тешились, Разоряли дом, дрались, вешались.В Кремле одним из немногих, кто трезво оценивал состояние страны и его опасность для всего мира, был Александр Яковлев. Его Горбачев назначил ответственным за идеологию и пропаганду. Яковлев лучше Горбачева понимал, что сложившуюся систему нельзя улучшить, а можно и нужно демонтировать.
С Яковлевым Горбачев познакомился за два года до своего вступления в должность генсека, в 1983 году, во время визита в Канаду, где Яковлев уже десять лет работал послом. Часами разговаривая о состоянии дел в стране, они сходились в том, что если так будет продолжаться, СССР долго не протянет. Все нужно менять. Вопрос заключался только в том, как именно это сделать.
За десять лет почетной канадской ссылки у Яковлева было достаточно времени, чтобы многое обдумать и переоценить. В отличие от шестидесятников, которые искали опору в идеях Ленина и Бухарина, Яковлев подверг сомнению то, на чем базировалась вся советская идеологическая конструкция, – марксизм и, в частности, один из его главных постулатов: “бытие определяет сознание”. Неужели, спрашивал себя Яковлев, то, как люди живут, продиктовано только материальными условиями жизни, а не их волей?
Сущность человека нельзя сводить к его профессии или образу жизни (так ли уж важно, что Иисус был плотником?): эту сущность определяет только его сознание. То же самое, заключал Яковлев, справедливо и по отношению к целым народам. “Сознание в большей мере определяет бытие. С моей точки зрения, в основе всего лежит информация, в том числе и в основе прогресса… Первична информация, материя и дух – вторичны… Без человеческого мозга – этого идеального информационного синтезатора – не могла взорваться атомная или водородная бомба…”[96]. Изменить советский образ жизни можно было только одним способом – открыть путь свободному потоку информации и поменять сознание людей. Средства массовой информации действительно сыграли гораздо более важную роль в трансформации страны, чем средства производства. Гласность, затронувшая советские СМИ, во многом воплощала эту идею превосходства сознания над бытием.
В декабре 1985 года, через несколько месяцев после своего назначения, Яковлев подготовил докладную записку. По своему содержанию она была гораздо более радикальной, чем все, что было написано в последующие несколько лет. “Догматическая интерпретация марксизма-ленинизма настолько антисанитарна, что в ней гибнут любые творческие или даже классические мысли. Люцифер он и есть Люцифер: его дьявольское копыто до сих пор вытаптывает побеги новых мыслей… В нашей практике марксизм представляет собой не что иное, как неорелигию, подчиненную интересам и капризам абсолютной власти… Политические выводы из марксизма неприемлемы для… цивилизации”[97].
Яковлев был убежден, что стране необходимы свободные рыночные отношения и частная собственность, чтобы вывести экономику из стагнации: “Социализм без рынка – это утопия, причем кровавая…”. Восстановление нормальной жизнедеятельности страны требовало открытого обмена информацией, который был возможен только при подлинной демократии.
Ложью отравлена общественная жизнь. “Руководством к действию” сделали презумпцию виновности человека. Двести тысяч подзаконных инструкций указывают человеку, что он потенциальный злоумышленник. Свою порядочность нужно доказывать характеристиками и справками, а конформистское мышление выступает как свидетельство благонадежности. Социализм тем самым отрезал себе путь в будущее – в вакуум дороги нет. И пошли назад в феодализм, а в… иных “местах, не столь отдаленных” опустились до рабства… Тысячу лет нами правили и продолжают править люди, а не законы… Речь, таким образом, идет не только о демонтаже сталинизма, но и о замене тысячелетней модели государственности[98].
Яковлев решил докладную записку Горбачеву до поры не показывать, опасаясь, что эти мысли покажутся ему слишком радикальными. Кроме того, положение Яковлева осложнялось еще и тем, что Горбачев, придерживаясь принципа “разделяй и властвуй”, назначил на должность, которую некогда занимал Суслов, сразу двух людей. Яковлев отвечал за пропаганду и занимался СМИ, в то время как Егор Лигачев, секретарь ЦК, заведовал идеологией. Формально их роли были равноценны, но Лигачев был старше и по возрасту, и по положению в партийной верхушке и занимал бывший кабинет Суслова. На византийском языке кремлевской топографии это означало, что именно он являлся наследником главного идеолога партии. Не желая отпугнуть Горбачева и раньше времени настроить против себя партийную номенклатуру, Яковлев решил действовать осторожно. “Парадоксально, но за гласность надо было воевать порой тайно, прибегать к разным уловкам, иногда к примитивному вранью”[99].
Результатом одной из таких “скрытых” операций Яковлева был выход на экраны “Покаяния”, одной из самых мощных художественных и философских картин о тоталитарном наследии страны. В политизированной атмосфере перестроечных лет многие восприняли фильм как политический памфлет, растащив его на цитаты и не уловив, кажется, главной мысли об универсальности зла. Фильм был снят за два года до начала перестройки, в 1984 году, грузинским режиссером Тенгизом Абуладзе под патронатом одного из ближайших союзников Горбачева Эдуарда Шеварднадзе, который в то время был первым секретарем ЦК Грузинской ССР.
Яковлев посмотрел “Покаяние” дома, на видеокассете. Фильм его поразил: “Беспощаден и убедителен. Кувалдой и с размаху бил по системе лжи, лицемерия и насилия… Надо было сделать все возможное, чтобы выпустить его на экран”[100]. Тогда он стал убеждать Политбюро, что фильм чересчур сложный и широкая публика его не поймет, а потому не будет вреда, если напечатать несколько пробных копий для показа в 5–6 крупных городах. На деле же Яковлев договорился с председателем Государственного комитета по кинематографии сделать гораздо больше копий для показа по всей стране. Премьера фильма была запланирована на апрель 1986 года, но ее пришлось отложить из-за внезапной катастрофы.
В ночь на 26 апреля 1986 года на четвертом энергоблоке ядерного реактора Чернобыльской атомной электростанции произошел мощный взрыв, который привел к разрушению реактора, пожару и выбросу в окружающую среду радиоактивных веществ, в 400 раз превышавшему выброс при взрыве атомной бомбы в Хиросиме. Реактор строился в 1970-е годы с серьезными нарушениями правил безопасности. ЧАЭС успешно прошла осмотр иностранных специалистов только потому, что накануне инспекции инженеры временно заменили советскую электронику шведскими и американскими приборами. Авария была системной и обнажила главные проблемы советской системы управления. Как говорил Филипп Бобков, первый заместитель председателя КГБ, на заседании Политбюро два месяца спустя, “беспечность, неграмотность, неготовность поражают. Опасность АЭС – еще и в том, что и там главное – «выполнить» план любой ценой, в ущерб безопасности, за ее счет… как на обычном заводе у нас”[101].
Как это часто бывало с подобными авариями, попытки скрыть масштабы и последствия катастрофы потрясали не меньше самого взрыва. Несмотря на призыв Политбюро “предоставить честную и взвешенную информацию”, чиновники все равно действовали, повинуясь приобретенному инстинкту избегать ответственности.
Советские СМИ традиционно служили не для сообщения, а для сокрытия фактов. В 1962 году, когда бунт рабочих в Новочеркасске был жестоко подавлен правительственными войсками, главная задача СМИ состояла в том, чтобы не проронить об этом ни слова. Залитые кровью улицы принялись мостить заново, а частоты, которые использовали радиолюбители, были намертво заглушены. Проницательные читатели делали выводы о фактах не из того, что писалось в газетах, а из того, о чем газеты умалчивали: пробелы оказывались важнее напечатанных слов. Если газеты писали о некоем событии, что его не было, народ понимал, что все обстояло ровно наоборот. В более поздние годы роль универсальной затычки, которая не давала фактам просачиваться наружу, стало играть телевидение.
Официально о Чернобыльской аварии сообщили только два дня спустя, причем это сообщение заняло всего двадцать секунд в вечернем выпуске новостей на государственном телеканале. “На Чернобыльской атомной электростанции произошла авария. Поврежден один из атомных реакторов. Принимаются меры по ликвидации последствий аварии. Пострадавшим оказывается помощь. Создана правительственная комиссия”. В Москве люди восприняли это как сигнал настраивать приемники на иностранные радиостанции – те передавали, что произошел чудовищный взрыв и что радиоактивное облако движется в западном направлении. Тем временем в близлежащем городе Припять дети играли на улицах в футбол, а в эпицентре аварии под открытым небом справляли шестнадцать свадеб. Эвакуация началась лишь спустя тридцать шесть часов после катастрофы. 1 мая, пока партийная верхушка спешно эвакуировала собственные семьи, сотни тысяч простых граждан вышли на праздничный первомайский парад в Киеве, где уровень радиации уже превышал норму в 80 раз. Многие пришли на парад с детьми, одетыми совершенно по-летнему – в рубашки с коротким рукавом.
Лгать было бессмысленно: о происходящем уже знали во всем мире. Тогда “Московские новости” – пропагандистская газета, выходившая на двенадцати языках, – опубликовала статью под заголовком “ОТРАВЛЕННОЕ ОБЛАКО АНТИСОВЕТИЗМА”. Она перечисляла аварии на атомных станциях в других странах и винила Запад в разжигании “антисоветской истерии”. “Да, речь идет о преднамеренно раздутой и хорошо оркестрованной шумихе с целью до предела загрязнить политическую атмосферу в отношениях Восток – Запад миазмами антисоветской истерии и этим отравленным облаком прикрыть цепь преступных акций милитаризма США и НАТО против мира и безопасности народов”[102].
В политическом смысле попытка скрыть случившееся нанесла гораздо более сокрушительный удар по репутации Горбачева, чем сама катастрофа. И советская интеллигенция, и Запад симпатизировали Горбачеву, но его обещание сделать страну открытой и поставить на первое место человеческие ценности не выдержало первого же серьезного испытания на прочность. Из расшифровки стенограммы специального заседания Политбюро следует, что полного доступа к информации не имел даже Горбачев, и это приводило его в ярость: “Мы не получали информации о том, что происходит. С такими порядками в стране мы будем кончать. От ЦК все было засекречено. […] Во всей системе царил дух угодничества, подхалимажа, групповщины, гонения на инакомыслящих, показуха, личные связи и разные кланы вокруг разных руководителей. Этому всему мы кладем конец”[103].
Чернобыльская авария во многом стала катализатором гласности – открытости СМИ. “Секреты тут – во вред самим. Открытость – это и огромный выигрыш для нас. Проиграем, если не скажем все с должной полнотой. Дать миру максимум информации”[104]. Горбачев даже представить себе не мог, к чему спустя пять лет приведет страну гласность. Он лишь хотел дать Советскому Союзу новую жизнь. Чернобыль же как будто стал дурным предзнаменованием: эта новая жизнь и в самом деле оказалась очень короткой.
Раскрепощение СМИ происходило вовсе не так стремительно, как это отложилось у многих в памяти. Гласность не означала полной отмены цензуры и резкого всплеска свободы слова. Кроме того, она не была абсолютной: по сути, она стала “ограниченной лицензией” для избранных СМИ, рассчитанных на определенную аудиторию, наиболее восприимчивую к перестройке, – на студентов, молодых специалистов и городскую интеллигенцию. Цель гласности в понимании Горбачева состояла в том, чтобы оживить социализм; следствием ее, в представлении Яковлева, должно было стать преображение страны.
Главным орудием перестройки была печать. Чтобы мобилизовать интеллигенцию и расположить к перестройке Запад, были выбраны два печатных органа. Первым стал “Огонек” – одиозный цветной еженедельный журнал, главным редактором которого все еще оставался старый драматург-сталинист Анатолий Софронов, зачинщик борьбы с критиками“ космополитами”, травивший в свое время Твардовского и нападавший на Яковлева. У “Огонька”, выходившего тиражом 1,5 миллиона экземпляров, было одно очевидное преимущество: журнал давно зарекомендовал себя как крайне реакционное и антизападное издание, поэтому его поворот в сторону прозападных либералов наверняка не остался бы незамеченным. На пост главного редактора Яковлев предложил Виталия Коротича – второстепенного поэта из Киева, который не побоялся вслух говорить о намеренных попытках директора Чернобыльской АЭС скрыть информацию об аварии.
Одновременно с назначением Коротича главредом “Огонька” Егору Яковлеву предложили возглавить те самые “Московские новости”, или Moscow News, целью которых было распространение советской пропаганды за рубежом. Газета выходила с 1930 года и изначально предназначалась для американских рабочих, приехавших в СССР воплощать великий план строительства новой страны. Ее основателем и первым главным редактором была американская социалистка Анна Луиз Стронг, первым редактором международного отдела – британская коммунистка Роза Коуэн, расстрелянная в 1937 году. К середине 1980-х газета выходила на всех основных иностранных языках и распространялась преимущественно за пределами СССР. Она была частью Агентства печати “Новости” (АПН), пропагандистского органа, тесно связанного с КГБ, поэтому ее штат состоял в основном из неудавшихся разведчиков, завербованных экспатов (в основном из арабских стран) и их кураторов из КГБ. Русскоязычную версию издания, которую теперь поручили выпускать Егору, запустили лишь в 1980 году к Московской летней олимпиаде – как рекламу советских достижений.
Теперь задача газеты была сформулирована иначе: широко освещать перестройку для западных читателей и всячески продвигать ее повестку. Все это Егор прекрасно осознавал, когда соглашался на новую должность. Тираж издания заметно вырос, и уже через год после своего назначения на заседании местного парткома газеты Егор заявил: “Сообща нам удалось создать газету, которую читают и цитируют, которой доверяют. [Теперь] у нас появилось издание, которое можно использовать для очень важных событий/проектов, имеющих отношение к международному общественному мнению”[105]. Егор не возражал против того, чтобы его использовали: ведь это и ему давало шанс использовать перестройку и Горбачева в собственных целях. Именно этого шанса поколение Егора дожидалось целых восемнадцать лет.
“Московские новости” не отвечали западным представлениям о том, что такое газета. Новости продолжали жестко цензурироваться. Газеты в то время сами вообще не собирали материал – его распространяло советское телеграфное агентство ТАСС. Для мировой прессы одним из самых громких событий первых перестроечных лет стало возвращение из ссылки Андрея Сахарова. В “Московских новостях” эта новость была изложена в сорока словах и помещалась на третьей странице внизу – там, где обычно печатали поправки к предыдущим номерам.
Новостных репортажей в ранней перестроечной прессе почти не было. Главное место занимали публицистические очерки и мнения. Эти публикации становилась вехами, на которые люди ориентировались, оценивая происходившие в стране перемены. Самый популярный раздел назывался “Мнение трех авторов”: в нем собственными взглядами на какую-нибудь злободневную тему делились три видных общественных деятеля – писатели, ученые, режиссеры.
Через пару лет после того, как Егор пришел в “Московские новости”, газета стала самой востребованной в СССР. Тираж ее при этом по-прежнему строго регламентировался цензурой, а не спросом. Газета выходила раз в неделю, и каждую среду, начиная с пяти часов утра, у киосков Союзпечати выстраивались длинные очереди. К девяти утра все экземпляры уже расходились. Те, кому удалось приобрести свежий выпуск, прочитав, передавали его друзьям. Те же, кому не повезло, читали газету на застекленных стендах у Пушкинской площади в центре Москвы. Со временем это место стало центром политических дебатов, наподобие лондонского Гайд-парка. “Московские новости” нужны были людям не для того, чтобы в прямом смысле слова узнавать новости, а для того, чтобы понимать, куда движется страна.
Листая сейчас толстые подшивки старых выпусков “Московских новостей”, сложно понять, из-за чего было столько шума тридцать лет назад. Почему кому-то было не лень подниматься ни свет ни заря, чтобы холодным декабрьским утром стоять в очереди за газетой, которая не сообщала почти никаких новостей, зато писала, например, об Анне Ахматовой? Но в ту пору каждый выпуск “Московских новостей” становился политическим событием. Ничего нового в том, о чем писала газета, не было – об этом давно уже говорили и спорили на московских кухнях. Главной новостью было само существование газеты, печатавшей статьи на животрепещущие темы, да еще под собственными именами авторов, и миллионные тиражи журналов, в которых можно было прочитать то, что до недавнего времени ограничивалось самиздатом.
По Москве тогда ходил такой анекдот:
Один приятель звонит другому:
– Читал последний номер “Московских новостей”?
– Нет, а что там?
– Ну, это не телефонный разговор.
В это же время перестали глушить иностранные радиостанции. Александр Яковлев был убежден, что аудиторию нужно завоевывать не запретами, а новыми современными проектами, способными конкурировать с Би-би-си и “Голосом Америки”. Одним из первых таких проектов стала телепрограмма “Взгляд”, которая выходила в эфир в пятницу вечером и по времени совпадала с популярной передачей Севы Новгородцева “Программа поп-музыки из Лондона”, звучавшей в коротковолновом диапазоне Русской службы Би-би-си.
Чтобы привлечь молодежную аудиторию, ведущие “Взгляда” должны были одеваться и говорить так же, как зрители, которых они надеялись завоевать. От них требовались легкий цинизм, осведомленность и способность разбираться в западной поп-культуре. Вместе с тем они должны были вызывать доверие. В советской телерадиовещательной империи существовал только один возможный источник подобных кадров: радиослужба иновещания, которая на десятках языков транслировала всему миру советскую пропаганду. Именно сюда стекались выпускники престижных вузов, говорившие на иностранных языках, но мало верившие в то, что они, собственно, вещали. Как и “Московские новости”, служба иновещания была тесно связана с КГБ. Брали сюда, по большей части, детей из семей привилегированной советской элиты.
Одним из главных ведущих “Взгляда” был Александр Любимов, сын легендарного агента КГБ в Великобритании, выдворенного оттуда в 1960-е годы. Любимов-младший родился в Лондоне, принадлежал к советской “золотой молодежи” и учился в Московском институте международных отношений – престижном питомнике будущих дипломатов и сотрудников разведки.
В отличие от советских диссидентов, которые слушали “вражеские голоса” тайком у себя дома, рискуя, что на них кто-нибудь донесет, люди вроде Любимова делали то же самое открыто, “по долгу службы”. Они желали западной жизни и понимали ее лучше, чем люди, работавшие на советском телевидении. У них был доступ к западным СМИ, они знали иностранные языки и читали иностранные газеты. Профессионально занимаясь советской контрпропагандой, они обязаны были знать, кому и в чем противостоят в идейном споре. Им полагалось дезинформировать других, но сами они отлично понимали, что происходит.
“У нас дома были произведения Солженицына. Я прекрасно знал, кто такой Сахаров. Как там говорят? Жандарм – самый свободный человек в России”, – говорил сам Любимов[106]. Когда перестройка развернулась по-настоящему, он и его ровесники оказались лучше всех подготовлены к тому, чтобы переделывать советское телевидение на западный манер. В итоге это принесло им огромную пользу. “Взгляд” стал инкубатором для телевизионных деятелей, которые получат особое влияние в следующие 20 лет. Они научились использовать систему с максимальной эффективностью.
Первые выпуски “Взгляда” хотя стилистически и отличались от набивших оскомину программ советского телевидения, в том, что касалось содержания, границ дозволенного особенно не нарушали: молодой человек, выросший в детдоме, декламировал собственные стихи, ведущий объяснял телезрителям, как отличить настоящие джинсы Levi’s от поддельных или как открыть свой кооператив. Сюжеты отделялись друг от друга музыкальными номерами. И все же каждая передача испытывала на прочность и все шире раздвигала рамки допустимого, заводя разговор о том, чего до сих пор якобы вовсе не существовало в СССР: о гомосексуализме, наркотиках и СПИДе, коррупции.
“Взгляд” заговорил о том, что нужно убрать Ленина из мавзолея, и показал интервью с капитаном подводной лодки, затонувшей в Северном Ледовитом океане, заявив во всеуслышание, что советские подлодки – это смертельные ловушки. Именно в этой программе появилось первое публичное интервью с Сахаровым после того, как ему позволили вернуться из ссылки в конце 1987 года. Тускло освещенная студия программы выглядела совсем как московская кухня, где друзья разговаривают о моде, музыке и политике, слушают свежие записи любимых рок-групп и смотрят видеоклипы.
Рост потребления в начале 80-х годов привел к тому, что во многих советских квартирах – особенно если эти квартиры были кооперативными – имелось по два телевизора, один из которых жил на кухне. Кухня, таким образом, была одновременно и местом просмотра, и декорацией телепередачи. При этом сам формат программы “Взгляд” напоминал скорее толстый журнал, а не развлекательное шоу.
Настоящее прошедшее
Гласность в советских СМИ началась со споров не о настоящем страны, а о ее прошлом. Три четверти всех публикаций в перестроечные годы были посвящены истории. По точному наблюдению социологов Бориса Дубина и Льва Гудкова, советское общество напоминало человека, который, зациклившись на собственном прошлом, шагает “назад в будущее”. Прошлое играло главную роль в преобразованиях конца 1980-х годов. Причем история занимала не только узкий интеллектуальный круг, но и массовое сознание. В 1988 году, когда советская экономика уже находилась в состоянии тяжелейшего кризиса, а на периферии империи начались кровопролитные конфликты, в Москве проводились уличные митинги за неограниченную подписку на многотомное издание “Курса русской истории” Василия Ключевского и на еще более академический историографический труд Сергея Соловьева.
Как отмечал историк Андрей Зорин, за всем этим стояло убеждение, что государство постоянно скрывает правду о прошлом: надо просто вернуть людям истинное знание истории, и страна вырвется из порочного круга собственных ошибок. Впрочем, история как наука мало занимала участников бурных дебатов 1980-х годов. Главным, что реформаторы-коммунисты усвоили из прошлого, было то, что над всеми сферами жизни, включая экономику и саму историю, господствует идеология.
История была предметом не научных, а идеологических баталий 1980-х. Как писал Лацис,
факты из жизни наших дедов, эпизоды пятидесяти-семидесятилетней давности обсуждались с такой горячностью, как будто сегодня, а не полвека назад, должен был решиться вопрос, расстрелять Бухарина или признать невиновным […] Если бы не тупость советской бюрократии [в предыдущие двадцать лет], споры о сталинизме отшумели бы в 1950-е годы и не стали бы фактом текущей политики тридцать лет спустя[107].
Либералы и их противники-консерваторы сражались за прошлое, как за политический и экономический ресурс. В сущности, так оно и было. Как писал Оруэлл в “1984”, “тот, кто контролирует прошлое, тот контролирует будущее. Кто контролирует настоящее, тот контролирует прошлое”.
Боролись за само слово “память”. Одной из первых откровенно антисемитских монархических организаций, возникших под патронатом КГБ, было общество “Память”. Это название оно украло у историков-диссидентов, выпускавших одноименный самиздатовский журнал. Позднее возникло движение за права человека со схожим названием – “Мемориал”, созданное бывшими диссидентами при поддержке Андрея Сахарова и поначалу занимавшееся в основном реабилитацией жертв сталинских репрессий.
С новой силой началась десталинизация, оборвавшаяся в 1964 году вместе с правлением Хрущева. Со страниц “Московских новостей” не сходили статьи о Сталине. Однако настоящего покаяния – такого, которое помогло бы примириться с прошлым, – все же не произошло. Для этого было недостаточно переосмыслить сталинскую эпоху: нужно было заново переосмыслить всю систему, которая привела Сталина к власти. Кроме того, потребовалось бы “выкопать из могил” тела миллионов людей, поддерживавших его режим. К этому поколение 1960-х готово не было. Храня верность памяти отцов, эти люди тиражировали миф о том, что сталинизм был искажением, а не следствием советской системы, опиравшейся, по словам Александра Яковлева, на “тысячелетнюю модель государственности”. Публикации, посвященные преступлениям сталинизма, соседствовали с панегириками в адрес Ленина. Главным лозунгом перестройки было “Больше социализма!”.
В январе 1987-го, когда СССР праздновал 70-летие Октябрьской революции, в “Московских новостях” появилась новая рубрика – “Былое”. Первая статья была написана в форме диалогов с Лениным: газета задавала вождю вопросы, а ответы брала из его трудов. На тех же страницах Михаил Шатров (драматург, специализировавшийся на пьесах о Ленине) и Стивен Коэн (биограф Бухарина и историк левых взглядов из Принстонского университета) вели дискуссию о значимости ленинских идей под заголовком “Вернуться, чтобы идти вперед”. “Конечно, надо снова и снова возвращаться к Ленину, ко всему объему его идей, связанных с развитием страны, особенно к идеям последних лет его жизни. Их нужно точно понять, освоить, чтобы двигаться вперед”, – говорил Шатров[108]. Представление о том, что идеи Бухарина и Ленина по-прежнему актуальны в конце 1980-х, разделял и Коэн.
Сталинисты историю сдавать не собирались и в марте 1988 года нанесли ответный удар – в виде статьи под названием “Не могу поступаться принципами”. Статья, занявшая целую полосу, вышла в реакционной газете “Советская Россия” за подписью некоей Нины Андреевой, преподавательницы химии из Ленинградского технологического института. По сути и по форме это был манифест консервативного крыла партии. Автор возмущалась пьесами Шатрова: “Тема репрессий гипертрофирована и заслоняет объективное осмысление прошлого… Они внушают нам, что в прошлом страны реальны лишь одни ошибки и преступления”[109].
Письмо отчетливо отдавало антисемитизмом. По словам Андреевой, национальные интересы Советского Союза были преданы евреями-троцкистами, в то время как героическую победу над фашизмом одержали именно славянские народы.
Как писал Дэвид Ремник, лично встречавшийся с Ниной Андреевой, она “славилась” своими письмами. Выяснилось, что раньше она писала анонимные доносы на коллег, за что даже была исключена из институтской партийной ячейки (хотя потом, по настоянию КГБ, ее восстановили). Письмо Андреевой было напечатано по личному указанию Егора Лигачева – главного оппонента Яковлева из консервативного крыла компартии.
После публикации в “Советской России” Лигачев собрал у себя в кабинете руководителей крупнейших газет и сказал, что все должны прочесть эту “замечательную” статью, а также поручил региональным изданиям перепечатать ее как материал особой важности, отражающий партийную линию. Многие послушно выполнили указание.
Когда письмо появилось в печати, и Горбачев, и Яковлев находились за границей. Оба восприняли его как “призыв к оружию, попытку переворота”. “Целью было повернуть вспять все то, что было задумано еще в 1985 году… Та самая, сталинистская, обвинительная [форма], в стиле передовиц старых советских газет… это был внятный окрик: «Стоп! Перестройке конец!»”, – вспоминал позднее Яковлев[110]. Он прервал визит в Монголию и срочно вылетел в Москву.
Как и было задумано, письмо Андреевой восприняли как команду к смене линии партии. В советской печати подобные письма “трудящихся” имели печальную историю. В 1952 году было опубликовано письмо Лидии Тимашук, послужившее сигналом к началу “Дела врачей” – чудовищной антисемитской кампании против врачей-евреев, которых обвиняли в намеренном вредительстве и покушении на жизнь крупных советских деятелей.
На той же неделе, когда вышло письмо Андреевой, либеральную телепрограмму “Взгляд” сняли с эфира. Сам факт, что антиперестроечный манифест был напечатан в газете, а не зачитан по телевидению или по радио, придавал этому тексту вес и основательность, а также, что важнее всего, помещал его в исторический контекст. Статья вызвала оцепенение среди интеллигенции. Либеральная пресса замолчала на три недели. Никто не решался на ответное выступление. “Это были чудовищные дни, – вспоминал Егор Яковлев. – На чаше весов было все, на что мы надеялись и о чем мечтали”[111]. “Московские новости” первыми прервали молчание. Горбачев, воспринявший статью Андреевой как лобовую атаку и попытку переворота. созвал внеочередное заседание Политбюро, которое продолжалось два дня. Александру Яковлеву поручили написать передовицу для “Правды”, которая разъяснила бы истинную линию партии. Либеральные издания выдохнули с облегчением. “Взгляд” вернулся в эфир. История с Андреевой стала последним испытанием для той “сигнальной” системы, которая исправно работала в течение всего советского периода.
Смысл печатного слова заключался в его прочности, неотменимости. Теперь, когда в течение двух недель в партийных газетах одновременно появились сигналы, противоречащие друг другу, стало ясно, что система дает сбой и единой партийной линии вообще не существует. В те дни Виталий Коротич, главный редактор “Огонька”, сказал Егору: “Мы привыкли, что нужно все время выяснять: что происходит? И при этом упустили из виду, что мы сами и создаем положения”[112].
Схватка из-за письма Андреевой была частью гораздо более широкого столкновения между двумя лагерями идейных противников. За Андреевой и ее сторонниками стояла многовековая традиция – трепет перед абсолютной и сакральной властью государства, воплощением которой стало правление Сталина. Противоположный лагерь ставил на первое место личные человеческие ценности – такие как достоинство и неприкосновенность частной жизни. Но и те, кто превозносил Сталина, и те, кто идеализировал Бухарина, искажали историю, используя ее как средство политической борьбы. Реабилитация Бухарина, безусловно, являлась восстановлением исторической справедливости. Следуя той же логике, нужно было бы реабилитировать Берию, ложно обвиненного в шпионаже в пользу Британии. Однако между реабилитацией – то есть снятием ложных обвинений – и мифологизацией есть огромная разница.
История не прощает мифологизации и не подчиняется политической целесообразности. В результате пострадали оба лагеря. Продвигая перестройку, рассматриваемую как возвращение к НЭПу и воплощение бухаринской идеи социализма, ее идеологи искажали картину не только прошлого, но и настоящего. Они описывали перестройку как начало новой эры социализма, а не конец советского периода истории, какой она в сущности была. Но конец пути, обозначенный как его начало, означал тупик.
Попытка спрыгнуть с поезда
Одним из немногих, кого мало заботила история и идеология и кто видел в перестройке именно то, чем она являлась – конец советской командной системы, а вовсе не ее второе рождение, – был секретарь Московского городского комитета партии и будущий президент России Борис Ельцин. Как и все остальные, Ельцин произносил ритуальные речи о революции и Ленине, но при этом он раньше других понял, что партия движется к самоуничтожению. Летом 1987 года в письме Горбачеву, находившемуся тогда в отпуске, Ельцин сетовал на то, что перестройка вырождается в пустословие, и просил освободить его от обязанностей секретаря парторганизации и кандидата в члены Политбюро. Случаи, когда людей выгоняли из Политбюро, бывали, но за всю историю существования партии еще ни разу не было такого, чтобы кто-нибудь добровольно попросил об исключении. Вернувшись из отпуска, Горбачев позвонил Ельцину и сказал, что им нужно поговорить, но точного времени не назначил. Прошло несколько недель, а встречи все не было. Горбачев был слишком занят, чтобы обсуждать демарш Ельцина. Он работал над речью в честь 70-летней годовщины Октябрьской революции, в которой собирался упомянуть Бухарина.
Для нескольких поколений советских лидеров одно имя Бухарина было символом раскола и оппозиции внутри партии. Однако пока все занимались толкованием истории, в стране вызревала политическая оппозиция Горбачеву, на которую мало кто обращал внимание.
15 октября члены Политбюро обсуждали предварительный вариант речи Горбачева. Андрей Громыко, председатель Верховного Совета, старейший государственный деятель из числа собравшихся партийцев, с восторгом заметил: “Какой рождается акт! Такие акты – это не юбилейщина. Они делают историю. О чем говорит доклад? С начала до конца проведена мысль: существует капитализм и существует социализм, который родился семьдесят лет назад… И через тысячу лет социализм будет нести благо народу и всему миру”[113]. До конца существования Советского Союза оставалось четыре года. Тридцать лет спустя эта дискуссия между членами Политбюро кажется безумием: все равно что машинисты спорили бы о том, как придать ускорение поезду, у которого отказали тормоза и который уже несся под откос. Ельцин решил спрыгнуть с этого поезда до того, как произойдет крушение.
Спустя шесть дней после обсуждения горбачевского доклада на пленуме ЦК Ельцин публично и жестко раскритиковал консерваторов в Кремле и предупредил всех о том, что перестройка теряет народную поддержку, – что было неудивительно, учитывая стремительно пустеющие прилавки магазинов. Он предложил исключить себя из кандидатов в члены Политбюро. Системные либералы восприняли это выступление Ельцина как необдуманное форсирование событий, которое могло лишь навредить Горбачеву в его борьбе с консерваторами. На деле же для Горбачева речь Ельцина имела двойную пользу: с одной стороны, она была направлена против его оппонентов внутри партии и таким образом играла ему на руку, с другой стороны, она позволяла ему осадить самого Ельцина. Как только Ельцин закончил выступление, Горбачев ответил ему жесткой и унизительной тирадой и предоставил слово членам Политбюро.
Когда очередь дошла до Александра Яковлева, тот сказал, что выходка Ельцина “аморальна”, что он “ставит свои личные амбиции, личные интересы выше интересов партии”. Строго говоря, Яковлев, разделявший недовольство Ельцина тем, что перестройка буксует, был прав: Ельцин действительно вел собственную игру. Причем его игра была гораздо проще и стратегически более продуманной, чем у Горбачева. Благодаря своему природному политическому чутью Ельцин понимал, что оставаться во власти и тем самым брать на себя ответственность за экономический спад в стране, не имея при этом возможности провести реформы, – большой риск для политика. То, что со стороны выглядело политическим самоубийством, на самом деле было попыткой самосохранения. Впрочем, от этого поступок не становился менее рискованным: спрыгивать на ходу с поезда в любом случае – дело опасное.
Через несколько дней Ельцин подвергся новой атаке – на этот раз со стороны Московской партийной организации, которую сам же и возглавлял. Речи выступавших стилистически напоминали показательные процессы 1930-х годов, но – только стилистически. Псы скалились и лаяли, но их зубы были разрушены сладостями, к которым они успели привыкнуть со времени смерти Сталина. В 1930-е партийным ренегатам грозил расстрел. В конце 1950-х – отставка и остракизм. В более “вегетарианские” 1970-е их отправляли послами в дальние страны. В конце 1980-х выход из партии продвигал наверх, к власти. Горбачев назначил бунтаря министром строительства и поклялся “никогда больше не пускать Ельцина в политику”. Он не сознавал, что было уже поздно: он собственными руками сотворил нового политического героя. Запрет на распространение речи Ельцина в СМИ только подстегивал интерес к ее содержанию. Протокол Октябрьского пленума был засекречен, и редакторам газет запретили упоминать имя Ельцина в печати. Это лишь повышало его популярность и создавало вокруг него ореол мученика, пострадавшего за правду. Выступление Ельцина резонировало с настроениями обычных граждан, которых уже два года кормили рассказами о реформах. Людям надоело ждать, они хотели видеть реальные результаты, но видели пока только пустые полки в магазинах и заоблачные цены на черном рынке. Отказываясь от кресла в Политбюро и громогласно критикуя привилегии, которыми пользуются аппаратчики, Ельцин приобретал статус народного политика.
Так как речь Ельцина нигде не печаталась, люди начали сами создавать апокрифы. В Москве ходило по рукам не меньше восьми самиздатовских вариантов этого выступления. Наиболее популярный апокриф звучал так: “Мне трудно объяснить рабочему завода, почему на семидесятом году его политической власти он должен часами стоять в очереди за сосисками, в которых больше крахмала, чем мяса, а на наших, товарищи, праздничных столах есть и икорка, и балык, и другие деликатесы, полученные без хлопот там, куда его и близко не пустят. Как я должен объяснить это ветеранам?”. Пожалуй, сам Ельцин не сказал бы лучше.
Ельцина больше всего интересовало настоящее, но настоящее давало мало поводов для оптимизма и иллюзий. “Где перестройка? – спрашивал рабочий с Урала на партийной конференции, созванной Горбачевым. – Магазины так же плохо снабжаются продуктами, как и раньше. Мяса не было раньше – мяса нет и сейчас. Товары народного потребления исчезли”[114]. В первом номере “Московских новостей” за 1988 год “гласу народа” отвели целую страницу. Комментарии простых людей корреспонденты записали во время десятидневного путешествия на поезде из Москвы во Владивосток. Как водится в российских поездах дальнего следования, разговор начинался за традиционным поглощением жареной курицы и яиц вкрутую, которые пассажиры раскладывали на столике, как только поезд отходил от перрона, а продолжался за бутылкой теплой водки в вагоне-ресторане. Чем дальше от Москвы, тем откровеннее становилась беседа и тем скуднее пища на столиках в вагонах. Раньше во время стоянок местные жители торговали на перронах горячей картошкой с укропом, жареной рыбой, солеными огурцами, пирожками и ягодами. Теперь же они ждали поезд не для того, чтобы продать что-нибудь пассажирам, а наоборот, чтобы купить у них еду – мясо, масло, все что угодно.
В местных магазинах было пусто, в вагоне-ресторане тоже ничего не оставалось: по пути повара распродавали все съестное предприимчивым перекупщикам. За дорожными разговорами корреспонденты “Московских новостей” раздавали пассажирам анкету. На вопрос “Верите ли вы в перестройку?” 64 % опрошенных ответили отрицательно. В целом лишь 16 % однозначно поддерживали перестройку, а 13 % отвергали ее. Конечно, такой опрос нельзя было назвать настоящим социологическим исследованием, зато он наглядно подтверждал правоту Ельцина. С этого-то поезда он и пытался спрыгнуть.
В городах от Омска до Москвы поднималась первая волна уличных протестов. Люди выходили на улицы под лозунгами, которые вполне уместно смотрелись бы в редакции “Московских новостей”: “Без социализма нет демократии; без демократии нет социализма”. Сердце Егора переполняли гордость и надежды. “Я убежден, что советские рабочие ставят демократию выше материальных благ… Конечно, остается чудовищная нехватка товаров, но вы даже не представляете себе, как гласность изменила мышление рабочих”, – говорил Егор Стивену Коэну год спустя[115].
И все же, провозглашая лозунги о демократии и гласности, люди чаще всего думали о колбасе и ширпотребе. По сути, демократия и колбаса в сознании людей связывались воедино. Мол, стоит только избавиться от коммунистической номенклатуры и получить свободу слова, как сразу же появятся еда и одежда и СССР чудесным образом преобразится в нормальную страну, где все будет, как на Западе. В отличие от Китая, который сохранил прежнюю идеологию, но провел реформы в экономике, СССР сменил идеологию, но побоялся реформировать экономику. Связь между свободой и колбасой вовсе не была такой наивной и порочной, как ее стали представлять спустя десятилетия, когда прогрессивная общественность принялась жаловаться, что население променяло свободу на колбасу. Дефицит продовольствия воспринимался не только как физическая нехватка еды, но и как моральное унижение. Слово “унижение”, набранное крупным шрифтом, было заголовком статьи об очередях писателя Александра Кабакова, напечатанной в “Московских новостях”. “Очередь за всем – от колбасы до бритвенных лезвий – давно стала обязательной частью жизни советских людей. Для граждан страны, строящей атомные электростанции и космические «челноки», унизительно выстраиваться за куском мыла”, – писал Кабаков[116]. Дело было не только в том, что люди не могли удовлетворить элементарные потребности, а и в том, что в очередях они тратили свою жизнь.
Необходимость перехода к рынку и свободным ценам была очевидна практически всем в советском правительстве, но сам Горбачев колебался. “Отпустить”, то есть, по сути, поднять цены, означало бы разорвать общественный договор, который подразумевал, что еда в магазинах продается по доступным ценам, даже если за ней приходится стоять в многочасовых очередях. Память о новочеркасском бунте 1962 года, вызванном резким повышением цен на мясо и снижением реальной зарплаты, оказывалась сильнее любых аргументов по поводу текущего положения. Горбачев был уверен: переход к рынку неминуемо выведет людей на улицу и сметет правительство. Спустя всего несколько месяцев, когда состояние экономики только ухудшилось, люди все равно вышли на улицы. Вместо того чтобы отпустить цены, Горбачев фактически отпустил политику и ослабил контроль над государственной собственностью.
Идеологи перестройки, сплотившиеся вокруг “Московских новостей”, как и сам Горбачев, до конца не осознавали причин краха советской системы и продолжали считать ленинизм нравственно чистым учением, которое вполне могло бы стать идейной опорой для правящего класса. Ввязавшись во внутрипартийную борьбу, они проглядели главное: система уже разваливается, а правящий класс бежит с тонущего корабля. К концу 1980-х от сталинизма остался разве что призрак, ни у кого больше не было вкуса к репрессиям. Люди вроде Нины Андреевой отходили в тень, становясь маргиналами.
В мае 1988 года правительство утвердило закон, разрешавший создавать частные кооперативы. И само это слово, и стоявшая за ним идея снова были взяты из НЭПа. Власти надеялись, что дух частного предпринимательства и мелкой торговли оживит советскую экономику так же быстро, как это произошло в середине 1920-х. Сложность состояла в том, что в начале 1920-х годов со времени большевистской революции прошло всего несколько лет; в конце 1980-х расстояние измерялось поколениями.
По всем признакам, кроме названия, кооперативы конца 1980-х годов были частными фирмами, которым позволялось устанавливать собственные цены на производимые ими товары. Проблема, однако, заключалась в том, что большинство из них вообще ничего не производили. Они просто покупали товар у государственных предприятий по субсидированным ценам, а потом продавали его же по рыночным, оставляя прибыль себе или деля ее с государственными управленцами. Подавляющее большинство кооперативов возникало при государственных предприятиях и служило механизмом вывода их выручки в частные руки – чаще всего во владение самого руководства этого предприятия.
“Задача кооператора состояла в том, чтобы узаконить черный рынок, который сама советская бюрократия не желала узаконивать, и уничтожить предрассудки, которые сама система коммунистической власти не желала уничтожать”[117]. Так объяснял американскому журналисту суть происходящего летописец кооперативного движения и успешный кооператор – Владимир Яковлев, сын Егора.
Более того, ряд государственных советских нефтеперерабатывающих заводов получил особые лицензии, дающие право экспортировать нефтепродукты в обход государственной монополии и оставлять себе прибыль. Именно так начинали предприниматели вроде Геннадия Тимченко, который работал в министерстве внешней торговли. Он и его партнеры убедили принадлежавший государству нефтеперерабатывающий завод в Киришах Ленинградской области создать внутренний торговый отдел для экспорта части продуктов, которым они бы и заведовали. Через несколько лет этот “отдел торговых операций” превратился в частное предприятие, а Тимченко и его партнеры – в экспортеров нефти, которую они закупали по заниженным ценам. Еще пятнадцать лет спустя, при Владимире Путине, Тимченко стал владельцем компании “Гунвор” (крупнейшего экспортера российской нефти), прежде принадлежавшей государству. В глазах критиков власти он сделался синонимом кумовского капитализма и корпоративного государства. В 2014 году правительство США объявило Тимченко одним из представителей “ближнего круга” Путина и внесло его имя в санкционный список. Как писал The Wall Street Journal, американские прокуроры вели против него расследование по подозрению в отмывании денег (сам Тимченко это обвинение отвергал). Однако его карьера началась в то же самое время и в том же самом городе, где Нина Андреева написала свое открытое письмо.
Многие из первых российских бизнесменов, включая Михаила Ходорковского – будущего нефтяного магната, политзаключенного и общественного деятеля, были комсомольскими активистами. Молодые, циничные и хваткие, они мало интересовались наследием отцов и проклятыми вопросами, не дававшими покоя интеллектуальной элите. Им было совершенно наплевать на Бухарина и на НЭП, но они с жадностью использовали все возможности, созданные перестройкой. Их имена не появлялись на страницах “Московских новостей”, хотя некоторые из них и размещали в газете свою рекламу. Зато через несколько лет о них будут писать журнал Forbes и газета Financial Times – не только как о самых богатых, но и как о самых влиятельных людях страны, целое десятилетие определяющих российские экономику и политику.
“Московские новости” не писали о них не из-за цензуры, страха или недостатка профессионализма. Просто действия этих людей не совпадали с картиной мира, которую газета успела создать для своих читателей. Они даже не попадали в поле зрения ее авторов. Пока многие влиятельные члены компартии зарабатывали свои первые миллионы, газета продолжала публиковать дискуссии о социализме, о преимуществах и недостатках рыночной системы и о наследии Ленина и Бухарина.
В 1990 году Николай Рыжков, глава горбачевского правительства, задал вопрос: “Что мы строим – социализм или капитализм?”. К тому времени ответ на него давно уже был дан – причем не только кооператорами, но и множеством “красных директоров”, которые начали присваивать государственную собственность задолго до официальной приватизации 1990-х. Все признаки перехода экономической власти от центрального правительства к красным директорам были уже налицо, но мало кто, включая Рыжкова, в тот момент понимал последствия такого перераспределения ресурсов.
В мае 1989 года Виктор Черномырдин, 51-летний министр газовой промышленности и будущий премьер-министр России, обратился к Рыжкову с предложением преобразовать свое министерство в государственную корпорацию “Газпром”, в которой сам бы он стал председателем правления, отказавшись при этом от должности министра. Рыжков старался уловить логику. После одного долгого разговора он спросил Черномырдина:
– То есть, я понял, ты больше министром не хочешь быть? – он все еще верил, что нет лучше занятия, чем быть в Советском Союзе министром.
– Нет, не хочу, – отвечал Черномырдин.
– И не будешь членом правительства? – недоумевал Рыжков. – И понимаешь, что лишаешься всего? Дачи, привилегий?
– Да, понимаю, – сказал Черномырдин.
– Сам?
– Сам. Пойми, Николай Иваныч. Не надо сейчас уже быть министром. Мы делаем компанию[118].
Рыжков вполне мог заключить, что Черномырдин сошел с ума. Еще никогда ни один советский министр не отказывался от положенных ему по чину привилегий, к числу которых относились служебный автомобиль с личным шофером, большая квартира в Москве и дача за городом, бесплатный отдых в крымском санатории и деликатесы из спецраспределителя. Прозорливый советский отраслевик Черномырдин предвидел, что централизованная плановая командная экономика вот-вот обрушится. Система угроз, привилегий и принуждений уже утратила силу, министерские приказы попросту перестали исполняться.
Несколько месяцев спустя Рыжков ушел с поста премьер-министра, Советский Союз рухнул, а Черномырдин возглавил “Газпром”, самую крупную российскую компанию, которая предоставляла возможности несравненно более привлекательные, нежели привилегии, связанные с министерской должностью. История возникновения “Газпрома” во многом объясняет и то, почему распад советского режима произошел относительно бескровно, и то, почему переход страны к открытой рыночной системе оказался незавершенным. Экономический фундамент советского строя разрушили не внешние враги и не диссиденты, а собственнические инстинкты советских “красных директоров”, которые охотно променяли свои привилегии на крупную собственность. Эти-то люди и подорвали глубинный принцип социализма.
Ликвидация частной собственности и индивидуального мышления была главной целью большевиков. Художники и писатели 1920-х годов создавали утопии о социалистическом общежитии, где люди начисто лишатся индивидуалистических привычек. Сталин поспешил избавиться от ленинской Новой экономической политики, допускавшей существование мелких частных предприятий, не потому, что усомнился в экономической целесообразности НЭПа, а потому, что понимал: любая частная собственность несет угрозу тотальной власти. Сталин наделял приближенных привилегиями – предоставлял им роскошные служебные квартиры, машины и дачи, – но все эти блага могли быть в одночасье отняты вместе со свободой и жизнью и переданы новым выдвиженцам. Даже казенная мебель в квартирах партийной верхушки была пронумерована, чтобы в случае необходимости вернуться на склад. Собственность оказывалась условной – ее нельзя было ни продать, ни завещать, что создавало у элиты ощущение зависимости и временности.
Идеологи режима бдительно следили за малейшими проявлениями собственнических инстинктов. После смерти Сталина угрозы расстрела ушли в прошлое, но табу на частную собственность оставалось. А вот к концу 1980-х негласный договор, по которому номенклатура должна была удовлетворяться отведенными ей благами, начал терять свою силу под давлением растущих соблазнов и скудеющих пайков. Популистская кампания Ельцина против привилегий чиновников сулила последним дополнительный дискомфорт и политические риски.
Стремление к частной собственности среди советской элиты годами сдерживалось идеологией госсобственности и угрозой насилия со стороны государства. Когда же идеологические ограничения ослабли, а частные предприятия оказались узаконены, люди, которым было вверено управление госактивами, подчинились своим инстинктам. Они поняли, что владеть государственной собственностью гораздо выгоднее, чем получать награды за управление ею. Это решало главную проблему советской партийной номенклатуры – проблему наследования и передачи собственности детям. Семью высокопоставленного вельможи могли выселить с государственной дачи в считанные дни после его смерти или отставки, как вскоре выселили и самого Горбачева. Именно желание иметь частную собственность заставило советскую партийную элиту и “красных директоров” поддержать перестройку. Запад манил советскую и постсоветскую элиту прежде всего наличием безусловного права на частную собственность.
Как писал Егор Гайдар, которому через несколько лет предстояло проводить в России экономические реформы, “номенклатура шла вперед ощупью, шаг за шагом – не по отрефлексированному плану, а повинуясь глубокому инстинкту. Шла на запах собственности, как хищник идет за добычей”[119]. Все делалось методом проб и ошибок, доходы оседали в карманах чиновников, а расплачиваться за ошибки приходилось государству.
В конце 1980-х блестящий молодой экономист Гайдар работал в журнале “Коммунист”, куда его привел Лацис – заместитель главного редактора и близкий друг его отца, Тимура. Егор Гайдар был внуком сразу двух писателей: Аркадия Гайдара – автора детских рассказов и повестей, участвовавшего в гражданской войне 1918–1922 годов на стороне большевиков, и Павла Бажова – сочинителя и собирателя уральских сказок. Гайдар родился в марте 1956-го, как раз во время ХХ съезда КПСС; в 1989-м ему было немного за тридцать. Он принадлежал к поколению, которое не питало никаких иллюзий по поводу коммунистической утопии. В годы учебы в Московском университете Гайдар зачитывался работами западных экономистов, в том числе Дж. М. Кейнса и Милтона Фридмана. Книгой же, которая, возможно, повлияла на него больше всего, была “Экономика дефицита” венгерского экономиста Яноша Корнаи.
Труд Корнаи вышел в 1980 году, когда цены на нефть еще оставались высокими, но во всех странах советского блока уже ощущался товарный дефицит. В отличие от реформаторов-коммунистов, Корнаи доказывал, что этот дефицит вызван не ошибками в планировании или неправильно установленными ценами, а системным изъяном социалистической системы. Гайдар познакомился с Корнаи в 1981 году на конференции в Москве. Гуляя по городу, они спорили о том, можно ли реформировать эту систему. В августе 1986-го Гайдар вошел в группу молодых экономистов, которые проводили неформальные семинары на базе отдыха “Змеиная горка” под Ленинградом. Примерно так же в августе 1968-го встречались на даче Тимура Гайдара Отто Лацис, Лен Карпинский и Егор Яковлев, но, в отличие от отцов, молодые экономисты уже не оглядывались на исторические модели пятидесятилетней давности, а изучали предмет, находившийся непосредственно у них перед глазами.
По вечерам они разводили костры, жарили шашлыки и пели песни из репертуара своих родителей. Днем же они обсуждали экономические перспективы страны на другом языке – свободном от эвфемизмов и ностальгии по революционным идеалам языке Корнаи, Фридмана и Кейнса. Итогом этих обсуждений стал четкий диагноз: социализм недееспособен. Единственный выход из тупика – двигать советскую экономику в сторону свободного рынка. На заключительном семинаре Гайдар обрисовал два возможных сценария. При оптимистичном варианте клуб собравшихся здесь экспертов по экономике в скором времени окажется у руля страны и поведет ее к капитализму; при пессимистичном – всех их ждут тюрьмы и лагеря.
Однако самое важное различие между 1968-м и 1986-м годами заключалось в соотношении рисков и возможностей. В 1986-м перспектива репрессий казалась все менее реальной. Все более ощущались возбуждение и – надежда, хотя и смешанная с тревогой и опасениями. Именно это двоякое чувство Гайдар и принес в редакцию “Коммуниста”, когда в 1987-м пришел туда работать. Табу рушились одно за другим, и чиновники просто не успевали за этим стремительным процессом. Время от времени Гайдару звонили из ЦК с вопросом: “Вы уверены, что эту проблему можно обсуждать открыто?” “А вы разве еще не слышали?” – отвечал Гайдар, делая вид, будто знает нечто такое, о чем его собеседник пока даже не догадывается.
С цифрами в руках он доказывал, что советская экономика катится в пропасть. В 1988 году он написал статью с подзаголовком “Котлован”[120], отсылавшим читателя к одноименному роману Андрея Платонова, где рабочие роют огромный котлован, чтобы построить дом для всего пролетариата… однако чем глубже становится котлован, тем заметнее ощущается бесполезность их труда, который отнимает у людей последние силы и, в конце концов, саму жизнь. Роман был написан в 1930 году, но впервые увидел свет только в 1987-м.
Цифры, которые приводил Гайдар, угнетали. За период с 1976-го по 1985-й, в течение которого Советский Союз вложил в сельское хозяйство 150 миллиардов долларов, рост сельхозпродукции составил… ноль процентов. В СССР добыли в семь раз больше железной руды, чем в Америке, отлили в три раза больше чугуна, но при этом выплавили такое же количество стали, как в США. Потери были просто чудовищные. Советский Союз производил в 12 раз больше зерноуборочных комбайнов, чем Америка, но собирал меньший урожай пшеницы. Впрочем, смысл статьи сводился не к тому, чтобы оплакивать потери, а к предупреждению о будущих опасностях. Продолжая вливать деньги в неэффективное хозяйство, страна рыла себе котлован.
Гайдар размышлял и говорил по-особому, употреблял слова какого-то другого, не привычного для советской партийной печати языка: бюджетный дефицит, инфляция, безработица. Тон брал холодный, рассудительный. В колонке для “Московских новостей” он писал не о том, что предпочтительнее – капитализм или социализм, а о том, как избежать нового социального взрыва.
История не оставила нам шанса повторить английскую модель социального развития. Идея же, что сегодня можно выбросить из памяти 70 лет истории, попробовать переиграть сыгранную партию, обеспечить общественное согласие, передав средства производства в руки нуворишей теневой экономики, наиболее разворотливых [партийных] начальников и международных корпораций, лишь демонстрирует силу утопических традиций в нашей стране[121].
По мнению Гайдара, не было никакого смысла возвращаться к идеям Ленина, как не было и смысла предаваться фантазиям о том, что социалистическую экономику можно безболезненно превратить в капиталистическую, просто убрав тело Ленина из мавзолея. Ситуация, в которой в конце 1980-х годов оказался СССР – сверхдержава с ядерным оружием, – просто не имела исторических прецедентов.
Конец тайны
Летом 1989 года группа американских советологов задала вопрос молодому сотруднику международного отдела ЦК КПСС Игорю Малашенко: что Горбачев делает со страной? “Я сказал им: он демонтирует всю систему коммунистического режима – Советский Союз. Потом они спросили меня, что он собирается делать дальше, и вот тут я не нашелся, что ответить”[122]. В 1989 году выбор ЦК в качестве места работы был не очевиден. Более того, многие амбициозные сотрудники к тому времени уже спешили на выход. Выпускник МГУ, кандидат философских наук Малашенко пришел работать в международный отдел ЦК КПСС скорее из любопытства, нежели из соображений карьерного роста. “Я думал, что должен существовать какой-то план и что я просто не знаю о нем, потому что у меня нет достаточной информации. И лишь когда я попал в ЦК, я понял, что не только нет никакого плана, но и сам Горбачев плохо представляет себе последствия собственных действий. В отличие от Алисы в Стране чудес, он не помнил, что «если очень глубоко порезать палец ножом, из этого пальца, как правило, пойдет кровь»”[123]. Впрочем, если бы Горбачев предвидел последствия своих действий, он, скорее всего, не стал бы их предпринимать.
В отсутствие четких экономических реформ и политики по отношению к советским республикам Горбачев продолжал ослаблять политический контроль, как настоятельно советовали ему реформаторы-коммунисты. Он делегировал власть советам – правительственным органам, которые теоретически являлись выборными, а практически просто проводили в жизнь политику компартии.
Совершенно противоположные процессы происходили в Китае, где экономические реформы проводились под авторитарным надзором. Но в июне 1989 года китайский путь привел к подавлению танками демонстрации студентов на площади Тяньаньмэнь и расстрелу сотен, а возможно, и тысяч мирных граждан. Советский же путь привел к первым демократическим выборам и созыву Съезда народных депутатов, который провозгласил: “Вся власть – Советам!”. То, что раньше оставалось пустым лозунгом, вдруг наполнилось реальным содержанием. Это был сильнейший сигнал о том, что Москва отказывается от централизованной системы и рассредоточивает власть.
Съезд начался с минуты молчания. За несколько недель до его открытия, в ночь на 9 апреля, в Тбилиси пролилась кровь: против мирных демонстрантов, собравшихся на площади с требованием выхода Грузии из состава СССР, были выставлены войска и бронетехника. Военные применили паралитический газ неизвестного происхождения и саперными лопатками проламывали людям черепа. Погибло 20 человек, среди них 16 женщин, из которых одной было 70, а двум по 16 лет.
Горбачев находился тогда в Лондоне и, по официальной версии, узнал об этом событии лишь по возвращении в Москву, вечером 9 апреля. Все пытались откреститься от тбилисской бойни. Так и осталось неясно, кто же именно отдавал приказ. Зато стало ясно другое: руководство страны было не готово к тому, чтобы взять на себя ответственность за подавление протеста и пролитую кровь. Егор Яковлев и еще несколько депутатов Верховного Совета отправились в Тбилиси для проведения независимого расследования и быстро пришли к заключению о неоправданном применении силы. На открытии съезда в присутствии партийных и советских деятелей депутат из Литвы предложил всем встать и почтить память погибших в Тбилиси, фактически давая понять, что руководство страны и партии совершило преступление.
И это было только начало. Независимые депутаты из рядов либеральной интеллигенции настояли на том, чтобы заседания Съезда транслировались по центральным каналам телевидения в прямом эфире – в духе гласности. В прошлом все важные партийные решения всегда принимались за закрытыми дверями. Количество информации, которую общество получало об официальных событиях, обычно было обратно пропорционально их значимости. Съезды КПСС, которые, по сути, не решали вообще ничего, передавались почти целиком, зато собрания ЦК и заседания Политбюро, где вершились судьбы миллионов, никогда не бывали публичными. Этот съезд народных депутатов стал первым действительно важным политическим событием, которое полностью показали по телевизору, не ограничившись короткими репортажами.
Как объясняет Великий Инквизитор в “Братьях Карамазовых”, “есть три силы, единственные три силы на земле, могущие навеки победить и пленить совесть этих слабосильных бунтовщиков, для их счастия, – эти силы: чудо, тайна и авторитет”[124]. Советские правители и особенно Сталин хорошо усвоили этот принцип. И все три силы, старательно охраняемые идеологическим аппаратом на протяжении нескольких десятилетий, были разбиты в пух и прах двухнедельной телевизионной драмой.
Страна не отходила от телевизора, из которого в прямом эфире звучали слова настолько крамольные, что газеты опасались их печатать, а редакторы на телевидении – повторять в вечерних выпусках новостей. Люди наблюдали, как Андрей Сахаров, чье имя еще несколько лет назад было абсолютным табу для СМИ, выступает за радикальные политические реформы и бросает вызов Горбачеву; они слышали, как бывший штангист, олимпийский чемпион, нападает на КГБ – “настоящую подпольную империю”, – а специалист по Достоевскому требует убрать Ленина из мавзолея; им сообщили, что их “страна – банкрот”, что война в Афганистане – “преступная ошибка”; что уровень детской смертности в СССР выше, чем во многих африканских странах, а средняя продолжительность жизни – на восемь лет меньше, чем в странах развитого мира; что половина искусственных молочных смесей для младенцев содержит опасную концентрацию химических веществ… Больше всего поражали даже не сами выступления, а то, что их показывали по государственному телеканалу. Как сказал на заре перестройки Александр Яковлев, “телевизионная картинка – это всё”[125]. Отбросив тайну, Кремль утратил и ауру своего могущества и власти. В те дни Сахаров писал: “Съезд отрезал все дороги назад. Теперь всем ясно, что есть только путь вперед или гибель”[126]. В итоге сбылось и то, и другое: дорога вперед привела к гибели империи.
Съезд народных депутатов рождал чувство эйфории. И одновременно демонстрировал непреодолимую пропасть между меньшинством либеральной интеллигенции и тем, что один из ее представителей окрестил “агрессивно-послушным большинством”, – серой и пугающей массой советских граждан, пропитанных пропагандой. Это они аплодировали военачальнику, который командовал силовым подавлением протеста в Тбилиси, это они пытались заглушить и прогнать с трибуны Сахарова. Они принадлежали к той же породе людей, что и Нина Андреева, – Homo soveticus, породе, имевшей мало общего с советскими людьми типа Александра Яковлева.
То, что к Homo soveticus принадлежало большинство депутатов, не было результатом особых правил их избрания. Это стало результатом чудовищного социального эксперимента и отрицательного отбора длиной в 70 лет, при котором физически уничтожали лучших, выкашивали крестьянство и интеллигенцию, насаждали и взращивали двоемыслие, подозрительность, изоляционизм, зависть, страх и беспомощность, подавляли достоинство и независимость в мышлении и поступках. Как говорит Дракон в одноименной пьесе Шварца победившему его Ланцелоту, “я оставляю тебе прожженные души, дырявые души, мертвые души”.
В том же 1989-м году группа российских социологов во главе с Юрием Левадой приступила к научно-исследовательскому проекту, посвященному “человеку советскому”. Они задались целью описать исчезающий человеческий тип, порожденный несколькими десятилетиями уходящего режима и уже не способный воспроизводиться в новых исторических условиях. Однако за следующие десятилетия социологи обнаружили, что порода Homo soveticus оказалась невероятно живучей. Этот тип совсем не желал вымирать: он мутировал и воспроизводился, попутно приобретая новые характерные черты. И, напротив, социальные черты таких людей как Александр Яковлев и Андрей Сахаров с годами проявлялись все слабее.
Но в конце 1980-х либеральное меньшинство одержало верх – и не в последнюю очередь благодаря своему широкому и даже в какой-то момент неограниченному доступу к СМИ. Пускай на либералов шикали и топали ногами – их голоса все равно звучали громче, а речи – убедительнее, чем голоса и речи “агрессивно-послушного большинства”. Члены Политбюро покидали зал через охраняемый черный ход, чтобы избежать встречи с иностранными и отечественными журналистами, которые осаждали их, вооружившись микрофонами и блокнотами. Сахаров в своих записях, сделанных по свежим следам, через несколько месяцев после Первого съезда, фиксировал: “В этот вечер мы все чувствовали себя победителями. Но, конечно, это чувство соединялось с ощущением трагичности и сложности положения в целом… Если наше мироощущение можно назвать оптимизмом, то это – трагический оптимизм”[127].
Съезд закончился, как и начался, – речью Сахарова. Он призвал отстранить коммунистическую партию от управления страной, передать всю власть народным советам, приватизировать землю и пересмотреть административное деление страны, перейдя к федеративной системе. Во время его выступления Горбачев проявлял все большее нетерпение, прерывал оратора, настаивал, что регламент истек, просил его занять свое место в зале. В итоге Горбачев просто велел отключить микрофон, но Сахаров все равно продолжал говорить. Примечательно, что даже когда зал перестал слышать и слушать Сахарова, его речь все равно продолжали транслировать по телевидению. В конце речи Сахаров потребовал, чтобы СССР отозвал посла из Китая в знак протеста против кровавой бойни в Пекине.
Сахарову оставалось жить совсем недолго: он умер 14 декабря 1989 года. С его уходом страна потеряла нравственный авторитет, с каким не мог потягаться ни один политик. Этот человек, чудом явившийся из глубин сталинской системы, был отмечен гением и признаками святости – во всяком случае, никого, кто более бы соответствовал понятию “праведник”, Россия породить не смогла. В день похорон Сахарова, когда проститься с ним, несмотря на лютый мороз, пришли толпы людей, “Московские новости” напечатали специальный выпуск, целиком посвященный Андрею Сахарову – “нашей больной совести”. О Сахарове говорили писатели, политики, художники. Но самый пронзительный текст написал Сергей Аверинцев – филолог, специалист по раннему христианству, один из крупнейших мыслителей конца XX века. Аверинцев опроверг широко распространенное представление о Сахарове как о человеке “не от мира сего”, непрактичном и неумелом политике. Искатель правды и хороший оратор – не одно и то же, писал Аверинцев.
Пророк не видит слушателей перед собой, он видит то, о чем говорит. Да, Андрей Дмитриевич порой словно не видел того, что рядом. Его глаза были фокусированы на даль. Они видели целое. И вот парадокс: стремясь мыслить по-современному, да ведь и достигая этого, он являл, однако, свойство сознания, резко отделявшее его от современников и сближавшее с мыслителями совсем иных эпох, с теоретиками естественного права и общественного договора: мысль его шла сверху вниз, от больших абстракций, от общих основоположений. Она была ориентирована, как говорили в старину, на неподвижные звезды. […] Андрей Дмитриевич действительно имел принципы в подлинном, изначальном смысле: principia, основоположение[128].
Во многом Сахаров был нравственным фундаментом перестройки. После его смерти этот фундамент стал рассыпаться, превращаться в зыбучие пески.
За несколько часов до кончины Сахаров говорил с группой депутатов. Его короткую речь также опубликовали “Московские новости”: “Мы не можем принимать на себя всю ответственность за то, что делает сейчас руководство. Оно ведет страну к катастрофе, затягивая процесс перестройки на много лет. Оно оставляет страну на эти годы в таком состоянии, когда все будет разрушаться, интенсивно разрушаться. Все планы перевода на интенсивную, рыночную экономику окажутся несбыточными, и разочарование в стране уже нарастает”[129].
В мае 1989 года парламенты всех трех прибалтийских республик, где к этому времени коммунисты остались в явном меньшинстве, объявили о суверенитете. Чтобы придать историческую законность этим заявлениям, депутаты из Прибалтики потребовали создать особую комиссию, которая дала бы историческую оценку пакту Молотова-Риббентропа и секретным соглашениям о разделе Европы (хотя Кремль продолжал настаивать на том, что ничего подобного не было). Комиссию возглавил Александр Яковлев. Одновременно с этим журнал “Новый мир” начал публиковать главы из “Архипелага ГУЛАГ” Солженицына – “самого мощного обвинительного приговора, какой только выносился в наше время политическому режиму”[130], как выразился Джордж Кеннан, один из самых проницательных американских дипломатов XX века. Советский Союз так и не смог обеспечить своим гражданам достойную жизнь. Теперь же он лишался и своей исторической легитимности.
Глава 3 “Мы потерпели победу”
Дух перестройки выветрился?
К концу 1989 года эмоциональный подъем и эйфория, которые долго поддерживали в своих читателях “Московские новости”, сменились усталостью и фрустрацией. Надежды на то, что удастся оживить социализм и вернуться к той исторической точке, с которой все “пошло не так”, разбились об экономическую реальность. К 1990 году очереди исчезли – стоять было просто не за чем: нехватка табака в Ленинграде и Москве грозила народными бунтами, талоны на продукты стали обыденностью. Газеты могли не писать о дефиците: низкое качество газетной бумаги и тусклая печать говорили сами за себя. Иностранные компании, которые до этого снабжали Советский Союз чернилами и бумагой, остановили свои поставки – валюты в стране не было. Экономисты предупреждали Горбачева, что с 1 января 1990 года государству будет нечем платить зарплату армии и милиции.
Последний год 1980-х завершал историческую эпоху. Как политический курс перестройка продолжалась еще два года, но дух ее выветрился. Будущее представлялось мрачным и непредсказуемым. Многие устремились на Запад. Традиционное новогоднее поздравление Горбачева с наступающим 1990 годом не предвещало ничего хорошего. Мариэтта Чудакова, историк литературы, записала тогда в своем дневнике: “С серьезным, почти трагическим лицом начинает свое приветствие Горбачев… На лице его мелькает на миг страх, едва ли не ужас. Что он видит впереди? Что чувствует?”[131].
Массовую культуру захлестнула волна “чернухи”. Одним из самых талантливых и востребованных в этом жанре стал журналист и первая советская телезвезда Александр Невзоров. Биографию он имел пеструю: в разное время и с разным успехом был певчим в церковном хоре, профессиональным каскадером, криминальным репортером, активистом общественного движения, ультранационалистом, парламентарием, патриотом-империалистом, романтиком-индивидуалистом, меркантильным циником, мошенником и даже либералом. Но в основном Невзоров являл собой продукт телевидения и его олицетворение: именно телесредствами он конструировал реальность и собственный образ.
Впервые он появился на экране в конце 1987 года в ежедневном выпуске новостей под названием “600 секунд”. В черной кожаной куртке, с модной щетиной на лице, красавец-ведущий сидел под мигающим монитором, где шел обратный отсчет времени. На десять минут Невзоров погружал аудиторию в мир социальных ужасов: разоблачал коррупцию, срамил бюрократов, показывал убийц и их жертв, беседовал с проститутками и алкоголиками. Передача шла в прямом эфире и была своего рода аттракционом. Журналист работал “без страховки” и должен был уложиться ровно в 600 секунд. Каждый раз он повторял этот трюк безупречно. Несмотря на то, что “600 секунд” снимались и выходили на ленинградском телевидении, смотрели их 50 миллионов зрителей по всей стране.
Невзоров выступал одновременно и ведущим, и репортером. Вместе со своей командой он врывался в ведомственные учреждения и больницы, проникал в тюрьмы и на скотобойни. Он показывал социальное дно во всех его кровавых и непристойных подробностях. Журналистское бесстыдство и напор гипнотизировали зрителей. Невзоров совал микрофон в лицо и начальникам разных рангов, и заключенным. Если “Взгляд” создавала и смотрела городская элита, ориентированная на Запад, то программа “600 секунд” была адресована более широкой публике и, по сути, торговала всем, что хорошо раскупалось – насилием, национализмом и “порнографией смерти”. Чем больше трупов, тем выше градус.
В своих сюжетах он называл Ленинград Петроградом, возвращая городу имя времен большевистской революции и гражданской войны. Невзоров выступал в роли бунтаря-одиночки, играл на контрасте с солидными и гладкими дикторами советского телевидения. Отношения с реальностью, однако, у него были не менее напряженными, чем у них. Некоторые его “разоблачения” позднее оказались инсценировками. “Я же не журналист, не репортер, у меня нет ни журналистского образования, ни понятия про журналистскую этику, я был конкистадором, который завоевывал информационное пространство, когда оно еще было неосвоенным. Мое дело было пройти это пространство, кроша дикарей, каких-нибудь секретарей обкома партии. Я был никогда не связан никакими моральными нормами или соображениями общественной пользы. Мое дело конкистадорское – я прошел, за мной ломанулись все остальные, стали обживать эти пространства, возделывать и выращивать свои сорта информации”, – рассказывал позднее сам Невзоров[132]. Ежевечерние выпуски его передачи, выходившие в прайм-тайм, создавали впечатление, будто вся страна состоит из преступников, алкоголиков и бездомных.
В 1990 году, когда слава Невзорова была в зените, он сыграл самого себя в полнометражном документальном фильме “Так жить нельзя” Станислава Говорухина, прославившегося телевизионным детективом “Место встречи изменить нельзя”. В своей документальной картине Говорухин одновременно выступал в качестве и режиссера, и рассказчика. Невзоров же исполнял роль героического репортера-расследователя, ищущего правды. Зрители выстраивались в очередь, чтобы увидеть картину физического и морального разложения в духе Босха. “Так жить нельзя” рассказывал о насильниках, серийных убийцах, ворах, алкоголиках и проститутках. “Вот какими мы стали за семьдесят лет [советской власти]”, – заключал Говорухин. Самоуничижение вызывало не стыд, а странное удовлетворение, схожее с тем, которое через 20 лет будет вызывать “вставание с колен”, пропагандируемое тем же Говорухиным.
В 1989 году большинство жителей СССР все еще привлекала идея “социализма с человеческим лицом”. Но между 1989-м и 1991-м число людей, которые считали, что социализм не принес народу ничего, кроме очередей и репрессий, выросло с 7 % до 56 %. Эти люди были уверены, что “мы – худшая страна в мире”, на своем примере демонстрирующая другим, как жить нельзя. Многие начали называть Советский Союз не “нашей страной”, а “этой страной”. Слово “советский” выродилось в “совок” и сделалось антонимом для всего нормального или цивилизованного.
Злобная мрачность, зачастую переходившая в ненависть и охватившая страну в 1990 году, была такой же гипертрофированной, как и эйфория четырьмя годами раньше. Отчасти это стало следствием ухудшившегося экономического положения страны, неуверенности в будущем, роста преступности и слабости власти. “Нам как воздух нужны реализм, трезвость оценок, полная правда во всем, – говорил в начале 1990 года Александр Яковлев. – Но я не разделяю настроений паники в характеристике происходящих в обществе и партии процессов… Как бы нам не нагнать страху на самих себя… Опасна, конечно, политическая слепота. Но не менее опасны нагнетание и мистификация кошмаров”[133]. Парадокс состоял в том, что, несмотря на все трудности и неопределенность, российское общество было настроено по отношению к внешнему миру куда доброжелательнее, чем двадцать лет спустя, когда явственно проявил себя имперский синдром – притом что жизнь для многих стала сытой, а отдых за границей – доступным. На закате же перестройки, судя по опросам социологов, одним из главных положительных событий стал вывод советских войск из Восточной Европы. Российское общество казалось скорее возбужденным, чем подавленным. И какую бы тревогу тогда люди ни испытывали по поводу своего будущего, в 1990-м мало кому хотелось возвращаться назад, в брежневскую эпоху “развитого социализма”.
Жанр романа-антиутопии, приобретший популярность в конце 1980-х, отлично отражал и странную мрачность, и возбужденную увлеченность происходящим в стране. Самой талантливой в этом жанре была короткая повесть “Невозвращенец” писателя Александра Кабакова, который одновременно служил штатным обозревателем в “Московских новостях”. Главный герой повести – ученый, который переносится в будущее по заданию своих “редакторов” из КГБ и застает Москву 1993 года под властью полувоенных “истребительных отрядов”, по своему усмотрению казнящих людей во имя Великой Реконструкции. По разоренному городу разъезжают танки; православные “витязи”, вооруженные кольями, охотятся на евреев, которые собираются у уличного стенда с либеральной газетой; бородатые члены Революционного Комитета фундаменталистов Северной Персии ведут охоту на мужчин и женщин с православными крестиками. Интеллигентный ученый, как голливудский герой, носится по холодным темным улицам с “калашниковым”, ловко уклоняясь от опасности.
Повесть заканчивается на неожиданно бодрой ноте: когда главному герою предлагают вернуться в старые добрые времена, где люди “пьют чай с молоком, читают семейные романы”, ученый решает остаться в безумном 1993 году. Проходя по пустынной Тверской, он замечает машину со своими “редакторами”, которые держат его на прицеле. “Я рухнул на землю, уже расстегнув кобуру под курткой, уже готовый. Здесь я их совсем не боялся…”[134]. То, что страх рассеялся, стало одним из самых важных результатов перестройки.
В поисках прикрытия
Если у кого и имелись причины испытывать страх в 1990 году, так это у партии и у КГБ, которые быстро теряли контроль над ситуацией в стране. После массовых митингов около Кремля компартия была вынуждена отменить 6-ю статью Конституции, которая гарантировала ее монополию на власть. КГБ – “боевой отряд” партии – тоже оказался под давлением. К 1990 году либеральные СМИ во главе с “Московскими новостями” направили свои орудия на спецслужбы. Видя, как партия капитулирует и отказывается от политической монополии, многие сотрудники КГБ почувствовали себя дезориентированными и уязвимыми.
Наступление на самый грозный бастион советской власти Егор поручил двум молодым корреспонденткам – Евгении Альбац и Наталии Геворкян. Альбац разыскивала и допрашивала еще живых сталинских следователей[135]. Геворкян имела дело в основном с действующими силовиками. “Егор позвал меня и сказал: «Я хочу, чтобы ты написала об этих гадах – ну, понимаешь, о конторе, о КГБ…». Я ответила, что никогда в жизни даже уголовного кодекса не читала. «Неважно: ты просто придешь к ним, закинешь ногу на ногу и уставишься на них своими глупыми глазками. Вот увидишь – они тебе расскажут такое, чего никогда не расскажут ни одному мужчине». И это подействовало”[136].
Внешние данные и журналистский талант были не единственной причиной, по которой Егор поручил подобное задание именно Геворкян. Они были близки по духу и происхождению. Геворкян была внучкой старого большевика и представительницей следующего поколения советской “аристократии”. Ее отец работал во внешней советской разведке – вначале при ООН в Нью-Йорке, где он сблизился с советским министром иностранных дел Андреем Громыко, а потом в Эфиопии. В 1989 году, когда состоялся разговор с Егором, Геворкян-старший только что уволился с должности главы американского отдела Агентства печати “Новости” (АПН), которому подчинялись “Московские новости”. Как и Егор, Наталия провела некоторое время в Праге, где проходила стажировку как студентка журфака. Выйдя замуж за иностранца, она осталась жить в Чехословакии, перекрыв себе все пути карьерного роста; в Москву Геворкян вернулась, когда началась перестройка.
Одна из ее первых статей о КГБ основывалась на письме, которое в редакцию “Московских новостей” прислал бывший переводчик с английского, по ошибке прикрепленный к советской резидентуре в Дрездене. После окончания службы КГБ не позволил ему поехать в ФРГ, чтобы повидаться с другом, и тогда он решил пожаловаться в “Московские новости”. По его словам, в Дрездене он не делал ничего особенного – только водил жен сотрудников посольства по магазинам и покупал спички и мыло для своего шефа.
Незадачливый переводчик провел в Германии три года – с 1985-го по 1988-й. В это же самое время на службе в Дрездене находился другой молодой сотрудник КГБ – Владимир Путин. (Шеф Путина в Германии был соседом Геворкян по дому в Москве.) Забежим вперед – в 2000-м году ставшую уже известной журналистку Геворкян вместе с двумя другими репортерами выбрали для того, чтобы взять у Путина интервью для книги “От первого лица”. Путин рассказал тогда, как в 1989 году в Дрездене он сжигал документы, опасаясь, что разъяренная толпа вот-вот пойдет на штурм штаб-квартиры КГБ. Когда толпа появилась перед зданием, в котором работал Путин, он вышел поговорить с пришедшими. “Люди были настроены агрессивно. Я позвонил в нашу группу войск и объяснил ситуацию. А мне говорят: «Ничего не можем сделать без распоряжения из Москвы. А Москва молчит»”[137].
В итоге, по словам Путина, военные все-таки приехали и толпа разошлась, но молчание Москвы не прошло для него бесследно: “У меня тогда возникло ощущение, что страны больше нет”. Похожее чувство – что власть предала их – испытали многие сотрудники КГБ во всех странах советского блока. России это аукнется позже – полтора десятилетия спустя, когда власть захватят выходцы из КГБ. Однако в 1990-м многие из них ощущали неуверенность и искали политического прикрытия. Владимир Путин в итоге устроился работать под началом демократически выбранного мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака.
Чуть позже в редакцию “Московских новостей” пришел человек гораздо более высокого ранга, чем вышеупомянутый переводчик: генерал-майор Олег Калугин, в 1960-е годы возглавлявший советскую резидентуру в Вашингтоне, а в 1970-е – управление внешней контрразведки КГБ. В конце 1980-х Калугин через Александра Яковлева передал записку Горбачеву о необходимости деполитизации органов безопасности. Тогда же по указанию председателя КГБ за ним установили слежку – из-за подозрения в измене. Сам Калугин всегда отрицал эти обвинения, но под давлением сверху все же покинул службу и переквалифицировался в политика демократического толка. Именно в этом качестве в 1990-м году он дал интервью Геворкян. Никаких тайн Калугин не выдал, но сделал политическое заявление: “И все же КГБ остался наиболее неприкасаемым в сравнении с тем, что обрушилось на МВД, прокуратуру. Комитет сохранил практически нетронутым и тот мощный потенциал, который десятилетиями был главной опорой советских диктаторов. И через пять лет перестройки – это государство в государстве, орган, наделенный колоссальной властью, теоретически способный подмять под себя любое правительство”. Под конец Геворкян спросила Калугина, почему он выступает против системы, которой верно служил в течение тридцати лет. В ответ Калугин привел слова Доналда Маклейна – британского дипломата, завербованного КГБ. “Маклейн сказал: «Народ, который читает каждый день «Правду», непобедим». […] Информированные люди, информированные разносторонне, неминуемо начинают думать”, – пояснил Калугин[138].
Через несколько дней после того, как в “Московских новостях” появилось это интервью, Калугина лишили воинского звания и всех наград. Но это лишь усилило его политические позиции. “Московские новости” встали на защиту бывшего офицера, требуя от правительства объяснений. Еще через несколько месяцев Калугина избрали депутатом в парламент.
Во взаимоотношениях Калугина со СМИ была своя ирония: человек, который, будучи советским шпионом в США, пользовался ролью журналиста как прикрытием, пришел в газету в поисках политического прикрытия, когда КГБ начал терять власть. Если бы с той же целью он пришел в иностранное посольство, это означало бы измену. Придя же в “Московские новости”, Калугин обретал надежную страховку. По воспоминаниям Виктора Лошака, работавшего в то время в “Московских Новостях”, даже свои медали он положил в редакционный сейф.
Через месяц после интервью с Калугиным “Московские новости” напечатали другой материал Геворкян – интервью с Яном Румлом, новым чешским министром внутренних дел, бывшим диссидентом и другом чешского президента Вацлава Гавела. Он рассказал Геворкян о том, что новое правительство составило список из 140 тысяч человек, которые сотрудничали со Службой государственной безопасности (СТБ). “Мы надеемся на успех реформаторов в Чехословакии, тем более что многие их проблемы не отделишь от наших. Мы надеемся, что уже никогда их идеалам не будут противопоставлены советские танки”, – заключала Геворкян свою статью[139]. В 1990 году власть КГБ еще была значительной, однако перспектива разделить участь чехословацких коллег становилась все реальнее, что не могло не беспокоить его сотрудников. Теперь с либеральными СМИ приходилось считаться – или же принимать их сторону.
Отказ Горбачева использовать силовые методы подрывал основу власти КГБ и партии. На заседании Политбюро 3 января 1990 года Горбачев заговорил о том, что полагалось прежде скрывать.
Мне было девять лет, когда арестовали деда. Он просидел четырнадцать месяцев, его пытали, били, ослепляли лампой и т. д. Он был председателем колхоза… Когда его посадили, мы стали в деревне как отверженные, никто не заходил, сторонились, не здоровались – как же, враг народа! Дед вернулся совсем другим человеком. Рассказывал, что с ним сделали, и плакал.
А затем, без малейшей паузы, Горбачев продолжил: “Считаю своей главной задачей провести страну через Перестройку без гражданской войны. Жертвы неизбежны. Там и здесь кого-то убивают, но от этого никуда не денешься. Другое дело – подавлять силой, оружием. Этого от меня не дождутся”[140].
Осознав, что Горбачев не намерен применять силу для удержания страны, национальные элиты поспешили воспользоваться открывшейся возможностью. Одной из первых республик, объявивших о независимости, стала Литва, оккупированная советскими войсками со времен Второй мировой войны. В январе 1990 года Горбачев отправился в Вильнюс, надеясь отговорить руководство от выхода из состава СССР. Мариэтта Чудакова запомнила телекадры, “как Горбачев… стоит в окружении литовцев, красный, раздосадованный, и убеждает их, как это хорошо и правильно – всем сообща под его руководством строить улучшенный Советский Союз. И с мягкой улыбкой смотрит на него высокий депутат Вилкас – и на лице его и всех до единого других литовцев написано то, что видим мы все, но странным образом не видит Горбачев: «Уважаемый Михаил Сергеевич! Неужели вы можете думать, что мы позволим себе упустить этот единственный, неслыханный, уже полвека нами ожидаемый исторический шанс?..»”[141].
Во время встречи с литовской интеллигенцией Горбачев в который раз увещевал зал: “Уйдя из Союза, Литва сойдет на обочину истории…”. Под конец он задал вопрос прямо: “Так что же, хотите уйти?”. И услышал солидарное и мощное: “Да!”. Уже в машине, по пути в аэропорт, Горбачев сказал, ни к кому не обращаясь: “Что с ними случилось?” И тут же без перерыва: “Надо бы выпить”[142]. Это было только начало.
В мае 1990 года Ельцин был избран президентом РСФСР, а месяц спустя, 12 июня 1990 года, Верховный Совет РСФСР последовал примеру Литвы и проголосовал за суверенитет. По времени это событие совпало с отменой цензуры. Новый закон о печати превращал свободу слова из привилегии, жалуемой сверху, в законное право. Но если выход оккупированной Литвы из Союза был логичен, то отделение России от СССР казалось абсурдом. Чудакова, исследователь творчества Булгакова, оценила абсурдность формулировки и записала в дневнике: “Утверждение так называемого суверенитета (От кого Россия ищет суверенитета? От белых медведей?) – быть может, уродливая, странная форма выхода из уродства неисторической жизни нескольких десятилетий”[143]. Ельцин и та часть партийной элиты, которая перешла на его сторону, “суверенитет” воспринимали вполне конкретно – как перехват контроля над ресурсами – политическими и экономическими.
Горбачев отчаянно пытался помешать избранию Ельцина на пост лидера России. КГБ “сливал” в “Правду” сомнительные истории о нем и показывал компрометирующие видеозаписи, на которых Ельцин во время визита в Америку казался нетрезвым. Все это, однако, не имело особых результатов, так как СМИ уже вырвались из-под контроля. В 1990-м мало кто читал “Правду” и вообще обращал внимание на партийную пропаганду, в то время как Ельцин пользовался массовой народной поддержкой, и поделать с этим ничего было нельзя.
Отношение перестроечных реформаторов к Ельцину было сложнее. С одной стороны, Егор и близкий к нему круг журналистов отказались участвовать в антиельцинской кампании. С другой стороны, они видели в Ельцине опасного популиста, призывающего к развалу СССР под предлогом суверенитета России. В конце мая 1990 года Родрик Брейтвейт, британский посол в Москве, зайдя к Егору, застал его в необычайно подавленном настроении. “Он говорит, что новые правительственные органы просто не работают и существует реальная угроза хаоса… Таким мрачным я еще никогда его не видел: это не та переменчивая мрачность, какой всегда подвержена московская интеллигенция, а стойкое уныние, и это внушает тревогу”[144]. Егор был не одинок в своих чувствах – у Брейтвейта тоже было неспокойно на душе.
Иностранным правительствам было гораздо удобнее иметь дело с прогрессивным партийцем Горбачевым, на которого они однажды сделали ставку, чем с народным любимцем Ельциным. В сентябре 1990 года, когда министр иностранных дел Великобритании Дуглас Хёрд и Родрик Брейтвейт пришли встречаться с Ельциным, они заранее были настроены почти враждебно.
Ельцин принимает нас в маленькой комнате на четвертом этаже – наверняка это тоже должно демонстрировать его нарочитую простоту… Но все равно от него исходит какая-то грубая властность, хотя того обаяния, о котором все говорят, мы не ощущаем… В целом я прихожу к выводу, что Ельцина мало интересует политика как таковая. Его интересует именно власть, и его нынешняя тактика… состоит в том, чтобы ослабить и дискредитировать правительство СССР и таким образом изолировать Горбачева. Следующим шагом станет оттеснение Горбачева от власти. Он надеется добиться этой цели не при помощи своих умственных способностей или изобретательности, а просто силой своей воли. Многие из декларируемых им политических задач кажутся заведомо невыполнимыми. Но, подобно Гитлеру, он явно верит в Триумф Воли, в ее способность добиться того, что кажется невозможным обычным людям[145].
Мало кто понимал в то время, что Ельцин, старавшийся дистанцироваться от советских властных структур, был единственной консолидирующей фигурой в стране. Он давал надежду на то, что Россию можно спасти от полного распада и гражданской войны. Отдельные регионы, особенно национальные автономии, имели все основания требовать собственного суверенитета, что многие из них и стали делать. Ельцин предложил региональным элитам взять “столько суверенитета, сколько те смогут проглотить”, но при этом не выходить из Российской Федерации – только так можно было сохранить единство государства.
В глазах сторонников Горбачева на родине и за границей “единственной силой, способной удержать расколотое общество от распада” была партия. Ельцин же считал ее балластом, который давно необходимо сбросить. Именно это Ельцин и сделал, официально выйдя из компартии на XXVIII съезде, который оказался последним в ее истории.
Решение Ельцина поставило Александра Яковлева перед выбором: последовать его примеру и покинуть тонущий корабль – или оставаться с Горбачевым до конца. Он выбрал второе. Так же поступил и Егор Яковлев. Дело было не в верности партии. В “Московских новостях” Егор писал: “Я далек от осуждения людей, которые поступили согласно своим убеждениям [и вышли из партии]. […] Не стану скрывать: и у меня на съезде бывали минуты, когда возникало непреодолимое желание вернуть свой мандат, вложив его в партийный билет”[146].
Причина, по которой он решил остаться, была иная. “Есть такая партия – более чем внушительная сила, равной которой и близко не существует. У этой партии не деполитизированная армия и КГБ, совмещение советских и партийных постов, все еще номенклатурный подбор должностных лиц во всех отраслях народного хозяйства и во всех областях жизни общества, владение необъятным имуществом и монополия на средства массовой информации […] А если так, как можно отстраниться от этой громадины, отдавать ее в безраздельное владением консерваторам?”[147]. Другими словами, статус партийного “патриция” включал в себя и ощущение личной ответственности. В то же время перед Егором вставал вопрос: как быть дальше с газетой?
1 октября “Московские новости” вышли с новым подзаголовком – “независимая газета”. На ее страницах открыто обсуждался вопрос о будущем издания. Александр Яковлев считал, что задачей “Московских новостей” должно стать воспитание и формирование среднего класса. Причем не интеллигенции, зависимой от государства, а класса профессионалов, которые в состоянии прокормить себя сами, не полагаясь на милости государственной системы. Именно такие люди смогут повести Россию вперед. Яковлеву вторил популярный экономист Николай Шмелев: люди до смерти устали от идеологии. “Пусть газета по примеру просветителей XVIII века попробует обратиться к умственности, человечности обывателя, тем росткам добра в людях, которые еще не до конца вытоптаны”. Шмелев предлагал новый лозунг: “Да здравствуют здравый смысл и порядочность!”[148]. Порядочности и здравомыслия как раз очень не хватало, а консервативное ядро партии и КГБ сдавать позиции не намеревалось.
Развязка
Горбачев испытывал все большее экономическое и политическое давление, но продолжал колебаться. Его попытки примирить ельцинскую программу экономической либерализации с сохранением государственного контроля предсказуемо привели к росту всеобщего раздражения. Ельцину, в свою очередь, надоело нежелание Горбачева смотреть в лицо действительности и проводить срочные реформы. Он пригрозил полным выходом России из состава СССР – то есть, фактически, ликвидацией самого СССР.
Речь Ельцина прозвучала ультиматумом, и Горбачев воспринял ее именно так. “Что означает выступление Ельцина?” – спросил Горбачев у своего президентского совета. “Это объявление войны Центру. Если мы не примем ответных мер, потерпим поражение”, – ответил Крючков, председатель КГБ. Премьер-министр Николай Рыжков нарисовал мрачную картину: “Страна становится неуправляемой. Она на грани развала. Мы не можем оставаться у власти в пределах Кремля, Садового кольца. И только. Государственная система разрушена. И ответственность за это останется на нас… Нужно показать власть!”[149].
Как писал помощник Горбачева, Грачев, “возникла патовая ситуация, в которой Горбачеву оставалось либо смириться с дерзостью отпущенных им на волю республик и капитулировать, либо стукнуть по столу кулаком и напомнить своим подданным, что «он еще царь». Сделать это можно было, либо попытавшись вернуться в недавнее еще генсековское прошлое, к чему подталкивали некоторые партийные консерваторы из его окружения, либо мощным прорывом вперед вернуть себе политическую инициативу. Из двух взаимоисключающих вариантов Горбачев выбрал… оба. Но поскольку совместить их было затруднительно, начал действовать, как водитель забуксовавшей в грязи машины: подал назад, чтобы потом с разгона преодолеть препятствие”[150]. Как это делали все предыдущие советские правители, горбачевское Политбюро потянулось к двум главным рычагам – внутренним войскам и СМИ, но вдруг обнаружило, что не может задействовать ни тот, ни другой. МВД возглавлял Вадим Бакатин – интеллигентный, порядочный и прагматичный человек либеральных взглядов. Он отказался подавлять массовые демонстрации, отдавая себе отчет в том, что разогнать толпу в 400 тысяч человек было бы физически невозможно. Когда Крючков потребовал, чтобы Бакатин “продемонстрировал силу”, Бакатин ответил ему: “Вот вы ее и показывайте. Пускай те, кто хочет запретить эти протесты, сами воплотят эти запреты в жизнь. А милиция этого делать не будет”[151].
Ситуация со СМИ оказалась еще хуже. Рыжков сетовал: “Смотреть тошно – с таким придыханием телеведущий произносит имя Ельцина! [Нужно] убрать половину людей из телевидения! И выгнать этих… из газет!”. Горбачев с ним согласился: “ [Пришла пора] восстановить порядок в средствах массовой информации”. “Восстановить порядок” можно было только силой, а на это Горбачев идти отказывался. 14 ноября Егор опубликовал обращение к Горбачеву, подписанное известными художниками, актерами, режиссерами и писателями, которые к тому же являлись теперь учредителями новых и независимых “Московских новостей”. “Мирные перемены закончились – во многих республиках уже пролилась кровь. В любую минуту теперь она может пролиться в центре. […] Страна неотвратимо сползает к пропасти, к гражданской войне”. Письмо называлось “Страна устала ждать” и заканчивалось ультиматумом: “Спасение лишь в неукоснительном соблюдении президентской клятвы, данной Вами народу в марте этого года. Политическое лавирование показало свою несостоятельность. Уже нельзя уходить от ответственности за сегодняшние дела заклинаниями о социалистическом выборе и коммунистической перспективе. Или подтвердите свою способность к решительным действиям, или уходите в отставку”[152].
Для Горбачева это был удар под дых. “Горбачев огорчен был этим больше, чем чем-либо другим в эти дни: увидел в этом личное предательство”, – записал в своем дневнике Анатолий Черняев, помощник Горбачева, 15 ноября 1990 года. “В стране развал и паника. Во всех газетах предрекают бунты, гражданскую войну и переворот. И почти каждое критическое выступление заканчивается требованием к президенту: «Уходи!», если не можешь даже воспользоваться предоставленными тебе полномочиями”[153].
Реформаторы-либералы были не единственными, кто ставил Горбачеву ультиматум. То же самое делали и сторонники жесткого курса. В те же дни, когда “Московские новости” опубликовали открытое письмо интеллигенции Горбачеву, полковник Виктор Алкснис, депутат Верховного Совета Латвии, которого либералы окрестили “черным полковником”, потребовал, чтобы Горбачев либо восстановил порядок в стране и прижал непокорные республики к ногтю, либо ушел в отставку.
В конце декабря 1990 года на съезде Верховного Совета Горбачев резко качнулся вправо. В своей самой короткой за всю политическую карьеру речи, занявшей всего 21 минуту, он объявил о том, что устанавливает прямой контроль над правительством, распускает Президентский совет, куда входил Александр Яковлев, и заменяет его неким Советом безопасности. Горбачевский “правый поворот” вызвал смятение в среде либералов и ощущение победы среди националистов и силовиков. Страна, – убеждал он самого себя, – не выдерживает такого темпа реформ; либералы способны только критиковать и не готовы брать на себя никакой ответственности.
Крючкову удалось оклеветать Яковлева, внушив Горбачеву, будто тот замышляет против него заговор. При этом реальный заговор готовился как раз внутри самого КГБ. Отодвинув Яковлева, КГБ добился ключевых назначений в СМИ и МВД. Вместо либерально настроенного Бакатина главой МВД назначили человека из госбезопасности – Бориса Пуго. Телевидение отдали в распоряжение Леонида Кравченко, консерватора с блестящей партийной карьерой. Тот быстро убрал из эфира либерально настроенных телеведущих. По всем признакам это была контрреволюция, но в силу ее ползучести ее так никто не определял. Ситуацию взорвал Эдуард Шеварднадзе, министр иностранных дел и один из ближайших соратников Горбачева. 20 декабря, прямо во время Съезда народных депутатов, Шеварднадзе подал в отставку, публично объявив, что надвигается диктатура и к власти готовится прийти “хунта”. Он знал, о чем говорил: КГБ курировал половину сотрудников министерства иностранных дел, и многие из них предупреждали Шеварднадзе о планах “конторы”.
Редакция “Взгляда” отказалась выпускать в эфир программу без интервью с Шеварднадзе, и тогда передачу просто закрыли. Первое в стране независимое новостное агентство “Интерфакс” выкинули из занимаемого им здания. “Это все больше и больше выглядит как закручивание гаек в отношении органов гласности. Гласность – основополагающий принцип перестройки: настоящее закручивание гаек было бы очень серьезной мерой, близкой к началу конца”, – записал в своем дневнике Брейтвейт[154].
На том же Съезде народных депутатов с пророческим заявлением выступил писатель и ветеран войны Алесь Адамович, один из тех, кто вместе с Сахаровым основал общество “Мемориал”. “Горбачев – единственный в советской истории лидер, который не замарал себя кровью. И так бы хотелось, чтоб он и остался человеком, не замаравшим себя кровью. Но будет момент, когда они будут толкать его в эту сторону, а потом о Вашу же одежду, Михаил Сергеевич, вытрут свои руки и сделают Вас виноватым во всем”, – сказал он Горбачеву[155].
Момент, о котором предупреждал Адамович, наступил 12 января 1991 года, когда войска МВД и КГБ попытались свергнуть правительство Литвы, за год до этого провозгласившее независимость республики. На улицах Вильнюса началась стрельба. В город вошли танки. Все это выглядело повторением 1968 года. События развивались по схожему сценарию: призывы к “нормализации” обстановки в Литве, подготовка почвы в Москве и силовое давление на СМИ. Впрочем, было и одно важное различие. Те, кто пережил 1968-й, уже не собирались сдаваться. В их руках по-прежнему находилась печать, а печать по-прежнему сохраняла силу и влияние. Но, что самое главное, в стране был источник альтернативной власти – Ельцин, и он открыто встал на сторону прибалтийских государств.
Когда в Вильнюсе начались беспорядки, Ельцин находился на юбилейном вечере, посвященном 60-летию “Московских новостей”, – в окружении реформаторов, людей искусства, журналистов и иностранных дипломатов. Узнав о происходящем, Егор хотел отменить празднование, но журналисты разубедили его. Было решено воспользоваться этим юбилеем для того, чтобы сплотить элиту страны и сказать Горбачеву, что все они думают о Вильнюсе, пока говорить было еще можно. Егор находился на сцене Центрального Дома кино, когда пришла новость о том, что танки окружают телецентр и Дом печати в Вильнюсе. Егор оглядел своих журналистов, сидевших в зрительном зале, и прямо с праздника отправил их в три прибалтийские республики. В командировки они поехали непосредственно из Дома кино, даже не переодевшись. Борис Ельцин тоже ушел с юбилея и вылетел в Таллинн на срочную встречу с главами Литвы, Латвии и Эстонии.
Около полуночи советские войска особого назначения ворвались в литовский телерадиовещательный центр. Диктор литовского выпуска новостей вела репортаж о силовом захвате в прямом эфире, пока не погас экран. Однако главное происходило на улице – прямо у телебашни. Советские солдаты открыли огонь по безоружной толпе, преградившей им путь.
В результате 14 литовцев было убито, 140 ранено. Зрители центральных каналов всего этого не увидели. Советское телевидение изобразило карательную акцию как нападение литовских националистов. Исключений было два. Дмитрий Киселев и Татьяна Миткова отказались зачитывать официальный текст, распространенный ТАСС, в ночном информационном выпуске экспериментальной “Телевизионной службы новостей”, за что оба впоследствии получили государственные медали от Литвы. (Литва лишила Киселева награды в 2014 году за его пропагандистскую деятельность во время событий в Украине. В знак солидарности с коллегой Миткова тоже вернула свою медаль.) Большинство новостных телепрограмм, включая “Время”, беспрекословно подчинилось начальственным директивам. Главным источником информации в Москве стала частная радиостанция “Эхо Москвы”.
То, что основная схватка в Вильнюсе происходила возле телебашни, говорило о влиянии и важности телевидения как средства контроля над массовым сознанием. Чтобы зараза не перекинулась на Россию, КГБ решил подкрепить войсковую операцию собственной информационной атакой. Телевизионный десант в Литву возглавил Александр Невзоров. С АК-47 через плечо, под звуковую дорожку из вагнеровского “Золота Рейна”, он вошел в телебашню и принялся опрашивать офицеров, защищавших “державу” от “фашистской угрозы”, которую представляли “литовские предатели-националисты”. Ну, а что до тех литовцев, которым проломили черепа омоновцы или которых раздавили танки, то все они, по версии Невзорова, скончались от сердечного приступа или погибли в автокатастрофах.
Десятиминутный репортаж Невзорова из Вильнюса перерос в двухсерийный документальный фильм “Наши”. “Наши” противопоставлялись литовцам и всем остальным нерусским – то есть “не нашим”. Термин “наши” прочно вошел в политический словарь постсоветской России и вынырнул опять в середине 2000-х годов – как название отряда молодежи, созданного Кремлем в качестве профилактической меры противодействия угрозе распространения вируса украинской “оранжевой” революции в России. “Нашими” у Достоевского в “Бесах” провокатор и “подлец” Петр Верховенский называет кружок псевдосоциалистов, куда он приводит Ставрогина – любимого на тот момент персонажа Невзорова.
По словам Невзорова, в вильнюсской истории за ним стоял Крючков – председатель КГБ: “ [Связь с КГБ] никогда не прерывалась с рождения”, – говорил Невзоров[156]. По его словам, его воспитывал дед – генерал КГБ, который с 1946-го по 1953 год боролся с литовскими партизанами, оказывавшими вооруженное сопротивление советской оккупации. “Он [Крючков] романтический персонаж. Он разведчик, он хранитель невероятного количества взрывоопасных тайн. Он живет под влиянием этих тайн и живет этими тайнами”[157]. Сказать, что из этого правда, а что романтический вымысел, сложно.
Как признавался позднее сам Невзоров, дело было вовсе не в самих событиях в Вильнюсе, а в его решении занять конкретную сторону. Безымянные литовцы стали для него “фашистами”, которые стреляли в “наших”. Когда Невзоров ночью стоял у окна телебашни и всматривался в уличную темноту, один из русских офицеров рассказывал ему, что литовские снайперы целятся в его солдат. Помещение освещалось вспышками камер, а значит, становилось потенциальной мишенью для любого стрелка. Это позволило критикам Невзорова назвать эпизод с офицером простой инсценировкой. “Свет попросил включить я в надежде, что все-таки по нам жахнут. Неужели непонятно? Это мы включили две подсветки, омоновцы меня чуть не убили за это. Но мне-то надо было, чтобы начали стрелять. Мне же не нужна [была] просто скучная картинка: выглядывание из темного окна на темную улицу. Что мне за радость от этого?” – возражал журналист[158].
В его фильме не было ни одного интервью с литовцами. С точки зрения Невзорова, враг должен был оставаться коллективным и анонимным. Фильм похвалили в “Правде”, а центральное телевидение показало его четырнадцать раз. Серая и нудная советская пропаганда не шла ни в какое сравнение с пропагандой невзоровской: от последней захватывало дух. Невзоров ввел в оборот средства информационной атаки, которые потом будут использоваться много раз – в том числе во время военного конфликта России с Грузией в 2008 году, аннексии Крыма и войны против Украины в 2014-м.
Но если в более поздние годы главная цель пропаганды заключалась в укреплении власти Владимира Путина, то в 1991-м ни сам Невзоров, ни те, кого фильм привел в ярость, советского президента не поддерживали. Невзоров обвинял Горбачева в том, что он действовал недостаточно жестко и бросил советских солдат в прибалтийских республиках, не выслав им подкрепления. Интеллигенция же, напротив, винила Горбачева за то, что он вообще ввел туда войска. Решения, которое удовлетворило бы обе стороны, не существовало. Сам Горбачев утверждал, что спал, когда происходило побоище в Вильнюсе, и возлагал всю вину на местные власти.
В первую среду после кровопролития в Литве “Московские новости” вышли в черной траурной рамке: на восьми страницах газеты рассказывалось о событиях в Вильнюсе. На здании редакции вывесили флаг с черной лентой; на дверь прикрепили плакат: “Кровь, пролитая в Литве, – это наша кровь”. Главный материал выпуска, с фотографией молодого человека, поднявшего литовский флаг перед советским танком, вышел под заголовком: “Преступление режима, который не хочет уходить со сцены”. В статье говорилось: “После кровавого воскресенья в Вильнюсе много ли осталось от того, что мы так часто слышали от президента в последние годы: «гуманный социализм», «новое мышление» и «общеевропейский дом»? Не осталось ничего”. Тема “гуманного социализма”, впрочем, была любимой не только у Горбачева, но и у самой газеты. Для поколения Егора Яковлева и “Московских новостей” события в Вильнюсе перечеркнули все надежды на то, что советский режим может держаться на чем бы то ни было, кроме насилия и лжи.
Передовица завершалась призывом к журналистам. “Если нет сил и возможности сказать правду, то хотя бы не участвуйте во лжи. Ложь проявится не завтра, не в будущем, она очевидна сегодня”[159]. В нижнем правом углу последней страницы этого номера “Московских новостей” были напечатаны имена сотрудников газеты, которые решили выйти из партии. Фамилии приводились в алфавитном порядке. Последним в списке был Егор Яковлев.
Вскоре после литовских событий несколько самых близких друзей Егора собрались у него дома, чтобы отметить его 60-летие. Как позже рассказывал Дэвиду Ремнику Владимир Яковлев, сын Егора, “встретились люди, не знавшие, что сказать друг другу. Вся их энергия улетучилась, мир больше им не принадлежал. А как вести себя в этом новом мире, они не знали. Обычно папин день рождения был шумным праздником. Но в этот раз все сидели молча, как в воду опущенные. Они были совершенно сломлены”[160].
Номер “Московских новостей”, посвященный литовским событиям, настолько впечатлил Горбачева, что он предложил приостановить закон о СМИ и вернуть прессу и телевидение под прямой контроль Верховного Совета, чтобы “обеспечить их объективность”. Он был так разгневан, что даже назвал газету ее английским именем “Москоу Ньюз”, видимо, стремясь подчеркнуть ее иностранный, чужеродный характер. Но джинна было не так-то просто загнать обратно в бутылку. Времена, когда Горбачев лично наделял избранное меньшинство правом свободы слова, давно миновали.
Когда один из журналистов газеты публично упрекнул Горбачева за предложение приостановить закон о СМИ, тот отказался от этой идеи так же легко, как и выдвинул ее несколькими минутами раньше. Горбачевскому крену вправо оказалось легко противостоять в силу его неубедительности. Нежелание президента СССР применять насилие и проливать кровь сильно разочаровало силовиков и консерваторов в партии.
Через месяц после провалившегося переворота в Вильнюсе Горбачев получил аналитический доклад от председателя КГБ, который настойчиво рекомендовал ему установить контроль над СМИ. “Интересы защиты советского конституционного строя настоятельно диктуют поддержание необходимого государственного контроля над средствами массовой информации, недопущения их кадрового размывания и тем более превращения в рупор антисоциалистических сил”, – писал Крючков[161]. Все было в точности, как и в 1968-м в Праге: СМИ представляли наибольшую угрозу для режима. И в точности, как в 1968-м, единственными орудиями, доступными советскому режиму для спасения самого себя, оказывались танки – неважно, с согласия Горбачева или без такового.
В апреле 1991 года Александр Яковлев написал Горбачеву:
Насколько я осведомлен, да и анализ диктует прогноз, готовится государственный переворот справа… Наступит нечто подобное неофашистскому режиму. Идеи 1985 года будут растоптаны. Вы да и Ваши соратники будут преданы анафеме… Выход один (в политическом плане): объединение всех здоровых демократических сил, образование партии или движения общественных реформ… Конечно, все это должно остаться между нами, как и в 1985 году. Я понимаю всю серьезность этой политической акции и для Вас, и для меня. Что касается меня, то мне легче уйти на пенсию и заняться наукой и мемуарами, о чем я уже принял решение. Само собой разумеется, для Вас всегда открыта дорога на руководство таким движением. Ведь играть “чужую роль” и “чужую игру” Вы все равно долго не сможете….
P. S. Вы знаете, Михаил Сергеевич, что лично мне к власти рваться поздно. Тут все ясно[162].
Горбачев не прислушался к искреннему и, как вскоре выяснится, пророческому письму Яковлева. Он верил, что выход еще есть. 23 июля Горбачев, Ельцин, Кравчук и Назарбаев, руководители Украинской и Казахской ССР, встретились на даче Горбачева, чтобы обсудить подробности договора, который будет регулировать отношения между центром и республиками. Ельцин, которого поддерживали лидеры Украины и Казахстана, потребовал, чтобы Горбачев для начала снял с должностей трех человек, ответственных за кровопролитие в Вильнюсе, – Крючкова, Пуго и Язова, то есть глав КГБ, МВД и армии. Горбачев согласился, не подозревая о том, что весь разговор тайно прослушивается и записывается Крючковым.
В тот же день газета “Советская Россия” опубликовала манифест, озаглавленный “Слово к народу”:
Родина, страна наша, государство великое, данное нам в сбережение историей, природой, славными предками, гибнет, ломается, погружается во тьму и небытие… лукавые и велеречивые властители, умные и хитрые отступники, жадные и богатые стяжатели, издеваясь над нами, глумясь над нашими верованиями, захватили власть, растаскивают богатства… режут на части страну, ссорят нас и морочат… обрекают на жалкое прозябание в рабстве и подчинении у всесильных соседей… Очнемся, встанем для единения и отпора губителям Родины!.. Россия – единственная! ненаглядная! – она взывает о помощи[163].
Позднее Невзоров утверждал, что текст манифеста писал он. На этот раз под воззванием подписалась не безвестная ленинградская преподавательница, а группа людей серьезных, которые, как отметил в своем дневнике Брейтвейт, “могли бы что-то сделать, если бы захотели”. Среди них было имя генерала Варенникова, командующего сухопутными войсками. Счет шел на дни.
16 августа Александр Яковлев, чье послание Горбачев так и оставил без ответа, вышел из КПСС и опубликовал открытое письмо коммунистам, где говорилось о возможности государственного переворота: “Если общество пошло по пути мирной революции, то партийно-государственный аппарат избирает… путь реванша, путь конфронтации… В самом ЦК… ускоренно и открыто формируется политическое направление неосталинистского реванша”. Это означает “создание… теневой структуры политической власти… Что же касается Президента, то очевидны попытки отвести ему роль заложника…”[164]. Через два дня, в половине пятого вечера, группа путчистов прилетела в Крым, где Горбачев отдыхал на своей даче в Форосе. Его поставили перед выбором: либо он уходит в отставку, либо поддерживает самозваный Комитет по чрезвычайному положению. “Ельцин арестован. Будет арестован… Михаил Сергеевич, да от вас ничего не потребуется. Побудьте здесь. Мы за вас сделаем грязную работу”[165], – заявил Горбачеву один из путчистов. Горбачев велел им всем убираться вон. Вскоре все каналы связи, имевшиеся на форосской даче, в том числе спутниковые, были отключены.
Ранним утром 19 августа внутренние войска особого назначения окружили московский телецентр и здание ТАСС. Леонида Кравченко, руководителя советского телевидения, вызвали в ЦК и проинструктировали о готовящемся введении чрезвычайного положения. Как только оно вступит в силу, “телевидение и радио должны работать в таком режиме, как они работали в дни похорон видных деятелей КПСС и государств”[166]. В пять утра ему вручили указы Государственного комитета по чрезвычайному положению – ГКЧП.
Через час диктор советского телевидения уже зачитывал текст заявления советского руководства: “В связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения Горбачевым Михаилом Сергеевичем обязанностей Президента СССР и переходом… полномочий… к вице-президенту СССР Янаеву Геннадию Ивановичу ‹…› заявляем: ‹…› ввести чрезвычайное положение в отдельных местностях СССР на срок 6 месяцев с 4 часов утра по Московскому времени с 19 августа 1991 года”.
Далее следовал текст обращения путчистов к народу: “Начатая по инициативе Михаила Сергеевича Горбачева политика реформ… зашла в тупик… Воспользовавшись предоставленными свободами… возникли экстремистские силы, взявшие курс на ликвидацию Советского Союза…”. Текст этого обращения зачитывался каждый час в течение всего дня без каких-либо комментариев. В промежутках между объявлениями все телеканалы передавали классическую музыку и показывали балет “Лебединое озеро” – в точности так, как делалось всегда, когда хоронили партийных вождей. Телецентр был взят под контроль КГБ. Никто не знал, жив ли Горбачев. Но как выяснилось, хоронили не его, а СССР.
Когда произошел путч, Ельцин находился у себя на даче и, как и все остальные жители страны, узнал о случившемся из телевизора. Арестовывать его никто не пришел. Заручившись поддержкой части военных, он отправился в Белый дом, который “станет основным плацдармом ближайших событий”, как вспоминал позднее Ельцин[167].
Первым делом Ельцин созвал пресс-конференцию и заявил, что квалифицирует действия ГКЧП как государственный переворот. Он потребовал немедленного возвращения Горбачеву полномочий президента СССР и призвал москвичей оказать сопротивление хунте. В разгар пресс-конференции Ельцин получил сообщение о том, что к Белому дому движутся еще пятьдесят танков. Следуя политической интуиции, Ельцин решил выйти из здания. Он взобрался на танк и стал пожимать руки экипажу. Картинка вызывала ассоциации с кадрами, на которых Ленин оглашает свои первые декреты с броневика. Ельцин вынул из кармана листок бумаги и принялся зачитывать обращение “к гражданам России”. В те дни распада империи символы и образы действовали на воображение гораздо сильнее, чем любые юридические документы или даже пушки танков. И не было образа более мощного, чем Ельцин, забравшийся на танковую броню, чтобы зачитать воззвание к народу. Этот его поступок придал политический вес и смысл всему, что происходило в Москве в течение следующих трех дней. Тысячи москвичей стекались к Белому дому, чтобы дать отпор путчистам – не ради Горбачева, а ради России и Ельцина.
И снова, как и 70 лет назад, борьба разворачивалась вокруг типографий и телеграфных агентств. После объявления чрезвычайного положения первым указом ГКЧП стал запрет печатать все независимые газеты. Перечень запрещенных изданий возглавляли “Московские новости”. В редакции газеты было не протолкнуться: там собрались не только журналисты и редакторы, но и все, кто считал газету ориентиром на политической карте страны. Егор вернулся из Белого дома в два часа дня 19 августа. Он выглядел собранным и спокойным. Своим сотрудникам он объявил, что, поскольку напечатать газету в типографии невозможно, они отпечатают листовки, сделают фотокопии и будут раздавать их на улицах Москвы. Журналистам он сказал, что они могут сами решить – уйти или остаться, потому что в любой момент может начаться штурм редакции. Все нервно улыбнулись, и никто не ушел.
Раздался анонимный звонок по “вертушке” – линии спецсвязи с Кремлем. Звонивший, не представившись, сказал Егору: “Ты меня, сука, душил, а теперь слушай радио…”[168]. По радио передавали указы ГКЧП. Егор оказался в родной стихии. Настал момент, о котором он мечтал всю жизнь – у него появилась возможность продемонстрировать все лучшее, что в нем было, проявить качества, унаследованные от поколения отцов. Присутствие танков в центре Москвы снимало необходимость нравственного выбора. Все было предельно просто. Через несколько дней жизнь вновь обретет сложность, но в августе 1991-го большинство людей жило текущим революционным моментом. Александр Кабаков, который из окна редакции “Московских новостей” передавал новости по радио, написал несколько недель спустя, что это были самые счастливые дни в его жизни. Журналисты приклеивали листовки на броню танков. “Танк – лучший двигатель рекламы”, – пошутил кто-то. Это была их война: слова против танков. Страх исчез – слишком высока оказалась степень абсурдности происходящего. На каждого сотрудника КГБ, мечтавшего перевешать журналистов на фонарях, находился другой – снабжавший их информацией.
Ельцин объявил себя главнокомандующим всеми вооруженными силами на территории Российской Федерации, а Егор в то же самое время фактически назначил себя главным редактором всей либеральной прессы. Он собрал у себя редакторов всех закрытых газет и предложил им, объединив силы, выпускать одну-единственную “Общую газету”. Печатать ее решили на оборудовании “Коммерсанта”, первой частной газеты, которую издавал сын Егора Владимир: там имелись ксероксы и старые ротапринты. Четырехстраничная широкополосная “Общая газета” подробно описывала дислокацию войск вокруг Москвы.
Однако никто не нанес путчистам большего вреда, чем они сами: по примеру Ельцина, они решили провести собственную пресс-конференцию. Сама идея казалась дикой: хунта, захватившая власть в стране с помощью танков, решила отдать дань гласности! Больше того, их пресс-конференцию транслировали по телевидению.
На сцене пресс-центра МИДа сидели пятеро серых советских чиновников, готовившихся отвечать на вопросы российских и иностранных журналистов. Янаев, председатель ГКЧП, изо всех сил пытался выглядеть невозмутимым, но его выдавали руки. Они тряслись – не то от страха, не то от выпитого за ночь алкоголя, а скорее всего, от того и другого сразу. И он, и сидевшие рядом с ним люди непрерывно шмыгали носами и откашливались, как будто у них першило в горле. Вид у всех был скорее жалкий, чем устрашающий. Посреди пресс-конференции двадцатичетырехлетняя журналистка Татьяна Малкина, в клетчатом летнем платье, встала и, довольно ехидно глядя на людей в серых костюмах, без тени страха задала вопрос: “Скажите, пожалуйста, понимаете ли вы, что сегодня ночью вы совершили государственный переворот? И какое из сравнений вам кажется более корректным – с семнадцатым или с шестьдесят четвертым годом?”.
Вместо приказа арестовать Малкину на месте Янаев принялся отвечать на ее вопрос: “Что касается вашего утверждения, что сегодня ночью совершен государственный переворот, я позволил бы не согласиться с вами, поскольку мы опираемся на конституционные нормы… Мне не кажется корректным сравнение с семнадцатым годом или с шестьдесят четвертым годом, я думаю, что любые аналогии здесь – они просто опасны”. Если это была завуалированная угроза, то она журналистов не испугала. Контраст между уверенностью молодой, обаятельной журналистки и растерянностью заговорщиков с мрачными, опухшими лицами был разительный. Она олицетворяла будущее. Они – прошлое.
В программе “Время”, после зачитывания официальных постановлений ГКЧП, зрители увидели отснятые днем кадры с Ельциным на танке и толпами протестующих в центре Москвы. Корреспондент “Останкино” Сергей Медведев (который вскоре станет пресс-секретарем Ельцина) добился разрешения сделать репортаж для рубрики с невинным названием “Москва сегодня”. Неподалеку от Белого дома с микрофоном в руке он обратился к людям, возводившим баррикады, с вопросом: “Откуда вы узнали, что нужно здесь собираться?” и получил ответ: “Вильнюс научил нас”. Ельцин, который тоже смотрел программу “Время”, не мог поверить своим глазам. Сюжет, прошедший в эфир с разрешения заместителя Кравченко, наглядно продемонстрировал, что путчисты далеко не полностью контролируют телевидение, а значит, и страну. Журналисты и их редакторы делали то, что было в их силах. Например, режиссер новостной службы программы “Время” Елена Поздняк, которой доверяли еще видеомонтаж выступлений Брежнева и “исправление” его дикции, не выполнила указание вырезать трясущиеся руки Янаева на пресс-конференции.
В отсутствие хоть сколько-нибудь привлекательной идеи и готовности к массовому насилию все приказы путчистов ничего не стоили. Ни один человек в Москве не вышел поддержать коммунистическую партию и КГБ. Зато тысячи людей, рискуя жизнью, вышли к Белому дому защищать Ельцина и демократические свободы, несмотря на сведения о готовящемся спецподразделениями КГБ штурме.
С военной точки зрения штурм Белого дома не представлял особых трудностей, но он бы неизбежно привел к кровопролитию, за которое кто-то должен был бы готов взять на себя ответственность. В августе 1991 года такого человека в Москве не нашлось.
Как писал позднее Егор Гайдар, военачальники тянули время, ожидая, что начнет действовать КГБ; КГБ ждал, что начнет действовать армия; милиция ждала действий армии и КГБ. Никто не хотел делать первый шаг и отдавать приказ стрелять в тех, кто скандировал перед зданием парламента “Россия!” и “Ельцин!”. Однако сами люди, которые провели ночь под стенами Белого дома, вовсе не были уверены в том, что КГБ не применит силу. Недавние события в Вильнюсе и Тбилиси говорили скорее об обратном. Каким бы жалким ни казался сейчас этот путч, 40 тысяч человек, простоявших ночь под дождем, чтобы защитить Белый дом, проявили невероятное мужество. Как и трое молодых людей, которые были раздавлены танками в тоннеле под Садовым кольцом рядом с Новым Арбатом. Эта ночь переломила ход событий.
Утром 21 августа танки начали выходить из столицы. Менее чем через двенадцать часов путчисты были арестованы, а Горбачев прилетел в Москву. Впервые в советской истории аппарат государственного насилия, вооруженный ядерными ракетами, танками и миллионной армией, капитулировал перед собственными безоружными гражданами. Вид отступающих танков и ощущение победы вызвали сильнейший эмоциональный подъем, который требовал выхода. Многотысячная толпа двинулась к зданию ЦК КПСС на Старой площади и к главному зданию КГБ на Лубянке, угрожая взять их штурмом. В ЦК спешно уничтожали документы; в КГБ готовились к вооруженной обороне. Предотвратить штурм КГБ и неизбежные при этом жертвы выпало Александру Яковлеву, которого КГБ считал (и продолжает считать) предателем. Стоя на импровизированном подиуме и слушая возгласы ликующей толпы, Яковлев ощутил, что “наступает критическая минута. Задай я только вопрос, вроде того, а почему, мол, друзья мои, никто не аплодирует в здании за моей спиной, и, мол, любопытно, что они там делают, – случилось бы непоправимое. Я понял, что взвинченных и готовых к любому действию людей надо уводить с площади, и как можно скорее”. Яковлев быстро спустился с помоста и зашагал в сторону Манежной площади, прочь от здания КГБ. И тут, как он вспоминал позднее, его подняли на руки: “я барахтался – наверное, до этого только мать держала меня на руках, да еще медицинские сестры в госпитале во время войны, – и так несли до поворота на Тверскую улицу”[169].
Тем временем на площади перед зданием КГБ появился строительный кран. Гнев толпы обрушился на памятник Феликсу Дзержинскому, чье имя тогда носила эта площадь. Несколько человек вскарабкались на статую и обвязали вокруг ее шеи веревку. После нескольких попыток кран сдернул памятник с пьедестала, и многотонная статуя отца-основателя ЧК закачалась и повисла в воздухе. По воспоминаниям генерала КГБ Алексея Кондаурова, находившегося внутри здания на Лубянке и нервно наблюдавшего из-за затемненных окон за действиями людей на площади, чекисты чувствовали, что их “предал Горбачев, предал Ельцин, предали беспомощные путчисты”[170]. За гибелью режима последовал ряд самоубийств – более или менее подозрительных. Маршал Ахромеев, военный советник Горбачева, был найден мертвым с петлей на шее, а на его столе лежала стопка предсмертных записок. Пуго, министр внутренних дел, застрелил жену и застрелился сам за несколько минут до того, как его пришли арестовывать. Человек, который распоряжался финансами ЦК, выпрыгнул из окна.
Главные путчисты отсидели около полутора лет в тюрьме и вышли оттуда по амнистии. И Горбачев, и Ельцин соблюдали неписаное правило, которое установили преемники Сталина после его смерти: не применять насилие внутри номенклатуры для разрешения политических конфликтов. Крючков, главный организатор переворота, прожил еще достаточно долго, чтобы заново обрести статус и стать советником директора ФСБ Владимира Путина, который спроецирует чувство поражения и унижения, испытанное КГБ в августе 1991-го, на всю страну.
Михаил Горбачев и круг его соратников по перестройке стали одновременно и победителями, и главными жертвами путча. Физически Горбачев не пострадал, но как политик закончился. По выражению Лациса, “мы потерпели победу”[171]. Если до путча и теплилась хотя бы слабая надежда сохранить Союз, то после от нее не осталось и следа. “После событий 19–21 августа гибель империи стала не просто неизбежной, она произошла”, – написал Егор Гайдар[172]. Горбачев осознал это не сразу. Приземлившись в Москве после трех дней, проведенных в изоляции в Форосе, он не понял, что вернулся в другую страну и в другом качестве. Он повел себя как генеральный секретарь, а не как популярный политик. Вместо того чтобы прямо из аэропорта поехать в центр города и присоединиться к людям, оседлав таким образом революционную волну, Горбачев отправился домой. На следующий день он обратился к народу с экранов телевизоров. Горбачев, за спиной которого по-прежнему висел красный советский флаг, говорил по бумажке, сбивался и казался дезориентированным из-за событий, происшедших в стране за время его отсутствия. Вечером того же дня он созвал пресс-конференцию, на которой, отдав должное Ельцину и Верховному Совету РСФСР, подтвердил свою верность “социалистической идее и курсу «обновления» партии”. Журналисты были буквально ошарашены его непониманием ситуации. “Это была ваша худшая пресс-конференция, – сказал Яковлев Горбачеву после его выступления. – Партия мертва, неужели вы не видите? Это все равно что предлагать привести в чувство покойника!”[173].
Еще день спустя Горбачев пришел на заседание Верховного Совета РСФСР. Вместо красного советского флага на сцене был установлен российский триколор. Когда Горбачев вошел в зал, депутаты встали и зааплодировали, но это приветствие было адресовано не ему, а Ельцину, шедшему рядом и использовавшему каждую возможность публично унизить президента СССР. После того как он заставил Горбачева вслух прочитать имена им же назначенных министров, поддержавших путч, Ельцин, проигнорировав протесты Горбачева, публично подписал указ, приостанавливающий деятельность коммунистической партии. Ельцин откровенно сводил счеты. Это была его личная месть за унижение, которому Горбачев подверг его несколькими годами ранее. Горбачев казался раздавленным и вызывал сочувствие. Ельцин же глядел победителем и своей безжалостной победоносностью вызывал неприязнь. 24 августа 1991 года Горбачев сложил с себя полномочия генерального секретаря КПСС.
В тот день “Московские новости” вышли под заголовком “Будем жить!”. Правда, вскоре ощущение победы сменилось тревогой. Главный вопрос заключался не в том, выживет ли страна, а в том, как она будет теперь жить. Возможно, унижение Горбачева и принесло Ельцину некоторое удовлетворение, но оно не решало ни одного из основных вопросов, важнейшим из которых был: “Что дальше?”. После трех безумных и героических дней эмоциональный спад был неизбежен. Однако в этом спаде крылось нечто большее, чем усталость. Провал путча не стал идеологическим водоразделом; несмотря на все революционные образы, включая Ельцина на танке, это событие не праздновали как рождение новой страны, а отмечали как развал старой.
Многие, если не большинство, верили, что стоит только избавиться от власти коммунистов, как Россия превратится в “нормальную” страну, станет частью цивилизованного мира. Вера эта во многом держалась на верховенстве идеологии – как будто отстранение коммунистов от власти могло восстановить разрушенную за 70 лет капиталистическую экономику, устранить коррупцию и создать независимые политические институты. Никто не предупреждал сотни тысяч людей, которые в конце 1980-х выходили на демонстрации и уличные митинги во имя суверенитета и демократии, о том, что крах советской империи будет сопровождаться затяжным экономическим спадом и, для многих, обнищанием. Ни Горбачев, ни первый президент России Ельцин не имели ни четкого плана действий, ни даже представления о том, что за страна придет на смену Советскому Союзу.
Советская интеллигенция, поддержавшая перестройку, оказалась неподготовленной к ее последствиям, главным из которых было самоустранение государства, эту интеллигенцию вскормившего. Все так долго поднимали тосты “За успех нашего безнадежного дела!”, что не задумывались о том, что делать, когда и если это дело победит. Лишившись своего главного оппонента (и одновременно кормильца) в лице государства, интеллигенция как класс утратила ощущение своего предназначения и своей цели. Кто-то решил уехать, кто-то принялся оплакивать прошлое, кто-то стал энергично зарабатывать деньги.
Вместе с вакуумом власти обнаружился и вакуум идей. Спустя неделю после путча Александр Кабаков писал в “Московских новостях”: “Сказки заканчиваются свадьбой или революцией, жизнь с этого только начинается. Кончился коммунизм в нашей стране… Казалось бы, только и радоваться, дожить до такого и не мечтал. Но радости нет. Вместо этого – все сильнее тревога. Потому что нельзя радоваться концу, за которым не следует начало. А начало пока видно очень смутно. Пока все идут похороны”. Кабаков назвал свою статью “Тень на пиру”[174].
Мотив тени, призрака возникал не у одного Кабакова. Примерно тогда же замечательный ученый и философ Сергей Аверинцев написал эссе, которое вышло в “Литературной газете”. Эссе называлось “Да оградит Бог нас от призраков” и больше напоминало проповедь, чем публицистическую статью. “Похоже, что мы вступили в эпоху политиков, когда самый благородный, искренний, нравственно безупречный дилетантизм делается несколько неадекватным, а потому опасным, – писал он. – Это не означает, что моральные проблемы и моральные примеры теряют релевантность, Боже избави! Но пора наступает более прозаическая, неизбежно, оправданно прозаическая, когда голос в политике будет иметь тот, кто имеет предложить не эмоциональные оценки, не «идейные» и «беспочвенные» суждения на предельной ступени абстракции, – а предметные решения для предметных проблем”[175]. Новой эпохе требуется Аристотель, а не Платон, утверждал Аверинцев. Беда только в том, что Аристотели встречаются нечасто.
Проповедь Аверинцева, помимо прочего, заключала предостережение тому поколению, которое собиралось сменить советскую интеллигенцию и было уверено, что знает “предметные решения для предметных проблем”. “Нужно ясно различать веру в свою правоту, без которой спора нет, и веру в свое превосходство”, – писал он и приводил в пример фарисеев.
По словам Аверинцева, “больше вины всегда на младших, ибо старшие немощны. Молодым быть, как известно, нелегко, но старым – все-таки труднее. И мне не хотелось бы, чтобы праведный гнев против уходящего тоталитаризма эксплуатировался вступающими в жизнь поколениями как предлог не исполнять заповеди Божией «Почитай отца твоего и матерь твою, чтобы продлились дни твои на земле»”. Прежде всего, продолжал он, не нужно искажать действительность. Смотреть в прошлое – одно дело, но изобретать его заново – совсем другое. “Христос велит человеку вернуться из воображаемого места – в реальное, от воображаемого себя – к реальному. Из любого, самого постыдного, самого непотребного реального места можно начать путь возвращения к Богу; из воображаемого – нельзя, ибо нас там – нет. И то воображаемое «я», которое находится в воображаемом месте, не может идти к Богу”, – заключал Аверинцев[176]. Как станет ясно из дальнейшего, слова Аверинцева не были ни услышаны, ни востребованы.
Глава 4 Отцы и дети
Смотрите, кто пришел
Конец советской империи совпал с резкой сменой поколений в общественной жизни России – и отчасти спровоцировал ее. На смену шестидесятникам, отошедшим от дел одновременно с Горбачевым, пришли их дети. Сам Ельцин, хотя по возрасту и был ровесником Горбачева, к поколению шестидесятников себя не причислял, и окружали его люди на двадцать или даже тридцать лет моложе. Особенно четко смена поколений вырисовывалась в медиа, что не удивительно, поскольку именно там формировался язык и стиль новой эпохи. Новое поколение приходило на волне резкого отторжения опыта и мироощущения отцов.
В отличие от Егора и поколения реформаторов, выросших в “отблеске костра” революции, их дети не испытывали к поколению отцов никакого пиетета. Они не страдали “комплексом Гамлета”, не желая ни мстить за отцов, ни воплощать их замыслы. Их отцы, во-первых, были еще живы, а во-вторых, в одночасье оказались банкротами – и в идейном, и в финансовом смысле.
Идея “социализма с человеческим лицом” окончательно умерла одновременно с советской экономикой. Если поколение Егора стремилось продолжать дело отцов, то их собственные дети выставили шестидесятникам внушительный счет за все провалы и неудачи: “Как они могли оправдывать большевистскую революцию, даже когда видели все ее последствия?”. В первые постсоветские годы подобное сведение счетов с шестидесятниками превратилось в одно из популярных интеллектуальных занятий. Молодые либералы-западники обвиняли своих родителей (и советскую интеллигенцию в целом) в сближении с властью, в постоянных играх с ней в кошки-мышки, в обмане и самообмане. Сыновья клеймили отцов за лозунги вроде “Больше социализма!”, но активнее всего – за их гражданственный пафос.
Публичный отказ от пафоса, идеологии и идеализма шестидесятников стал одним из лейтмотивов начала 1990-х. При этом дети шестидесятников не замечали, что в самом этом отказе зачастую было не меньше пафоса и идеологии, чем у тех, кого они отторгали и высмеивали. В 1992 году в телепрограмме “Момент истины” Андрей Караулов из “Независимой газеты” беседовал с журналистами Александром Тимофеевским и Андреем Мальгиным. “Там, где они [шестидесятники] плакали, мы смеемся”, – сформулировал Мальгин девиз собственного поколения. “Надо относиться к жизни легче, ироничнее”, – пояснил он. На вопрос Караулова, верят ли его собеседники в Ельцина, Мальгин ответил: “Его стоит поддерживать, если он пойдет по южнокорейскому варианту”[177]. Гости программы утверждали, что России нужен кто-то вроде Аугусто Пиночета – человек, способный реформировать страну и установить порядок ради построения капитализма.
Караулов, зять Михаила Шатрова, автора пьес о Ленине, упрекал своих собеседников в радикализме. В его глазах шестидесятники вообще не стоили споров, они были ему попросту безразличны. Выдвижение на первый план Караулова наталкивало на тревожную мысль о том, что победителями из августа 1991 года вышли люди вроде него самого. В момент распада Советского Союза раскол как между отдельными людьми, так и целыми поколениями происходил не только по политическим линиям: эти противоречия просто были наиболее заметными. (К демократическому лагерю примыкало большинство здравомыслящих людей независимо от того, верили они в демократические идеалы или нет.) Гораздо менее заметным и гораздо более существенным по своим последствиям стало разделение по линии нравственной. Караулов, заявлявший о своих высших нравственных мотивах, был, пожалуй, одним из самых циничных журналистов в России. В своей книге “Могила Ленина” Дэвид Ремник писал о Караулове: “Караулов был пробивным журналистом: таких я не встречал ни до него, ни после, по крайней мере в Москве”[178]. Однажды Караулов повел Ремника на встречу с главным редактором “Независимой газеты” Виталием Третьяковым. Когда они проходили мимо здания КГБ на Лубянской площади, Караулов попытался продать Ремнику – в самом буквальном смысле, за доллары – “какую-то безумную шпионскую историю, в которую был замешан Большой театр…”. Когда Ремник отказался от “наводки” и объяснил, что в правилах его редакции не платить за информацию, “он явно удивился и обиделся. «Между прочим, без меня вы бы в жизни не нашли редакцию, – заявил он. – По крайней мере, за это вы мне должны»”. В течение следующего десятилетия Караулов заслужит репутацию одного из самых продажных тележурналистов, а его передача “Момент истины” станет, даже по не слишком строгим меркам русской журналистики, синонимом пакостности и вранья.
После той телепрограммы у Мальгина случился спор с Егором Яковлевым. Мальгин опубликовал расшифровку их разговора в своем журнале “Столица” под заголовком “Смотрите, кто ушел”[179]. В тот момент Егора как раз уволили с поста руководителя Центрального телевидения, который он получил сразу после августовского путча 1991 года, и он работал над полноценным запуском “Общей газеты” – последней в его карьере. “Вы работали на власть”, – упрекал Мальгин Егора и весь его круг. “Шестидесятники – все поколение! – всей своей массой навалились на наше бедное, замороченное население и убедили его, что революция – это хорошо, что социализм – еще лучше, и вообще нужно семимильными шагами двигаться к коммунизму”. Егор пытался защититься: “Вы не хотите понять трагедию моего поколения. Мы верили в возможность улучшения этого строя. […] Можно ли было улучшить социализм? Искренне говорю: не знаю. […] Особенность нашего строя заключалась в том, что лишь начинаешь его улучшать, тут он и саморазрушается”. И тем не менее, настаивал Егор, в самих идеях социальной справедливости и равенства нет ничего плохого.
Мальгин оборвал его: “После того, что прошла страна, говорить о социализме хорошо как-то даже неприлично”. Через год после распада СССР Егор, конечно, не имел оснований защищать социализм как политическую систему, но он ответил Мальгину, что превозносить капитализм в том виде, в котором он возникал в России, и кичиться своей буржуазностью – в равной степени неприлично: “У нас не перестают мечтать о капитализме в самом примитивном, бесчеловечном обличье”. В конце разговора Мальгин заявил Егору, что его поколение безнадежно устарело для тех, кому около тридцати четырех лет “или даже вдвое меньше”. Егор не стал спорить: “Грустно, разумеется, но приходится признать, что мое поколение сошло со сцены. Можно, пожалуй, начать издавать газету ушедшего поколения. В такой газете каждый некролог означал бы, что на одного подписчика стало меньше”.
Для Егора слом поколений был личной драмой, потому что коснулся его собственной семьи. Его сын Владимир Яковлев стал основателем и главным редактором “Коммерсанта”. Эта газета была манифестом поколения “сыновей” и самым влиятельным изданием периода зарождающегося капитализма. Как настоящий журналист и любитель эффектных концовок в прощальном номере “Московских новостей”, вышедшем в 1991 году, Егор поместил интервью с собственным сыном.
Разговор вышел напряженным. В отличие от отца, Владимира не интересовала политика. Когда Егор позвал сына на прощальный вечер Горбачева, организованный для журналистов, Владимир туда попросту не пришел. Для него и Горбачев, и собственный отец были уже историей. Гораздо более привлекательными казались возможности, открывшиеся с крахом советской власти, а что до причин этого краха, то они его волновали мало. В советском строе он видел сбой, недоразумение, которое мешает людям зарабатывать деньги, не подвергая себя риску конфликта с государством.
Егор всю жизнь находился на государственном обеспечении, и мысль о том, что его родной сын подался в предприниматели, казалось ему странной.
“Мне никак не удавалось ни понять тебя, ни согласиться с тобой. Даже в самой малости: в готовности получать заработанные деньги не через окошко государственной кассы, а где-то в другом месте”. Интервью заняло целый разворот. Егор эффектно завершил его воспоминанием о собственном отце: “Четверть века назад, и даже более того, увидела свет одна из первых моих книг. Я размышлял в ней над проблемой отцов и детей. И называлась она «Я иду с тобой», подтверждая, что я готов во всем продолжать путь своего отца, – тогда мне представлялось это возможным. А посвящена эта книга сыну. «Сыну Вовке, участнику будущих споров», – писал я тогда. Писал и представить себе не мог, какой разговор произойдет у нас с сыном четверть века спустя”[180].
Владимир Яковлев, родившийся в 1959 году и названный в честь деда-чекиста, совершенно точно не собирался идти куда-либо вместе с отцом, хотя и пошел по его стопам журналиста. Больше того, он изо всех сил пытался вырваться из крепких отцовских объятий. Тем не менее от отца он перенял некоторые черты: энергию, честолюбие и веру в магическую, завораживающую и преображающую силу информации и печатного слова. “Коммерсантъ” не только отражал реальность, но и задавал курс, по которому Россия переходила к капитализму, так же как в свое время “Московские новости” определяли перестройку.
Как и многие капиталистические предприятия в России, “Коммерсантъ” вырос из кооператива. Владимир Яковлев создал его в конце 1980-х годов, когда еще работал журналистом в “Огоньке”. Кооператив занимался обработкой информации. Возник он, по сути, как побочный продукт журналистского задания: редактор поручил Владимиру написать статью о том, как открыть кооператив. Чтобы рассказ получился нагляднее, Владимир должен был проделать этот эксперимент сам. Вскоре он понял, что собственное дело хотят запустить многие, но как это делается, не знает практически никто.
Гласность в позднесоветских печатных СМИ менее всего распространялась на фактическую информацию, которая входила в число привилегий ограниченного круга лиц. Телефонные справочники оставались секретными. Чтобы раздобыть номер телефона какого-нибудь ведомства, учреждения, посольства или кооператива, нужны были связи. Владимир понял, что это золотая жила. Он начал рекламировать свои услуги по поиску сотрудников для кооперативов и оказанию помощи тем, кто хочет открыть свое дело. “На следующий день на наше объявление откликнулось 235 человек. В то утро мы сели, поглядели друг на друга в панике и спросили: «Ну, а теперь, черт возьми, как мы поможем всем этим людям найти работу?». Мы понятия не имели, что делать”[181]. Так возник кооператив “Факт”. Добывать информацию оказалось не так сложно, как представлялось поначалу. Вскоре Владимир понял, что контакты нужны были не только ему: в них нуждалось большинство кооперативов, которые искали клиентов и сотрудников. От него требовалось одно: просто дать о себе знать. Так “Факт” стал выполнять функцию справочника или посредника.
В офис “Факта”, разместившийся в магазине аккордеонов, потекли люди. Один рубль стоила любая справка – будь она о кооперативном ресторане или о частном водопроводчике. Десять рублей нужно было отдать за то, чтобы информация о том или ином предприятии попала в базу данных “Факта”. Кроме того, “Факт” продавал руководства по открытию бизнеса с набором необходимых документов по 30 рублей за экземпляр, а также печатал бюллетень о кооперативах и ценах на черном рынке – прототип будущей газеты.
Идея выпускать свою газету, по словам Владимира Яковлева, родилась во время разговора с Артемом Тарасовым – первым советским легальным миллионером, который занимался импортом компьютеров и ремонтом подержанной японской электроники. Тарасов, возглавлявший кооперативное движение, доказывал, что кооператорам нужен собственный печатный орган, и уговаривал Владимира его создать. Владимир быстро уловил суть кооперативного движения, усмотрев в нем не какой-то маргинальный эксперимент с частным бизнесом, а способ узаконить один из основных человеческих инстинктов: обогащаться. Особый талант Яковлева проявлялся в том, что в будущих российских бизнесменах он угадал самостоятельную общественную силу и покупателей информации.
Планы Владимира оказались гораздо амбициознее того, что имел в виду Тарасов. Ему захотелось создать первую в стране газету западного типа – вроде The New York Times. Выходить она должна сразу на двух языках – русском и английском, – а информацию ей должно предоставлять собственное новостное агентство, которое он назвал “Постфактум”.
У 30-летнего Владимира появился неожиданный партнер – Глеб Павловский, бывший диссидент из Одессы. Восемью годами старше Яковлева, он в середине 1970-х был арестован за хранение и распространение антисоветской литературы. Тогда его отпустили в обмен на информацию о его контактах в диссидентской среде. Через несколько лет его арестовали снова – на этот раз за выпуск самиздатовского журнала. Он согласился сотрудничать со следствием, и вместо исправительно-трудового лагеря его отправили в ссылку. Среди московских диссидентов Павловский пользовался сомнительной репутацией: ходили слухи, что он тесно сотрудничал с КГБ и давал показания на некоторых своих товарищей. Теперь же Павловский стал руководителем новостного агентства “Постфактум”, а Владимир – главным редактором “Коммерсанта”.
В 1989 году все еще формально существовала цензура. Чтобы обойти ее, Владимир представил “Коммерсантъ” как орган Ассоциации объединенных кооперативов СССР и убедил Главлит в том, что это вообще не газета, а простой рекламный листок. Реклама, по новому перестроечному закону, не подлежала цензуре. “А почему он у вас выглядит как газета?” – спросил недоверчивый цензор. – “Так это реклама газеты”, – ответил Владимир[182].
Доля истины в этом ответе была. “Коммерсантъ” действительно рекламировал новую, капиталистическую жизнь в том виде, в каком ее представлял себе в те годы Владимир. Название газеты звучало провокационно: официально в СССР не было коммерсантов, а сама коммерция считалась преступлением и каралась тюремными сроками.
“Коммерсантъ” стал антиподом “Московских новостей”, реакцией на них. Он отвергал их гражданский пафос, возвышенный слог, манеру говорить о Правде (с заглавными буквами, подчеркиванием и восклицательными знаками), их рассуждения о призвании и долге, их политическую позицию. “То, что мы делали, было антижурналистикой с точки зрения людей отцовского круга. Они занимались журналистикой мнений. Мы же занимались журналистикой фактов”, – говорил сам Владимир[183]. Лишь немногие из сотрудников “Коммерсанта” были журналистами советской выучки. В основном там работали просто умные молодые люди, которые до этого ни разу в жизни не писали газетных статей.
Это была буржуазная газета, не рассчитанная на одержимую политикой интеллигенцию, которая читала бы ее на уличных щитах, как она читала “Московские новости”. “Коммерсантъ” создавался как газета для серьезных людей, всерьез занимающихся бизнесом. Изучать ее нужно было в комфортной домашней обстановке, за завтраком, с чашкой кофе и стаканом апельсинового сока на столе. Однако, несмотря на то, что “Коммерсантъ” утверждался в качестве газеты новых времен, вопросы о прошлом занимали его не меньше, чем занимали они издания предыдущего поколения, от которых “Коммерсантъ” намеренно отворачивался.
Егор отматывал хронологию событий обратно к 1968-му году, а потом – еще дальше, к эпохе ленинского НЭПа, чтобы определить, в какой момент страна свернула не туда. Он обращался к истокам большевистской революции, а его сын отматывал ленту еще дальше – к началу века, когда нарождавшийся класс коммерсантов и предпринимателей стремительно набирал общественный вес, обретая культурную и гражданскую значимость. Егор когда-то позаимствовал название своего журнала “Журналист” у одноименного издания 1920-х годов, Владимир взял название “Коммерсантъ” из начала 1900-х.
Первый пробный номер газеты вышел с манифестом:
Кооператоры – люди без прошлого. Люди, не имеющие возможности привести в свою защиту самый весомый из всех аргументов – исторический опыт. Не в том ли первопричины многих кооперативных бед? Дерево без корней – так соблазнительно для корчевщика… “Коммерсантъ” издавался в Москве с 1908-го по 1918 год. И был газетой для деловых людей, газетой, многие из материалов которой, лишь слегка подредактировав, вполне можно публиковать сегодня. Мы решили не издавать новую газету… Мы решили продолжить издание, прерванное по не зависящим от редакции обстоятельствам… У нас есть прошлое[184].
Дореволюционный “Коммерсантъ” едва ли можно было назвать заметным изданием. Он возник в 1908 году, на волне русского капитализма, как “Московский коммерческий указатель”. Содержал ее Н. Г. Лео, владелец магазина патефонов и патефонных пластинок. Газета успеха не имела и через месяц закрылась. Год спустя ее купил бумажный фабрикант и издатель порнографических брошюр Г. А. Блюменберг. 25 октября 1917 года “Коммерсантъ” поместил на первую полосу интервью с сотрудником министерства внутренних дел А. М. Никитиным, который уверенно утверждал, что у большевиков нет никаких шансов взять власть, а “всякие авантюры встретят в настоящее время гораздо более сильный отпор, чем раньше”. На следующий день большевики захватили власть в стране, и “Коммерсантъ” решил больше не выходить.
Однако важен был сам факт, что когда-то в прошлом существовала газета с таким названием и с дореволюционным твердым знаком на конце, а уж что это была за газета – не столь и важно. Владимир Яковлев не собирался воскрешать старый “Коммерсантъ”: он заново изобретал и прошлое, и исторический опыт, чтобы снабдить российский капитализм биографией.
Шапка газеты гласила: “Издается с 1909 года. С 1917 по 1990 год не выходила по не зависящим от редакции обстоятельствам”. “Коммерсантъ”, обозначая свою позицию, как бы изымал советский период из круга зрения и интересов читателя, списывал его за ненадобностью. Если “Коммерсантъ” не выходил в эти годы, то их как бы и не было. “Мы толком не знали историю страны. Мы воспринимали весь советский период как одну темную полосу, и нам захотелось устранить разрыв, восстановить связь с нормальной эпохой здравого смысла”, – объяснял Владимир Яковлев[185].
Хотя “Коммерсантъ” и боролся с советской идеологией, его отказ от любой советской культуры – диссидентской или официальной – носил глубоко идеологический характер. Все, мало-мальски тронутое советской эстетикой, отвергалось независимо от его содержания или художественных достоинств. “Сыновья” отторгали целый культурный слой, содержавший, среди прочего, “антитела”, выработанные культурой против национализма и тоталитаризма. Своим отказом от советского наследия они невольно подрывали иммунитет страны к этой заразе и облегчали возвращение в обиход символов советской имперской государственности, происшедшее десятилетие спустя.
Читатели и авторы “Коммерсанта” относились к советской цивилизации не как к предмету изучения и рефлексии, а как к материалу для постмодернистской игры и стеба, как к источнику каламбуров и карикатур. Осмыслять и изучать не было ни времени, ни желания. Письменный советский язык давно утратил всякую связь с литературой, поэтому он становился объектом бесконечных игр. У посткоммунистической России не было собственного серьезного языка для описания исторического слома. Слова “правда”, “долг” и “ответственность” девальвировались; вместе со словами девальвировались понятия, за ними стоящие. “Этими словами советская власть бравировала в лозунгах, пока сама убивала и растлевала людей. Для нас они стали бранными словами”, – говорил Владимир Яковлев[186].
В 1990 году – одновременно с началом выхода “Коммерсанта” – историк литературы Мариэтта Чудакова записала в своем дневнике: “Наш народ разве ждет от себя «нового слова»? Нет, не ждет ничего. И что может получиться при таком полном отсутствии пафоса?”[187]. Можно было бы вспомнить Маяковского. “Улица корчится безъязыкая//Ей нечем кричать и разговаривать”. Но Маяковского, кажется, тоже вычеркнули. Стеб стал фирменным стилем для заголовков “Коммерсанта”: “Моссовет велел мясу дешеветь. Мясо не хочет”; “Гомосексуалисты сводят концы с концами”; “Социализм с человеческим концом”. Стеб отменял ложный пафос перестроечной эпохи, но новых идей не рождал. Остроумие скрывало вакуум новых идей и смыслов.
При этом с первых своих выпусков “Коммерсантъ” заявил о себе как о газете нового типа, которая не просто иначе описывает реальность, но и стремится формировать ее. Для этого ей требовался новый язык. Человеком, который взялся за вырабатывание нового языка в “Коммерсанте”, стал Максим Соколов, главный политический обозреватель газеты. “В прессе, условно говоря, начала 1990-го года в общем наблюдаются две тональности. Либо тональность революционная: на бой, на бой; либо тональность пророческая – то есть в том духе, что человек говорит так, как будто он находится на проводе с мировым духом, и этот мировой дух ему говорит, как все называется, как все будет”[188]. Соколов ввел третий канон письма – отстраненный, ироничный, стилизованный под газетный очерк конца века предшествующего.
Максим Соколов был интеллектуалом и либеральным консерватором. Он культивировал образ эрудированного скептика, индивидуалиста, целиком принадлежавшего досоветской эпохе. Это проявлялось во всем – от текстов до внешности. Создавалось ощущение, будто он проспал последние семьдесят лет советской истории или будто машина времени перебросила его через все эти годы в день сегодняшний, и вот теперь он пытается осмыслить происходящее в современной России, глядя на нее через монокль XIX века. Каждый номер начинался с его колонки под рубрикой “Логика недели” (позднее переименованная в “Что было на неделе”). В отличие от обозревателей “Московских новостей”, которые всегда занимали какую-нибудь позицию и излагали собственную точку зрения, Соколов оставался совершенно беспристрастным и отстраненным от темы своего рассказа. Если он и занимал какую-то позицию, то только позицию умудренного наблюдателя, который смотрит на текущие дела и главных действующих лиц с исторической высоты. Политические события он описывал, сверяясь с церковным календарем, и употреблял по отношению к ним неуместные слова, которые звучали комично и нелепо. Его колонки были пересыпаны речевыми оборотами XIX века, латинскими изречениями, цитатами и аллюзиями на литературные произведения.
Основная целевая аудитория “Коммерсанта” – то есть зарождавшийся класс бизнесменов – была более искушена в блатном жаргоне, нежели в соколовской латыни. Однако то, что колонки по большей части оставались недоступными для понимания широкого читателя, было на самом деле частью продуманной стратегии журналиста. Эта непонятность порождала чувство исключительности, эксклюзивности и принадлежности к избранному кругу нуворишей. Колонки Соколова одинаково трудно представить и в какой-нибудь западной, и в советской газете, но они тем не менее идеально вписывались в концепцию “Коммерсанта”. Его литературный “монокль” был таким же обманом, как и солидное прошлое самой газеты.
“Коммерсантъ” отражал противоречивость переходного периода 1991 года. С одной стороны, как продукт революционного времени он отрицал недавнее прошлое. С другой – избегал революционной эстетики, главным образом потому, что, как написал десять лет спустя сам Максим Соколов, “революция – это такое время, когда люди говорят и пишут немыслимое количество пошлостей”[189]. У “Коммерсанта” в освещении августовского путча 1991 года не было ни капли революционного пафоса. Если “Московские новости” вышли после провала путча под шапкой “Будем жить!”, то “Коммерсантъ” вышел под заголовком “Слава богу, перестройка закончилась”.
Передовицу Соколова предваряла частушка:
Я проснулся в шесть часов С ощущеньем счастья: Нет резинки от трусов И советской власти!“Два последних дня в Москве стали днями похорон: идиотский режим умер идиотским образом… Путч оказался дурацким, потому что народ перестал быть дураком”, – подытоживал свои впечатления Соколов[190]. Неделю спустя в разделе “Рынки и биржи” “Коммерсантъ” писал: “Переворот, учиненный группой лиц 19 августа, был настолько скоротечным, что никак не повлиял на биржевые цены, которые были продиктованы поручениями товаровладельцев, давших брокерам указания о ценах задолго до 19 августа”[191].
Крах Советского Союза не сопровождался культурным всплеском, вроде того, что случился при его рождении в 1917 году. Энергия 1910-х – 1920-х годов была связана с великой утопией, ощущением конца старого света и приближающегося царства правды и справедливости. Август 1991-го, напротив, покончил и с утопией, и с идеологией. Как флегматично написал Соколов, все, чего ему хотелось после трех дней, проведенных в Белом доме, – это “вымыться и отоспаться”. Выражаясь словами Чудаковой, что может получиться при таком полном отсутствии пафоса?
В отсутствие нового проекта, ясной цели и представления о будущем Россия занялась поисками мифического прошлого. После распада СССР и в Кремле, и в СМИ к власти пришли люди, которые принялись изображать не революционеров, а хранителей и приверженцев тех традиций, что существовали в досоветские времена. Инаугурация Ельцина в качестве первого в истории президента России, сколь это ни было абсурдно, преподносилась как церемония, выдержанная “в духе давней исторической традиции”.
Александр Тимофеевский – молодой эссеист и литератор, точно улавливавший вкусы и настроения поколения тридцатилетних, – восхищался консерватизмом “Коммерсанта”, его взвешенным и размеренным тоном, его чувством солидности: “как в старой толстой британской газете, обстоятельность тона здесь подразумевает вековую стабильность жизни, размеренной и отлаженной, расчерченной на столетия”. Когда читаешь статьи с загадочными иностранными словами – например, “лизинг”, “клиринг” или “биржи”, то “возникает иллюзия не просто общего тона, а чего-то бесконечно большего – другой жизни, которую двести лет поливали и стригли”[192].
То, что эта жизнь была вымыслом, его не смущало. В “Коммерсанте”, писал он, “разворачивалась «другая жизнь», пленительная и вожделенная. Исходя из этого, не имеет никакого значения распространенный упрек «Коммерсанту», что он, мол, много врет. Неважно, если и так – важно, что врет уверенно и красиво”. После выхода этой статьи в декабре 1991-го Владимир Яковлев предложил Тимофеевскому стать его личным штатным критиком. Та статья Тимофеевского называлась “Пузыри земли”, и эпиграфом к ней служили строки из “Макбета”: “Земля, как и вода, содержит газы. И это были пузыри земли…”[193]. У Шекспира эти слова относятся к ведьмам, чья притягательность так же коварна и обманчива, как их наружность. Эти же слова можно было отнести и к “Коммерсанту”, и к самому Тимофеевскому.
“Декабрьская Москва 1991 года – одно из самых тяжелых моих воспоминаний. Мрачные, даже без привычных склок и скандалов, очереди. Девственно пустые магазины. Женщины, мечущиеся в поисках хоть каких-нибудь продуктов. На безлюдном Тишинском рынке долларовые цены. Среднемесячная зарплата – 7 долларов в месяц. Всеобщее ожидание катастрофы”[194]. Так запомнился Егору Гайдару месяц, когда перестал существовать Советский Союз, а сам он взял на себя кризисное руководство российской экономикой и ответственность за нее.
2 января 1992 года Гайдар отменил государственное регулирование цен на большинство продуктов, что привело к трехкратному росту цен на продовольствие. Либерализация не столько вызвала, сколько проявила инфляцию, которую ранее скрывал дефицит и которая теперь разом “съела” номинальные сбережения людей. Уничтожение обесценившихся рублевых сбережений было единственным способом снова заставить деньги “работать”. Через несколько недель Гайдар отменил мешавшие импорту торговые барьеры и издал указ о свободе торговли, что позволило людям продавать что угодно и где угодно.
Чуть ли не на следующий день центр Москвы наводнили торговые лотки. Люди вышли на улицу продавать, что у кого было: пару носков, бутылку водки, пачку масла, порножурналы, Библии, яблоки – все, что имело хоть какой-то шанс быть проданным. Зрелище было неприглядным, но зимой 1991–92-го года эстетика мало кого волновала. Более молодые и энергичные устремились в Турцию и Китай: там они набивали дешевые клетчатые сумки куртками, пиджаками и нижним бельем, чтобы потом продавать все это на стихийных рынках. Такие торговцы-челноки стали одевать всю страну. Это было не признаком нищеты (хотя многие нищенствовали), а скорее проявлением инстинктов, которые прежде сдерживало государство. Люди, продававшие на улице хлеб и сливочное масло, делали это не потому, что им самим не хватало на батон, а потому, что у них появилась возможность торговать.
Социальная встряска начала 1990-х годов ломала перегородки, смешивала разные слои, выталкивала на поверхность спекулянтов, авантюристов и махинаторов, придавала жизни пестроту и занимательность. Многие из первых коммерсантов уже получили кое-какой опыт в кооперативах. Это были яркие личности в самом буквальном смысле: они выделялись из толпы, одеваясь кричаще и вычурно. Особенно любили они малиновые или ярко-желтые пиджаки. Как и в мире растений, яркая окраска служила не только опознавательным знаком, но и защитой, предупреждением о собственной ядовитости: не ешь – отравишься. Из всех грибов самый яркий – мухомор. Не ошибешься.
Предполагалось, что эти люди и станут целевой аудиторией “Коммерсанта”. Именно их он намеревался образовывать и воспитывать, именно им хотел придать лоск буржуазной респектабельности, научить сознавать себя как класс – или, если воспользоваться ленинским термином, наделить этих людей “классовым сознанием”. “Самое главное качество газеты – это не информация, не эмоция… Это ощущение принадлежности: берешь в руки газету – и ты чувствуешь, что через нее ты принадлежишь к определенной социальной группе. Для этого нужна газета”, – объяснял Владимир Яковлев[195]. Вначале появилась газета, а класс – уже потом.
“Коммерсантъ” структурировал хаотичную, перемешанную жизнь; укладывал ее в рубрики и темы. “Тогда всегда на редколлегии был вопрос: вот этот, такой-то – это чья полоса? Это еще моя или уже твоя? Потому что человек начинал со второй полосы – это экономическая политика. Потом перемещался на, условно говоря, шестую полосу бизнеса, и на полосу преступности. И вот они в какой-то момент говорили: уже твой или еще мой? Нет, давай, еще раз твой, а уже потом мой. Это уже будет на полосе преступности. Если его не убили раньше, и тогда он отправлялся в «некрологи»”[196].
Через несколько лет Путин уничижительно назовет 1990-е годы “лихими”. В них действительно была лихость как синоним бойкости, рискованности, удали. Ослабление государственных порядков высвобождало инициативу, предприимчивость, индивидуальность. Казалось, что возможно все. Вероятно, это было самое свободное время за всю российскую историю. Как сказал об этом Владимир Яковлев, “мы вели себя, как в детском саду, но пулеметы у нас были настоящие”[197].
“Коммерсантъ” был плотью и кровью русского капитализма, а потому унаследовал его родовые черты – нередко малопривлекательные. Газету частично финансировал Томас Диттмер, американский трейдер зерна, с которым Яковлева познакомил в конце 1980-х американский журналист и один из соучредителей “Коммерсанта” А. Крейг Копетас. Позднее Копетас описал это предприятие и свою роль в нем в бойкой и увлекательной книге “Медвежья охота с Политбюро”. Копетас, в частности, рассказывал, как Диттмер, выведенный в книге под псевдонимом Тома Биллингтона, принимал Яковлева в своем чикагском поместье площадью 16,2 гектара и был настолько впечатлен его амбициями и уверенностью в себе, что согласился вложить в “Коммерсантъ” почти миллион долларов. (Сам Яковлев утверждал, что вклад Диттмера не превышал 300 000 долларов и пошел на закупку оборудования.) Так или иначе, в обмен Диттмер получал эксклюзивные права на контент “Коммерсанта” и “Постфактума” на Западе. Это условие не помешало, впрочем, Павловскому, отвечавшему за “Постфактум”, одновременно пытаться продавать ту же самую информацию напрямую агентствам Dow Jones и Reuters.
Через несколько месяцев после запуска недолговечной англоязычной версии “Коммерсанта” Яковлев, постепенно утративший интерес к Диттмеру и его торговой компании Refko, решил похоронить их соглашение. После череды скандалов Владимир втайне переименовал кооператив “Факт”, с которым Диттмер подписывал контракт, в акционерное общество “Факт”, чтобы избавиться от любых обязательств, то есть, проще говоря, “кинуть” американца. “Господин Том Биллингтон [Диттмер] мне больше не нужен. Кооператива «Факт» больше не существует. А раз не существует кооператива «Факт», значит, и «Коммерсанта» больше не существует”, – разъяснял Владимир Копетасу[198]. Это был типичный “бизнес по-русски”. Параллельно с этим Владимир Яковлев вел переговоры о новой сделке с французской медиагруппой La Tribune de l’Expansion, которая была согласна заплатить 3,5 миллиона долларов за 40 % акций “Коммерсанта”.
Яковлев уверял, что с юридической точки зрения сделка с французским медиахолдингом не противоречит его соглашению с Диттмером. “Refko принадлежали права на весь наш контент за пределами России. А французы создавали с нами совместное предприятие. Но с точки зрения человеческих взаимоотношений это выглядело сомнительно”[199]. Впрочем, в начале 1990-х этические вопросы ведения бизнеса никого особо не мучили. “Людей останавливало, или, наоборот, двигало, только их собственное что-то. Кто-то считал, что убивать людей можно, а кто-то считал, что нет. Вот взять можно, а убить нельзя. Кто-то считал, что можно убить конкурента, но членов семьи трогать нельзя. Кто-то считал, а почему членов семьи трогать нельзя? Это был личный выбор каждого человека. Никаких правил не было”, – вспоминала Елена Нусинова[200].
У представителей нового класса бизнесменов, вылезших из-под развалин советской экономики, было свое понимание слова “капитализм”. В чем-то они стали жертвами советской пропаганды, которая изображала капитализм как безжалостную циничную систему, где правят обман, жестокость и чистоган, а не открытая конкуренция, основанная на установленных правилах и институтах, в том числе и на неприкосновенности частной собственности.
Российский капитализм имел мало общего с веберовской “Протестантской этикой”. Он не опирался на многовековую традицию частной собственности, феодальной чести и достоинства. Вряд ли у него вообще имелся хоть какой-то фундамент, кроме, разве что, марксистско-ленинского учения, которое приравнивало частную собственность к воровству. А поскольку эти новые капиталисты хотели иметь собственность, то и воровство их не смущало.
Уродливые формы российского капитализма во многом были предопределены предшествующей ему тоталитарной системой. Она провозглашала высокий моральный облик строителя коммунизма и выводила нового советского человека, истребляя лучших представителей своего народа, ликвидируя сословные правила, подавляя чувство личного достоинства, поощряя доносы и конформизм, отправляя в лагеря и психбольницы тех, кто оказывал сопротивление. Добавив ко всему этому деньги и сняв идеологические ограничения, страна оказалась на грани не столько экономического, сколько этического банкротства. Те, кому предстояло реформировать экономику, меньше всего думали о масштабах этических проблем, с которыми страна выходила из советского периода своей истории.
Во время перехода от советского общества к постсоветскому изменилось и понимание того, какие качества необходимы человеку для того, чтобы преуспеть. В 1988 году 45 % населения считали, что для этого важны усердие и трудолюбие. В 1992-м лишь 31 % соглашался с тем, что эти качества приведут к успеху. Для людей становились важными совсем другие факторы: хорошие связи, ловкость и умение проворачивать дела. Первые русские бизнесмены как раз обладали всеми этими качествами и не стеснялись хвастаться ими[201]. Главные русские банки зачастую имели партийные или комсомольские корни. Например, банк “Менатеп”, который возглавляли Михаил Ходорковский и Леонид Невзлин, был совместным проектом ВЛКСМ и частных предпринимателей. В июне 1992 года Ходорковский и Невзлин выпустили книжку, которую можно считать своего рода манифестом строителя капитализма. Книга называлась “Человек с рублем”, как парафраз названия пьесы о революции “Человек с ружьем” советского драматурга Николая Погодина. Хотя Ходорковский и Невзлин были указаны авторами, за них – для заработка и на скорую руку – текст писал бывший корреспондент газеты “Правда”, свободно владевшей газетным стилем органа ЦК КПСС.
МЕНАТЕП – это реализация права на богатство […] Наши цели ясны, задачи определены – в миллиардеры […] Пребывание в партии было для нас хорошей школой […] Партия крайне много отнимала, но она и давала: опыт, связи, постижение жизни. Не взять все это было бы ошибкой […] Хватит жизни по Ильичу! Наш компас – Прибыль, полученная в соответствии со строжайшим соблюдением закона. Наш кумир – Его Финансовое Величество Капитал, ибо он и только он ведет к богатству как к норме жизни. Довольно жить Утопией, дорогу – Делу, которое обогатит! […] Человек, превративший вложенный доллар в миллиард, конгениален[202].
И книга, и банк были примером, как тогда говорили, “конверсии” советской системы в капиталистическую, со всеми вытекающими из этого последствиями.
Другим видным банкиром начала 1990-х был Александр Смоленский, владелец банка “Столичный”, освоивший алхимию превращения обесценившихся рублей в миллионное долларовое состояние посредством банковской системы.
Человек без высшего образования, начавший карьеру наборщиком в государственной типографии, заработал свои первые деньги в 1970-е, печатая библии для продажи на черном рынке. Отсидев два года за хищение государственного имущества (типографской краски и бумаги), он, начав работать в ремонтно-строительных организациях, нелегально перепродавал стройматериалы. В начале 1990-х созданный им банк “Столичный” управлял счетами кооператоров. Смоленский использовал их рубли для спекуляции, играя на разнице валютных курсов. Учитывая, что за период между 1991 и 1994 годами рубль обесценился почти на 100 %, валютные спекулянты быстро и легко обогащались. “Утром даешь деньги, вечером получаешь прибыль. Все решала скорость. Мы целыми днями сидели в банке, это было похоже на гонку, на машину, печатающую деньги”, – рассказывал сам Смоленский[203]. Смоленский выступал и кредитором “Коммерсанта”, что объясняло периодическое появление завуалированной рекламы его банка на страницах независимой газеты. Журналистам самого “Коммерсанта” сотрудничество со Смоленским позднее аукнулось. Зарплату им перечисляли на счета, открытые в “Столичном”, и когда в 1998 году Россия объявила дефолт по внутреннему долгу, банк объявил себя неплатежеспособным и заморозил счета. Смоленский, между тем, перетасовал активы и создал новую банковскую империю. Журналистам удалось через какое-то время получить свои сбережения назад, а вот иностранные инвесторы, вложившие в “Столичный” более миллиарда долларов, так и не увидели больше своих денег. Как сказал сам Смоленский в интервью The Wall Street Journal, все, что они заслуживают, – это “уши мертвого осла”[204]. Какая газета – такой и капитализм.
В неразберихе 1991 года наверх пробились не самые трудолюбивые, а самые ловкие. В момент перехода к рыночной экономике и массовой приватизации в самом выгодном положении оказался “человек с рублем”.
Гайдар доверил приватизацию своему другу Анатолию Чубайсу. Оба видели основную задачу в том, чтобы лишить коммунистов, цеплявшихся за командные высоты российской экономики, рычагов влияния и создать класс частных предпринимателей, которые были бы кровно заинтересованы в либеральных реформах. “Мы отдавали себе полный отчет в том, что создаем новый класс собственников, и у нас не было выбора между «честной» и «нечестной» приватизацией. Выбирать приходилось между «бандитским коммунизмом» и «бандитским капитализмом»”, – рассказывал Чубайс[205].
Чтобы все выглядело справедливо и честно, реформаторы решили распродавать государственные предприятия гражданам страны, выпустив специальные ваучеры и распределив их между ее 148-миллионным населением. 19 августа 1992 года, в годовщину августовского путча, Ельцин выступил по телевидению с обращением к народу. Он объявил о выдаче “приватизационных чеков” – как бы в награду за сопротивление, оказанное путчистам год назад. На самом же деле чеки, или ваучеры, были просто маркетинговым трюком, потому что ценность этих бумаг определялась не напечатанной на них цифрой 10 тысяч рублей, а количеством выставленного на продажу имущества. Когда на телеэкранах появился Чубайс и объяснил людям, в большинстве своем не имевшим ни малейшего понятия об акциях, что на каждый ваучер можно купить две “Волги”, все восприняли его слова буквально. Но вместо того чтобы стать символом государственной заботы и благодарности, ваучеры сделались символом надувательства: не зная, что делать с этими загадочными купонами, большинство людей или сразу же продавало их, или вкладывало в растущие как грибы после дождя “чековые инвестиционные фонды”, которые обещали вложить ваучеры в золото и алмазы и вскоре исчезали без следа.
Как бы то ни было, за два года удалось распродать 70 % государственной собственности, включая природные ресурсы. Так возник новый класс частных собственников и начался эксперимент со свободным рынком. Большинство россиян поддержало рыночные реформы и приватизацию земельных участков и малых предприятий, но отрицательно отнеслось к приватизации крупных заводов и природных ресурсов. Тем не менее большинство видело в предпринимателях позитивную силу, способную вытащить страну из экономической ямы.
В “Коммерсанте” были уверены, что его аудитория увеличилась и что ей необходима информация для управления новообретенными активами. Поэтому из еженедельной газеты он превратился в ежедневную. Если в России появится настоящий рынок, значит, ей первым делом нужна и настоящая деловая газета. “Для тех, кто не знает, что такое А2: это, чисто по размеру полосы, как Wall Street Journal, – обратился “Коммерсантъ” к своим читателям. – Для тех, кто не знает, что такое Wall Street Journal: это, чисто по размеру полосы, как «Правда». Ежедневная газета такого объема – то есть относительно нормальная ежедневная газета – в этой стране после 1917-го не выпускалась никогда: технически было возможно, но как-то не складывалось. Ну вот, мы здесь посовещались с товарищами и решили попробовать… Естественный вопрос, который возникает по этому поводу: а зачем, собственно?”[206].
Понятие “нормального”, как и название “Коммерсантъ-Daily”, – складывалось из двух частей: из российского дореволюционного прошлого, обозначенного твердым знаком на конце, и ее западного “ежедневного” будущего. Подразумевалось, что эту “нормальную” жизнь будет организовывать “нормальная” ежедневная газета. В упоминании “Правды” в той шутливой передовице “Коммерсанта” была своя логика. В 1930-е годы “Правда” выступала “коллективным организатором” и “коллективным пропагандистом”, как о газетах писал Ленин. Она пыталась формировать нового образцового советского работника и гражданина и снабжать его сводом незыблемых правил коллективной, подчиненной государству жизни. Семьдесят лет спустя “Коммерсантъ” взял на себя похожую роль и решил разработать свод правил для новых капиталистических порядков, при которых главную роль играла бы личность. Газета попыталась сформировать и воспитать новый тип человека, которому дала имя New Russian (эти слова так и писались по-английски):
Умные, спокойные, позитивно настроенные и в общем уже вполне обеспеченные, если не просто богатые по любым меркам люди, которые могут позволить себе большую квартиру в центре, приличную машину, мало напоминающую “Жигули”, – налаженную, правильную жизнь. Люди, которые заняты Работой. Те, для которых “мне в Париж по делу, срочно” как-то перестало быть шуткой, став обыденной реальностью. Эти люди формируют сегодня новую элиту российского общества, они же создают новый стиль и новые стандарты существования. Вот они, умные и в общем богатые люди, твердо знают, что в нормальной стране нормальный человек начинает свой нормальный день с кофе, сока и газеты. И, как ни странно, эти три вещи, а точнее, их постоянное присутствие, с определенной точки зрения являются тремя составляющими, тремя основополагающими и тремя главными признаками нормальной жизни[207].
“Коммерсантъ” превозносил частную инициативу и ценности, а самое главное – личный успех, то есть все то, что оставалось чуждым для большинства жителей страны, воспитанных на идеях патернализма и всеобщего равенства. Согласно “Коммерсанту”, почти 90 % “новых русских” считали себя людьми, которые обязаны своим успехом только самим себе и счастливому случаю. Чтобы создать зрительный образ нового русского, “Коммерсантъ” снял короткий рекламный ролик, где молодой актер Игорь Верник сыграл идеального читателя газеты. У него имелись все положенные атрибуты: темный костюм, галстук с заколкой, рубашка с запонками; не расставаясь с “Коммерсантом-Daily”, он разговаривал по большому спутниковому телефону на заднем сиденье лимузина, входил в свой офис в каком-то сталинском ДК, а под конец голос за кадром с придыханием говорил: “Ваша газета, босс”.
Образ “старого русского” в “Коммерсанте” изображал карикатурный Петрович – юмористический советский персонаж, созданный художником Андреем Бильжо. Петрович пытался как-то приспособиться к современной действительности, проявляя одновременно наивность и хитрость в духе бравого солдата Швейка. Из эталона и образца “новые русские” почти сразу превратились в героев анекдотов:
Один “новый русский” показывает другому “новому русскому” свой галстук и говорит: “Я за него сто баксов заплатил”. А тот фыркает и отвечает: “Тебя надули! Я точно такой же за тысячу купил”.
Одной из причин таких насмешек было поведение “новых русских”. Еще одна причина заключалась в том, что этот образ не вписывался в национальную традицию, где дух коммерции и предпринимательства чаще всего рассматривался не как добродетель, а как что-то отталкивающее и сомнительное. “Коммерсантъ” решил искоренить эти стереотипы.
Он завел регулярную колонку под смелой рубрикой “Что хорошего”. “Ничего плохого не случилось. И не могло случиться”, – гласил один заголовок. “Все нормально”, – уверял другой. Ксения Махненко, жена Владимира Яковлева и редактор “Коммерсанта”, писала: “Мы считаем, что все происходящее вокруг нас закономерно, а значит правильно… Если это называется «смотреть на мир сквозь розовые очки», то мы не возражаем. Почему бы и нет? Они ничем не хуже очков черных… Жизнь свободного человека отличается от жизни несвободного прежде всего тем, что все последствия своих поступков он создает сам. Сам и отвечает. Именно поэтому такая жизнь считается естественной, то есть – нормальной, то есть, собственно, счастливой”[208]. Предполагалось, что этот оптимизм передастся не только “новым русским”, но и “старым”. Преимущества рыночной экономики по сравнению с плановой казались столь очевидными, что было почти невозможно представить себе, что кто-то может думать иначе.
В начале 1990-х на российских телеэкранах появился новый персонаж, который сразу же завладел вниманием миллионов. Его звали Леня Голубков, и он работал трактористом. Он ходил в мешковатом костюме и не отличался ни умом, ни образованностью. И тем не менее дела у него и вправду шли хорошо. Он справил жене новые кожаные сапоги и шубу, а через несколько месяцев собирался купить машину на деньги, накопленные благодаря “МММ” – инвестиционной компании, предлагавшей 1000 % прибыли.
Во всей этой истории было только одно “но” – “МММ” была финансовой пирамидой, а Голубков – вымышленным персонажем. Это был, наверное, самый успешный телевизионный проект 1990-х, оставивший позади даже латиноамериканские сериалы. Русским Понци оказался пирамидостроитель Сергей Мавроди – математик, сделавшийся аферистом. Он придумал схему самофинансирования, выпуская акции компаний-пустышек и выплачивая дивиденды инвесторам, вложившим деньги раньше, деньгами новых вкладчиков. Цену на акции “МММ”, которая в начале 1990-х опутала своими сетями всю страну, Мавроди назначал сам. К моменту крушения пирамиды “МММ” в нее оказались втянутыми около 15 миллионов человек.
Именно рекламные ролики, снятые режиссером Бахытом Килибаевым, помогали “МММ” дурачить людей. Реклама “МММ” представляла собой ряд коротких серий, сопровождавшихся веселым мотивчиком, где фигурировали одни и те же персонажи. Кроме самого Голубкова, там была его помешанная на шоколаде жена-толстушка Рита с прической “улей”; его старший брат Иван – татуированный шахтер из Воркуты; старая дева Марина Сергеевна и пара молодоженов.
Голубков, мужчина средних лет, представлял собой типичного героя советских анекдотов: простоватый лодырь и выпивоха, порождение советской патерналистской системы. Он устремлялся навстречу легким деньгам, которые сулил ему недееспособный российский капитализм, с энтузиазмом, шокировавшим реформаторов российского рынка. Взяв указку, он демонстрировал жене график, на котором были изображены все этапы роста семейного благосостояния: новая мебель, машина и дом. “Дом в Париже?” – удивленно переспрашивала Рита, поедая очередную шоколадку. “Почему нет, Леня?” – подначивал голос комментатора за кадром. В другой серии Леня и его брат Иван сидели за кухонным столом с бутылкой водки и огромной банкой соленых огурцов. “Халявщик ты, Ленька! Оболтус! Ты забыл, чему нас отец с матерью учили: честно работать! А ты тут бегаешь, суетишься, акции покупаешь. Халявщик ты!” – говорит ему Иван. “Ты не прав, брат. Я не халявщик, брат. Я партнер!” – возражал Леня. “Верно, Леня! Мы – партнеры”, – подтверждал голос за кадром от лица АО “МММ”.
В советскую эпоху Леня стал бы персонажем советской сатиры, осуждавшей инфантилизм и мещанский образ жизни. Но в начале 1990-х он быстро превратился во всенародно любимого персонажа, превосходившего популярностью любого российского политика, включая Ельцина. При этом очень мало кто действительно разделял энтузиазм Лени Голубкова. Опросы общественного мнения, проведенные в 1992 году, показали, что лишь 5 % жителей страны ощущали оптимизм, 40 % чувствовали стабильность положения, а половина населения испытывала тревогу, раздражение и напряжение[209]. При этом ни паники, ни чувства катастрофы не было. Была собранность и ощущение “ничего – прорвемся”.
Битва за кнопку
В 1992 году Максим Соколов опубликовал эссе под названием “Так какую же войну мы проиграли?”: “Получился парадокс: наиболее пострадавшие с грехом пополам согласились с гайдаровскими «зверствами», наименее пострадавшие пришли в состояние совершенного негодования”[210]. Чтобы понять этот “парадокс”, рассуждал далее Соколов, необходимо взглянуть на духовную и эстетическую сторону реформ. Националисты и коммунисты почитали имперское государство и его геополитический статус за высшее благо, которое перевешивает универсальные человеческие ценности. И именно из-за этого они испытывали острое чувство поражения, в то время как обычные люди в массе своей продолжали просто жить собственной частной жизнью.
Соколов проводил параллели между современной Россией и послевоенной Германией. Главный вопрос заключался в том, похожа ли Россия на Германию после Второй мировой войны, когда той пришлось восстанавливать экономику и заново двигаться в сторону демократии? Или она больше похожа на Веймарскую республику 1918 года, которая в итоге породила фашизм? Тем более что после 1991 года не было недостатка в популистах и демагогах, эксплуатировавших трудности простых россиян и призывавших к реваншу. Националисты и коммунисты открыто объединялись под имперскими флагами, образуя красно-коричневый союз. Какие бы идейные расхождения ни разделяли их в прошлом, теперь их сплачивала борьба с общим врагом: с Западом, его либеральной демократией и теми, кто пытался, как они считали, навязать их России: с Ельциным и его “сионистским правительством”.
Лидером российских коммунистов стал Геннадий Зюганов – заурядный партийный функционер, служивший до распада СССР в идеологическом отделе ЦК КПСС и выступавший одним из главных противников Александра Яковлева. Именно он курировал газету “Советская Россия”, где когда-то было опубликовано сталинистское письмо Нины Андреевой. В 90-е годы “совроска”, как ее называли либералы, стала одним из флагманов антизападной и националистической идеологии, взявшей на вооружение православие. В центре этой новой идеологии лежала идея священного государства.
В литературном журнале правого толка “Наш современник” Наталья Нарочницкая, один из идеологов государственного национализма, писала: “Осознав свое своеобразие, Россия поймет и ту роль, которую она, как гигантская евразийская держава с православным ядром и вселенским духом ее государственной идеи, играла в мировом соотношении духовных сил, цивилизаций и государств… Будущее России – в создании органического государства, где личность… не должна противопоставлять себя обществу, но будет носителем государственности, ее воплощением”[211]. Утратив былую риторику, призывавшую к равенству и интернационализму, коммунистическая идеология плавно перетекала в идеологию фашистского толка. Первое полное издание гитлеровской Mein Kampf на русском языке было напечатано и стало открыто продаваться на московских улицах уже в 1992 году.
Консолидация имперских, националистических и коммунистических сил происходила на фоне конфликтов на границах России с бывшими республиками, включая Грузию и Молдавию, и сокращения территории страны до ее нынешних размеров. Самым болезненным ударом для “имперцев” стала потеря Крыма, который в 1954 году Никита Хрущев передал Украинской ССР в качестве символического подарка, приуроченного к 300-летию объединения Украины с Россией.
После распада Союза Крым остался в составе новой независимой Украины. Ни одна другая территория, включая Прибалтику и Грузию, не становилась предметом столь болезненной ностальгии, как Крым. Требуя его возвращения, российские националисты всячески подогревали спор между Москвой и Киевом из-за судьбы российского Черноморского флота. Это было одной из главных тем для всей националистической прессы, включая “День” – “газету духовной оппозиции”, как выражался ее главный редактор Александр Проханов, писатель, преданный идее русской великодержавности. Именно он примирил националистов с коммунистами в единой борьбе против Ельцина и его команды “вестернизаторов”.
Одним из постоянных авторов прохановской газеты был Игорь Шафаревич – крупный математик, один из идеологов русского национализма и друг Солженицына. В начале 1993 года Шафаревич писал:
Севастополь – ключ к возрождению страны. Во-первых, Севастополь – одна из исторических святынь России. Херсонес, где крестился св. Владимир, Малахов курган, могилы адмиралов Корнилова и Нахимова… Во-вторых, Севастополь – ключ к Черноморскому флоту. В-третьих, Севастополь – ключ к Крыму. Крым оторван от тела России в 1954 году самодурским (и неконституционным) решением тогдашних коммунистических властей… У крымчан такое же острое чувство принадлежности к России и такая же воля бороться за эту принадлежность, как и у жителей Севастополя. И в-четвертых: Крым оказывает колоссальное влияние на положение во всех южных землях – в Новороссии… План объединения “Севастополь – Крым – Новороссия – Россия” – отнюдь не коварный план “русского империализма”. Это попытка угадать те естественные, органичные формы жизни народов исторической России, которые могут возникнуть после переживаемой сейчас катастрофы[212].
В расчленении советской империи винили Запад и агентов его влияния в России:
Нам противостоит очень агрессивная, безжалостная цивилизация. Центром ее является страна, начавшая с греха истребления своего коренного населения. Этот грех бродит в ее крови и порождает Хиросиму и убийство 150000 иракцев всего лишь для того, чтобы не поднялись немного цены на горючее для автомобилей. Страна, созданная эмигрантами, людьми без корней, чуждыми ее ландшафту и ее истории. Это цивилизация, стремящаяся превратить весь мир – и материальный, и духовный – в пустыню, подобную лунному ландшафту. Только в рамках этой борьбы, где ставка – существование человечества, а может быть, и всего живого, можно расценить теперешний русский кризис[213].
Русский философ-эмигрант Александр Зиновьев писал в “Нашем современнике”: “Запад хотел руками Гитлера разрушить Россию. Не удалось. Теперь Запад пытается делать то же самое под видом борьбы за демократию, за права человека и прочее. Идет война двух миров”[214].
“Без наших ресурсов все нынешнее благосостояние Запада мгновенно рухнет”, – вторил “День”.
В то время даже среди самих националистов мало кто мог бы предсказать, что двадцать лет спустя подобная риторика перекочует со страниц маргинальной газеты “День” на главные телевизионные каналы, что Россия аннексирует Крым, устроит войну на юго-востоке Украины, возродит идею Новороссии и фактически объявит войну Западу.
Параллельно с идеологическим конфликтом между красно-коричневой коалицией и либералами разворачивалась борьба между Ельциным и его правительством реформаторов, с одной стороны, и парламентом – с другой. Российский парламент был создан еще до распада СССР и долгое время назывался Съездом народных депутатов. Он состоял в основном из представителей военно-промышленных предприятий, мощного аграрного лобби и бывших директоров советских заводов, утративших свою власть во время приватизации. Все они понимали, что гайдаровские реформы направлены против них. Из тысячи с лишним депутатов лишь 200 человек можно было отнести к сторонникам Ельцина. Остальные восставали против него открыто или тайно. Председателем парламента был его спикер Руслан Хасбулатов – депутат из Чечни, умно и искусно манипулировавший остальными законодателями.
Союзником Хасбулатова в противостоянии Ельцину оказался Александр Руцкой, бывший военный летчик и ветеран Афганской войны, человек не слишком большого ума, но зато эффектной наружности. В 1991 году Ельцин назначил Руцкого вице-президентом, а Хасбулатова сделал своим первым заместителем, чтобы заручиться поддержкой национальных меньшинств. Как бывший экономист Хасбулатов претендовал на должность премьер-министра и видел в Гайдаре соперника. Он сумел переманить на свою сторону Руцкого, сыграв на его тщеславии. Вместе они атаковали Гайдара и его правительство: Руцкой обзывал министров “мальчиками в розовых штанишках”, которые чересчур торопятся построить капитализм и американизировать российскую экономику. С одной стороны, институт парламента создавал возможность легитимации для красно-коричневой коалиции. С другой – Хасбулатов использовал и коммунистов, и националистов как силу, которая способна вывести людей на улицы и привести его к власти в обход легитимной процедуре выборов.
Как утверждал историк Александр Янов, всплеск имперского национализма в начале 1990-х годов был неизбежен. “Крушение четырехсотлетней империи и – что для России, может быть, не менее важно – внезапная утрата пусть утопической, но великой национальной цели не могли не сопровождаться… «патриотической истерией»”.[215] Весь вопрос был в том, способна ли эта истерия привести к смене режима. К концу 1993 года националистическая оппозиция строила планы открытого свержения ельцинского правительства. Тогда ей не хватало только одного – мощного усилителя в виде средств массовой информации. Не имея доступа к эфиру, националисты объединялись вокруг старых литературных журналов вроде “Нашего современника” или прохановской газеты “День”. Телевидение находилось в руках либералов. Во главе “Останкино” стоял Егор Яковлев, назначенный на этот пост Горбачевым (с согласия Ельцина) почти сразу же после августовского путча 1991 года. Первым делом Егор попросил председателя КГБ отозвать своих многочисленных сотрудников, которые работали в телецентре открыто или под прикрытием. Вторым его шагом стала ликвидация “Времени” – главной ежедневной новостной программы, выходившей в девять часов вечера. Яковлев заменил ее передачей с нейтральным названием “Новости”. Изменение названия, музыкальной заставки и формата вечернего новостного выпуска стало не менее символичным событием, чем спуск красного флага над Кремлем или отмена советского государственного гимна.
Программа “Время” в СССР играла почти сакральную роль. Два серьезных диктора в строгих костюмах выступали кремлевскими глашатаями. Они рассказывали не о том, что в реальности происходило в стране, а о том, что Кремль устанавливал как новости.
Выход “Времени” в эфир был ежевечерним ритуалом, который организовывал жизнь и не мог быть нарушен. Время выхода программы в эфир было так же неизменно, как бой курантов на Спасской башне, ее предварявший. “Время” действительно казалось вечным. Изменив формат новостных выпусков, Яковлев лишал телевидение – а значит, и государство – его сакральной функции. Егор видел новую роль телевидения в том, чтобы оно помогало людям свыкнуться с исчезновением страны, в которой они родились. Союз разваливался, на его периферии разгорались конфликты, поэтому Яковлев старался сохранить общим хотя бы информационное пространство – некий союз в эфире. Игорь Малашенко, работавший тогда заместителем Егора, объяснял:
Армия разваливалась, рейсы отменялись, поезда останавливались, рублевая зона сжималась, бывшие советские республики огораживались границами и таможнями… Но телевидение в Москве продолжало вещать на всю территорию бывшего Советского Союза… Одно знание о том, что люди в России, Грузии, Прибалтике и Средней Азии смотрят одни и те же передачи, помогало многим людям ощущать себя частью одного общего исторического пространства – пускай оно и лишилось прежнего названия[216].
По словам Малашенко, Егор как газетчик не очень понимал и не слишком любил телевидение и попытался сотворить из него некое подобие “Московских новостей”, адресованное все той же либеральной интеллигенции. Однако прежде всего Егор надеялся превратить телевидение из средства пропаганды и мобилизации в негосударственную организацию. Он объявил своим сотрудникам: “Мое поколение жило надеждой соединить политику с нравственностью. Все уроки, полученные с 56-го года, в конце концов убедили меня: это не-воз-мож-но… Телевидение должно помочь человеку вернуться к себе, найти другие ценности, кроме политики. Задача одна: чтобы политика занимала как можно меньше места в нашей жизни”[217]. Правда, политика сама врывалась в жизнь, и телевидению вскоре предстояло превратиться в поле боя.
12 июня 1992 года, в день второй годовщины независимости России, истеричная и шовинистически настроенная толпа коммунистов начала осаду Останкинского телецентра. Возглавлял эту толпу Виктор Анпилов – крикливый и достаточно агрессивный лидер люмпенизированной Российской коммунистической рабочей партии и движения “Трудовая Россия”. Анпилов, в прошлом журналист, отлично понимал ключевую роль телевидения. “Я был идеальным советским журналистом – из рабочего класса”, – говорил он[218]. На факультете журналистики он изучал испанский язык, чтобы потом заниматься советской пропагандой в странах Латинской Америки. После университета Анпилов уехал работать переводчиком на Кубу. В книге мемуаров с говорящим названием “Наша борьба” он описывал, как Фидель Кастро обращался к огромной толпе со словами: “Всякая революция чего-нибудь стоит, когда она умеет защищаться”[219]. Лет десять спустя Анпилова, предположительно завербованного КГБ, отправили военным корреспондентом в Никарагуа, когда там шла война между сандинистами, получавшими поддержку от СССР, и контрас, которым тайно помогали США. Тогда он донес на своего оператора за “антисоветские” взгляды.
В августе 1991 года он был на стороне путчистов. Неутомимый оратор, хорошо усвоивший уроки коммунистической истории, он не гнушался самых простых форм пропаганды и ездил агитировать рабочих на заводы и фабрики. Ему легко удавалось мобилизовывать и выводить на улицы тысячи самых оголтелых своих сторонников. В июне 1992 года анпиловцы в течение целой недели блокировали входы и выходы телецентра, требуя доступа к эфиру. Анпилов назвал свою акцию “Осадой империи лжи”. “Телевидение стало танком, расстреливающим неокрепшую душу русского народа”, – кричал он. Его сторонники плевали в журналистов, обзывали их сионистами, агентами американского влияния и требовали “русского телевидения для русского народа”. Анпиловцы попытались штурмовать “Останкино” и вступили в столкновение с милицией, которая почти не оказывала сопротивления. “Это была темная толпа […] Искаженные лица, слюна в уголках вопящих ртов, откровенно фашистская наглядная агитация выглядели так саморазоблачительно, что казалось: нет, это не опасно”, – писали тогда либеральные “Известия”. “У движения, сделавшего погромы осью своей программы, будущего быть не может”, – оптимистично заключал автор репортажа[220].
Пытаясь как-то разрядить обстановку, Егор пригласил Анпилова и нескольких его соратников на переговоры в телецентр и даже предложил ему выйти в эфир и высказаться по поводу организованной осады. В ответ Анпилов потребовал себе ежедневного эфира, причем в прайм-тайм, а также отставки самого Егора. В случае невыполнения этих требований он угрожал устроить здесь же сидячую голодовку. После пятичасовых переговоров Егор выдвинул собственный ультиматум и Анпилову, и правительству. Он заключался в том, что если вокруг “Останкино” не будет восстановлен порядок, то телецентр прекратит вещание. “И я буду первым, кто обратится к коллективу с призывом к забастовке”, – заявил Егор. Сказав это, он оставил своих гостей в обществе правительственных чиновников и милиционеров. “Я, честно говоря, не могу понять, почему Анпилов и его люди все еще не заняли телевидение. Большего ничтожества исполнительной власти я представить себе не мог”, – сказал Егор через несколько дней корреспонденту своей бывшей газеты “Московские новости”[221].
Осада телецентра анпиловцами и реакция Егора произвели сильное впечатление на Ельцина. “Я понял, что «Останкино» – это почти как «ядерная кнопка»… И что рядом с этой «кнопкой» надо поставить не нервного мыслителя, а человека иного склада”[222]. Ельцин видел в Егоре горбачевского соратника и считал, что тот ведет себя слишком независимо. В начале декабря 1992 года он уволил Егора, а через два месяца назначил на его место Вячеслава Брагина, бывшего партийного функционера из Твери. Брагин – посредственный и послушный, не имевший никакого опыта работы на телевидении – видел порученную ему задачу исключительно в том, чтобы по первому же требованию предоставлять свободное эфирное время Кремлю, даже если для этого придется ломать сетку вещания и отменять латиноамериканские сериалы. Бесцеремонное увольнение Егора выглядело безобразно и вызвало праведное негодование в либеральной среде. Ельцин и сам понимал, что поступил несправедливо, однако в первую очередь он думал не о качестве телепрограмм, а о возможности использовать телевидение в своих целях. В условиях, когда парламент парализовал управление страной, прямое телевизионное обращение к стране было единственным способом осуществления властных полномочий. Ельцину требовалось, чтобы телевизионная “кнопка” находилась в руках беспрекословно послушного и управляемого человека. На фоне слабости государственного аппарата и политических институтов, экономического спада, перебоев работы предприятий телевидение превращалось из “четвертой власти” в первую.
В декабре 1992 года Хасбулатов переиграл Ельцина: он вынудил того уволить Гайдара с должности премьер-министра в обмен на согласие провести в следующем году референдум о Конституции. Место Гайдара занял Виктор Черномырдин – бывший советский министр газовой промышленности, которого коммунисты ошибочно считали “своим” человеком. Тем не менее, пожертвовав Гайдаром, Ельцин совершил промах, причем не только экономический, но и политический. Парламент воспринял смещение Гайдара не как компромисс, а как признак слабости президента и уже через несколько месяцев отозвал свое согласие на проведение конституционного референдума и лишил Ельцина полномочий управлять страной при помощи президентских указов.
Националисты почуяли запах крови. В начале февраля “День” опубликовал статью, призывающую к мобилизации антиельцинских сил: “Стремительно надвигается новая схватка, пик которой придется на март-апрель, когда перегруппировка политических сил завершится, экономика будет разрушена, продовольственные запасы израсходованы. Предлагается выработать рекомендации для революционного движения на нынешний час и на то недалекое уже время, когда оппозиции придется нести бремя власти в разоренной, охваченной беспорядками, дезинтегрирующейся стране”[223]. Ельцин тоже приготовился к схватке. 20 марта 1993 года он выступил по телевидению и объявил о том, что подписал указ о введении “особого порядка управления страной” накануне всероссийского референдума, назначенного на 25 апреля. Через четыре дня, когда ельцинский указ был опубликован, оказалось, что он сформулирован гораздо осторожнее и там нет ни слова об “особом порядке управления”. Однако настоящим событием стал не сам указ (который, кстати, так и не вступил в силу), а именно телевизионное сообщение о нем.
Хасбулатов объявил ельцинский указ неконституционным и созвал чрезвычайное заседание парламента с целью объявить президенту импичмент. В день голосования по вопросу об отрешении президента от власти десятки тысяч москвичей вышли под флагами России на Красную площадь, чтобы поддержать Ельцина. Во главе демонстрации шли два Гайдара – Егор и его отец Тимур. В то же время на другой стороне Красной площади под красными советскими знаменами собралась другая толпа – гораздо меньшая по численности и более агрессивная по настрою. Через несколько часов Ельцин вышел к своим сторонникам и сообщил им, что попытка импичмента провалилась.
Месяц спустя популярность Ельцина подтвердил референдум, на котором россиянам предлагалось ответить на четыре вопроса: 1. Доверяете ли вы Президенту Ельцину? 2. Одобряете ли вы его социально-экономическую политику? 3. Считаете ли вы необходимым проведение досрочных выборов Президента? 4. Считаете ли вы необходимым проведение досрочных выборов народных депутатов? Решающую роль в мобилизации населения и привлечении его на сторону Ельцина снова сыграло телевидение. Оно без устали показывало рекламные ролики, в которых простые люди, поп-звезды и знаменитые актеры как заклинание повторяли “правильный” ответ: “Да-да-нет-да”.
Накануне голосования по телевизору показали 70-минутный фильм “Один день из жизни президента”, автором и ведущим которого выступил кинорежиссер Эльдар Рязанов. Фильм показывал Ельцина в тесном семейном кругу, что сильно контрастировало с образом Ельцина на танке в августе 1991-го. Тогда он олицетворял революцию. Сейчас же он символизировал мирную, домашнюю, нормальную жизнь, по которой так истосковались люди и которую ставит под угрозу призывающая на баррикады оппозиция.
Результаты референдума превзошли все ожидания. Мало того, что 58,7 % респондентов выразили доверие Ельцину, но 53 % одобрили и гайдаровские реформы, несмотря на потери сбережений и рост цен. Как ни тяжела была жизнь в материальном смысле, мало кто хотел возвращаться в прошлое. И все же Ельцину не удалось воспользоваться своей победой на референдуме о доверии, чтобы распустить парламент и уволить мятежного вице-президента. Борьба все больше обострялась и приобретала характер личного противостояния.
Медиаресурсы оппозиции были скромнее, хотя и ничтожными назвать их было нельзя. Хасбулатову удалось установить контроль над государственным телеканалом “Россия”, который официально подчинялся Верховному Совету Российской Федерации. Он запустил программу “Парламентский час”, большую часть которой составляли продолжительные антизападные и антиельцинские тирады. Вначале эта передача выходила раз в неделю, а затем – ежедневно, в прайм-тайм. Однако гораздо важнее оказалось другое: на стороне националистов выступил Александр Невзоров – на тот момент один из самых харизматичных и популярных телевизионных шоуменов. Невзоров увидел в разворачивающейся драме продолжение своей давней войны с либералами, начатой в Вильнюсе в 1991-м. По его собственным словам, экспериментируя с идеями фашизма в России, он превратил свои “600 секунд” в рупор красно-коричневой коалиции. Попытки закрыть эту передачу неизбежно приводили к массовым уличным акциям, которые устраивали его фанаты.
Ельцин тоже не был настроен миролюбиво. В начале августа он собрал у себя в кабинете руководителей телеканалов и объявил, что “решительная политическая схватка в России” произойдет в сентябре, а “август надо использовать для артподготовки” – в том числе и средствам массовой информации. Он не стал раскрывать каких-либо подробностей своего плана, лишь сказал: “Мы пристально следим за ситуацией и готовим различные варианты действий, но действия обязательно последуют”.[224]. Через месяц Ельцин велел своим помощникам подготовить черновик указа о роспуске парламента. Потом он посетил элитную часть внутренних войск – дивизию имени Дзержинского, – где и объявил о возвращении Гайдара в правительство. Консолидировав таким образом военные и телевизионные силы, Ельцин решил действовать.
21 сентября он вышел в эфир с одной из самых сильных речей за всю историю своего пребывания на посту президента: “Власть в российском Верховном Совете захвачена группой лиц, которые… подталкивают Россию к пропасти… Безопасность России и ее народов – более высокая ценность, чем формальное следование противоречивым нормам, созданным законодательной властью… Я обязан разорвать этот губительный порочный круг… защитить Россию и весь мир от катастрофических последствий развала российской государственности, воцарения анархии в стране с огромным арсеналом ядерного оружия”. В связи с этим, заявил Ельцин, он подписал указ № 1400 о прекращении деятельности Верховного Совета и Съезда народных депутатов, о выборах нового парламента и о проведении поэтапной конституционной реформы. Речь собранного, харизматичного Ельцина вызывала ощущение исторической правоты и легитимности его власти.
“Совершена почти непоправимая трагическая глупость, – драматическим голосом констатировал Невзоров в тот же вечер в своей передаче, пока мигающие часы в углу экрана отсчитывали секунды. – Обычный уклад жизни для всех без исключения теперь будет нарушен на многие месяцы… Теперь жить будет еще тяжелей, еще трудней и еще тревожнее. Уже сейчас в Москве люди собираются… охранять Белый дом, защищать тех, кто прозрел за эти два позорных и кошмарных года – с августа девяносто первого… Оппозиция не сдастся без боя”. Объявленный вне закона парламент, в свою очередь, объявил Ельцину импичмент и провозгласил президентом России Александра Руцкого.
За следующие сорок восемь часов вокруг Белого дома собралась пестрая толпа анпиловцев, националистов и казаков. Руцкой начал раздавать явившимся “защитникам” оружие, хранившееся внутри Белого дома. Среди пришедших оказалось немало бывших наемников и солдат регулярной армии. До этого они побывали в прибалтийских республиках, оттуда переместились в зону кровавого конфликта в Приднестровье, а после этого принимали участие в ожесточенных боях между абхазами и грузинами. Теперь их манила перспектива военных действий прямо в центре Москвы. Среди этих людей и оказался Александр Невзоров, получивший все мыслимые пропуска от Руцкого и от Владислава Ачалова – высокопоставленного советского военачальника, который в 1991 году присоединился к ГКЧП, а сейчас был назначен Руцким на пост министра обороны. Тем не менее картина, которую Невзоров увидел внутри Белого дома, его не вдохновила.
Сразу возник вопрос: насколько Ачалов или Руцкой контролируют тех вооруженных людей, которые собрались в Белом доме? По словам Сергея Пархоменко, активно освещавшего события 1993 года для недавно созданной газеты “Сегодня”, Белый дом напоминал какую-то “партизанскую республику”, начисто лишенную дисциплины и отрезанную от всех коммуникаций. Ачалов заседал в просторном министерском кабинете, загроможденном старой мебелью, в окружении десятка неработающих телефонных аппаратов, так что ему приходилось одалживать у иностранных репортеров сотовые телефоны. Руцкого окружала разношерстная компания из 200 волонтеров, среди которых особенно выделялись толстяк в ржавой каске времен Великой Отечественной, худой небритый мужчина с лыжной палкой вместо винтовки и интеллигентный мужчина в шляпе и авоськой в руках. “Это были в основном декоративные персонажи, и они мало годились в заговорщики”, – рассудил Невзоров[225].
Единственным человеком, который соответствовал собственной роли и произвел впечатление на Невзорова, был Александр Баркашов – лидер неонацистского движения “Русское национальное единство” (РНЕ). На защиту Белого дома его позвал Ачалов. Баркашов не желал, чтобы его сторонников смешивали с анпиловцами. Под его командованием находилась небольшая, но очень дисциплинированная группа молодых людей в черных рубашках, украшенных коловратами. Баркашовцы вскидывали руки в нацистском салюте, выкрикивая “Слава России!”. Они, казалось, были настроены куда более решительно, чем милиция, выставленная в оцепление Белого дома, чтобы предотвратить внос туда оружия или, наоборот, его вынос из здания. Действия силовых структур были настолько нескоординированными, а кольцо оцепления настолько неплотным, что журналисты легко проходили через него туда и обратно.
“Многолюдные маневры были рассчитаны только на то, чтобы раздразнить, разъярить, взбесить вооруженных боевиков, об опасности намерений и противозаконности действий которых этими организаторами было произнесено уже столько слов. Если это действительно так, то могу поздравить руководителей МБ и МВД, а также весь сонм российских политических стратегов: увлекательная затея им блестяще удалась”, – писал Пархоменко[226]. Вероника Куцылло, молодая корреспондентка “Коммерсанта”, которая провела в Белом доме две недели, дозвонилась Сергею Филатову, руководителю ельцинской администрации. “Вы там где-то сказали, что в целях безопасности оцепление больше не будет пропускать людей. Так не пускайте же!.. Оцепление стоит, а народ шляется спокойно туда-сюда! И вообще, сколько вы намерены тянуть? Эта толпа у Белого дома – что, нельзя ее убрать?.. Их же меньше было! А чем дальше… Там же действительно с автоматами разгуливают… Здесь очень много оружия…”[227].
Если Невзоров встал на сторону оппозиции, то либеральные журналисты явно приняли сторону Кремля. Те из них, кто, как Куцылло и Пархоменко, находились внутри Белого дома, действовали почти как подпольные агенты на вражеской территории. “Это все происходило на фоне полного отсутствия некоей процедуры, некоего этикета взаимоотношений между… властью и журналистикой… Слишком близко, слишком тесно”, – вспоминал Пархоменко почти десять лет спустя[228]. В какой-то момент сближение стало настолько тесным, что Пархоменко случайно оказался в роли руководителя президентской администрации, отдающего инструкции по обороне Кремля. На территорию Кремля он попал без особых усилий и застал там атмосферу крайней неразберихи. “Похоже, кремлевские чиновники совершенно потеряли контроль над ситуацией в стране: помощники президента спорили между собой, но ни у кого не было ни информации, ни какого-то представления, что делать дальше”, – вспоминал он. Пархоменко спросил одного из помощников о численности оборонительных отрядов Кремля. Помощник понятия об этом не имел и раздраженно посоветовал ему выяснить это самостоятельно. Пархоменко вошел в пустой кабинет Филатова, набрал оттуда номер телефона коменданта Кремля и спросил его, сколько человек выставлено на оборону Кремля на случай нападения мятежников. “Откуда вы звоните?” – спросил начальник службы безопасности. “Из кабинета Филатова”, – ответил Пархоменко. “Два батальона… Вы считаете, надо просить подкрепления?” “Давайте”, – ответил Пархоменко[229].
“Я не знаю и, может быть, никогда не узнаю, чего было больше в событиях 3–4 октября – растерянности властей или циничного расчета, – писала Куцылло в предисловии к публикации своего дневника. – Кровь нужна была обеим сторонам: парламенту – потому что он надеялся, что после крови скольких-то мирных граждан народ и хотя бы часть войск встанут на защиту Конституции, президенту – потому что только кровь опять же мирных граждан могла позволить и оправдать штурм Белого дома”[230].
В те дни в Москве мало кого интересовал вопрос о законности решения Ельцина распустить парламент. Большинство событий, происходивших в период распада Советского Союза и его институтов, были продиктованы скорее революционной логикой, чем юридическими процедурами. Как писал в “Коммерсанте” Максим Соколов, для простого человека куда важнее был совсем другой вопрос: какая из сторон представляет наибольшую угрозу лично для него и для безопасности его семьи? В октябре 1993 года угроза хаоса и насилия явно исходила от Белого дома. И если Ельцина в чем-то и винили, так это в медлительности: он слишком долго не решался расправиться с теми, кто терроризировал город в течение нескольких дней.
2 октября в центре Москвы произошло столкновение антиельцинской толпы во главе с Анпиловым и милиции: анпиловцы пустили в ход бутылки с зажигательной смесью и металлические прутья. На следующее утро анпиловская толпа численностью около 4000 человек собралась на Октябрьской площади рядом с огромным памятником Ленину. Она без труда прорвала милицейский заслон и двинулась к Белому дому, неся красные флаги и портреты Сталина. Куцылло с изумлением наблюдала за тем, как эта разрастающаяся на глазах толпа подходит все ближе и ближе к зданию парламента: “Их никто не тормозит”[231].
Кольцо омоновцев, окружавшее Белый дом, вдруг рассеялось. “Или я ничего не понимаю, или это бегство”[232], – написала Куцылло. Повстанцы в Белом доме ликовали. Руцкой вышел на балкон и обратился к толпе: “Мы победили! Спасибо вам, москвичи! Теперь надо формировать боевые отряды и брать мэрию, потом Останкино!”. Через несколько минут рядом с Белым домом два грузовика пробили проход к зданию бывшего СЭВ (Совета экономической взаимопомощи, прекратившего свое существование вместе с соцлагерем), где располагалась мэрия; боевики стреляли по окнам с колена.
Главной целью мятежников было даже не правительственное здание, а телецентр. “Нам нужен эфир”, – заявил Руцкой. Бойцы залезли в грузовики, брошенные милицией, и на огромной скорости помчались по пустынным улицам Москвы в сторону “Останкино”. Гайдар писал об этом: “Оппозиция метко выбрала точку главного удара. Ее лидеры правильно оценили потенциал телевидения, самого мощного в складывающейся обстановке средства воздействия на ситуацию. Захват «Останкино», обращение Руцкого с телеэкрана создали бы атмосферу, в которой колеблющиеся и в Москве, и в регионах могли поспешить присягнуть победителю”[233]. “Чтобы «взять» Кремль, вначале нужно «”взять» телевидение”, – сказал год спустя Александр Яковлев[234].
Макашов, бывший военный командир, преисполненный ненависти к либералам, командовал осадой телецентра, призывая повстанцев очистить телевидение от “жидов” и предоставить эфир “законному президенту” Руцкому; Анпилов выступал в роли политрука. Изнутри телецентр защищало тридцать или сорок бойцов из отряда специального назначения “Витязь”, входившего в состав дивизии имени Дзержинского и обычно применявшегося для подавления тюремных бунтов. Анпилов агитировал солдат сложить оружие и перейти на сторону “народа”; он даже, возможно, преуспел бы в этом, если бы в какой-то момент мятежники не пошли в наступление, не протаранили стеклянные двери телецентра грузовиком и не выстрелили из гранатомета, убив при этом одного из бойцов. После этого “Витязь” открыл огонь на поражение. Вскоре вокруг Останкинской башни уже велся ожесточенный бой; трассирующие пули освещали вечернее небо, люди в панике разбегались и искали укрытия. За несколько секунд было убито несколько десятков человек, в том числе журналисты и случайные прохожие, попавшие под перекрестный огонь.
Около половины восьмого вечера посередине футбольного матча из эфира пропал главный телеканал страны, транслировавший передачи из Останкинского телецентра. Неожиданное отключение телевизионного сигнала вызвало ощущение катастрофы и коллапса государства. В СССР телевещание не прекращалось никогда – даже во время августовского путча 1991-го. Одна из важнейших функций телевидения и состояла в том, чтобы поддерживать ощущение порядка и прочность жизненного устройства. “Телевидение – гарант безопасности государства и один из немногих сохранившихся в стране островков стабильности… Пока зрители, включая телевизор, видят на экране «картинку», пока в назначенный час выходят «Новости», они могут быть уверены: жизнь (какая бы она ни была) продолжается. Вечером 3 октября, когда один за другим отключились 1-й, 4-й, 6-й и «Московский» каналы, возникло жуткое ощущение: мир рухнул”, – написала по горячим следам телеобозреватель Ирина Петровская[235].
В действительности прекращать вещание не было никакой необходимости. На случай прорыва мятежников в телецентр существовал специальный план, не позволявший им выйти в эфир из телестудии. Вещание осуществлялось не из самой башни, а из здания напротив, которое не попадало под обстрел. Кроме того, поскольку телевидение было одним из важнейших стратегических объектов, имелось несколько резервных телевещательных центров, один из которых был способен выдержать даже атомный взрыв. Новости можно было бы передавать из резервной студии, даже если бы основные оказались повреждены. Идея отключить вещание принадлежала руководителю “Останкино” Брагину, который дезинформировал премьер-министра Черномырдина, сообщив, что мятежники проникли в телецентр и направляются к телестудиям. Сам Брагин этого видеть не мог, поскольку провел всю ночь в затемненном кабинете на десятом этаже в здании напротив, не принимая никого из рвавшихся к нему журналистов и общаясь с руководством страны по специальной связи.
В книге “Новые одежды империи”[236] Брюс Кларк, корреспондент газеты The Times в Москве, очень подробно пытался разобраться в логике событий и убедительно показывал, что кровопролитие в “Останкино”, а также столкновения перед Белым домом были не столько (или, по крайней мере, не только) результатом общей неразберихи, сколько частью осознанного плана Ельцина спровоцировать мятежников на боевые действия и внушить им ложное чувство скорой победы – для того, чтобы затем нанести сокрушительный удар, подавить бунт и покончить с парализовавшим страну парламентом. Правда это или нет, неизвестно, но отключение телевидения, несомненно, произвело именно этот эффект. В Белом доме парламентарии принялись поздравлять друг друга с победой. Хасбулатов хладнокровно заявил: “Я считаю, что сегодня нужно взять Кремль… «Останкино» взято. Взята мэрия. Сейчас надо определиться, чтобы иметь план действий на ночь и до утра…”[237].
Двадцать лет спустя Невзоров, участник тех событий, считал, что виновниками провала штурма “Останкино” были его лидеры, Анпилов и Макашов. “То, что происходило в «Останкино», это было просто с бюстиком Ленина в сердце. Они были красны, как пламя ада. Никаких достоинств у них, кроме этого, вообще не было”, – объяснял он. Самого Невзорова возле “Останкино” в ту ночь не было. Как он рассказывал, за несколько часов до штурма его задержали на подступах к Москве вместе с несколькими десятками бойцов из рижского ОМОНа и чеченских формирований, которых он вел на защиту Белого дома. Вероятно, это “задержание” было отчасти инсценировано. Как вспоминал Невзоров, “у меня были очень веские основания не ходить в тот вечер к Останкинской башне, хотя я заранее знал о плане штурма”[238]. Дело было отнюдь не в опасности. Опасность и кровавые зрелища – путч, революция или полномасштабная война – Невзорова как раз манили. Но как профессиональный телевизионщик он не мог не понимать всю “проигрышность” материала, с которым имел дело. Анпилов мало походил на Че Гевару или Фиделя Кастро, зато обнаруживал сходство с Шариковым из фильма Владимира Бортко “Собачье сердце”. Невзорову, который видел себя в роли конкистадора, не хотелось, чтобы его ассоциировали “со спившимся Анпиловым и с чухноватыми казачками”. Его решение встать на сторону мятежников определялось не личной симпатией к Анпилову или Макашову – к ним он скорее испытывал физиологическое отвращение, а надеждой на то, что “ситуация может сдетонировать, что сдетонируют массы, сдетонирует армия. Для этого, казалось, есть все предпосылки, потому что вытирание ног об нее, нищета и беспросветица, ощущение конца света необыкновенное. Я-то знаю, своими глазами вижу гигантские, нагроможденные друг на друга ящики с динамитом. И у меня не получается его взорвать, и возникает надежда, что 93-й год сработает тем самым детонатором. У меня [было] ощущение, иллюзия, что непосредственно пламя самой революции, деятельной революции – это будет тот тигель, в котором проявятся только положительные качества элемента, а отрицательные сгорят. Я тогда был плохим химиком”. Довольно скоро, впрочем, Невзоров понял, что химическую реакцию, на которую он рассчитывал, ждать бессмысленно. “Химические реакции – это то, что либо происходит быстро, либо не происходит вообще. Было уже поздно призывать людей выходить под коммунистическими флагами, и еще рано – под националистическими”[239].
У противоположной ему стороны исходные данные были куда более выгодными. Ельцин – статный, с гладкими седыми волосами, всегда в накрахмаленной белой рубашке – выглядел царем и вызывал уважение, вспоминал Невзоров. И все же москвичи, которые не желали поддерживать мятежников, не спешили выходить и на защиту Ельцина. Большинство вообще воспринимало противостояние как борьбу за власть, мало их касающуюся, и потому предпочитало оставаться в роли зрителей, пускай даже и симпатизирующих в основном Ельцину. В результате отсутствия явно выраженной поддержки президента ситуация становилась опасной и непредсказуемой. Как показал большевистский переворот 1917 года, для захвата власти вовсе не обязательны многочисленные толпы, если армия и жандармы деморализованы. Гайдар, чей дед после большевистской революции принимал участие в гражданской войне, понимал эту опасность лучше многих других. Увидев, что “Останкино” погасло, он помчался в центр Москвы, в студию, откуда вел трансляцию канал российского телевидения, РТВ. Обстановка в студии была откровенно нервозная, взбудораженные журналисты зачитывали последние новости чуть ли не с рукописных страниц. Войдя в студию, Гайдар остановился, чтобы успокоиться и собраться с мыслями; попросил оставить его на минуту одного.
Как-то вдруг схлынула горячка и навалилась на душу тревога за тех, кого вот сейчас позову из тихих квартир на московские улицы. Нетрудно понять, какую страшную ответственность за их жизни беру на себя. И все же выхода нет. Много раз перечитывая документы и мемуары о 1917 годе, ловил себя на мысли о том, что не понимаю, как могли десятки тысяч интеллигентных, честнейших петербуржцев, в том числе многие офицеры, так легко позволить захватить власть не слишком большой группе экстремистов? Почему все ждали спасения от кого-то другого?.. И потому выступаю без колебаний, с сознанием полной своей правоты[240].
В ночь на 3 октября телевидение было единственным средством мобилизовать общество и – что еще важнее – армию. “Российский канал, единственная работающая программа, спасал Москву и Россию”, – написал в своих мемуарах Ельцин[241].
На гайдаровский призыв “выйти на баррикады” откликнулось несколько тысяч человек. Они собрались в центре Москвы и разожгли костры, чтобы не замерзнуть ночью. Это были те же самые люди, которые в августе 1991-го приходили защищать Белый дом от путчистов. Теперь они оказались по разные стороны баррикад с некоторыми из тех, кто два года назад был на стороне Ельцина, включая Руцкого и Хасбулатова. Демонстрация народной поддержки адресовалась прежде всего армии и должна была убедить генералов, что легитимность по-прежнему на стороне Ельцина. Как и в 1991 году, армия заняла выжидательную позицию, и никакой гарантии, что она в случае необходимости выполнит приказ Ельцина, не было. Генералы, как и вся страна, смотрели телеканал РТВ, куда всю ночь стекались сторонники Ельцина: известные журналисты, актеры, ученые.
Призыв Гайдара выходить на улицу вызвал противоречивую реакцию среди интеллектуальной элиты страны. Самые преуспевающие и продвинутые выгодоприобретатели первых постсоветских лет – журналисты “Взгляда” – на призыв Гайдара не только не откликнулись, но и другим посоветовали никуда не ходить: сидите дома, не подвергайте опасности свою жизнь, пусть политики и милиция занимаются своими делами, а мы с вами пойдем спать. Напротив, Гайдара поддержали те, кто был постарше и мало приобрел от рыночных реформ в материальном смысле, но зато ощущал ответственность за страну. Мариэтта Чудакова возмутилась цинизмом “взглядовцев”. “Не верьте тем, когда вас призывают не мешать политикам. Если сегодня ночью вы останетесь дома, потом будет стыдно. Стыдно будет через несколько часов или месяцев, через несколько лет!” – убеждала она по телевизору[242].
Актриса Лия Ахеджакова пылала негодованием: “Ничему не научили эти семьдесят лет. Вот смотрят на эти оскаленные озверевшие морды и разделяют их гнев… Сегодня третий день убивают… ни в чем не повинных людей… За что? За Конституцию… Что же это за проклятая Конституция?! Ведь по этой Конституции сажали людей в тюрьмы… в сумасшедшие дома… А где наша армия?! Почему она нас не защищает от этой проклятой Конституции?!”. На Ельцина, у которого в кабинете был включен телевизор, пламенная речь актрисы произвела впечатление. Как он потом напишет в своих мемуарах: “Я на всю жизнь запомню потрясенную, но при этом твердую, мужественную Лию Ахеджакову”[243]. Сам Ельцин не появлялся в ту ночь на экране. В половине третьего утра он отправился в Генштаб, чтобы вывести генералов из ступора. Его сопровождал Александр Коржаков – главный телохранитель и конфидент. Все выпили по рюмке. И Ельцин изложил военным план, придуманный одним из сотрудников Коржакова. План был незамысловатый и очень русский: ввести в город танки, выставить их перед Белым домом, произвести несколько выстрелов холостыми снарядами “для психологического эффекта”, а потом послать бойцов спецподразделений, чтобы зачистить здание от мятежников.
Гайдар считал, что одного президентского приказа может быть недостаточно, и уговорил Ельцина полететь на встречу с армейскими командирами за пределами Москвы, чтобы поддержать их боевой дух. Тем временем Черномырдин собрал крупных российских бизнесменов (которых тогда еще не называли олигархами) и попросил их помочь деньгами. Долго уговаривать бизнесменов не пришлось. По словам тех, кто непосредственно в этом участвовал, они поехали в военные части “отгружать” наличные, хотя впоследствии министр обороны Павел Грачев и отрицал, что эти деньги сыграли тогда хоть какую-то роль.
Наконец, 4 октября в 9 часов утра, Ельцин обратился к гражданам России с экранов телевизоров. “Те, кто пошел против мирного города и развязал кровавую бойню, – преступники… Я прошу вас, уважаемые москвичи, морально поддержать боевой дух солдат и офицеров… Вооруженный фашистско-коммунистический мятеж будет подавлен в самые кратчайшие сроки”[244].
Когда в центре Москвы появились танки, они вызвали скорее чувство облегчения, чем тревоги и возмущения. Как писал Гайдар спустя год. “через некоторое время уйдет напряжение реальной схватки, мучительное беспокойство, охватившее миллионы людей в России и в мире вечером 3 октября, когда исход противоборства был неясен. Многие из тех, кто этим вечером заклинал президента действовать самым решительным образом, вскоре начисто отрекутся от своих слов, торопясь возложить на него всю ответственность за случившееся. А образ танков, стреляющих по Белому дому, надолго останется в общественной памяти, порождая сомнение в стабильности российских демократических институтов”[245].
Танками управляли отобранные офицеры, которыми командовал лично Грачев. Они выстрелили десятью болванками и двумя зажигательными снарядами, от которых загорелись верхние этажи Белого дома. От самого танкового удара практически никто не пострадал: большинство жертв 4 октября погибли или были ранены в результате перестрелки между снайперами, засевшими в Белом доме, и спецназом. Но танки, стреляющие по зданию парламента, запомнились людям как символ, как телевизионная картинка. Российское телевидение транслировало в прямом эфире репортаж канала CNN, съемочные группы которого установили свои камеры на крышах соседних домов. Это порождало некоторый эффект отстраненности, делая само зрелище вдвойне сюрреалистичным – как будто все эти события происходят не в России, а в какой-то чужой стране. В холодный, почти морозный и ясный октябрьский день люди, гулявшие по Кутузовскому проспекту, наблюдали батальные сцены собственной истории. Театральный критик и историк Анатолий Смелянский писал, что люди приходили семьями, как на дневной спектакль, и ощущали себя в гораздо большей мере зрителями, нежели участниками тех событий.
Через несколько часов бой закончился. Руцкого и Хасбулатова вместе с тысячами других людей, находившимися внутри Белого дома, затолкали в милицейские автобусы и фургоны и повезли в СИЗО, правда, ненадолго. Многие бойцы, в том числе Баркашов, исчезли: им удалось выбраться из Белого дома по подземным тоннелям и канализационным трубам. Националистические и коммунистические газеты были ненадолго запрещены. Невзоровскую передачу “600 секунд” сняли с эфира за “разжигание национальной, классовой, социальной и религиозной нетерпимости”. По воспоминаниям Алексея Симонова, режиссера-документалиста, президента Фонда защиты гласности, некоторые “либеральные” журналисты испытывали триумфаторское злорадство по отношению к противоположной стороне.
По большому счету, праздновать было нечего. Пархоменко выступил против запрета националистических газет, написав пару дней спустя: “Ничего еще не кончилось. Вот теперь-то, собственно, все только и начинается. Колоссальное бандформирование, в руках которого столица России практически без защиты оставалась в течение двенадцати часов, вовсе не разгромлено, а всего лишь рассеяно”[246]. Анализ оказался точным. Пусть танки и помогли освободить Белый дом от вооруженных мятежников, они были бессильны против националистических и имперских идей, которые привели к кровопролитию в Москве и которые разгорелись с новой силой двадцать лет спустя в связи с событиями в Украине. Если сами баркашовцы расползлись по Москве подземными ходами, то их идеи и лозунги продолжали тлеть где-то внутри российской политической жизни, прорываясь наружу то в одном, то в другом месте, как при горении торфяников. Этот пожар так и не был потушен до конца: его просто затоптали в надежде, что он как-нибудь угаснет сам собой. Двадцать лет спустя российская власть, во многом с помощью телевидения, раздула его с новой силой. Многие из “защитников” Белого дома возникнут на юго-востоке Украины и в Крыму, объединившись с теми, кто в 1993 году был на стороне Ельцина. Здание администрации в Донецке, занятое люмпенизированными повстанцами, тоже будет напоминать “партизанскую республику”.
Либеральной идее расстрел Белого дома нанес даже больше вреда, чем националистам, засевшим внутри него. Люди не восприняли произошедшее как подавление вооруженного мятежа против демократически избранного президента. Вид танков у Белого дома закрепился в сознании в качестве знака грубого неуважения к парламенту как к институту. А потому вооруженные защитники Белого дома стали восприниматься не как бандиты, а как политические мученики. В отличие от трех дней августа 1991-го, которые вошли в историю как провалившийся путч, расстрел парламента так и остался в ней под неопределенной формулировкой “события октября 1993 года”.
В 1993-м победу над националистическими и коммунистическими идеями одержали не танки, а сама жизнь. Невзоров, которого через всю Москву везли на милицейской машине, чтобы отправить самолетом обратно в Петербург, вспоминал, что московская жизнь текла своим чередом. “Люди выгуливали собак, прогуливались с детьми, меняли деньги, покупали продукты, фотографировались на фоне почерневшего Белого дома, и вдруг я почувствовал, что я где-то на обочине, что никого уже не волнует вся эта политика”[247].
Социолог Юрий Левада написал тогда, что люди просто занялись собственными делами – заработками, приработками, земельными участками и ваучерами: “Вероятно, впервые в нашей истории повседневность одержала столь убедительную победу над политикой”. Но, предупреждал Левада, “победа эта неоднозначна”[248]. Главенство повседневности приобрело в России совершенно иной характер, чем в Европе, где демократические свободы гарантировались политическими институтами и правящими элитами. В отсутствие всего этого “доминирование интересов повседневности означает неизбежное низведение общественного до повседневного”, до “хлеба и зрелищ”, до примитивного потребительства, развлечений, телеигр и сериалов.
Так обстрел Белого дома превратился в сюжет для интерактивной видеоигры. Ее показали в передаче “Взгляд”, которая после перерыва снова вышла в эфир с ведущим Александром Любимовым. Чтобы как-то восполнить пробел, Любимов сделал попурри из главных событий последних нескольких лет и прокрутил их в ускоренном темпе старых черно-белых фильмов под регтайм Скотта Джоплина. Это была совершенно новая реальность, где идеология больше ничего не значила и где Невзоров и Любимов мирно сосуществовали на одном телеканале, который вскоре перейдет в руки Бориса Березовского – мастера политических манипуляций. Получив в управление главный канал страны, Березовский сразу же обратился к Невзорову как к лучшему шоумену в стране и сделал ему предложение, которое тот с готовностью принял. “Наемник – как танк: с него пушка в любую сторону крутится”, – говорил Невзоров[249].
По словам Невзорова, коллективный “Леня Голубков” одержал победу и над Анпиловым с Баркашовым, и даже над ним самим. Страна оказалась никак не защищена от популизма, который проявился в декабре 1993 года, на парламентских выборах. Тогда миллионы Голубковых вдруг проголосовали за националистически настроенного популиста Владимира Жириновского. (Впрочем, и он вскоре превратится в шоумена.)
Партия Жириновского с вводящим в заблуждение названием “Либерально-демократическая партия России” (ЛДПР) набрала тогда 23 % голосов. Демократический блок “Выбор России” с Гайдаром во главе, который не хотел давать невыполнимых обещаний, набрал 15 % голосов по пропорциональной избирательной системе (хотя в одномандатных округах сложилась более оптимистичная картина). Социологи, да и многие представители российского политического истеблишмента, были поражены. Вечером в день выборов государственные телеканалы, предвкушавшие победу демократов, устроили восьмичасовой марафон под названием “С Новым политическим годом!”. По сути, это было заблаговременное празднование. Аналитики почти не было, зато выступало множество популярных певцов, актеров и фольклорных ансамблей. “Давайте выпьем за новую конституцию, – широко улыбаясь, предлагал главный ведущий. – И давайте сегодня не будем говорить о политике”.
Московские знаменитости попивали шампанское и поздравляли друг друга с новой конституцией, которая передавала огромные полномочия в руки президента. Объявили, что главный компьютер, на котором должны были отображаться итоги парламентских выборов, поражен вирусом. Вместо того чтобы оглашать результаты, ведущий шоу зачитывал телеграммы из провинции. По сути же, единственным человеком, у которого имелись все основания веселиться, был Жириновский. Когда стало ясно, что он и коммунисты набрали больше всего голосов, оператор поймал потрясенное лицо публициста Юрия Карякина. “Россия, одумайся, ты одурела!” – с чувством произнес он в камеру.
Теперь, оглядываясь назад, можно сказать, что неожиданный успех Жириновского у избирателей был логичным исходом. Либералы в целом и СМИ в частности несли огромную долю ответственности за случившееся. Несмотря на то, что телевидение по-прежнему оставалось в руках государства (а может быть, и благодаря этому), оно менее всего было общественным или гражданским и кормило “Леню Голубкова” малопитательным набором из латиноамериканских сериалов и телеигр. Самой популярной из них было “Поле чудес”, которую вел Владислав Листьев – один из основателей и ведущих программы “Взгляд”. Хотя “Поле чудес” было точно скопировано с американского “Колеса Фортуны”, русское название телеигры невольно отсылало к Полю Чудес в Стране Дураков из сказки “Золотой ключик”. Вложение денег коллективным Леней Голубковым в “МММ” привело к тому же результату, что и закапывание золотых монет в землю в сказке про Буратино. В 1994 году финансовая пирамида Мавроди окончательно рухнула. Голубковы, естественно, стали винить во всем не самих “пирамидостроителей”, а Ельцина. Результаты выборов 1993-го следовали примерно той же логике.
Демократы, чьи иллюзии о быстром превращении России в “нормальную” страну разбились во время конфликта 1993 года, тоже обвиняли Ельцина, а не самих себя. Объектом глумления и стеба сделалось уже не советское прошлое, а российское настоящее. В декабре 1993-го, после поражения демократов на парламентских выборах, Ельцин сделал одно странное назначение. Он не стал обращаться за поддержкой ни к Любимову, ни к Листьеву. Вместо них он остановил выбор на уже 70-летнем Александре Яковлеве и попросил его возглавить “Останкино”. Но идеолог перестройки, всю жизнь бесстрашно боровшийся с националистами и коммунистами, вдруг ощутил собственное бессилие.
Началась, наверное, самая странная полоса в моей жизни… Я начал понимать и как бы кожей ощущать, что в российской жизни нарождается что-то неладное, совсем иное, чем задумывалось в начале Перестройки. Мои розовые сны померкли, когда я окунулся в телевизионный водоворот. Разнузданная погоня за деньгами, бесконечные склоки по поводу того, кому больше заплатили за ту или иную передачу, фальшь в поведении, вранье как стиль отношений… Я впервые живьем увидел коррупцию, причем в ее предельно обнаженном виде[250].
По словам Яковлева, на заре перестройки он мечтал о том, что, когда люди получат свободу, они станут благороднее и начнут обустраивать жизнь так, как считают нужным.
Часть вторая
Глава 5 Нормальное телевидение в экстремальных обстоятельствах
Говорит и показывает НТВ
4 октября 1993 года Игорь Малашенко сидел в своем белом “Москвиче” и наблюдал залпы танков по Белому дому. Его офис на верхнем этаже здания мэрии, вокруг которого вчера разгорелась битва, был теперь опечатан. Автомобиль Малашенко, предоставленный ему деловым партнером, медиамагнатом Владимиром Гусинским, был оборудован спутниковым телефоном. По нему он сейчас и звонил голливудским продюсерам, чтобы договориться о встречах в Каннах на международной ярмарке телевизионных и видеопрограмм, где Малашенко собирался закупить контент для НТВ – нового телеканала, созданием которого он занимался.
Люди, с которыми Малашенко разговаривал по телефону, смотрели по CNN прямую трансляцию драматических событий в Москве. “Наверное, им тогда казалось полным бредом, что какой-то русский прямо в эту минуту звонит им из Москвы и собирается покупать какие-то фильмы”, – вспоминал он позднее[251]. Малашенко действительно больше занимал подбор программ для своего нового канала, чем исход битвы – он и так не сомневался, что кончится все победой Ельцина.
Запуск НТВ должен был состояться накануне, 3 октября, то есть в тот самый день, когда националисты и коммунисты пошли штурмовать “Останкино”. Впрочем, оказалось, что не все еще готово, поэтому премьеру решили отложить на неделю. Когда 10 октября НТВ наконец вышло в эфир, его первая аналитическая программа, “Итоги”, была почти полностью посвящена осаде Белого дома. Во время обсуждения событий недельной давности Егор Гайдар объяснял зрителям, что именно побудило его позвать людей на улицы. Уже то, что он давал эти комментарии из обустроенной частной телестудии, наглядно свидетельствовало, что Ельцин победил и что жизнь снова входит в намеченную колею. Так, по крайней мере, тогда казалось.
НТВ стал первым российским телеканалом западного типа. В его основе была американская модель: новости производили сами, все остальное закупали на стороне. В поисках названия Малашенко перебрал множество аббревиатур. Ему хотелось, чтобы оно звучало похоже на BBC, CNN, ABC, CBS, и в итоге он остановился на НТВ. Никто, даже сам Малашенко, не знал, как расшифровывается эта аббревиатура. Что скрывается за этим “Н”? “Независимое” или “новое”? Возможно, лучше всего намерения Малашенко выражало прилагательное “нормальное”. Итак, “Нормальное телевидение” – какое должно иметься в каждой нормальной стране.
В 1993 году в России не было нормальной банковской системы, не было независимого суда, а после расстрела Белого дома не стало и парламента. Милиция и армия находились в плачевном состоянии. В этих условиях телевидение должно было проложить и утрамбовать дорогу в такую “нормальную” страну – капиталистическую, энергичную и буржуазную.
Тревожность новостей компенсировалась спокойной интонацией, с которой ведущие НТВ о них сообщали. От телеканала исходило ощущение стабильности и порядка. Как и “Коммерсантъ”, только в еще большем масштабе, он программировал и упорядочивал жизнь, а не просто создавал ежедневную телесетку. “Когда составляешь расписание телепередач, нужно мысленно проживать жизнь своих зрителей: представлять себе, когда они встают, как они завтракают, а где-то рядом включен телевизор, как они собирают детей в школу, что они делают в течение дня, когда они возвращаются домой с работы”, – рассказывал Малашенко[252].
В советское время телевизор был мирным предметом домашнего обихода: хозяйки вязали салфеточки, чтобы покрывать ими экран, а сверху ставили фарфоровые статуэтки. После смерти Сталина началось массовое производство телевизоров, которые покупали жильцы первых отдельных квартир хрущевских домов. После долгих лет сталинской мобилизации телевидение работало как транквилизатор. Оно создавало фоновый шум, как радио. Единственная угроза, исходящая от телевизора, заключалась в том, что он мог взорваться (такое и правда случалось нередко), а единственным недостатком было повышение счета за электричество. Задача ТВ состояла не в том, чтобы взбудоражить зрителей, а скорее в том, чтобы успокоить их, удержать дома. В 20:45 выходила передача для дошкольников “Спокойной ночи, малыши!”, за ней в 21:00 следовала не менее усыпляющая программа “Время”, впервые вышедшая на экраны в 1968 году, а еще примерно через полчаса – фигурное катание или какой-нибудь советский художественный фильм, как правило, не слишком захватывающий. Вещание обычно прекращалось около 23 часов – иногда к облегчению самих зрителей. “Спите спокойно, государство заботится о вас”, – таков был главный телепосыл.
В отличие от своих советских предтеч, НТВ, напротив, стремилось мобилизовать людей, поощряя личную инициативу и независимость от государства. Цель его также была противоположная: не дать людям заснуть. Став прототипом новой страны, НТВ обращалось к новой аудитории – городскому классу профессионалов, благополучно переживших распад СССР и выигравших от рыночных реформ. НТВ обращалось к образованным, активным и в целом либерально настроенным людям, у которых было достаточно средств, чтобы купить автомобиль или поместить деньги в банк (банки были крупнейшими рекламодателями НТВ). Словом, это был канал для думающих и преуспевающих, или, как бы сказал “Коммерсантъ”, для “опережающей группы”.
Этой аудитории нужны были качественные новости и хорошие развлекательные программы. НТВ предоставляло и то, и другое. Приоритетом канала были профессионализм и здравый смысл, главной ценностью – неприкосновенность частной жизни, или “прайвеси” (слово это вошло в русский язык, в котором не нашлось для него точного краткого эквивалента). Весь канал в целом рождал ощущение респектабельности, оптимизма и уверенности в собственных силах, чему способствовали и стильный логотип, и современные студии, и хорошо одетые молодые ведущие. Зеленый глобус на логотипе подскакивал и вертелся, а в детских передачах превращался в воздушные шарики, рассыпавшиеся искрометными фейерверками. Советское телевидение никогда не видело такого торжества частного над государственным.
Лицом и голосом нового канала стал Евгений Киселев, который вел еженедельную аналитическую программу “Итоги”. Он воплощал солидность и авторитет. Ведущий в консервативном двубортном костюме часто делал паузы, как бы подыскивая нужное слово, говорил вдумчиво, спокойно и убедительно. Киселев не пытался развлекать публику или читать ей лекции – он просто взывал к ее интеллекту и здравому смыслу.
НТВ был серьезным и сдержанным каналом. В выпусках новостей и программах, посвященных текущим событиям, не допускалось иронии и стеба. Иронию приберегали для еженедельной неполитической программы, которую вел Леонид Парфенов. Модный и яркий молодой журналист (слова “хипстер” тогда в обиходе еще не было) “водил” продвинутую публику по театрам, выставкам и модным местам. Если стиль Парфенова был ближе к тому, что делал “Коммерсантъ”, то Киселев скорее выступал преемником таких советских корифеев, как Александр Бовин и Егор Яковлев. Главный ведущий канала олицетворял тип человека, с которым могли бы отождествить себя и старая интеллигенция, и нарождающийся российский средний класс: и тем, и другим он внушал доверие.
Киселев принадлежал к первому постсталинскому поколению: он родился в 1956 году – в том же, что и Егор Гайдар. В отличие от Гайдара, Киселев не был выходцем из недр советской аристократии, но происходил из благополучной семьи технической интеллигенции. Его отец был авиационным инженером и работал в одном из засекреченных советских НИИ (так называемых “почтовых ящиков”). Евгений вырос в самой благоприятной советской среде и не знал ни страха, ни лишений, под влиянием которых формировалось предыдущее поколение. Время, на которое пришлось его детство, уже не требовало героев или борцов, а потому порождало более мягких, гибких и склонных к рефлексии людей, способных на компромисс и привязанных к земным благам.
“У меня было счастливое детство. Пускай поначалу и не вполне обустроенное – но безбедное. Мы жили в отдельной квартире. Я ходил в хорошую школу – в пяти минутах от дома. Никакой шпаны, никаких бандитов”, – рассказывал Киселев[253]. В университете Киселев изучал фарси, а потом в течение года стажировался в Иране, где еще не произошла исламская революция и где можно было свободно читать британские и американские газеты и смотреть западное кино. Определяющим событием для поколения Киселева стала война в Афганистане – бесцельная и дорогостоящая как в финансовом, так и в человеческом смысле. Киселев наблюдал ее собственными глазами.
За несколько месяцев до ввода советских войск в Афганистан Киселева, в качестве военного переводчика, отправили в Кабул. Работа предполагала тесное общение со службой военной разведки и КГБ. Он стал свидетелем того, как советские агенты готовят переворот в Афганистане и инсценируют штурм дворца президента Амина. Азарт и ощущение собственной вовлеченности в настоящую, не киношную шпионскую историю сопровождались назойливыми мыслями о том, что советское правительство поступает глупо, бессмысленно и вредит само себе. В отличие от советского вторжения в Чехословакию, вторжение в Афганистан не сокрушало ничьих иллюзий: сокрушать было уже нечего.
После службы в Афганистане Киселев три года проработал в Высшей школе КГБ, где преподавал персидский язык. Речь о выборе не шла – предложение работать в КГБ не предполагало отказа. В том, что Киселев прошел через школу КГБ, не было ничего удивительного. Многие люди, сделавшие впоследствии хорошую карьеру (в том числе и бизнесмены), имели те или иные связи в спецслужбах.
Закончив, наконец, работу по распределению, Киселев пришел на Гостелерадио. Он попал в службу иновещания, где готовились передачи на десятке языков, в том числе на фарси. Служба курировалась КГБ и продвигала советские взгляды по всему миру, включая Ближний и Средний Восток. Никто из работавших там людей не верил в то, о чем говорил. Они даже не рассчитывали на то, что кто-то их слушает. “Это была братская могила неизвестного журналиста: никому не нужная коротковолновая радиостанция, вещавшая для иностранных слушателей”, – говорил Киселев[254]. Такая работа не приносила ни малейшего профессионального удовлетворения, зато предоставляла массу свободного времени и доступ к информации. В конце 1980-х редакция иновещания стала инкубатором кадров для перестроечного телевидения. Киселев оказался в иностранном отделе новостной программы “Время”.
Там он и познакомился с Олегом Добродеевым – человеком, которому предстояло сыграть важную роль в создании первого в России независимого телеканала и еще бóльшую роль в его последующем уничтожении. Добродеев был первым руководителем новостных и информационных передач на НТВ. А позднее, уже при Владимире Путине, он встал у руля российской пропагандистской машины, проложив себе путь по развалинам прежнего НТВ.
Добродеев принадлежал к тому же поколению, что и Киселев, но вырос в семье творческой элиты. Он даже в большей степени, чем Владимир Яковлев, являлся “сыном” шестидесятников. Его отец был сценаристом и занимал должность секретаря Союза кинематографистов – мекки либеральной творческой интеллигенции времен оттепели. Борис Добродеев был одним из авторов известного исторического фильма “Карл Маркс. Молодые годы”, был удостоен Ленинской премии, жил в писательском доме рядом со станцией метро “Аэропорт” на севере Москвы и принадлежал к тому же кругу, что и Егор Яковлев. Соавтор Добродеева-старшего, замечательный сценарист Анатолий Гребнев, жил в одной коммунальной квартире с Евгением Примаковым, будущим директором службы внешней разведки, министром иностранных дел и премьер-министром России. Добродеев-младший закончил исторический факультет МГУ. Он прекрасно владел французским, выделялся эрудицией, интеллектом и воспитанием. На телевидение он попал в 1983 году, но в бурных перестроечных разговорах и спорах, которые начались через несколько лет, не участвовал и, по воспоминаниям Киселева, держался особняком.
“У него был очень систематичный ум. Факты и цитаты всегда были наготове, лежали на нужных полочках, – вспоминал Киселев. – Он не задавался, внешне держался скромно, но любил всякие атрибуты власти: кабинет с секретаршей, автомобиль с личным водителем, специальную телефонную линию правительственной связи, возможность неофициально общаться с власть имущими. Бывало, у нас идет какое-то важное совещание, и вдруг – звонок из Кремля. Олег говорил: «Извини, старина, меня вызывают в Кремль. Надо ехать. Продолжим завтра». Он смаковал это, как смакуют вино – его запах, вкус, послевкусие”, – рассказывал Киселев[255], сам неплохо разбирающийся в винах и тоже неравнодушный к внешним атрибутам власти.
Добродеев обладал безошибочным чутьем на новости и направление событий; он угадывал наметившееся главное течение и умел вовремя оказаться впереди. Если говорить об уме и рабочей этике, то Добродеев намного превосходил всех остальных в “Останкино” и быстро сделался одним из любимцев Егора Яковлева. Малашенко, который много лет был начальником Добродеева, называл его трудоголиком. “Его не интересовало ничего, кроме работы. Он читал абсолютно все тексты, просматривал каждый выпуск новостей. Когда он уезжал в отпуск за границу, то просил секретаря класть телефонную трубку рядом с телевизором – чтобы он мог хотя бы слушать новости, если нельзя их смотреть”[256]. 5 января 1992 года, через десять дней после того, как прекратил существовать СССР, Добродеев и Киселев вышли в эфир “Первого канала” с “Итогами” – 45-минутной аналитической программой, рассказывавшей о главном за неделю[257].
“Итоги” стали играть ту же роль, которую до этого играло “Время”: программа помогала ориентироваться и объясняла основные события. Иностранные дипломаты, отправляя в понедельник утром свои депеши, часто опирались на сюжеты “Итогов”, выходившие в воскресенье вечером. Киселев приглашал в студию ньюсмейкеров и экспертов, чтобы “попытаться разобраться в происходящем”. Влиятельность и успех “Итогов” подтвердились год спустя, когда программа праздновала свою первую годовщину и на вечеринку были приглашены все, кто появлялся в ней на протяжении последнего года. “К нашему полному изумлению, пришли все – конечно, кроме Ельцина”[258].
Эта счастливая для “Итогов” пора закончилась с увольнением Егора Яковлева и уходом Малашенко. Вячеслав Брагин, назначенный на место Яковлева, был “клиническим случаем”, по выражению Добродеева. Образованного человека, выросшего в советском “высшем обществе”, унижала одна мысль о том, что нужно подчиняться какому-то бывшему провинциальному партаппаратчику, наскоро перекрасившемуся в демократа. В 1992-м идея использовать телевидение в качестве орудия государственной пропаганды Добродеева скорее отталкивала. “Информация как таковая не востребована властями; они видят в ней инструмент мгновенного влияния и быстрой реакции”, – жаловался он.
Киселев тоже был недоволен, но не из-за воцарившейся цензуры: он начал понимать, что сидит на золотой жиле, а получает копейки. Вокруг него коллеги превращали свои программы в независимые продюсерские компании, которые затем продавали эти же самые передачи государственному телеканалу, а прибыль забирали себе. “Итоги” же оставались частью государственного телевидения, а Киселев – наемным государственным служащим со скромным окладом, таявшим из-за растущей инфляции. Киселев решил, что пора уходить из “Останкино” вместе с программой. И когда Добродеев в очередной раз пришел к нему в кабинет жаловаться на давление сверху, Киселев сказал ему, что пора от слов переходить к делу.
Скорость, с какой события разворачивались в течение следующих нескольких часов, была типична для Москвы 1990-х годов. Киселев поднял трубку и позвонил Сергею Звереву – старому знакомому, работавшему у Владимира Гусинского – владельца банка, газеты “Сегодня” и радиостанции “Эхо Москвы”. “Я здесь с Олегом, – сообщил он. – Почитали вашу газету. Большая удача. А вы не хотели бы делать нечто подобное на телевидении?”. “А кто за это возьмется?” – спросил Зверев. “Мы”. “Ну так заезжайте, поговорим”, – ответил Зверев. Не прошло и двух часов, как Добродеев и Киселев уже обсуждали свою идею с Гусинским – бывшим театральным режиссером, переквалифицировавшимся в банкира и медиамагната.
Олигарх и интеллектуал
В отличие от Киселева и Добродеева, Гусинский не был выходцем из привилегированной среды. История его семьи вполне типична: деда расстреляли в 1937-м, мать приговорили к семи годам лагерей. Гусинский родился в 1952 году, за несколько месяцев до смерти Сталина. Он вырос в однокомнатной 18-метровой квартирке, где жил вместе с родителями. Зачатки воспитания он получил на улице – в драках с дворовыми мальчишками, которые обзывали его “жиденком”.
В школе он мечтал стать физиком, но в итоге поступил в “Керосинку” – Институт нефтехимической и газовой промышленности. Для абитуриента, у которого в пятой графе советского паспорта было написано “еврей”, это был логичный компромисс. При поступлении на самые престижные факультеты существовали негласные, но строгие квоты для евреев, а физика тогда пользовалась бешеной популярностью, и конкурс был огромный. Впрочем, к учебе Гусинский относился прохладно, из института его отчислили, и после двухлетней службы в армии он направил энергию в другое русло. Любовь к театру привела его в Государственный институт театрального искусства имени А. В. Луначарского. Он закончил режиссерский факультет на курсе у Бориса Равенских, занимался организацией концертов и культурных мероприятий, поставил пару спектаклей в Туле, но сколько-нибудь заметного следа в театральном искусстве не оставил.
На жизнь он стал зарабатывать по-другому: “бомбил”, подвозя на своей машине иностранцев из аэропортов и гостиниц, фарцевал, торгуя на черном рынке джинсами, американскими сигаретами и валютой, которую покупал у иностранцев… С точки зрения советского законодательства все эти занятия считались противозаконными, и потому фарцовщики пользовались особым вниманием со стороны КГБ. Как пишет Дэвид Хоффман в книге “Олигархи”, Гусинского поймали на обмене валюты, задержали, но обвинений не предъявили, а пригласили на беседу с Филиппом Бобковым, начальником 5-го управления КГБ, которое занималось диссидентами. По предположению Хоффмана, Гусинский, возможно, оказался полезным источником информации для Бобкова.
В конце 1980-х Гусинский создал кооператив и наладил производство якобы восточных “целебных” браслетов из медной проволоки, которую он брал в трамвайном депо в обмен на несколько бутылок водки. Эта же медь шла на покрытие гипсовых статуэток – копий произведений русского искусства. Гусинскому даже удалось выбить разрешения на продажу этих поделок за границу – за твердую валюту. Дело было прибыльное, затраты минимальные.
В любом бизнесе огромное значение имели связи. Особенно важными они были в строительном бизнесе и при сделках с московской недвижимостью. Именно в этой сфере Гусинский и решил искать новые источники прибыли. Он подружился с будущим мэром Москвы Юрием Лужковым – фантастически энергичным и деятельным человеком, который в ту пору занимался вопросами московских кооперативов и заведовал распределением овощей по магазинам. Дружба Гусинского с Лужковым вылилась в типичное для России “частно-государственное партнерство”, благодаря которому компания Гусинского вскоре обрела офис не где-нибудь, а прямо над кабинетом мэра Москвы в здании бывшего СЭВа.
Почти весь крупный бизнес в России вырос из такого слияния государственных интересов с частными. Строительная компания Гусинского с невероятной легкостью получала городскую землю и все нужные разрешения. Но важнее всего было суметь встроиться в денежный поток государственных предприятий или самого правительства. Этим занимались все те, кого вскоре окрестят олигархами. Гусинский установил прочные связи с правительством Москвы, которое направляло свой оборотный капитал в возглавляемый им консорциум банков.
Разница между Гусинским и другими банкирами заключалась в том, как они распоряжались государственным капиталом. Большинство будущих олигархов использовали его для приватизации государственных активов, фактически скупая государственные компании на деньги самого государства. Гусинский же гордился тем, что использовал денежный поток мэрии как стартовый капитал для построения с нуля собственного бизнеса, куда входило несколько газет, а теперь еще и телевизионный канал. Ни одной из принадлежавших ему компаний в советское время не существовало.
По сравнению с другими олигархами середины 1990-х Гусинский крупным магнатом не был, промышленными и нефтяными активами не владел. Главным его активом был банк МОСТ. Относительная скромность его активов компенсировалась нарочито “олигархическим” стилем жизни. Будучи человеком театральным, но в театре себя не реализовавшим, Гусинский не просто жил жизнью олигарха, со всеми ее атрибутами в виде частных самолетов, яхт и бронированных лимузинов, но и создавал сценический образ олигарха, играл роль.
Одним из главных атрибутов российского олигарха начала 1990-х была обширная личная служба безопасности для противостояния бандитам и рэкетирам. Вместо того чтобы платить за “крышу”, олигархи нанимали в качестве охраны милиционеров, а также бывших (а иногда и действующих) сотрудников “конторы”, как принято было называть КГБ. Но служба безопасности Гусинского напоминала маленькаую армию и насчитывала около тысячи человек. Иногда он действительно использовал ее в деловых целях (однажды помог Лужкову вернуть контроль над десятками бензозаправочных станций, захваченных бандитами), но прежде всего это войско было символом статуса. Как сказал один из его компаньонов, “Гусинский очень любил играть в солдатиков”.
В какой-то момент Гусинский мог похвастаться “богатой коллекцией” из пяти высокопоставленных офицеров КГБ, находившихся у него на службе. В их числе оказался и Бобков, который еще несколько лет назад допрашивал самого Гусинского, пойманного на фарцовке. Какие именно услуги оказывал Бобков Гусинскому, до конца понятно не было (Гусинский утверждал, что они носили в основном лоббистский характер), но ясно было одно: Гусинскому льстило, что у него на зарплате находится один из самых влиятельных генералов советского КГБ. Медиаинтересы Гусинского лежали примерно в той же плоскости: финансируя газету “Сегодня”, он не руководствовался соображениями прибыли – для этого у него имелся банк. Газета служила украшением на фасаде его бизнес-империи, символом его статуса и влияния. Обладание же крупным телеканалом сразу переводило его в разряд тяжеловесов и ставило в один ряд с Борисом Березовским, который вошел в ближний круг Ельцина и управлял “Останкино”, превратившись в одного из главных российских олигархов.
Когда к Гусинскому пришли Киселев и Добродеев и предложили купить программу “Итоги”, он был уже к этому внутренне готов. Только мыслил он, в отличие от Киселева, масштабами не программы, а телеканала и медиахолдинга. Уже через полчаса кабинет Гусинского наводнили помощники и адвокаты, которым было объявлено: мы создаем новый частный канал, деньги не проблема. Это напоминало сцену из какого-нибудь голливудского фильма 1950-х годов.
Поскольку у государства ресурсов было на тот момент немного, олигархи создавали свою собственную, параллельную инфраструктуру, которая, по сути, подменяла собой государство. В холдинг Гусинского “Медиа-Мост” входили маленькая армия, банк, дипломатическая служба, его собственная газета, радиостанция и телеканал. Со временем он попытается обзавестись авиа- и телекоммуникационной компанией, а к медийным активам добавится журнал “Итоги”. По Москве Гусинский разъезжал в сопровождении кортежа с сиреной и мигалками, пользуясь на дорогах полосой, выделенной для членов правительства.
Если бы Советский Союз не развалился, Киселев, вероятно, стал бы главным комментатором международных событий на советском телевидении, а Добродеев поднялся до кресла руководителя ЦТ СССР. Как и представители старшего поколения идеологов, они принадлежали к советской элите. Но, в отличие от шестидесятников, лишившихся былого статуса в ходе либерализации экономики, они ухватились за те возможности, которые возникли в результате развала советской командной экономики. Привилегии и блага, которые раньше распределял среди номенклатуры аппарат ЦК КПСС, теперь распределял Гусинский. Киселев с Добродеевым бесплатно получили квартиры в элитных домах, загородные дачи, автомобили с личными водителями и заоблачный, по меркам большинства населения, оклад. Они вышли из гонки победителями.
В отличие от Анпилова или Нины Андреевой, они не были обременены идеологией социализма; их не преследовала русская национальная идея и не занимали мысли о прошлом величии России. Они были профессионалами и жили в настоящем времени, свободном от государственной идеологии. У них были образование, опыт работы и уверенность в собственных способностях, которые позволили им безболезненно перейти из старой советской элиты в новую российскую. Когда Гусинский спросил Киселева с Добродеевым, кому лучше поручить управление новым каналом, оба назвали имя Игоря Малашенко – их бывшего начальника в “Останкино”. В этом не было ничего удивительного: еще недавно он занимал пост заместителя руководителя центрального телевидения и пользовался репутацией человека умного, амбициозного и дельного.
Первая встреча Малашенко с Гусинским была встречей двух параллельных миров. Если бы не распад Советского Союза, их траектории вряд ли бы пересеклись. “Он произвел странное впечатление на меня, а я наверняка произвел странное впечатление на него”, – вспоминал Малашенко[259]. У сына советского генерала, выходца из номенклатурной семьи, было мало общего с евреем-миллионером, бывшим фарцовщиком и кооператором, развлекавшимся наймом на службу бывших высокопоставленных чинов КГБ. Хотя эта встреча и казалась случайной, историческая логика в ней была.
Во взаимодействие вступили два совершенно разных мира – крупный бизнес, выросший из кооперативов, и меритократия, сложившаяся еще в советскую эпоху. Никакого пиетета по отношению к интеллигенции Малашенко не испытывал, мерилом нравственных и либеральных ценностей ее не считал и отзывался о ней скорее уничижительно. Тем не менее сам он был ее воплощением, принадлежа к классу образованных, квалифицированных и опытных профессионалов, взращенных советской системой. В университете он изучал философию, но марксизму-ленинизму предпочел политическую философию Данте: в качестве темы диссертации выбрал его трактат “О монархии”, посвященный взаимоотношениям между религиозной и светской властью. Однако, будучи человеком амбициозным и честолюбивым, Малашенко вскоре понял, что академическая наука наверх его не выведет, и принялся взбираться по карьерной лестнице, для начала устроившись на работу в престижный Институт США и Канады. Малашенко не принадлежал ни к кругу перестроечных реформаторов, ни к кругу диссидентов. Солженицын его интересовал мало. Идеи “социализма с человеческим лицом” и того меньше. Книгой, которая на него произвела куда более сильное впечатление, была антиутопия Джорджа Оруэлла “1984”.
Психологически все вышло очень правдиво. Эта страна, эта галактика [описанная Оруэллом] не должна была существовать, но она существовала. Я в ней жил, я пытался овладеть двоемыслием, чтобы внятно и убедительно говорить о Советском Союзе, хотя это было невозможно. Наша официальная доктрина учила, что дважды два – десять. У нас, в более либеральном Институте США и Канады, разрешалось говорить, что дважды два – восемь, иногда – семь. Но в конечном итоге и это было неважно, потому что и то, и другое было враньем[260].
Перед Малашенко, как и перед многими другими умными, энергичными и амбициозными людьми в Советском Союзе, стоял вопрос практический: как и где найти применение своим талантам и энергии и в то же время не потерять уважение к самому себе? Талантливый математик или филолог мог бы спокойно заниматься своим делом, идя на минимальные жертвы: государство не мешало тем людям, которые не лезли в политику. Но как быть, если твои таланты и энергия лежат как раз в области политики, СМИ, социальных процессов? “Я очень четко сознавал: или моя жизнь пройдет напрасно, или системе придется измениться”[261].
Когда умер Андропов и к власти пришел Черненко, 30-летний Малашенко “почувствовал, что мы не заслуживаем этого унижения”. Поэтому когда Горбачев принялся за демонтаж старой системы, Малашенко захотел помочь ему. В то время, когда многие, в том числе Ельцин, уходили из ЦК, Малашенко, напротив, вошел туда. Это был, конечно, осознанный карьерный шаг, и за ним стояла уверенность Малашенко в том, что его будущее зависит от разрушения советской системы. И все-таки, когда 25 декабря 1991 года Малашенко оказался в том самом кремлевском зале, где Горбачев подписывал указ о сложении полномочий, ощущение исторического слома его поразило:
Передо мной последний правитель России в ее имперских границах СССР подписывался под документом, ликвидировавшим эту империю. Я был загипнотизирован. Я не пытался ничего сказать или сделать, а просто смотрел. Это было как во сне, когда смотришь, как на тебя наползает огромная глыба. Я понимал, что рано или поздно Советский Союз рухнет, – это было неизбежно. Но когда до меня дошло, что все то, что было создано поколениями лучших русских людей, сейчас прекратит существовать, мне совсем не хотелось прыгать и скакать от радости[262].
Когда улеглась пыль, выяснилось, что вокруг ничего не осталось – абсолютно голое пространство, пустыня. Для строительства будущего не существовало не только великого замысла (да и кому он был нужен после закончившегося 70-летнего эксперимента?) – не было даже самого простого чертежа. “Правда, все-таки было ощущение, что все как-нибудь наладится и, несмотря на всеобщее разложение и разруху, на старом месте вырастет что-то новое”, – рассказывал Малашенко[263]. Что именно вырастет на пустыре, оставшемся после советской системы, во многом зависело от таких людей, как он.
Малашенко не придавал большого значения государству или идеологии. Он был убежден, что для отдельного человека ценнее всего личное достоинство и свобода. Возможно, еще изучая философию Средневековья и Возрождения, он проникся мыслью о том, что в основе всей европейской цивилизации лежат самоуважение и главенство личной воли. Взгляды Малашенко не были типичны для людей его поколения. В нем странным образом соединялись цинизм и идеализм, мизантропия и уважение к другим людям – возможно, как форма уважения к самому себе. Он не разделял убеждения шестидесятников, но и не желал сводить с ними счеты. Он ценил ярких, самостоятельно мыслящих людей вроде Егора Яковлева (который позвал его в “Останкино” и сделал своим заместителем), но не как представителей поколения в целом, а как отдельных личностей.
Когда Егора уволили, Малашенко публично вступился за него и через несколько месяцев сам подал заявление об уходе. “Свое поколение я не люблю, – рассказывал он в одном из интервью. – Мне с Егором было просто, потому что во мне есть черты, которые самому кажутся анахронизмом. И хотя мне понятен сарказм… по адресу «шестидесятников», многие из них мне близки, во всяком случае сильные и яркие фигуры, типа Яковлева”[264].
Он не желал участвовать в коррупционных схемах, которые опутали все Центральное телевидение. Дело было не в равнодушии к деньгам, а в элементарной брезгливости: Малашенко считал участие в подобных махинациях ниже своего достоинства. Занимая государственную должность заместителя руководителя “Останкино”, он оказался перед выбором: или воровать и брать взятки, или жить в относительной бедности. Ни тот, ни другой вариант его не привлекали, поэтому, когда его бывшие сотрудники предложили ему создать новый частный телеканал, он с готовностью согласился.
Малашенко стал не просто генеральным директором НТВ, но его главным идеологом и творцом, во многом унаследовав ту роль, которую в СССР играл Александр Яковлев. (Яковлев Малашенко симпатизировал и покровительствовал ему, вероятно, распознавая в нем своего наследника.) Возможности и результаты у них, впрочем, были разные. В отличие от Александра Яковлева, который верил, что лишь демократизация всего общества поможет превратить Россию в нормальную свободную страну, Малашенко считал, что путь к политической свободе и к Западу может проложить только элита, опирающаяся на индивидуализм и частную собственность.
Как и Александр Яковлев, Малашенко понимал, что свободный поток информации обладает огромной трансформирующей силой. При отборе и ранжировании новостей НТВ исходило из интересов аудитории, а не государства или даже своих владельцев. Впрочем, интересы владельцев и аудитории чаще всего совпадали. Малашенко придумал для канала лозунг: “Новости – наша профессия”, взяв за основу девиз генерала Кертиса Лемея, легендарного командира ВВС США. На хвостах его бомбардировщиков было выведено “Мир – наша профессия”. Военизированный лозунг НТВ соответствовал тем боевым условиям, в которых появился и существовал канал – до тех пор, пока не подорвался сам и не был уничтожен государством, с которым воевал.
У НТВ не было полноценной лицензии – канал считался экспериментальным. Силовики пытались задушить его в зачаточном состоянии, справедливо усматривая в нем угрозу для собственной власти. Но на протяжении 1990-х из этих схваток всякий раз выходило победителем НТВ. Поводы и предлоги для столкновений находились самые разные, но они неизменно являлись частью одного и того же главного конфликта между частными и государственными интересами, между принципами соревнования (пускай несовершенного) и ограничения конкуренции, между правами личности и этатизмом и, наконец, – между миром и войной. Звездный час журналистов НТВ наступил во время войны в Чечне, ставшей поворотным и трагическим по своим последствиям событием в истории России после распада СССР.
Первая Чеченская война (1994–1996 гг.) отчасти стала результатом парламентских выборов в декабре 1993 года, которые вывели на первый план Жириновского с его ультранационалистской риторикой и вызвали перестановку сил внутри самого Кремля. Как всегда бывало с Ельциным, в пору кризиса он переживал эмоциональный подъем, мобилизуя все свои силы, а потом, когда опасность проходила, этот подъем сменялся депрессией; периоды бурной активности чередовались с периодами апатии, нередко сопровождавшимися запоем. Так было и после провала августовского путча, когда Ельцин надолго пропал из виду, и после событий октября 1993-го. “Ельцин стал более замкнутым, более злым и мстительным”[265]. Гайдар назвал главу своих мемуаров, посвященную периоду, который последовал за кризисом октября 1993-го, “Время упущенных возможностей”.
В начале 1994 года Ельцин опять исчез на пять недель, а когда вновь стал показываться на публике, то неизменно находился в скверном настроении и часто бывал нетрезв. После декабрьских выборов Гайдар лишился былого влияния и через три месяца после повторного назначения в правительство был вынужден подать в отставку. Ельцин попал в окружение хамоватых лакеев-интриганов, он поддавался их влиянию, а те охотно потакали его худшим привычкам. В ближний круг Ельцина вошли его телохранитель Александр Коржаков и Михаил Барсуков, руководивший службой безопасности – люди завистливые, ограниченные и агрессивные. К лету перестановки в окружении Ельцина уже начали сказываться на происходящем в стране.
Ельцин явно был пьян, когда пытался дирижировать оркестром в Берлине во время официальной церемонии по поводу вывода российских войск из Германии. Он оказался не в состоянии выйти из президентского самолета в аэропорту Шаннон, где приземлился на обратном пути из Америки и где его встречал премьер-министр Ирландии. В представлении многих россиян все это было гораздо хуже, чем расстрел Белого дома. Мало того, что Россия выводит свои войска, у нее еще и президент – пьяница! А то, как воспринимают Россию за границей, часто значило для ее граждан гораздо больше, чем условия жизни, с которыми они готовы были мириться у себя дома. Лишения – это одно, а унижение – совсем другое.
Коржаков, всегда стоявший за спиной Ельцина как телохранитель, внезапно стал садиться рядом с ним на заседаниях Совета безопасности в Кремле. Первым такую “перестановку фигур” заметил Киселев, когда готовил выпуск новостей и отсматривал отснятый в Кремле материал. “Слухи о растущем влиянии Коржакова подтвердились, – объявил он в “Итогах”. – Начальник президентской охраны участвует в важных и конфиденциальных государственных делах”. Такое обстоятельство могло бы в любом случае показаться тревожным, но осенью 1994 года оно стало катастрофичным. На Северном Кавказе, в Чеченской Республике, назревала беда, и советники Ельцина, Коржаков и Барсуков, увидели в этом отличный повод для “маленькой победоносной войны”, которая поможет заглушить громогласные речи Жириновского, поднять рейтинг Ельцина, снижавшийся из-за продолжающегося экономического спада, и, главное, укрепить их собственные позиции. Частью цепной реакции, начавшейся с распадом СССР, стал чеченский сепаратизм, и Ельцин дал себя убедить, что единственное решение проблемы – это применение силы.
НТВ обратилось к чеченской теме еще за несколько месяцев до войны. “Начиная примерно с июня, не было, наверное, ни одного выпуска «Итогов», где бы не упоминалась Чечня”, – вспоминал Киселев[266]. В сентябре будущий военный корреспондент НТВ Елена Масюк сделала репортаж о том, что в соседнем с Чечней Ставропольском крае разворачивают полевые госпитали. В ноябре 1994 года Малашенко случайно встретил Евгения Савостьянова, начальника московского управления КГБ, которого знал еще по ЦК. “Он сказал мне своим легкомысленным тоном: «Слушай, Игорь, да забудь ты про Чечню на пару недель. Мы там все закончим, а потом я тебе все про это расскажу». И до меня дошло: они действительно сами не понимают, что творят”[267].
Когда происходил этот разговор, российские контрактники, входившие в 47 танковых экипажей, уже направлялись в Грозный для оказания поддержки разобщенным и слабым силам оппозиции, выступившей против президента Чечни Джохара Дудаева. Дойдя до Грозного, российские контрактники попали под шквальный обстрел дудаевской армии и отступили; несколько человек оказались в плену. Чеченские “силы оппозиции” разбрелись и начали мародерствовать. В то время как государственные СМИ рапортовали, что Дудаев бежал и никаких российских солдат в Грозном нет, НТВ показывало кадры с места событий, которые не оставляли никаких сомнений: военная операция закончилась унизительным разгромом.
Малашенко не испытывал сочувствия к Дудаеву – самовлюбленному диктатору-параноику. По сути, он видел самую большую опасность этой войны не в том, что она сделает с Чечней, а в том, что она почти наверняка сделает с самой Россией. Эта война стала не только атакой на сепаратистов. Она подвергала опасности все то, за что выступало НТВ: профессионализм, уважение к правам личности, нормальную жизнь и здравый смысл. “Я понимал, что война в Чечне раздует роль армии и спецслужб и что это изменит правила игры в России, потому что, когда ты начинаешь отстреливать людей в Чечне, то потом ты сможешь отстреливать их где угодно, рука почти машинально будет тянуться к автомату или к дубинке”, – говорил Малашенко[268]. Малашенко с Добродеевым решили, что НТВ будет показывать эту войну без всяких купюр и прикрас, во всех ее неприглядных подробностях. Корреспонденты делали репортажи с обеих сторон линии огня. Они проникали за позиции российских солдат и брали интервью у чеченских командиров, вызывая ярость российских военачальников.
Когда государство говорило, что пленников нет, НТВ показывало захваченных в плен молодых контрактников, обезоруженных и брошенных на произвол судьбы. Когда армия замалчивала свои потери, НТВ показывало сбитый российский вертолет и тела российских солдат. Когда государственные телеканалы сообщали о том, что гражданское население покинуло Грозный, НТВ показывало раненых мирных жителей, чьи дома подвергались бомбежке, стариков, в отчаянии ищущих укрытия, женщину с кровавым месивом вместо лица. Кремль не только нес потери на настоящей войне – он проигрывал и информационную войну.
Реальные кадры бедствий и разорения, отснятые НТВ, производили на граждан страны гораздо более сильное впечатление, чем письменные сводки Кремля или картинки танков, движущихся колонной по пыльной дороге. “В Грозном мы не пользуемся никакими другими источниками, кроме того, что непосредственно наблюдаем [глазами наших корреспондентов]”, – говорил Олег Добродеев[269]. Зимой 1994–95 годов, согласно социологическим опросам, большинство россиян было на стороне НТВ и против войны. НТВ пользовалось наибольшим доверием и собирало почти 30 % телевизионной аудитории – в два с половиной раза больше, чем государственные каналы[270]. НТВ явно рушило кремлевские планы. При этом новостные материалы были только частью общей картины. Начало войны в Чечне совпало с запуском на НТВ сатирической программы “Куклы”, сделанной по образцу французского марионеточного цикла Les Guignols, в котором большие латексные куклы карикатурно изображали политиков. Идею программы телеканалу предложил российский продюсер, живший во Франции. Сценарии для карикатур писал сатирик Виктор Шендерович, знакомый с Гусинским еще со времен театрального училища. Каждая серия “Кукол” строилась на основе сюжета какой-нибудь известной книги или фильма. В одном из первых выпусков за основу взяли “Героя нашего времени” Михаила Лермонтова, проводя параллели между войной на Кавказе в XIX веке и текущими событиями. Куклы пародировали голоса российских политиков. Авторы передачи решили, что самого Ельцина изображать не будут – по крайней мере, пока. “Мы подумали, что это будет уже перебор, и решили подготовить зрителей”, – пояснял Малашенко[271].
Традиция политической сатиры и анекдота в России существовала давно, но высмеивать действующих политиков и руководителей государства с экрана телевизора никто никогда не осмеливался. Дело было даже не столько в самой сатире, а в том, что ее пространством стало телевидение, которое традиционно воспринималось как часть государственного устройства. НТВ не просто смеялось над политиками, но и разрушало сакральный образ государственной власти, да еще в тот самый момент, когда эта власть пыталась оправдать свою войну в Чечне. Первая серия “Кукол” вышла в эфир 19 ноября 1994 года. В тот же самый день государственная “Российская газета” опубликовала статью, которая изображала Гусинского злодеем-медиамагнатом, этаким персонажем фильма про Джеймса Бонда. “Теперь, по имеющимся данным, ожидается рывок на Олимп власти… Группа «Мост», видимо, решила прибрать к рукам власть. И начала с приобретения средств массовой информации”[272]. Гусинский понял, что эта публикация – угроза, черная метка, посланная ему Коржаковым.
Через две недели люди Коржакова в масках и камуфляже без опознавательных знаков напали на охрану Гусинского, выставленную перед его офисом в здании московского правительства на Новом Арбате. Наставив на охранников Гусинского автоматы, коржаковцы велели им лечь на землю, лицом в снег, и принялись избивать начальника охраны, сломав ему при этом несколько ребер. В Москве эта “спецоперация” получила название “Мордой в снег”. Пока Коржаков разбирался с охраной Гусинского, Малашенко задействовал орудие посильнее: он обзвонил представительства иностранных телевизионных служб и попросил их срочно прислать корреспондентов. Съемочные группы прибыли как раз вовремя и успели заснять, как молодцы из президентской службы безопасности укладывают людей Гусинского на землю и бьют ногами лежачих. Гусинский, наблюдавший за происходящим из своего кабинета наверху башни, тем временем позвонил в Московское управление КГБ, которое возглавлял его друг Евгений Савостьянов. Вскоре на место событий прибыли сотрудники московского управления госбезопасности и наставили дула на коржаковцев, приняв их за обычных бандитов. После короткой перепалки люди Савостьянова ретировались. Коржаков быстро доложил о происшествии Ельцину, и через два часа Савостьянов – последний “гражданский” руководитель госбезопасности, нанятый на работу не из состава КГБ, – был уволен.
Вскоре после налета Гусинского вызвали в Кремль и в незамысловатой форме объяснили, что если критические репортажи из Чечни не прекратятся, то он лишится канала. Гусинский ответил отказом, но, безопасности ради, отправил свою семью в Лондон, а затем перебрался туда и сам. Коржаков же похвастался в газетном интервью, что его любимый вид спорта – охота на гусей.
После нескольких месяцев перемещений между Москвой и Лондоном партнеры Гусинского по банковскому бизнесу и по СМИ, в том числе Малашенко, Киселев и Добродеев, собрались в тускло освещенном винном погребке роскошной лондонской гостиницы Лейнсборо на Парк-лейн, облюбованной российскими олигархами, чтобы обсудить положение дел. Гусинский, сидя во главе длинного стола, выслушивал аргументы партнеров. Первыми выступили банкиры, заявив, что НТВ подвергает весь бизнес большому риску, а потому его надо либо продать, либо преобразовать в чисто развлекательный канал. Затем слово взял Малашенко. “Я сказал: «Твои партнеры ошибаются. НТВ – ваша единственная защита»”. Малашенко рассказал о принципе “активной брони”, который применяется для защиты танков от кумулятивных средств поражения. Принцип состоит в том, что поверх основной брони устанавливается еще один, динамический, слой, состоящий из взрывчатого вещества. Когда снаряд противника попадает в танк, “активная броня” подрывается навстречу снаряду. Идея Малашенко состояла в том, что, если Кремль продолжит нападки на НТВ, канал будет “взрываться” ему навстречу. “НТВ – ваша единственная защита. Если вы его закроете, то вас сочтут слабаками, и тогда вам конец”, – продолжал Малашенко[273]. После короткой паузы Гусинский поддержал мнение Малашенко.
Малашенко и его журналисты были уверены в своих силах, профессионализме и целях, потому что знали, что на их стороне правда и что будущее за ними. Они отлично осознавали опасность того, что армия и госбезопасность пытаются повернуть страну вспять. Малашенко сформулировал простой и понятный лозунг: “Новости – сила. Сила – в правде”. Этот лозунг и был той активной броней, которая должна была защитить разраставшуюся империю Гусинского.
Как и предсказывал Малашенко, НТВ не закрыли, хотя попытки это сделать были. Правительство Черномырдина начало рассматривать вопрос об отзыве у канала лицензии, но на его защиту встал Александр Яковлев, возглавлявший тогда Федеральный комитет по телерадиовещанию (это была его последняя официальная должность): “Я хорошо понимал, что наступил момент как-то спасать НТВ. В известной мере это был вопрос и судьбы демократии в целом”. Ничего не сказав Черномырдину, Яковлев продлил НТВ разрешение на вещание. Тем же вечером ему позвонил Черномырдин: “Ты допустил оплошность. Я и представить себе не мог, что все будет сделано в обход правительства!”. Он потребовал, чтобы Яковлев нашел какую-нибудь зацепку и все же отозвал лицензию. “Ты сделал ошибку – ты ее и исправляй”. Воспользовавшись старой советской иерархией, Яковлев, член советского Политбюро, поставил Черномырдина, рядового члена ЦК КПСС, на место. “Я сказал, что юридических зацепок нет, все сделано правильно”[274].
В начале мая 1995 года Гусинский почувствовал, что опасность миновала, и решил вернуться из Лондона в Россию. Сделал он это, правда, под “прикрытием” визита в Москву президента США Билла Клинтона, который собирался принять участие в праздновании Дня Победы. Даже Коржаков не осмелился бы напасть на владельца независимого телеканала в то самое время, когда президент США находится в Москве и обсуждает с Ельциным вопросы финансовой помощи России. Вскоре после возвращения Гусинского на НТВ вышел выпуск “Кукол”, который еще несколько недель назад показался бы чересчур рискованным. Эта серия называлась “Дон Кихот и его телохранитель” и изображала Ельцина в виде пьяненького рыцаря в ночном колпаке, а Александра Коржакова – в образе Санчо Пансы.
Ельцин. Санчо, как бы я жил без твоей народной смекалки?
Коржаков. Я еще много чего знаю. Хотите, скажу, как нефтью торговать? Я вам напишу докладную записку.
Ельцин. А ты умеешь писать?
Коржаков. Ага. Правда, читать еще не получается.
Ельцин. Ну, это, понимаешь, необязательно.
Сидя верхом на осле, Коржаков/Санчо связывается по рации с подчиненными и кричит: “Первый, первый, я – осел!”. Ближе к концу серии Санчо засыпает, и ему снится, будто он становится господином Ельцина, а Ельцин – его слугой. Ельцин/Дон Кихот будит его. “Как? Это сон?” – спрашивает Коржаков/Санчо. “Это не сон, это, понимаешь, кошмар”[275], – отвечает Ельцин.
Видя, что НТВ не только сумело отбить атаку властей, но и усиливает собственное влияние и расширяет аудиторию, другие телеканалы тоже начали критически освещать войну в своих репортажах. Аудитория НТВ удвоилась; в Москве доля телезрителей, смотревших НТВ, составляла почти 50 %. Это сказывалось на общественном восприятии войны и в итоге провоцировало антивоенные настроения. НТВ одерживало победу: оно задавало повестку дня и меняло поведение властей. Это стало понятно во время первой крупной террористической атаки, предпринятой чеченскими боевиками.
14 июня 1995 года Шамиль Басаев, один из самых известных чеченских полевых командиров, с отрядом примерно из 200 террористов при помощи взяток пробрался через десятки российских КПП в Ставрополье, захватил больницу небольшого города Буденновск и взял в заложники 1600 человек, требуя прекратить войну. Ельцин в это время летел на встречу Большой семерки в Галифакс, и Черномырдин, оставшийся в стране за главного, отправил в Буденновск спецподразделения ФСБ и МВД. Действуя согласно вечному инстинкту – скрывать информацию и применять силу, – силовики первым делом запретили журналистам освещать пресс-конференцию, которую созвал Басаев, из-за чего тот мгновенно расстрелял пятерых заложников. На четвертый день кризиса российские спецназовцы попытались взять больницу штурмом, но это привело к беспорядочной перестрелке и закончилось ничем. НТВ взяло у Басаева интервью; тот занял оборонительную позицию: “Нам ничего не нужно – ни боеприпасов, ни одежды, ни еды – только прекратите войну в Чечне… Если эти полгода [российских военных действий в Чечне] не терроризм, то что – это терроризм, что ли? Я не террорист, я диверсант”[276]. Гайдар призвал Черномырдина немедленно начать переговоры. После нескольких неудачных попыток штурмовать больницу и гибели сотни с лишним людей Черномырдин все-таки согласился вступить с Басаевым в переговоры.
Басаев делал заявления перед телекамерами и, таким образом, набирал вес в публичном пространстве. Отвечать на его заявления молчанием или силовыми действиями значило бы сдавать позиции в информационном поле. Черномырдин решился на публичность и повел себя как политик демократической страны. Он пригласил журналистов в свой кабинет и позволил им снимать его телефонный разговор с Басаевым. Черномырдин выглядел решительным и уравновешенным: он публично брал на себя ответственность за жизни людей. Вся страна стала свидетельницей поразительной сцены: премьер-министр говорит по телефону с главным террористом: “Шамиль Басаев, ты меня слышишь? Я нахожусь на работе, я отвечаю за действия… все, что происходит в стране. Я готов, назовите мне время, когда? Сколько вам нужно времени, чтобы посоветоваться?”. Черномырдин обещал в тот же день, в восемь часов вечера, ввести режим прекращения огня в Чечне и дать террористам беспрепятственно туда вернуться. Фрагмент его переговоров транслировался по телевидению наряду с кадрами похорон заложников, погибших от рук террористов.
Буденновск стал поворотной точкой в войне. Впервые с самого начала конфликта Кремль поддался давлению общества и повел серьезные переговоры о мире и впервые в истории страны правительство поставило во главу угла не мифические интересы государства, а жизни людей. Телевидение в целом и особенно НТВ помогли разорвать порочный круг лжи и умолчания, созданный Кремлем. Для НТВ это был звездный час.
В середине 1990-х все попытки “что-то сделать с НТВ” неизменно проваливались. Когда прокуратура завела дело против “Кукол” за “намеренное и публичное унижение чести и достоинства высокопоставленных лиц, выраженное в неприличной форме”, это лишь усилило популярность программы. Малашенко и Киселев, посадив рядом с собой куклы Черномырдина и Ельцина, провели пресс-конференцию, которая одновременно демонстрировала слабость запретительной позиции Кремля и силу открытой позиции НТВ.
Наиболее умные члены правительства, поняв, что победить НТВ силой и угрозами не получится, решили перейти от конфронтации к взаимодействию. Черномырдин пришел в студию, чтобы лично встретиться со своей куклой. Под доброжелательный смех и аплодисменты журналистов НТВ Черномырдин шутил со своим резиновым двойником, снова показывая, что сам он – живой человек, и завоевывая симпатии журналистов и зрителей. “Ты чего мордатый такой?” – спрашивал он куклу и искренне смеялся на камеру, демонстрируя свою политическую силу и смекалку. В этот момент казалось, что Россия – почти нормальная, свободная страна, где можно критиковать и высмеивать политиков.
Впрочем, существовала одна фундаментальная проблема. В отличие от стран, где свобода выражения мнений гарантируется такими институтами как парламент, гражданское общество, СМИ и, прежде всего, суд, чье верховенство над правящими политиками признается как базовая ценность всем населением страны, в России свобода слова зависела целиком и полностью от доброй воли одного-единственного человека – Ельцина, который по каким-то, не всегда понятным его окружению причинам, усматривал в ней пользу. Вот как писал об этом Александр Яковлев: “Ельцин оказался стойким к разухабистой, иногда хулиганской критике со стороны ошалевших от своеволия и безответственности… журналистов… Его терпимость к критике… превосходила все разумные пределы”[277]. Вопрос о том, что полезнее для демократии в России – единодушно поддерживать Ельцина или жестко критиковать его, поскольку критика власти является залогом демократических свобод, находился в центре внимания и споров российской интеллигенции с тех самых пор, как Ельцина избрали президентом на демократических выборах.
Еще в октябре 1991 года на страницах “Литературной газеты” появился жаркий обмен мнениями между Леонидом Баткиным, известным специалистом по искусству Возрождения, и Мариэттой Чудаковой, литературоведом и сторонницей Ельцина, которая подвергала сомнению устоявшуюся идею о том, что настоящая интеллигенция, если она таковой является, обязана критиковать любую власть. “Поводов для разочарования налицо немало. Но именно демократически ориентированная публицистика – и я настаиваю на этом – неустанно формирует это разочарование, овеществляет его в талантливо найденных формулировках – как-то отрешенно, без видимой мысли о цели и следствиях”, – настаивала Чудакова.
Разумеется, Ельцин и его правительство совершали множество ошибок, но нельзя упускать из виду те исторические условия, в которых им приходится действовать, рассуждала далее Чудакова в открытом обращении к Баткину:
Не рано ли, думаешь, переняли мы хватку западной журналистики? У них – своя, давняя традиция неусыпного контроля над властью, охоты за ее промахами, в том числе и в частной жизни. Но там иной фон и иной “человеческий фактор”. Западные журналисты имеют дело не с такими издерганными (в том числе и собственным непрофессионализмом – а где было взять? Не учили их в паблик скул управлять демократическим государством!) лидерами и не с таким замученным народом… Там, хохотнув, откладывают просмотренную за утренним кофе газету в сторону и за ланчем о ней уже и не вспоминают. У нас в ней ищут, как в чашке воды, куда влили расплавленный воск, очертания судьбы – своей и своих детей – и находят нередко выход своему столь давно накопленному раздражению и гневу[278].
Парадокс состоял в том, что телепередачи вроде “Кукол” и СМИ в целом, с одной стороны, безнаказанно делали из Ельцина карикатуру, снижая его и без того падавший рейтинг, а с другой – были обязаны ему своим существованием. Ельцин не просто защищал журналистов – он наделял их властью, так как видел в них своих естественных союзников в борьбе против националистов и коммунистов. Он поддерживал давнюю свою связь с интеллигенцией, покровительствовал ей, а она при этом, как повелось еще с советских времен, осмеивала и ругала власть. Отличие состояло в том, что теперь интеллигенция имела возможность делать это публично. Когда на телевидении обсуждали состояние здоровья Ельцина или осыпали его насмешками, он предпочитал выключать телевизор, а не вызывать владельцев телеканала на ковер. Никогда – ни раньше, ни позже – журналисты в России не занимали такого высокого положения и не имели такой власти и свободы, как тогда, в 1990-е.
И свобода слова, и частная собственность в России 1990-х существовала вовсе не из-за давления снизу, а из-за позволения и личной благожелательности Ельцина, верившего, что так лучше для страны. Малашенко вспоминал, как однажды спросил у американских чиновников, почему они почти безоговорочно поддерживают Ельцина, вместо того чтобы уделять больше внимания демократическим институтам? На что последовал ответ: “Ельцин – ваш единственный демократический институт”. Малашенко говорил: “Я понимал, что так не может продолжаться. Если Ельцин – единственный гарант моей свободы, значит, нам рано или поздно придет конец”[279].
Битва за президента
Либеральные СМИ поддержали Ельцина в 1996 году, когда ему предстояло участие в президентских выборах и борьба с главным соперником – лидером коммунистов Геннадием Зюгановым. Война в Чечне, разраставшаяся пропасть между богатыми и бедными, продолжавшийся экономический спад – все это снизило рейтинг Ельцина чуть ли не до нуля. К тому же у него были серьезные проблемы с сердцем. Многим, в том числе Гайдару, казалось, что он не способен бороться за президентский пост ни физически, ни морально. Гайдар даже написал Ельцину письмо, отговаривая его от участия в президентской гонке, но вскоре понял, что кроме него победить коммунистов никто не сможет. Тем временем коммунисты, пользуясь экономическими трудностями, набирали все больше голосов. Они ругали Ельцина за то, что он действует в ущерб интересам русского народа, и обещали восстановить равенство, вернуть России статус сверхдержавы и выгнать из страны всех магнатов (многие из которых были евреями). Победа Зюганова положила бы конец всем экономическим реформам и свободам, за которые Ельцин так яростно боролся с 1991 года. И он решил вступить в гонку.
Но коммунисты были не единственной и, возможно, даже не главной угрозой будущему страны – вряд ли Ельцин легко уступил бы им власть. Главная опасность заключалась в том, что “партия войны” во главе с Коржаковым могла убедить Ельцина отложить или вовсе отменить выборы, а вместо них пустить в ход силу, как он уже поступил в октябре 1993-го. Такой ход, как минимум, лишил бы Ельцина легитимности и сделал бы его полностью зависимым от Коржакова и силовиков, которые быстро задушили бы любые реформы и изолировали Россию от Запада.
Официальную предвыборную кампанию Ельцина возглавил Олег Сосковец, первый заместитель премьер-министра и друг Коржакова. Ссылаясь на низкий рейтинг, они пытались убедить президента в том, что единственный способ победить коммунистов – это запретить их партию и не допустить Зюганова на выборы. Однако для бизнесменов и реформаторов подобный сценарий был совершенно неприемлем – в том числе и потому, что он создавал серьезные политические риски, подрывал инвестиционную привлекательность России и перекрывал возможность выхода их компаний на мировые биржи. Им нужна была победа Ельцина на открытых и всеми признанных выборах.
Тем временем Зюганов заигрывал с представителями западной элиты в Давосе, желая предстать перед ними в образе умеренного социал-демократа, а не сталиниста, националиста и реваншиста, каким рисовали его реформаторы. Именно в Давосе стала очевидна необходимость объединения всех антикоммунистических сил вокруг Ельцина. Борьба против коммунистов стала, по сути, борьбой за влияние на Ельцина и против “партии войны”, окопавшейся внутри Кремля. Крупный бизнес был кровно заинтересован в победе Ельцина, но платить за нее не собирался. Напротив, он видел в выборах президента открывавшуюся возможность получить природные ресурсы и промышленные активы, оставшиеся от Советского Союза.
Идея сформировать коалицию силами семи крупнейших магнатов принадлежала Борису Березовскому – олигарху, воплощавшему 1990-е с их революционными возможностями, беспощадностью, пестротой, индивидуализмом и полным отсутствием ограничителей – нравственных или институциональных. По образованию Березовский был математиком: он специализировался на теории оптимизации, используя методы прикладной математики для моделирования возможных вариантов принятия решений. Эту теорию он стал применять и к собственной жизни, и к стране, видимо, представляя ее себе в виде огромной шахматной доски. Он “оптимизировал” пережитки Советского Союза и недостатки нарождающейся рыночной экономики.
Кризисы и неопределенность были той стихией, в которой он себя чувствовал наиболее комфортно: она давала ему максимальные возможности для самореализации. На его жизнь несколько раз покушались, но он уцелел и продолжал расширять сферу своего влияния. В отличие от других олигархов, стремившихся превратить подконтрольные им активы в безусловную личную собственность, которая может быть передана по наследству, Березовский хотел контролировать, а не владеть, оптимизируя затраты и максимизируя влияние. Формально он не был владельцем многого из того, что контролировал. Он приватизировал не акции, а менеджмент и финансовые потоки. Деньги как таковые были не самоцелью, а побочным продуктом его основной деятельности – политических игр, азартных интриг и напряженного труда над усилением собственной влиятельности.
Он представлял себя (и выглядел так в глазах многих) главным манипулятором российской политики – не главным политиком, а тем, кто стоит за его спиной и управляет политическим процессом. Он сам творил и поэтизировал этот образ; создавал мифы о своей влиятельности и богатстве, а потом использовал их для достижения реальной власти и денег. Он обладал неутомимой энергией, оказывался одновременно в десяти разных местах, всюду вел свою игру и чаще всего выигрывал. Процесс приносил ему не меньше удовольствия, чем результат. Как никто другой он умел превращать личные связи в деньги, а деньги – во влияние. Говорил Березовский быстро, ярко и четко. Будучи евреем, он стал большим подарком для антисемитов.
Свой первый капитал Березовский заработал на торговле автомобилями. После крушения Советского Союза он проник в ближний круг Ельцина, используя знакомство с Валентином Юмашевым, бывшим журналистом “Огонька” и будущим зятем Ельцина, помогавшим ему в работе над мемуарами. Березовский оплатил публикацию ельцинских мемуаров и потом регулярно доставлял президенту гонорары от продажи книги в других странах – настоящие или фиктивные, никто кроме него в Москве не знал. В конце 1994 года, на фоне войны в Чечне, он уговорил Ельцина и его семью передать ему фактический контроль над первым каналом “Останкино”, который тогда назывался ОРТ (Общественным российским телевидением), обещая, что тот будет служить их интересам. Затем Березовский убедил Кремль продать ему и его партнерам нефтяную компанию “Сибнефть” по заниженной цене, чтобы финансировать ОРТ, которое превратилось в его руках в эффективное орудие пропаганды. “Я никогда не рассматривал СМИ как бизнес – для меня это всегда был мощный инструмент в политической борьбе”, – признался сам Березовский в одном из телеинтервью. ОРТ стало еще и инструментом ведения войн с конкурентами по бизнесу.
Первым, кому Березовский предложил союз в Давосе, был Гусинский, с которым до этого он находился в состоянии конфликта и боролся за право управлять многомиллионными валютными счетами “Аэрофлота”, главного российского авиаперевозчика. Гусинский считал (и небезосновательно), что именно Березовский оговорил его перед Ельциным и натравил Коржакова на его офис зимой 1994 года, когда тамошнюю охрану положили “мордой в снег”. В 1996 году, столкнувшись с двойной угрозой – или победа Зюганова, или отмена самих выборов, – два магната решили забыть обиды и объединить силы ради переизбрания Ельцина. Договорившись между собой, они предложили Чубайсу, которого за несколько месяцев до этого уволили из правительства (во многом стараниями Коржакова), возглавить предвыборную кампанию. Чубайс, у которого с Гусинским были общие враги – Коржаков и коммунисты, – с радостью принял их предложение: “А мне было совершенно замечательно, ребята. Я без вас собирался один [помогать Ельцину], а с вами точно готов без всяких сомнений. Я с громадным энтузиазмом согласился [работать] с ними вместе. Инициатива не моя, а их. Правильней было бы, чтобы была моя. Теперь второй шаг – пошли вместе в драку, консолидировались. Что у нас было: красные, спецслужбы, которые, конечно, все были по ту сторону баррикад, Коржаков, Барсуков”, – вспоминал Чубайс[280].
Несколькими месяцами ранее Чубайс поддержал дерзкий проект другого олигарха – Владимира Потанина. Цель проекта сводилась к тому, чтобы передать контроль над природными ресурсами России избранной группе банкиров в обмен на их политическую поддержку. Это вылилось в схему приватизации, получившую название залоговых аукционов, и стало худшим образцом инсайдерской сделки и несправедливого передела собственности, во многом подорвавшего последующее развитие российского капитализма и превращение России в цивилизованную страну.
Суть схемы заключалась в том, что финансисты предоставляют кредиты нуждающемуся в деньгах государству, а оно взамен позволяет им управлять государственными акциями предприятий. Срок возврата кредитов наступал осенью 1996 года – как раз после выборов. Государство теоретически могло бы просто вернуть деньги олигархам, забрать обратно заложенные акции и продать их на открытом аукционе. В действительности же у государства не было ни денег для выкупа своих акций, ни намерения их выкупать. Смысл всей операции заключался в передаче ресурсных и промышленных предприятий избранной группе лояльных олигархов. Иностранцы в эту схему не попадали. Банки, принадлежавшие олигархам и управлявшие пакетами акций, должны были продать акции самим себе.
Заранее предрешены были не только результаты аукционов; деньги, на которые магнаты приобрели самые доходные активы, были тоже взяты у самого государства. Министерство финансов предварительно переводило деньги на счета в банках, принадлежавших магнатам, а те затем пускали эти же самые деньги на покупку компаний, попутно задерживая на несколько месяцев выплату зарплаты рабочим своих предприятий и платежи поставщикам. Эта сделка стала политическим пактом между олигархами и ельцинским правительством, поскольку вторая ее часть – собственно, обмен займов на акции – целиком зависела от победы Ельцина. “На тот момент, считаю, что победа над Зюгановым была действительно настоящей исторической развилкой, создающей необратимость. Так не часто бывает, но тогда она и создалась. Считаю, что на это можно было бросить вообще все, что хочешь. Залоговые аукционы – детский лепет. Сейчас бы оказался в той ситуации, зная все, что потом я получил по залоговому аукциону, сделал бы один в один с начала до конца”, – настаивал Чубайс спустя годы[281]. Однако, беря в расчет историческую перспективу, многие, включая Малашенко, убежденности Чубайса не разделяли и считали залоговые аукционы не просто вредными, но и ненужными. В сущности, правительство вообще могло не делать олигархам никаких одолжений. У них и так имелись достаточные основания для того, чтобы сплотиться и оказать поддержку Ельцину: страх лишиться денег, влияния и, возможно, свободы в случае, если Ельцин проиграет.
Вклад олигархов в кампанию Ельцина был в гораздо большей степени организационный и идеологический, нежели финансовый. Они создали предвыборный штаб во главе с Чубайсом. Туда входили дочь Ельцина Татьяна Дьяченко и ее будущий муж Валентин Юмашев. Игоря Малашенко откомандировали из НТВ в Кремль, чтобы возглавить “аналитическую группу”, отвечавшую, помимо прочего. за освещение выборов в СМИ. Собравшаяся команда объявила Ельцину, что, несмотря на ничтожный рейтинг (5 %), он все-таки сумеет победить на выборах, если доверит им проведение кампании. Ельцин отнесся к этому предложению с недоверием. Столкнувшись с перспективой выпустить власть из рук и уступить ее тем, кого три года назад он буквально танками выгонял из Белого дома, Ельцин чувствовал, что риск чересчур высок, и боялся экспериментировать с “предвыборными играми”, затеянными крупными бизнесменами и их консультантами.
Коржаков, со своей стороны, настаивал: “Сейчас упустим время за всеми этими предвыборными играми, а потом что?”. Как и любой российский политик в сложный момент, Ельцин, естественно, склонялся к простому решению, предложенному силовиками. “Сравнивая две стратегии, предложенные мне разными по менталитету и по подходу к ситуации командами, я почувствовал: ждать результата выборов в июне нельзя… Действовать надо сейчас!” – восстанавливал он логику принятия решений в своих мемуарах, написанных с помощью Юмашева[282].
Ельцин попросил своих помощников подготовить указ о запрете коммунистической партии, роспуске Думы и отсрочке президентских выборов на два года. Узнав об этом, команда Чубайса пришла в ужас. Помощники Ельцина сообщили о секретных планах Киселеву, и тот торпедировал их, разгласив утечку в очередном выпуске “Итогов”. Дьяченко убедила Ельцина выслушать Чубайса, и тот принялся горячо убеждать президента, что на дворе теперь не 1993-й год и что роспуск парламента будет однозначно воспринят как государственный переворот. Ельцин возражал, повышал голос, но под конец принял аргументы Чубайса “и все-таки отменил уже почти принятое решение”, как сам он вспоминал потом в мемуарах[283].
Через день или два Дьяченко привела к отцу Игоря Малашенко. Тот был уверен, что Ельцин сможет честно победить на выборах, только если грамотно поведет кампанию. Эта уверенность основывалась на понимании настроения страны: как бы ни был низок рейтинг Ельцина, большинство россиян категорически не хотели возвращаться в коммунистическое прошлое, которое олицетворял Зюганов.
“Я сказал ему, что существует огромный зазор между его низким рейтингом и антикоммунистическими настроениями, и при умелом ведении кампании этот зазор можно превратить в голоса избирателей”, – рассказывал Малашенко. Ельцин как будто повеселел. “Похоже, я сказал ему нечто такое, о чем он и сам задумывался, просто хотел услышать это от кого-то другого. Он явно устал, но тут глаза у него оживились. Он очень быстро реагировал на все, что я ему говорил. Это было похоже на игру в пинг-понг”[284]. Почуяв, что запахло настоящей политической схваткой, Ельцин собрался и мобилизовался. Гайдар, который пришел повидаться с Ельциным примерно в то же время, просто не узнал президента: “Он четок, собран, энергичен, на лету ловит мысль собеседника. Такое ощущение, что не было этих пяти лет, как будто мы снова в октябре 1991 года, на нашей первой встрече”[285].
Малашенко, как, впрочем, и все остальные в стране, никогда в жизни не проводил предвыборных кампаний. Его представления о том, как устроены демократические выборы, сводились к знаниям, полученным в Институте США и Канады. А потому он начал выстраивать план кампании с той энергией и напористостью, какая вполне подошла бы для американского кандидата в президенты. Все это время он формально продолжал руководить НТВ. Он считал, что его уход из НТВ или даже оформление командировки было бы лицемерием: в России 1990-х все равно никто бы не поверил в такое самоотстранение.
Малашенко сказал Ельцину, что необходимо каждый день создавать повод для новостей, которые можно показывать по телевидению. Первая поездка Ельцина – в Краснодар, где коммунисты пользовались большой популярностью, – провалилась. Президент и его свита прошли по пустынной улице и издалека помахали толпе горожан, которых служба безопасности держала за ограждением. Когда Ельцин вернулся в Москву, Малашенко и Чубайс положили перед ним две фотографии. Одна была сделана в августе 1991-го. Там Ельцин стоял посреди ликующей толпы: настоящий народный президент. Второй снимок был сделан во время его визита в Краснодар: там он смотрелся вылитым партийным начальником советской эпохи. “Ельцин все понял. Протокольные визиты в советском духе сразу же прекратились, и он принялся за работу”, – вспоминал Малашенко[286].
В течение нескольких недель Ельцин сбросил десять килограммов и перестал пить. К нему вернулись былая харизма и энергия. Он начал летать по всей стране и проводить предвыборные встречи с избирателями. Он опускался в шахты в Воркуте, где шахтерам месяцами не выплачивали зарплату. В белой накрахмаленной рубашке в страшную жару он танцевал твист перед молодежью в Ростове. За три месяца предвыборного марафона Ельцин облетел двадцать шесть областей, разбросанных по девяти часовым поясам России.
Главная стратегия ельцинской кампании состояла в том, чтобы мобилизовать антикоммунистический электорат, представив грядущие выборы как последний и решительный бой между советским коммунистическим режимом и демократическими реформами. Перед СМИ стояла задача актуализировать у людей страх перед возвращением коммунистов к власти. Угроза была несколько преувеличена – отчасти потому, что коммунисты не так-то уж рьяно рвались к реальной власти в стране. Однако именно эта угроза послужила поводом и идеальной почвой для сплочения ельцинского электората.
Дух проводимой кампании хорошо иллюстрировала выдержанная в агитпроповском стиле газета “Не дай Бог!”. Выпускал ее Владимир Яковлев, основатель “Коммерсанта”. “Не дай Бог!” с тиражом в 10 миллионов экземпляров распространяли бесплатно во всех регионах России. Агитка пугала избирателей пустыми полками и длинными очередями в магазинах, проводила параллели между Зюгановым и Гитлером и печатала интервью с известными артистами, которые рассказывали, что боятся кровопролития и разрухи в случае победы коммунистов. Бюджет издания (восемь миллионов долларов, по свидетельству одного из создателей газеты) и источник денег сохранялись в строжайшей тайне. Газеты, впрочем, были мелкокалиберным оружием – тяжелой артиллерией стало телевидение.
Чтобы мобилизовать молодежь, которая обычно вообще не ходила на выборы, участники ельцинской медиакампании придумали броский лозунг “Голосуй, или проиграешь!”, взяв за образец лозунг из президентской кампании Билла Клинтона Choose or Lose! (“Выбирай, или проиграешь!”). Что именно рисковали проиграть и потерять избиратели, наглядно демонстрировалось при помощи видеороликов и анимации. “Если у вас в холодильнике не стало продуктов, если по всем каналам телевизора идет одна и та же программа, если по почте к вам стала приходить всего одна газета и вы больше не можете ездить за границу, то это значит, что наступило «светлое завтра»”, – предупреждал голос за кадром в одном таком мультфильме. Еще более важный лозунг “Голосуй сердцем!” был адресован избирателям постарше, которые обычно голосовали более активно. Предвыборные ролики показывали простых россиян, которые под меланхоличную музыку спокойно рассказывали о своих семьях, о том, как им жилось при коммунистах, о репрессиях и коллективизации, о нежелании возвращаться к советскому строю и о своих надеждах на Ельцина. “Если к власти придут коммунисты, у меня отберут землю, как раньше”, – говорил фермер. “Пускай Ельцин продолжит начатое, пусть доводит до конца-то хорошее”, – настаивала пожилая женщина в платке. Какими бы мотивами ни руководствовались те, кто придумывал лозунги, ельцинская кампания апеллировала к лучшим стремлениям россиян.
Рекламные ролики начинались с обзора славных моментов политической карьеры Ельцина и продолжались эпизодами его предвыборного марафона. Вот Ельцин посещает древний город Ярославль и обещает его обнищавшим жителям “дать все и ничего не отбирать”. А вот он в заново отстроенном Храме Христа Спасителя – “разрушенном коммунистами и восстановленном при Ельцине”. Коммуниста Геннадия Зюганова, напротив, показывали в обществе олигархов в Давосе или в VIP-залах международных аэропортов.
Телекритик Ирина Петровская сетовала: “НТВ – печаль и боль моя! Куда подевались беспристрастность и объективность, так поразившие некогда уставших от бесстыдной пропаганды российских зрителей? Куда вдруг испарилась подчеркнутая европейская корректность? Евгений Киселев – академик национальной академии телевидения, лауреат премии ТЭФИ, гордость российской политической журналистики – поразительно напоминал по манерам и повадкам политобозревателей Центрального телевидения”. Петровская думала о последствиях: “Если они добьются [переизбрания Ельцина], сможет ли телевидение вернуться к демократическим принципам? Позволит ли это новая (старая) власть? Или она превратит временный роман со СМИ в принудительное поклонение?”[287].
Хотя отдельные руководители СМИ воспринимали ельцинскую кампанию исключительно как способ заработать, большинство журналистов примкнули к президентскому марафону потому, что им было что терять. Приход к власти коммунистов или победа коржаковского клана положили бы конец свободной журналистике и тому особому статусу, который она обрела в ельцинской России. Киселев говорил: “Да, мы были необъективны, но мы искренне считали – и до сих пор считаем, – что победа Ельцина спасет страну, а Зюганов отбросит ее назад. Мы защищались. Когда дом охвачен пламенем, вы бросаетесь его тушить и не думаете о том, что вода попортит книги и ковры”[288].
По меркам самого НТВ, каким оно было при основании, информация о Ельцине, безусловно, подавалась предвзято. По меркам российского телевидения конца 2000-х, когда оно превратилось в орудие чистой пропаганды, напротив, освещение выборов 1996 года было образцом сдержанности и политической культуры. Что еще важнее, Малашенко и его журналисты вели кампанию не просто за Ельцина как такового, а за такого Ельцина, который закончит войну на Кавказе, продолжит реформы и сделает Россию открытой европейской страной. НТВ продолжало освещать войну в Чечне, не делая скидок на выборы. “Это для меня создавало все время тяжелые проблемы в Кремле. Я отбивался. Говорил: хотите, чтобы картинка выглядела по-другому? Делайте что-нибудь там. Не надо лечить изображение в телевизоре”, – вспоминал Малашенко[289].
31 марта Ельцин заявил, что готов к мирным переговорам, и пообещал найти “политическое решение кризиса”. Через несколько недель, 21 апреля, Дудаев был уничтожен, а Ельцин вылетел в Чечню, чтобы встретиться со старейшинами и поблагодарить солдат за службу. “Мир в Чечне восстановлен”, – торжественно объявил Ельцин, по сути признаваясь в том, что армия оказалась не в силах подавить восстание. Театрально положив листок бумаги на броню БТР, Ельцин подписал приказ о демобилизации и переводе солдат в резерв. Как показывали опросы общественного мнения, рейтинг Ельцина неуклонно рос, тогда как рейтинг Зюганова или замирал, или падал. В Москве, Петербурге и других крупных городах Ельцин явно опережал Зюганова. Наиболее активно его поддерживали образованные, молодые и профессионально востребованные россияне, то есть те, кто и составлял целевую аудиторию НТВ.
Помимо мобилизации избирателей, телевидение выполняло еще одну важную функцию: оно доносило сигнал из Кремля до региональных начальников, многие из которых являлись бывшими секретарями КПСС и тяготели к коммунистам. Хорошо обученные советской “сигнальной” системе, они считывали в программах НТВ “линию партии”. К концу весны 1996-го команда Малашенко явно одерживала верх над коржаковской группой внутри Кремля. Накануне первого тура выборов Киселев опубликовал статью в журнале “Итоги”, который тоже входил в медиаимперию Гусинского. “Ельцина поддержат, несмотря на постыдное для России современное издание троекуровщины, когда бывший кагэбэшный телохранитель в звании майора стал человеком номер два в государстве… Все эти кремлевские «дядьки» ничего не простят. Не простят и нам, журналистам, того, как мы освещали эту президентскую кампанию…”[290].
16 июня, в первом туре, Ельцин набрал 35 % голосов, Зюганов – 32 %. Еще 15 % достались Александру Лебедю – харизматичному военному генералу, обладавшему глубоким басом. Впечатляющая внешность и голос Лебедя делали его идеальным “спарринг-партнером” с точки зрения ельцинской команды, которая и выдвинула генерала на эту роль, чтобы оттянуть голоса и расколоть электорат коммунистов. Расчет был на то, что во втором туре голоса, отданные за Лебедя, перейдут Ельцину. “Лебедь – с начала до конца был наш проект”, – позднее признавался Чубайс[291].
Через несколько дней подковерная борьба между командой Малашенко и Чубайса с одной стороны и группировкой Коржакова – с другой вышла в публичное пространство. Люди Коржакова задержали двух человек из команды Чубайса (один из которых придумал лозунг “Голосуй, или проиграешь”), когда те выносили из Белого дома картонную коробку из-под ксерокса с 500 тысячами долларов наличными. Ранее эти пачки долларов были взяты из министерства финансов: на оплату ельцинской кампании, в том числе на издание газеты “Не дай Бог!”, шли государственные деньги. Коржаков об этом знал. Более того, он должен был обеспечивать безопасность транспортировки наличных, но вместо этого установил капкан и устроил провокацию.
Гусинский, Малашенко и Чубайс в момент задержания своих помощников находились в “Доме приемов ЛогоВАЗа” Березовского в центре Москвы и, когда узнали о случившемся, пришли в ярость. Было понятно, что, подстроив задержание, Коржаков собирался сорвать второй тур выборов и таким образом усилить свое влияние на Ельцина. Пока Чубайс безуспешно пытался разбудить президента среди ночи, а Березовский дозванивался Дьяченко, Малашенко мобилизовал своих журналистов. Он позвонил Киселеву, сообщил ему новость и попросил немедленно выйти в эфир. В два часа ночи НТВ прервало свою ночную программу срочным выпуском новостей. Киселев сообщил телезрителям, что страна оказалась на грани политической катастрофы: Коржаков, Барсуков и Сосковец попытались совершить переворот. Еще через час в эфире появился Лебедь и заявил, что любой мятеж будет подавлен, и подавлен чрезвычайно сурово. Таким образом, телевидение объявило руководителей служб безопасности, назначенных Ельциным и сохранявших свои должности, предателями.
Через два часа двух задержанных с коробкой из-под ксерокса отпустили по распоряжению самого Коржакова. Утром Чубайс отправился к Ельцину и сообщил ему, что Коржаков ради укрепления собственного положения только что поставил под угрозу всю ельцинскую кампанию. Вдобавок Чубайс показал Ельцину письмо, в котором Коржаков пытался шантажировать Киселева. Письмо было написано несколькими днями ранее, в нем Коржаков называл Киселева “коллегой”, намекая на связи Киселева с КГБ: “Откуда такое презрение к нашей общей профессии, коллега… Будьте разумнее…”. К письму прилагалась копия киселевской статьи в журнале “Итоги” и факсимиле первой страницы личного дела из архива КГБ с фотографией Киселева и его кодовым именем “Алексеев”. Письмо было подписано по-военному: “честь имею, Александр Коржаков”. “Нет у него никакой чести”, – проворчал Ельцин, поднял телефонную трубку и объявил Коржакову, что тот уволен. В глазах Ельцина результаты первого тура убедительно продемонстрировали эффективность команды Малашенко и Чубайса и поражение лагеря Коржакова, призывавшего отменить выборы. Ельцин более не нуждался в Коржакове.
Предвыборная борьба не прошла для Ельцина бесследно. За две недели до второго тура у президента случился инфаркт – пятый по счету. В тот день он должен был записывать последнее предвыборное телеобращение к народу. Съемку пришлось отменить. То, что у него инфаркт, знал только ближний круг, но исчезновение Ельцина из публичного пространства заметили все. Вскоре по Москве поползли слухи. Малашенко понял, что дальнейшее отсутствие президента в эфире становится политически опасным. Чтобы продемонстрировать публике по телевизору живого Ельцина, избирательный штаб решил инсценировать его встречу с Черномырдиным в интерьере кремлевского кабинета. О том, чтобы Ельцин приехал в Кремль, не могло быть и речи. Малашенко распорядился перевезти деревянные панели из кремлевского кабинета Ельцина на дачу, выгородить там угол и поставить приставной стол, чтобы создать у зрителя впечатление, будто президент находится в Кремле.
Приехав на съемки, Малашенко увидел, что Ельцин сидит за столом на фоне кремлевской деревянной обшивки и смотрит прямо перед собой. Лицо у него было застывшее – словно из воска, ни один мускул не шевелился. Рядом сидел Черномырдин, но Ельцин, похоже, его не видел. “Вся его воля была направлена на то, чтобы не упасть”, – вспоминал Малашенко[292]. После кадров “рабочей встречи” с Черномырдиным Ельцин произнес несколько фраз обращения. Он говорил очень медленно и часто беззвучно, пропуская слова и оставляя предложения незаконченными. Это было жалкое зрелище. Запись пришлось подправлять, ретушировать и редактировать. Кадры с полуживым Ельциным только подогревали слухи о его здоровье и раззадоривали коммунистов. Малашенко своих действий не стеснялся и открыто признавал: “Я бы скорее избрал мертвого Ельцина, чем живого Зюганова”. Журналисты прекрасно знали, что Ельцин серьезно болен. Однако ни один из телеканалов, включая НТВ, ни словом не упоминал о здоровье президента. 3 июля, в день проведения второго тура выборов, по телевидению показали, как Ельцин появляется на избирательном участке, расположенном неподалеку от его загородной резиденции. Он с трудом просовывал бюллетень в щель урны. Двух врачей в белых халатах, стоявших за спиной Ельцина, пришлось “вымарывать” из кадра. За Ельцина проголосовало 53,8 % избирателей. Еще несколько месяцев назад о таких результатах никто и мечтать не мог.
Церемония инаугурации Ельцина, состоявшаяся через несколько недель, оказалась подозрительно короткой. Ельцин с трудом стоял на ногах. С заметным усилием он сделал несколько шагов к микрофону и произнес в общей сложности тридцать три слова. Всем стало ясно, что Ельцин едва жив. Идея победить коммунистов на открытых выборах при всем благородстве замысла и высоких результатах не изменила главного обстоятельства: за победой Ельцина стояла вовсе не обширная коалиция демократических сил и партий, а группа временно объединившихся олигархов и медиаменеджеров.
От настоящего демократического движения, которое в 1991 году привело Ельцина на вершину власти, уже практически ничего не осталось. Основные демократические партии, в том числе “Демократический выбор России” во главе с Егором Гайдаром, ослабли и в драме 1996 года в лучшем случае исполняли роль хора. Гайдар писал: “При выборе между Зюгановым и Ельциным мы, как демократическая партия, просто обязаны поддержать Ельцина”[293].
Победа Ельцина не стала торжеством демократических институтов, законности и права собственности. Главными триумфаторами на тех выборах стали магнаты и руководители СМИ – люди, которые ставили на Ельцина и больше других получили от его победы. Как отметил Кирилл Рогов, политический обозреватель и основатель одного из первых в стране новостных интернет-сайтов Polit.ru, контроль над СМИ и их технологиями позволил олигархам достичь цели, которая не имела ничего общего с общественным благом.
Президентские выборы 1996 года и залоговые аукционы превратили банкиров в олигархов, а журналистов – в проповедников. Олигархи праздновали победу и требовали вознаграждения. В интервью Financial Times Березовский ставил переизбрание Ельцина в заслугу себе и союзу семи банкиров, который он сформировал в Давосе и который сразу же окрестили “семибанкирщиной”. “Мы наняли Чубайса и вложили огромные суммы в предвыборную кампанию Ельцина. Теперь у нас есть право занимать правительственные должности и пожинать плоды нашей победы”[294]. Поскольку Ельцин был только частично дееспособен, олигархи полагали, что править Россией должны они.
Заместителем премьер-министра России назначили Потанина, автора схемы залоговых аукционов. Через несколько месяцев Березовский получил должность заместителя секретаря Совета безопасности. Правда, главным орудием власти, находившимся в руках олигархов, были все же не официальные должности, а СМИ, особенно телевидение. Выборы Ельцина убедили олигархов в том, что контроль над СМИ практически тождественен политической власти. “В какой-то момент я понял: та штука, которую мы создали, она развивалась настолько быстро, я не догонял. Она оказалась больше меня”, – говорил Малашенко[295]. Безусловно, это нельзя было назвать нормальным телевидением, каким Малашенко когда-то его задумывал.
Гусинский осыпал своих журналистов бонусами и привилегиями, обеспечивал их беспроцентными кредитами и покупал им квартиры и машины. Изначально получая гораздо более высокую зарплату, чем в других СМИ, журналисты Гусинского сами сделались членами олигархического клана. Они обедали в самых дорогих московских ресторанах. Киселев, за которым уже закрепилось прозвище “барин”, получил загородный дом (как и Малашенко с Добродеевым) в подмосковном Чигасове – не доступном для посторонних элитном коттеджном поселке, выстроенном Гусинским. Чигасово называли “русской Швейцарией”.
В заставке к программе “Итоги” Киселев шел по Кремлю. Затем на экране возникал калейдоскоп картинок и цитат: Тэтчер, Горбачев, Ельцин, Никсон. Заключительную, вырванную из всякого контекста фразу произносил патриарх РПЦ Алексий: “Духовный образ России”. Она звучала как раз тогда, когда Киселев уверенно шагал по Красной площади. Кадры снимались до президентских выборов, но после выборов эта фраза приобрела особый смысл.
Не прошло и года после выборов, как телекритик Ирина Петровская написала: “Киселев в своей программе «Итоги» не вещает, а проповедует. Он говорит даже не от имени президентской команды, а как один из ее признанных членов”[296]. Киселев мог получить почти любую нужную ему информацию. “Итоги” не столько отражали политический процесс, сколько формировали его. “Киселеву стало очень трудно дистанцироваться от Кремля”, – признавал Малашенко[297]. Из политического комментатора Киселев превратился в политическую фигуру, газеты публиковали его рейтинги наряду с рейтингами политиков.
После выборов Ельцин предложил Малашенко – в знак признания его заслуг – возглавить администрацию президента. Речь шла об одном из самых важных постов в Кремле. Но тут Малашенко совершил беспрецедентный поступок: он отказался от предложения Ельцина – и, по его словам, всю оставшуюся жизнь сожалел об этом решении. Он поступил так не из скромности или смирения. Скорее напротив. Малашенко считал, что управление частным телеканалом – занятие гораздо более важное, чем руководство кремлевской администрацией, и ельцинская избирательная кампания служила тому подтверждением.
Разгромив коммунистов и потеснив “партию войны” в Кремле, Малашенко и Гусинский почувствовали себя непобедимыми. Триумф либеральной повестки в России казался полным и окончательным, независимо от того, кто придет после Ельцина. “Я не понимал политической задачи. Я не понимал, что центральный вопрос политики в России – я имею в виду и историческую Россию, и Советский Союз – это вопрос преемственности власти, особо остро стоящий именно в современной России, потому что не понятен источник легитимности этого государства. Если бы я в 1996-м году, например, понял, что центральный вопрос там, кто будет преемником Ельцина, я бы, может быть, вел себя по-другому. Но мне такой вопрос в голову не приходил, потому что я считал, что после 1996-го тема возврата к коммунизму закрыта навсегда. Я считал, следующие выборы будут нормальными, где будут соперничать какие-то некоммунистические кандидаты. Ну, пусть соперничают. Нам все равно. Мы тут как бы медиа, у нас телекомпания и прочее”, – говорил Малашенко много лет спустя[298]. Как и Гусинский, он верил, что НТВ выстоит при любой власти, поскольку само властью и является.
Правда, имелась и другая причина для его отказа. Малашенко видел, как вели себя во время предвыборной кампании Гусинский с Березовским. Он прекрасно понимал, что, прими он предложение Ельцина, они будут воспринимать его как своего человека в Кремле – как инструмент влияния, а не независимую от них власть. Становиться их заложником Малашенко не хотел. Воевать с ними и ставить их на место – не был готов.
Кроме того, при всей самоуверенности олигархов, Малашенко видел в них – в частности, в Гусинском – противовес, сдерживающий экспансию государства и его возможности подавления свобод и индивидуализма, которые он ценил больше всего. Будучи по природе индивидуалистом и мизантропом, Малашенко был невысокого мнения о народных массах. Его любимым философом стал Ортега-и-Гассет, автор книги “Восстание масс”, который считал, что гарантами свобод являются феодалы, а не народ, а демократия вовсе не служит гарантией либерализма и индивидуальных прав; любое государство – демократическое или деспотическое – всегда стремится к расширению своей власти, и, следовательно, ему необходимо противопоставлять альтернативные источники власти, а ими могут обладать только бароны.
В углу кабинета Малашенко в НТВ стояли настоящие толедские рыцарские доспехи. Заставкой на мониторе была панорама испанского замка с цитатой из Ортеги-и-Гассета: “Эти башни воздвигнуты, чтобы защитить личность от государства. Господа, да здравствует свобода!”. Сам Малашенко управлял, как ему казалось, наиважнейшей башней замка – телевизионной. После семидесяти лет государственного насилия и построения социализма феодализм представлялся ему шагом вперед, а влияние олигархии – наименьшим злом по сравнению со всесильным государством, уничтожившим миллионы своих граждан во имя собственного величия. Олигархи с их страстью к замкам и частным армиям обладали внешними признаками феодальных баронов.
Однако внешние признаки оказались обманчивы, и надежда Малашенко на то, что олигархи встанут грудью на защиту частных свобод, не оправдалась. Олигархи не обладали ни историческим самосознанием, ни ответственностью или, по крайней мере, дальновидностью, ни культом феодальной чести. Вместо того чтобы устанавливать правила и строить институты, которые могли бы защитить их собственность и личные свободы, они принялись расширять свои уделы, развязали самоубийственную для них же самих междоусобную войну и в конце концов привели на престол Владимира Путина.
Война банкиров
Выборы 1996 года внушили олигархам уверенность в том, что будущее принадлежит им, и они принялись извлекать из этого деньги и выгоды. Меньше чем через год, в 1997-м, разразилась первая война между олигархами. В нее оказались втянутыми и молодые реформаторы, назначенные Ельциным в правительство после своего избрания.
В качестве награды за оказанные услуги Гусинский получил постоянную лицензию на вещание на 4-м канале – за символическую цену и без конкурса. Это сразу превратило НТВ из экспериментального в полноценный телеканал. Но амбиции Гусинского простирались гораздо дальше. Осознав, что именно медиа являются его главным бизнесом, и воодушевившись примером английского телеканала Sky, он решил запустить платный спутниковый канал НТВ Плюс (вместе с собственным спутником), который вывел бы самого Гусинского на орбиту медиамагната Руперта Мердока. Гусинский поехал договариваться в Институт точной механики, предприятие военно-промышленного комплекса, разрабатывавшее в советское время крылатые ракеты и космическую аппаратуру. “Когда я понял, что они не в состоянии ничего собрать, я решил, что нужно делать собственный спутник”. Гусинский объявил двойной тендер на создание и запуск спутника. В результате он подписал договоры с Hughes Space and Communications на производство спутника и с Boeing на его запуск при финансовой поддержке американского Export-Import Bank. Для всего этого требовалось разрешение российской и американской сторон.
Получение разрешений и запуск спутника напоминали одновременно сюжет фильмов о Джеймсе Бонде и комедии в духе “Монти Пайтон”. Наконец он добился одобрения от руководства двух российских ведомств – военного и космического, убедив их в том, что спутник не шпионский, и подписал необходимую бумагу с Государственным департаментом США.
Чтобы финансировать свое новое предприятие, Гусинский продал 30 % акций НТВ “Газпрому”, которым в тот момент руководил Рем Вяхирев, энергичный советский промышленник, близкий к Черномырдину. Он рассматривал НТВ как защиту от попыток захвата со стороны олигархов, в особенности Березовского, который намеревался получить контроль над самой крупной нефтегазовой компанией в России. “НТВ было как ружье, висевшее на стене. Если бы кто-то напал на Вяхирева, оно бы выстрелило”, – говорил Гусинский[299]. Кроме того, “Газпром” выделил Гусинскому кредит в 40 миллионов долларов на крайне льготных условиях. Малашенко отнесся ко всей этой затее с НТВ Плюс с крайним недоверием и раздражением. Когда он понял, что отговорить Гусинского не удастся, то полушутя посоветовал ему приватизировать какую-нибудь нефтяную или другую добывающую компанию, чтобы оплачивать подобный каприз. В сущности, именно это и сделал Березовский, приватизировав когда-то “Сибнефть”. Но у Гусинского был другой план. Он решил приобрести “Связьинвест” – телекоммуникационную компанию, куда входили десятки региональных компаний связи, охватывавшие в общей сложности 22 миллиона старых телефонных линий. Грандиозный замысел Гусинского состоял в том, чтобы объединить все имевшиеся в стране телекоммуникационные активы в один огромный частный холдинг, а затем разместить его акции на американской бирже NASDAQ.
До президентских выборов 1996 года Гусинский оставался единственным российским олигархом, который не участвовал в приватизации государственных активов и в залоговых аукционах. “Для меня это был принцип. Я действительно считал, что это чистое воровство, я не хочу принимать в этом участие”, – говорил Гусинский. И вот теперь он был уверен, что “Связьинвест” принадлежит ему по праву. Ведь сфера медиа и коммуникаций была его вотчиной, и в этом его поддерживали и другие олигархи, в том числе Березовский. “Некоторые даже пытались убедить меня в том, что я должен получить «Связьинвест» бесплатно”, – говорил Гусинский[300]. За подобными предложениями скрывалась не щедрость соперников Гусинского, а нежелание создавать прецедент, который подчеркнет неправомочность их собственных приватизационных сделок и поставит Гусинского в отличное от них положение незамаранного предпринимателя.
С точки зрения Ельцина, Гусинский тоже имел все основания претендовать на “Связьинвест”, потому что именно он договаривался с военными и ФСБ, которые контролировали частоты связи, о том, чтобы открыть допуск гражданским, частным инвесторам, в том числе иностранным компаниям. “Я бегал по генералам, я их поил, кормил, объяснял. Это была такая большая работа чисто человеческая. У меня на это ушло много времени и здоровья печени. В результате я со всеми договорился. И было решение о создании холдинга «Связьинвест» и о продаже 25 % его акций. То есть это реально плод моих персональных усилий договориться со всеми, чтобы это было возможно”, – вспоминал Гусинский[301].
Затем, чтобы выработать условия аукциона, он обратился к Чубайсу, который после президентских выборов 1996 года был назначен первым вице-премьером правительства. К торгам должны были допускаться иностранцы, о привлечении государственных денег речи не шло. Гусинский создал консорциум инвесторов, куда вошли еще один олигарх Михаил Фридман, банк Credit Suisse First Boston и, что самое главное, испанская компания Telefónica, которая, по замыслу Гусинского, должна была управлять “Связьинвестом”. “Мы согласились на том, что это будет честный аукцион, который подведет черту под залоговыми аукционами. В этом у нас был полный консенсус”, – вспоминал Гусинский[302].
Однако в представлении Гусинского о том, что такое честный аукцион, была одна важная деталь: все прочие российские олигархи, успевшие принять участие в прежних приватизациях, не должны были участвовать в этом аукционе – только так Гусинскому удалось бы победить “по-честному”, хотя он и готов был заплатить за желанное приобретение реальные деньги. Олигархи же были уверены, что Чубайс на их стороне.
Но у Чубайса имелись собственные политические соображения. Он видел в продаже “Связьинвеста” шанс не просто подвести черту под залоговыми аукционами, на которые сам согласился год назад, а резко изменить правила, лишив олигархов влияния на принятие решений в Кремле. Кроме того, он остро нуждался в деньгах, чтобы выплатить зарплаты, которые задерживались месяцами. “Моя картина мира в этой точке [была] абсолютно линейная. Она состояла вот в чем: если вы хотите в политике кого-то победить, первое, что вы должны сделать, это консолидировать ресурсы. Вторая мысль состоит в том, что по мере смены задач состав консолидированных ресурсов должен изменяться. Косвенное следствие отсюда – всегда управляй количеством врагов. Нужно понимать, сколько сейчас против тебя, сколько сейчас за тебя. Так вот 1996-й год – [не было] ничего важнее, чем замочить красных. Поэтому логика была простая – консолидироваться со всеми, в том числе с ними [олигархами], с большим удовольствием. Победили. Дальше, с точки зрения расклада сил, переход через реку во время ледохода по движущимся льдинам, надо очень быстро переступать с одной на другую. Коммунистов разгромили. Какая главная сила в стране? Олигархи”[303].
Бывшие союзники в борьбе с коммунистами и силовиками стали новыми противниками в борьбе за власть в государстве. “Логика у Березовского была очень простая: раз мы самые богатые, значит, мы самые умные. Ну, а раз мы самые умные и самые богатые, то мы и должны управлять страной”, – вспоминал Чубайс[304]. При этом Березовский приводил в пример Америку, “всерьез и искренне доказывал, что в США на самом деле правят десять семей, которые решают, кто будет следующим президентом США. Они определяют между собой. Так живет весь мир, и мы будем жить так же, как и у них. Решать будем мы”. Аукцион “Связьинвеста”, таким образом, становился полем политической схватки. “Не подвернись «Связьинвест» – подвернулось бы что-нибудь другое”, – пояснял Чубайс. Проблема, однако, заключалась в том, что в борьбе с олигархами Чубайс “консолидировался” с Владимиром Потаниным, автором идеи залоговых аукционов, воплощавшим олигархическое начало. После выборов 1996 года Потанин был назначен первым заместителем председателя правительства, курировал экономический блок и одновременно, в качестве владельца банка, имел доступ к государственным средствам: в его частном банке были размещены счета таможенной службы на общую сумму в миллиард долларов. Когда правительство объявило, что продажа 25 % плюс одной акция “Связьинвеста” открыта для всех желающих, Потанин, уволившийся из правительства незадолго до торгов, заявил о своем участии. “Мне казалось, мы уговорились о том, что Потанину не разрешат участвовать, – вспоминал Гусинский. – Но Чубайс неожиданно сказал, что такого уговора у нас не было”[305]. По мнению Гусинского, произошло наглое нарушение договора. Хотя формально Потанин на момент аукциона уже не состоял на государственной службе, конфликт интересов был очевиден. Гусинский имел все основания заключить, что обещание Чубайса устроить честные торги были или чистым лицемерием, или частью тайного сговора с Потаниным. “Чубайс нарушил равновесие, накачав Потанина деньгами [со счетов таможни]”, – говорил Малашенко[306]. Положение осложнили личные взаимоотношения Гусинского с Чубайсом. С точки зрения Гусинского, эти отношения были почти что дружескими, и вот теперь он чувствовал, что его предали.
Утешать Гусинского явился Березовский. “Связьинвест” не представлял для него явного коммерческого интереса, но он все же ввязался в конфликт с Чубайсом, заняв сторону Гусинского. Его привлекала любая война. Он справедливо увидел в этом аукционе нечто большее, чем продажу акций. В борьбе за “Связьинвест” определялись правила игры за политическое превосходство. Березовскому было важно утвердить собственный статус главного олигарха России, всесильного кукловода. Чубайсу было столь же важно лишить его этого статуса, утвердив себя и правительство в качестве главной и единственной политической силы в стране. К демократии этот конфликт имел весьма косвенное отношение. Березовский был уверен, что в такой бедной стране, как Россия, демократия неизбежно приведет к популизму, а в итоге – к авторитарному строю. Чубайс посоветовал Березовскому идти и побеждать на выборах, хотя сам народной поддержкой не пользовался.
Чубайс считал, что главное – это построение рыночной экономики, которая, в свою очередь, создаст правильные условия для демократии. Ему не нужно было думать о политической базе для проводимых реформ – эту ответственность взял на себя Ельцин. Березовский в не меньшей степени, чем Чубайс, полагал, что Ельцин – его президент. “Наш рыночный подход совершенно не годился для построения демократии. Но мы считали, что рыночная экономика и возникновение среднего класса в итоге приведут к демократии”, – размышлял Чубайс позднее[307].
За два дня до аукциона Березовский, Гусинский и Потанин вылетели на личном “Гольфстриме” Гусинского на юг Франции, где отдыхал Чубайс. Там они объявили ему, что пришли к соглашению: Гусинский получает “Связьинвест”, а Потанину отойдет следующий актив, который выставит на продажу государство. Чубайс предложение отверг. Для него речь шла не о том, кому какой кусок достанется в результате приватизации, а о том, кто устанавливает правила игры. О том же самом, впрочем, думал и Березовский. “Нельзя за один день сломать систему через колено, – сказал он Чубайсу. – Вы разжигаете войну. Вы не хотите этого, но это случится”[308]. Чубайс воспринял слова Березовского как угрозу и шантаж, что только укрепило его решимость воевать до победного конца.
25 июля 1997 года Потанин, который привлек деньги международного финансиста Джорджа Сороса, вышел победителем аукциона, предложив два миллиарда долларов. Это была рекордная сумма по меркам российской приватизации, но она лишь ненамного превышала ставку, предложенную Гусинским. На следующий же день началась война. Первый выстрел прозвучал на подконтрольном Березовскому “Первом канале”. Стрелком был Сергей Доренко – неотразимый в своем цинизме и обаянии телеведущий с приятным баритоном и полным отсутствием этических принципов. Доренко обвинил Потанина в намерениях выкачивать средства из “Связьинвеста” на свои офшорные счета. И Потанин, и Сорос, по словам Доренко, просто спекулянты, дельцы черного рынка, “люди с дурной, сомнительной или запятнанной репутацией”, и они извлекли выгоду из полюбовной сделки, обстряпанной Альфредом Кохом, руководившим проведением аукциона от лица государства.
Когда вспыхнула “война банкиров”, и Малашенко, и Киселев отдыхали за границей. Гусинский срочно вызвал их в Москву, где они застали его в бешенстве. “Он метал громы и молнии, но вскоре вошел в разум”, – вспоминал Малашенко. Малашенко, который уже не возглавлял НТВ, но руководил всеми телевизионными проектами Гусинского, включая спутниковый, сходился с Гусинским в том, что приватизация “Связьинвеста” была “полным безобразием”, но выступал против объединения с Березовским и использования телеканала в разгорающейся войне.
“Во-первых, я в некоторых ситуациях абсолютно не верю в ценности объединения, объединения любой ценой. У меня абсолютно всегда была феодальная логика: каждый за себя, и один Бог [за всех]. Я вообще не хотел, чтобы НТВ втягивалось, естественно, во всю эту историю. Но я совершенно не считал, что надо во что бы то ни стало поддерживать этих младореформаторов”, – вспоминал Малашенко[309]. Он был уверен, что если бы не первый удар Березовского, никакой войны бы не началось. Но было уже поздно. Атаку Доренко подхватила газета Гусинского “Сегодня”, опубликовавшая статью о близких связях Потанина с Кохом под заголовком “Деньги пахнут”.
Чубайс собрал олигархов у себя в кабинете, надеясь оказать давление на Гусинского и Березовского, чтобы они прекратили борьбу. Арбитрами выступили те, кто не имел к аукциону никакого отношения, в том числе Михаил Ходоровский. Все высказались за то, чтобы “Связьинвест” достался Гусинскому. Гусинский предложил цену, которая должна была устроить Потанина. Но Чубайс все равно отказался пересматривать результат аукциона. “Безусловно, он нарушал негласное соглашение”, – говорил Ходорковский[310]. Пытаясь предотвратить кризис, Валентин Юмашев попробовал урезонить Чубайса и предложил действовать постепенно и последовательно: отдать “Связьинвест” Гусинскому, а уже со следующего аукциона устанавливать новые правила. “Я говорю, Валь, ну как постепенно? Валь, так не бывает, сейчас новая политическая ситуация в стране – избранный президент заново, новое правительство. Мы задаем правила игры”, – вспоминал Чубайс. Логика была большевистская: “все и сразу” и “цель оправдывает средства”.
Чубайс отступать не собирался. Главная претензия Малашенко и Гусинского состояла не просто в том, что они проиграли, а в том, что Чубайс нарушил баланс сил, о чем Малашенко и сказал ему во время одной из встреч. “Понимаете, вы надули Потанина своими руками, вы накачали его деньгами, он стал несуразного размера. Вот вы играете в баскетбол, у вас там все игроки под два метра, а этот – три, вот что вы сделали. Поэтому я должен вам с сожалением сказать, что война неизбежна из-за ваших действий”. Чубайс тем временем уговаривал Ельцина: “Надо однажды обломать им зубы! Иначе ничего не сможем добиться, если этого не сделаем”[311]. Но если уж Чубайс рвался в бой, то что говорить о Березовском и Гусинском? Бывшие союзники по выборам 1996 года расчехлили тяжелые медийные орудия.
До аукциона на НТВ, как и на других каналах, существовало негласное правило – младореформаторов из нового ельцинского правительства не трогать. После проигрыша Гусинский это ограничение снял. Фактически это означало команду “фас”. При этом существовал один важный нюанс: в своей атаке на младореформаторов НТВ пользовалось просчетами и уязвимыми местами самих младореформаторов. Первой мишенью Гусинского стал Кох, подавший в отставку через две недели после аукциона и указавший в своей налоговой декларации 100 тысяч долларов, полученные в качестве аванса за книгу о приватизации, которую он планировал написать. Благодаря контактам в Швейцарии Гусинский раскопал, что выплата была произведена никому не известной швейцарской фирмой Servina Trading, которая, как выяснилось при ближайшем рассмотрении, имела отношение к Потанину. Гусинский слил информацию своему приятелю, театральному критику и журналисту Александру Минкину, которого знал с театральных времен и которого часто видели в столовой “Медиа-Моста”. По утверждению Минкина в “Новой Газете”, Кох покинул свой пост, чтобы не сесть в тюрьму. За публикацией Минкина последовала скандальная статья самого Березовского, вышедшая под псевдонимом, где он называл Чубайса “циничным фанатиком”.
Ельцин видел, что война разгорается не на шутку и грозит стране политическим кризисом. Через два дня после публикации Березовского президент собрал олигархов в Кремле. Внешне встреча прошла хорошо. По воспоминаниям Ельцина, записанным Юмашевым, “после встречи в зале стояла какая-то непривычная тишина. Я много раз проводил подобные совещания. Сотни раз. И всегда добивался хоть какого-то нужного результата. Самые разные люди вынуждены были уступить, в чем-то пойти на компромисс. Я им не давал иного выхода. А тут – за обещаниями, за улыбками вот эта тишина. Похоже, ни одна из сторон не считает себя виноватой. Нет поля для компромисса”[312]. По версии Гусинского, Ельцин потребовал прекратить использовать компромат против членов своего правительства. Гусинский оправдывал себя тем, что никакой клеветы в информации, которую сообщали его СМИ, не было. “Мы не сказали ничего такого, что было бы неправдой. Мы просто сделали так, что об этом все узнали”, – вспоминал Гусинский[313]. После разговора у Ельцина олигархи стали чуть осторожнее, но атаки не прекратили. Вскоре информацию о связях швейцарской фирмы Servina Trading с банком Потанина опубликовала уже Financial Times. Кроме того, выяснилось, что Кох и Потанин вместе отдыхали на Лазурном берегу Франции сразу же после аукциона.
Через две недели младореформаторы уговорили Ельцина уволить Березовского с должности заместителя секретаря Совета безопасности, хотя год назад именно Чубайс просил Ельцина назначить Березовского на эту должность. Ельцин Березовского уволил, но это мало что изменило. В его руках оставалось главное средство влияния – телеканал ОРТ. Через несколько дней Гусинский и Березовский нанесли ответный и сокрушительный удар по Чубайсу и его команде. 12 ноября 1997 года все тот же Минкин по наводке Гусинского сообщил в эфире радиостанции “Эхо Москвы”, входившей в холдинг Гусинского, что Чубайс и пятеро его заместителей получили по 90 тысяч долларов каждый в виде книжного аванса от издательства, принадлежавшего непосредственно Потанину. Издательство, впрочем, было приобретено Потаниным, как уточнил Минкин, уже после заключения контрактов. Источником денег был внебюджетный фонд, созданный Чубайсом под выборы 1996 года вместе с олигархами, которые внесли туда пять миллионов долларов.
Новость подхватили и многократно усилили НТВ и ОРТ. “Премьер продолжает волноваться об авторитете правительства. Боюсь, что волноваться больше не о чем: авторитета больше нет”[314], – пафосно констатировал Доренко. Вскоре у Доренко появились копии документов, контрактов, банковских переводов и счетов, любезно предоставленные прокуратурой. То, что этой “любезностью” Доренко был обязан Гусинскому, сомнения не вызывало. У обычного же телезрителя создавалось ощущение, что младореформаторы, проповедовавшие честную конкуренцию и новые правила и обвинявшие олигархов в коррупции, сами оказались замешаны в крайне сомнительных делах.
Чубайс вначале все обвинения отвергал, но после выволочки Ельцина признал: аванс и вправду был слишком высокий. Через несколько дней Чубайс подал заявление об отставке. Он лишился поста министра финансов, хотя формально продолжал оставаться в правительстве в качестве первого вице-премьера. Как признавался позднее сам Чубайс, выплата авансов за книгу была формой вознаграждения путем распределения денег, оставшихся от предвыборной кампании Ельцина, среди членов команды Чубайса. По сути, это ничем не отличалось от денег из пресловутой “коробки из-под ксерокса”. Но ту историю вспоминать не хотели ни олигархи, ни Чубайс.
Одной из главных и, в историческом ракурсе, самой значимой жертвой “дела писателей” и банкирских войн оказался молодой политик, никак не замешанный ни в схемах Чубайса, ни в сделках с олигархами. Звали политика Борис Немцов. Обаятельный высокий красавец, бывший губернатор Нижегородской области и физик по образованию, 38-летний Немцов переехал в Москву в 1997-м по просьбе Ельцина. Он вошел в правительство в качестве министра топлива и энергетики и первого вице-премьера. Ельцин прочил Немцова себе в преемники и даже говорил об этом открыто, когда знакомил его с мировыми лидерами. Во многом Немцов служил живым воплощением той самой мечты о России как о “нормальной”, свободной, европейской стране, которая зародилась на сломе советской эпохи. Ельцин познакомился с Немцовым в 1990 году, когда 31-летнего демократа избрали в первый российский парламент. Коммунистическая идеология ему была не близка, причем определяющим тут выступало второе слово: Немцов ставил выше любой идеологии и политической целесообразности человеческие ценности. Он стоял за Ельцина и в августе 1991-го, и в октябре 1993-го – хотя и критиковал его тогда за решение распустить парламент.
Два вице-премьера, Немцов и Чубайс, составляли ядро ельцинского правительства младореформаторов, которые, как ожидалось после поражения коммунистов на выборах 1996 года, наконец-то поведут страну по пути преобразований. Немцов олицетворял оптимизм 1990-х, когда казалось, что энергичным и умным все по плечу. Он был наделен и энергией, и умом. К тому же, в отличие от большинства людей своего поколения, он отличался порядочностью и каким-то врожденным умением различать добро и зло. Из всех людей, оказавшихся в российском правительстве, только Немцов был честен и не запятнан никакими связями с олигархами. Более того, именно Немцов впервые ввел в политический язык современной России слово “олигарх”, когда в январе 1998 года устроил публичные дебаты под названием “Будущее России: олигархия или свобода?”. Немцов вспоминал: “Я мечтал о нормальной европейской России, и олигархи не вписывались в эту картину. Они приватизировали большинство государственных институтов – в том числе милицию, ФСБ и суды. И моя первая мысль была, что нам нужно заново «национализировать» государство, забрать у них спецпропуска в Кремль и мигалки, устранить систему банков, распоряжающихся государственными деньгами”[315].
Приватизация “Связьинвеста” должна была стать подтверждением независимости Немцова от влияния олигархов и его главным политическим козырем. Но если олигархи не вписывались в картину России, какой она виделась Немцову, то он в свою очередь не вписывался в картину олигархов. Доренко называл Немцова “тараканом” и для нападок на него нанимал проституток, которые за скромное вознаграждение в 200 долларов говорили, будто Немцов пользовался их услугами, но забывал платить. В своих воспоминаниях “Исповедь бунтаря” Немцов писал: “Спустя несколько лет я совершенно случайно столкнулся с Доренко в аэропорту Нью-Йорка. «Я же киллер. Тебя заказали, – добродушно пояснил Доренко. – А это был такой простой и эффективный способ: дал 200 долларов, и дамочка наговорила, что надо, абсолютно не рискуя ни здоровьем, ни жизнью. Ты же ей ничего не мог сделать»”[316]. Доренко уверял, что ему просто всучили запись с проститутками и он не счел необходимым проверять подлинность их рассказа. “Заказчиком” оказался Березовский, у которого был отдельный счет к Немцову: именно Немцов противостоял его попыткам захватить “Газпром”.
НТВ до такой низости не опускалось и вместо этого высмеивало Немцова, используя любой повод, в том числе его появление в белых штанах на официальной церемонии встречи президента Азербайджана. В “Итогах” Киселев еженедельно показывал снижающийся (его же усилиями) рейтинг Немцова. Когда рейтинг, подорванный информационной атакой, упал до однозначных цифр, Киселев, используя телевизионную графику, поставил крест на портрете Немцова и отправил его в мусорную корзину.
На самом деле говорить о чьем бы то ни было электоральном рейтинге спустя всего год после президентских выборов было совершенно бессмысленно. Но, как саркастически писал тогда Максим Соколов, телеканалы кормятся избирательными кампаниями, как военно-промышленный комплекс кормится войной. “Война означает ажиотажный – и в то же время гарантированный – спрос на средства ее ведения, а торговаться о цене времени нет – отсюда военные сверхприбыли оружейных фабрикантов. Избирательная кампания предъявляет такой же спрос на информационное оружие”[317]. Постоянно раздувая тему рейтингов, НТВ напоминало политикам о своем могуществе.
Все “разоблачения” адресовались одному-единственному телезрителю – Ельцину. По идее, они должны были заставить его разогнать правительство младореформаторов. При этом оставалось непонятно, кем же их можно заменить. Ельцин очень болезненно отнесся к нападкам НТВ, причем в особенности к нападкам на Немцова. Через пару недель после аукциона, на котором ушел с молотка “Связьинвест”, Ельцин вызвал вице-премьера к себе. “Я устал вас защищать”, – объявил президент. Немцов оставался в правительстве еще около года, но он был уже ослаблен и деморализован, и под конец сам подал заявление об отставке.
В итоге то, что начиналось как война между банкирами, переросло в крупный политический кризис.
Чубайс справедливо сравнил скандал, разразившийся в 1997 году на телевидении, со взрывом атомной бомбы. Теперь аббревиатуру НТВ явно следовало расшифровывать не как “нормальное” или “независимое”, а как “нейтронное” телевидение. В войне банкиров победителей не было: она уничтожила все живое в округе и оставила после себя территорию, зараженную на долгие годы вперед. Триумф НТВ и Гусинского в 1996 году одновременно стал началом их поражения. Оказалось, что пережить победу гораздо труднее, чем добиться ее.
Олигархи, поддержавшие Ельцина в борьбе против коммунистов и националистов, в итоге умудрились сделать то, что не удалось парламенту в 1993-м: снести правительство либеральных реформаторов и дискредитировать идею свободы информации. Правда, в отличие от 1993-го и 1996-го, информационная война 1997 года велась не ради какой-либо идеологии или образа будущего страны. Тем не менее она изуродовала и НТВ, и телевидение в целом.
Могущественные медиамагнаты повели себя не как элита, к которой они сами себя причисляли, а как мелкие кооператоры, в чьих руках вдруг оказалось мощное и сложное оружие. Они копировали внешний вид, вкусы и повадки западной элиты, отправляли своих детей учиться за границу, но при этом были начисто лишены главного атрибута истинной элиты – чувства ответственности за страну и исторического самосознания. Они вели себя как ходячие карикатуры на капиталистов из старых советских журналов. Что толку, что они помогли Ельцину победить в 1996 году, если они не воспользовались шансом улучшить положение России? Они нисколько не заботились ни об общественном благе, ни о благополучии россиян. “Мы не соответствовали той исторической задаче, которая перед нами стояла”, – признавал Малашенко[318]. То же самое относилось и к Чубайсу.
Утратив из-за обладания властью и деньгами чувство реальности, олигархи не понимали, что, уничтожая Чубайса с Немцовым, они одновременно подрывают и собственное будущее, и будущее всей страны. Самонадеянность и недальновидность, проявленные обеими конфликтующими сторонами, взяли верх над здравым смыслом. Ирония была в том, что сам актив, из-за которого с такой яростью дрались олигархи, оказался бесполезным. Продав 25 % акций “Связьинвеста”, государство приостановило его дальнейшую приватизацию, и Потанин так никогда и не получил реального контроля над компанией. По словам Джорджа Сороса, это было самое худшее вложение капитала в его жизни.
“Война банкиров” совпала по времени с драматическим событием в жизни НТВ, которое серьезно сказалось на будущем страны. 10 мая в Чечне были похищены военная корреспондентка НТВ Елена Масюк и двое членов ее съемочной группы.
В результате мирного соглашения 1996 года, позволившего Ельцину переизбраться, Чечня де-факто получила широкую автономию и ей было разрешено провести собственные президентские выборы. Новый президент Чечни Аслан Масхадов – бывший военный и умеренный, но слабый политик – почти не контролировал своих полевых командиров. Чечня быстро превращалась в “черную дыру”, в которой исчезали деньги, выделяемые Москвой, нефть из нефтепровода, проходившего через республику, и люди, которых захватывали ради вымогательства выкупа.
Масюк была не первым журналистом, похищенным в Чечне, но из всех российских телерепортеров она, безусловно, больше всех симпатизировала тем, кто воевал за независимость республики. Кроме того, у нее сложились хорошие отношения с местными полевыми командирами, включая Шамиля Басаева, и ее всегда беспрепятственно к ним допускали. Басаеву, захватившему в 1995 году больницу в Буденновске, позволили – после переговоров и освобождения заложников – вернуться в Чечню и там “раствориться”. Тогда Кремль объявил о том, что Басаев находится за границей. После этого Елена Масюк отыскала Басаева и взяла у него интервью на камеру, в очередной раз продемонстрировав собственную смелость, а также беспомощность и ложь российских спецслужб. Масюк освещала события в основном с чеченской стороны и часто бывала близка к тому, чтобы перейти грань объективного репортажа, что заставило Малашенко фактически наложить запрет на ее командировки в Чечню. Это, однако, не помешало Олегу Добродееву, который осуществлял оперативный контроль над НТВ, отправить Масюк в очередную поездку, где ей предстояло поговорить с полевыми командирами, взявшими на себя ответственность за подрыв железнодорожной станции несколькими неделями ранее.
В июле 1997 года, когда руководство НТВ предпринимало отчаянные попытки освободить журналистов из плена, Ельцин пригласил бывших членов своего избирательного штаба на обед. Как вспоминал Малашенко, обед был обставлен по протоколу: герб, меню перемены блюд: “Борис Николаевич в таком лучезарном, хотя несколько деланно лучезарном настроении говорит, как все хорошо за этот год, как вообще все здорово. Что у нас экономика улучшается, что невыплаты по зарплате прекратились и уже там все почти выплатили, а то, что осталось невыплаченным, выплатят уже очень скоро, и что вообще все чудесно”. Ответ протоколом не предполагался, но Малашенко, у которого на уме были неосвобожденные заложники, вдруг прорвало, и он произнес монолог, никак к этому протоколу не подходивший.
“Я сказал, что есть вещи поважнее невыплаченных зарплат, что есть сила и воля государства, и что если этого нет, то государство начинает просто расползаться как гнилое сукно. Я еще к каким-то там историческим примерам прибегал. И говорил, что вот сейчас то, что происходит с Чечней, погубит государство, потому что мы делаем вид, что там все хорошо, а там все совершенно не хорошо, и что если это будет продолжаться таким образом, то очень скоро возникнет дилемма: либо там опять начинать войну, бойню, либо капитулировать, и тогда Чечня будет просто Россией править через какое-то время, потому что у них воля есть. А у нас нет. Я сказал, что ничего не делается, что надо создать какие-то боеспособные части, хотя бы несколько – там же много не надо, – которые способны вести современные боевые действия и проводить контртеррористические операции, уничтожая боевые формирования террористов. Я при этом рассказывал про наших журналистов, которые там сидели, про все это”. Малашенко, как ему казалось, говорил минут 10–15. “Так не говорят с президентом, конечно”, – оценивал он свой монолог позднее[319].
После монолога Малашенко воцарилось молчание. Сидевшие за столом не смели поднять глаза. Ельцин не проронил ни слова. Он просто продолжал есть в гробовой тишине. После паузы он начал снова рассказывать про то, что экономика улучшается, а невыплаты по зарплате уже почти прекратились. Теперь уже речь шла о достоинстве Малашенко, и промолчать он не мог. “Я это слушал, слушал и говорю: Борис Николаевич, вы меня извините, пожалуйста, я вот высказался на тему, которую я считаю чрезвычайно важной. Я говорю: но вы мне, пожалуйста, ответьте. Вы можете сказать, что, Игорь, вы не правы, вы совершенно неправильно там представляете ситуацию, она не такова. Вы можете сказать, что да, я вижу проблему там, но не знаю, что с этим пока делать, думаю и еще чего-нибудь. Но я это сказал. И тут Б. Н. совершенно звереет. И я вспоминаю историю, которую слышал еще на лекциях по психологии в университете. Почему медведь – самое опасное животное для дрессировщиков? У него лицевые мускулы неразвиты, поэтому у него все время такая добродушная с виду морда. И поэтому, когда он начинает злиться, это никак не выражается на его лице. И в тот момент, когда он уже абсолютно зол, он уже оскалил пасть, тогда уже поздно. Вот это я вспоминаю, потому что физиономия Бориса Николаевича внезапно искажается такой звериной гримасой, которая, впрочем, исчезает довольно быстро, и он мне говорит: значит так, вы говорите, я говорю, но дискуссии не будет. Отлично, раз дискуссии не будет, тогда я молча начинаю есть перепелку”[320].
Вскоре после этого Гусинский заплатил выкуп в 1,5 миллиона долларов через Бадри Патаркацишвили, делового партнера Березовского, и 17 августа 1997 года, после трех месяцев плена, Масюк освободили – в тот же день, когда Аслан Масхадов прилетел с визитом в Москву. Малашенко, Добродеев и Киселев устроили пресс-конференцию в гостинице “Славянская”, где компания НТВ обычно отмечала свои дни рождения. Малашенко объявил о том, что НТВ заплатило выкуп, и обличительно указал на Масхадова и его правительство. “У нас также есть основания утверждать, что президент Масхадов знает, что в Чечне есть такой бизнес, как торговля людьми, и занимаются им его сподвижники под руководством вице-президента Вахи Арсанова… Я не знаю, – продолжил Малашенко после паузы, – сознавал ли Ельцин, что встречается с главным тюремщиком Чечни: я убежден, что так подогнать сроки освобождения журналистов со встречей в Москве мог только сам тюремщик”[321]. В заключение Малашенко заявил, что государство не способно исполнять свой конституционный долг и защищать собственных граждан.
Масюк рассказала о том, как ей и ее коллегам жилось в плену, где ее стерегли чеченцы, курившие анашу. “У нас иногда возникало желание их убить. Были ситуации, когда для этого было достаточно протянуть руку и нажать на курок… Сейчас журналистам в Чечне делать нечего. Пусть сидят там себе без журналистов. Я, конечно, не осуждаю весь чеченский народ. Но есть люди, которых я ненавижу”, – зло закончила она свою речь.
На следующий день после этой пресс-конференции Ельцин публично ответил Малашенко. На заседании Совета безопасности он сказал, что в Чечне идет мирный процесс, а некоторые плохо информированные люди, вроде Малашенко, которые ничего не знают про Чечню, занимаются очернительством. Ельцин уже думал о преемнике и отчаянно хотел закрыть чеченский вопрос, чтобы двигаться дальше, поэтому его привела в ярость попытка Малашенко снова затронуть эту больную тему. Разговаривать с Масхадовым было необходимо, потому что какой бы слабой фигурой ни был президент Чечни, он являлся единственной альтернативой той самой войне, за которую НТВ критиковало Ельцина.
После ответа Ельцина, по воспоминаниям Малашенко, к нему подошел Березовский, чтобы подбодрить: “Игорь, не расстраивайтесь, зато теперь мы с Чечней можем делать все, что хотим”. Малашенко понимал, что Березовский прав, что общественное мнение перевернулось, что чувство вины по отношению к Чечне и готовность согласиться на ее независимость и мир сменились злобой и желанием покончить с Чечней раз и навсегда. Мысль эта, впрочем, Малашенко не порадовала. “В тот момент меня волновала не Чечня, а Россия. И я понимал, что [этот перелом в сознании] потом России отзовется так, что мало не покажется. И именно это в итоге и произошло”[322].
Никто не возбуждал бо́льшую ненависть к Чечне и не критиковал Ельцина за его мировое соглашение с Масхадовым активнее, чем подконтрольное Березовскому ОРТ. Каждую неделю Невзоров, нанятый Березовским, выходил в эфир с программой “Дни”, название которой отсылало к ультранационалистической газете “День” под редакцией Проханова. Летом 1996 года невзоровская программа показывала российских десантников, которые размахивали засушенными на солнце ушами чеченских боевиков, и рассказывала о том, что ранее эти самые боевики распинали солдат из федеральных войск на крестах.
В 1997 году тревожные кадры перекочевали из подобных программ прямо в выпуски новостей. Вскоре после освобождения Елены Масюк и НТВ, и ОРТ показали фрагменты любительской съемки того, как в Чечне публично казнят людей, приговоренных к смерти по закону шариата. “Сейчас вы видите, как двух приговоренных ведут к стене, задрапированной черным крепом, – спокойным голосом поясняла диктор ОРТ. – Сама по себе казнь была обставлена в соответствии с традициями, характерными для публичных наказаний, существующих ныне в некоторых странах Востока”[323]. Оба канала показали кадры с расстрелом в прайм-тайм, в своих вечерних выпусках новостей. Это в корне отличалось от обычных репортажей о войне. Видеозапись казни демонстрировалась совсем не для того, чтобы просто информировать телезрителей, она была нужна для того, чтобы вызвать отвращение и ненависть.
После разгрома правительства младореформаторов, совпавшего по времени с переломом в отношении к Чечне, о стабильности и нормализации жизни речи уже не шло. Да телевидение к этому и не стремилось. Напротив, политические скандалы и кризисы позволяли телеканалам удерживать внимание публики и заодно продавать ей развлекательные программы и рекламу. Политика подчинялась правилам потребительского спроса: политики сменяли друг друга со скоростью рекламируемых продуктов – сегодня Лебедь, завтра Немцов, послезавтра кто-нибудь еще, неважно. Главное, чтобы люди не скучали и не выключали ящик.
Надежда на то, что перевыборы Ельцина послужат началом спокойной жизни и положат конец постоянным политическим неурядицам, от которых все так устали, не оправдалась. Проблема была не только в мелочности элиты и цинизме СМИ. Главной проблемой было отсутствие хоть какого-то нового плана действий, хоть какой-то внятной идеи будущего, способной объединить страну. Угроза коммунистического реванша, которая помогла Ельцину консолидировать электорат, ушла в прошлое вместе с выборами 1996 года. Теперь казалось, что самим лидерам коммунистов гораздо выгоднее продавать “угрозу”, чем осуществлять ее. Поражение коммунистов показало, что никакой цели у государства нет. Никто в России уже не понимал, куда идет страна, что она собой представляет, как трактовать ее историю. И мало кого это волновало.
Старые песни о главном
В посткоммунистической Конституции России говорилось, что государство не вправе навязывать гражданам никакую идеологию. И все же после выборов 1996 года полное отсутствие объединяющей идеи стало слишком уж очевидным. Ельцин, пришедший к власти на противостоянии коммунистической идеологии, понимал опасность смыслового вакуума и поручил своим помощникам заняться поиском “национальной идеи”. Большинство молодых реформаторов и близкие к ним журналисты отнеслись к этим поискам скептически-снисходительно, видя в них очередную блажь Ельцина. В 1997 году “Коммерсантъ” писал:
Поиски национальной идеологии мало-помалу становятся неким кремлевским пунктиком. Понять это можно: на выборах 2000 года одним только криком “Голосуй, а то хуже будет!” избирателя не привлечешь… Дотоле несколько туманное желание властей нашей необъятной и бестолковой страны обзавестись наконец национальной идеей начинает обретать материальную форму. Вообще говоря, ничего предосудительного в означенном желании нет. Какой гражданин не стал бы приветствовать появление могучей, внятной, по-хорошему народной объединительной идеи? Другое дело, что к предметам первой необходимости в просвещенном государстве идеи такого порядка не относятся. Скорее наоборот – это роскошь, но позволить ее себе было бы приятно[324].
Была создана специальная рабочая группа, которую отправили разрабатывать национальную идею на бывшую дачу ЦК в Волынском. Все мероприятие выглядело искусственно и результатов не принесло. Само задание Ельцина напоминало наказ царя из русской народной сказки: “пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что”. Единственная возможная идея могла оказаться националистической, но Ельцин видел будущую Россию демократической страной, встроенной в глобальные экономические и геополитические отношения, и потому этой мысли не допускал.
Отсутствие нового большого плана или замысла выражалось еще и в отсутствии какого-либо внятного стиля. Отсюда возникала и тяга к прошлому как к источнику стилистической определенности. Само собой, те, кто управлял прессой, радио и телевидением, в “светлое” прошлое, в отличие от коммунистов, никого не звали и рассматривали советскую культуру и стилистику лишь как модный аксессуар или артефакт. Начиная с середины 90-х годов, российскую поп-культуру и телевидение захлестнула волна ностальгии. После нескольких лет второсортных латиноамериканских мыльных опер старые советские пьесы, песни и кинофильмы вновь обрели огромную популярность. К советской эпохе обращались с сентиментальной иронией, как ко времени своей молодости, когда жизнь была проще, когда отсутствие денег компенсировалось наличием смысла, когда чувства были сильнее, а надежды и устремления чище. Первые признаки этой ностальгии начали проступать чуть ли не сразу после распада СССР. В 1994 году на “Новогоднем огоньке” на НТВ молодые журналисты появились на экранах в красных пионерских галстуках, как бы отдавая дань собственному пионерскому детству, и спели песню из “Карнавальной ночи” – первой полнометражной картины Эльдара Рязанова. Вел этот “Голубой огонек” Леонид Парфенов – один из самых ярких тележурналистов НТВ, наделенный к тому же безупречным чувством стиля и эпохи. Он появился в студии в смокинге и черном галстуке-бабочке и уселся рядом с технической новинкой – караоке. “Это устройство позволяет петь своим голосом под заранее записанное музыкальное сопровождение”, – с улыбкой пояснил Парфенов.
В отличие от Киселева и Добродеева, выросших в благополучных московских семьях со связями, Парфенов, которому в середине 1990-х было слегка за тридцать, родился и вырос в Череповце, а Москву завоевал своим талантом, провинциальной непосредственностью и искренностью. Одним из первых проектов Парфенова, сделанных для Центрального телевидения, был трехсерийный документальный фильм “Дети ХХ Съезда”, посвященный шестидесятникам. Стоя на Воробьевых горах – там, где Герцен и Огарев клялись друг другу в дружбе и в верности идее свободы, Парфенов взволнованно и искренне говорил перед камерой: “Нам нужно понять родословную, понять гражданский, политический опыт поколения наших отцов, детей первой перестройки. Понять их взлет, их драму, может, трагедию даже, и понять их сегодняшнее второе дыхание. Потому что без них не было бы нас, и без их горького опыта мы – никуда. Никуда. Всё”. В отличие от “Коммерсанта”, Парфенов свое советское прошлое не отторгал и не осмеивал.
Стилизованно-разговорное название парфеновской программы на НТВ – “Намедни” – отсылало к прошлому. В 1996 году Парфенов обратился к стилистически цельному советскому периоду и его популярной культуре, заново запустив “Намедни” уже в виде серии программ, посвященных предыдущим 30 годам советской истории. Он определял границы и переходы исторических эпох не столько по политическим событиям, сколько по их звучанию, стилю, моде, ритму. Он смело и непривычно устранял разграничения на высокую и массовую культуру. Парфенов свободно пользовался монтажом, искал занятные ракурсы и сопоставления, иногда сам “входил” в кадры документальной хроники: охотился на уток вместе с Хрущевым, болтал с голливудским актером Томом Хэнксом, прикуривал от сигары Фиделя Кастро, целовался с Мэрилин Монро. За внешне легковесным развлекательным телепроектом Парфенова скрывалась серьезная попытка примирить Россию с ее собственным прошлым, деидеологизировать и “разминировать” постоянно взрывающееся поле истории, посмотреть на прошлое с точки зрения эстетики, создать столь необходимое ощущение преемственности и стабильности.
Парфенов был не единственным человеком на телевидении, пытавшимся наладить связь с прошлым. В 1995 году друг Парфенова Константин Эрнст, только что назначенный генеральным продюсером ОРТ, запустил социальную рекламу под названием “Русский проект”. Она представляла собой ряд полутораминутных роликов, где известные советские актеры играли простых людей: ветеранов войны, водителей трамвая, космонавтов и даже алкоголиков. Целью проекта была пропаганда простых человеческих ценностей – любви, дружбы, памяти, доброты. В одной из серий пожилой Зиновий Гердт идет по станции метро, когда до него вдруг доносятся звуки военного марша; он вспоминает свою юность и девушку, которую любил, когда был молодым солдатом. Каждая серия завершалась заключительной репликой: “Мы помним”, “Это мой город”, “Дома лучше”.
Все это стало предвестием гораздо более громкого проекта “Старые песни о главном”, который Эрнст и Парфенов представили публике в декабре 1995 года. Это было попурри по мотивам советских киномюзиклов эпохи строительства социализма. Стилистически оно отсылало к живописным полотнам вроде “Колхозного праздника” Аркадия Пластова. Российские поп-звезды в костюмах 1930-х годов исполняли популярные песни того десятилетия. По сути, это была та же караоке-машина. “У меня было очень острое постмодернистское ощущение, что все уже сказано, что нужно просто все оживить. Нельзя было не воспользоваться этим. Да, эти песни были сочинены в сталинские годы, но это же хорошие песни”, – говорил Парфенов[325]. Для съемок фильма Парфенов с Эрнстом восстановили старый мосфильмовский павильон, стряхнули пыль со старого реквизита, декораций и костюмов. Правда, “Старые песни…” были сняты на лучшую пленку Kodak и обошлись в итоге в три миллиона долларов – по меркам российского телевидения того времени это был огромный бюджет. Стилизация вышла изящная и современная.
Проект взывал одновременно к ностальгическим чувствам старшего поколения советских людей, многие из которых по-прежнему голосовали за коммунистов, и к более молодым зрителям, которые сами почти не застали советскую культуру, но зато танцевали под советские песни в дорогих московских ночных клубах, покупали советские сувениры на модных блошиных рынках и надевали старую советскую одежду на маскарадные вечеринки. Вряд ли кто-то из участников тех проектов мог предположить, что через три года Кремль воскресит самую главную из старых песен – гимн Советского Союза, обозначив начало реставрации, или что маскарадная вечеринка скоро превратится в нео-советский парад имперского национализма. В 1997 году молодая городская аудитория НТВ видела в парфеновских “Старых песнях…” доказательство того, что Россия никогда больше не вернется к советской системе и к идеологическим войнам. От программ Парфенова исходило то же теплое чувство, какое люди испытывают, когда после долгого отсутствия возвращаются в семейный дом, где выросли, и с улыбкой перебирают фотографии, старые игрушки, одежду и виниловые пластинки. “Мы расстались с советской властью, жизнь вокруг нас сильно изменилась. Мы сидели перед телевизорами Samsung, пили водку Absolut, делали в квартирах евроремонт, но душа требовала какой-то гармонии. Какие еще песни нам было петь?” – говорил Парфенов[326]. Ни у него, ни у Эрнста не было никаких политических целей. Они снимали “Старые песни…” ради развлечения публики и для собственного удовольствия, но при этом точно улавливали общественный запрос.
Отчасти это было естественной реакцией на передозировку западной поп-культуры, которая заполонила все телевизионное пространство за первые несколько лет после крушения СССР, и на нещадное самоуничижение и бичевание всего советского под лозунгом “Мы хуже всех, мы никуда не годимся”. Неудивительно, что через несколько лет этот комплекс неполноценности переродился в чувство оскорбленной гордости. В 1995-м Парфенов объяснял журналистке The New York Times: “Необходимо признать, что у нас все-таки было и хорошее… что нам нечего стыдиться и что другой истории у нас нет. Зачем нам копировать чужое? Зачем нам бороться с самими собой?”[327]. Спустя пять лет эти слова почти буквально повторит Владимир Путин.
Работы Парфенова действительно создавали ощущение преемственности эпох и успокаивали боль от травмы, нанесенной разрывом истории, снимали симптомы тревоги. Позже, когда ностальгия по советскому прошлому переродится в реставрацию советских политических порядков, Парфенова осудят за пробуждение ностальгических чувств у страны. Но это едва ли справедливо. Советские инстинкты вернулись, конечно, не из-за “Старых песен…”, а из-за того, что от болезней прошлого не было иммунитета, как не было и масштабного плана перестройки государства и его институтов. Наиболее последовательным в продвижении национальной идеи, замешанной на объединении разных исторических эпох в одно славное настоящее, был всесильный мэр Москвы Юрий Лужков, всерьез готовившийся стать президентом в 2000 году. Одним из первых он поднял вопрос о Крыме, и он же взялся восстанавливать Храм Христа Спасителя, заложенный в 1839 году, освященный в 1883 году и взорванный по указанию Сталина в 1931-м. Свою президентскую кампанию Лужков начал в 1997 году, устроив масштабные торжества в честь 850-летия Москвы.
День рождения города отмечался сравнительно произвольно, поскольку когда именно была основана Москва, в точности никто не знает. Во всяком случае, лужковские гуляния ознаменовали собой 50-летнюю годовщину торжественного празднования 800-летия Москвы в 1947 году. Как писал по горячим следам историк культуры Андрей Зорин, “пока волынские сидельцы в тщетных поисках национальной идеи выделяли не то конструкты из концептов, не то концепты из конструктов, идея эта оформилась на столичных площадях в шуме и мельтешне театрализованных действ и освящаемых новостроек”[328]. Лужковская идея состояла в бесконфликтности истории. Разные эпохи соединялись в единое целое, прославляющее величие России.
Превращая де-факто основание столицы в главное национальное торжество, мы не отказываемся ни от какого наследства. Наша злосчастная история неожиданно предстала как бесконечная и бесконфликтная череда золотых веков. Все было прекрасно и при великих князьях, и при московских царях, расправившихся с этими князьями, и при петербургских императорах, отрекшихся от московской эпохи, и при коммунистах, и при демократах. Князь Даниил и Петр I, Николай II и Ленин, Сталин и Ельцин – в сущности, все они оказались людьми, при которых Москва строилась и цвела, так что каждый заслуживает того или иного монумента[329].
Усилиями Лужкова и Церетели Манежная площадь – место самых массовых в истории страны политических митингов 1990–1991 годов – превратилась в пространство развлечений и шоппинга. Подземный торговый центр выпирал на поверхность куполами стеклянных крыш. Площадь будто пузырилась. В нескольких сотнях метров от Манежной сияли позолоченные купола Храма Христа Спасителя, отстроенного заново на щедрые пожертвования олигархов. Цель всего этого грандиозного “ремейка” состояла отнюдь не в том, чтобы искупить прошлые грехи советского режима, а, напротив, в том, чтобы создать иллюзию, будто никакого разрушения не было. “Принимая в истории все без разбору, мы превращаем ее в набор красочного реквизита. Дело не в том, что новодел на месте разрушенных памятников – это не сами памятники, а в том, что рядом с этими макетами в натуральную величину подлинные сооружения утрачивают какую бы то ни было достоверность… Во всем ансамбле Красной площади, пожалуй, один не выпотрошенный пока Мавзолей не вызывает сомнений в собственной идентичности. Все остальные здания выглядят как великолепная декорация, стилизованный задник для театрального действия”, – мрачно заключал Зорин[330].
Идея коллективного покаяния растаяла в воздухе. При серьезном изучении советского прошлого возник бы вопрос, которого никто не желал задавать и уж тем более отвечать на него: кто виноват в советском эксперименте и во всех порожденных им страданиях? Единственный честный ответ был бы: “Все”. Некоторые русские мыслители, бившиеся над этим вопросом, неизбежно приходили к печальному выводу: сталинизм был не внешней силой, а актом саморазрушения.
Москва слишком бурно веселилась, чтобы задумываться о таких мрачных вещах. Российская фондовая биржа переживала бум, в страну рекой текли деньги инвесторов, привлеченных бешеными процентами прибыли; в московских ресторанах бурлила жизнь. То, что зарплаты в стране хронически задерживались, что уровень бедности приближался к своему постсоветскому пику, а большая часть населения едва-едва перебивалась от получки до получки, мало кого волновало.
Банкротство
Пока Москва кутила, а олигархи праздновали победу над правительством младореформаторов, за тысячи миль оттуда, в Юго-Восточной Азии, разворачивался крупный финансовый кризис, сопоставимый по масштабу с началом Великой депрессии 1929 года. Инвесторы бросились спасать свои деньги, забирая их с развивающихся рынков. Российское правительство было измотано “войной банкиров”, а олигархи оказались чересчур самонадеянны – и никто вовремя не задумался о том, что финансовое цунами уже движется в сторону России. Гусинский собирался разместить акции своей компании стоимостью 1,2 миллиарда долларов на Нью-Йоркской бирже, чтобы расплатиться за новый спутник, который уже готовили к запуску.
Между тем экономика России пребывала в плачевном состоянии. Налоги не собирались, бюджет находился в дефиците, и чтобы как-то закрыть зияющую дыру, министерство финансов выпускало высокодоходные государственные краткосрочные облигации (ГКО). К весне 1998 года прибыль по этим облигациям уже превышала 50 %. Чтобы расплатиться с их держателями, правительство выпускало все новые облигации, обещавшие еще более высокие доходы. Фактически это была гигантская долговая пирамида, и, как это бывает со всеми финансовыми пирамидами, рано или поздно она должна была рухнуть.
В политике дело обстояло не лучше. В начале 1998 года Ельцин уволил Черномырдина, который исполнял обязанности премьер-министра с 1993 года. Наиболее популярная версия гласила, что Ельцин просто заподозрил Черномырдина в президентских амбициях. Ровно противоположное объяснение, которое поддерживали и олигархи, и сам Ельцин, сводилось к тому, что Черномырдин исчерпал свой потенциал, в качестве преемника Ельцина шансов на избрание не имел, а потому пришла пора его сменить. Олигархи вместе с дочерью Ельцина Татьяной Дьяченко и Валентином Юмашевым стали обсуждать, кто должен занять его место.
На одном из этих советов Березовский выдвинул кандидатуру Малашенко. Всем, кроме самого Малашенко, эта идея пришлась по душе. Отказавшись возглавить администрацию президента, он тем более не собирался становиться заложником Березовского и Гусинского в качестве премьер-министра. По воспоминаниям Малашенко, он в бешенстве набросился на Березовского: “Ты знаешь, что будет моим первым действием как премьер-министра? Он говорит: что? Я говорю: тебя не будет в стране, ты пойдешь лесом. Он говорит: а почему? Я говорю: потому что вокруг вот этого здания виртуально стоит все население России и у каждого в руках плакат: «Березовского – вон». И вот я, как политик, обязательно это сделаю. Поэтому тебе мало не покажется”. Разговор быстро закончился. “Березовский обиделся… И он понял, что я не шучу, и я действительно не шутил. Как политик я должен был наехать на Березовского, на того же Гусинского, и, если я ставлю своей задачей максимизацию власти, я должен себя вести как Путин. Но такая страна мне не нравилась”[331].
После “войны банкиров” Ельцин тоже осознал, что олигархи становятся чересчур могущественными, и начал подыскивать человека на должность премьера, который был бы способным, экономически грамотным, но и далеким от олигархов и не замешанным в прежних скандалах. В итоге Ельцин подобрал замену Черномырдину в лице бывшего банковского сотрудника из Нижнего Новгорода Сергея Кириенко – 35-летнего протеже Бориса Немцова. За детское лицо с наивным выражением и неожиданность назначения он сразу получил прозвище “Киндер-сюрприз”. Кириенко был хорошим технократом и вполне мог бы послужить государству на посту министра в спокойную пору, но его назначение произошло в такое время, когда, по словам Гайдара, “уже не только заложили мину, но и подожгли фитиль”[332]. Надеяться на то, что Кириенко сумеет дать отпор олигархам, означало бы выдавать желаемое за действительное. И вскоре олигархи не упустили случая продемонстрировать свою силу.
В мае 1998 года забастовали шахтеры из Кузбасса, которым не выплачивали зарплату уже несколько месяцев. Забастовщики начали “рельсовую войну”, перекрывая железнодорожные пути. Несколько сотен шахтеров приехали в Москву, разбили лагерь перед Белым домом, сидя на земле, стучали касками по булыжникам и отказывались расходиться. Шахтерские забастовки случались и раньше, но на этот раз телевидение явно подливало масла в огонь: оно показывало забастовку с огромным сочувствием, как главное российское событие, что только увеличивало число бастующих по стране. Как написал в своих воспоминаниях Ельцин, эта был лишний повод критиковать правительство Кириенко. Когда Ельцин попросил телевизионных начальников прекратить информационную атаку, те изобразили негодование. “Не заметить полстраны, отрезанной шахтерскими забастовками, сделать вид, что этого не происходит, и в очередной раз обвинить во всем средства массовой информации – мы это уже проходили”, – заявил Добродеев[333].
Тем временем ОРТ развлекало зрителей телеигрой “Золотая лихорадка”, которая точно передавала безумную атмосферу последних докризисных дней. Карлик в золотом плаще проводил зрителей в студию, напоминавшую тускло освещенный склеп. Ведущий, изображавший Сатану и периодически разражавшийся демоническим хохотом, задавал собравшимся вопросы на эрудицию, а потом отбирал финалиста. Если финалист верно отвечал на вопросы, ему вручали золотой слиток и осыпали банкнотами. Если он ошибался, то чемодан с золотом таял у него на глазах. “Какая удивительная пакость: соблазнять людей деньгами, которых они не заработали. До чего бестактно в стране, которая официально считается бедной, играть на золото и швырять банкноты на ветер прямо на экране”, – писала телекритик Петровская[334]. Через несколько недель уже вся страна наблюдала, как тают на глазах сбережения людей, а заодно и золотовалютный запас России.
17 августа 1998 года российское правительство, не способное выплатить или хотя бы частично покрыть собственный долг вместе с прибылью в размере 150 %, объявило дефолт по краткосрочным облигациям и одновременно девальвировало национальную валюту. Иногда страны объявляют дефолт по внутренним долгам, чтобы не девальвировать национальную валюту, а иногда, наоборот, девальвируют валюту, чтобы выплатить долг. Россия же сделала сразу и то, и другое. Вдобавок, чтобы защитить олигархов, государство объявило официальный мораторий на выдачу средств иностранным инвесторам, что позволило российским банкам не выплачивать в общей сложности 16 миллиардов долларов, причитавшихся иностранцам.
Не прошло и недели после объявления дефолта, как Кириенко и Немцов ушли из правительства. В тот день, когда Ельцин подписал их заявления об отставке, они вышли из Белого дома с бутылкой водки и отправились распивать ее вместе с бастующими шахтерами. Через три месяца после кризиса, в ноябре 1998 года, Гусинский наконец увидел, как его американский спутник стартует в космос с мыса Канаверал. Это был первый в истории американский спутник, изготовленный по заказу частного российского клиента. Гусинский находился в приподнятом настроении. Правда, появилась одна проблема: потенциальные зрители – нарождающийся средний класс – уже не были готовы подписываться на его канал. Люди сокращали все расходы, не являвшиеся жизненно необходимыми, и спутниковый канал Гусинского, конечно, попадал в категорию излишеств. Количество рекламы на телевидении тоже резко пошло вниз.
Планы Гусинского разместить акции компании на Нью-Йоркской бирже сорвались. Иностранные инвесторы избавлялись от российских активов. Но Гусинский не унывал. Он обратился к своему другу Рему Вяхиреву, главе “Газпрома”, и они договорились о займе в размере 260 миллионов долларов. Еще через год Гусинский занял столько же, и гарантом снова выступил “Газпром”. В тот момент Гусинский вряд ли мог предположить, что накидывает петлю себе на шею. Какие бы события ни происходили в стране, он свято верил, что его будущее надежно обеспечено его медиамашиной.
Впрочем, кризис повлиял не только на экономику. В ней, кстати, наметился рост лишь год спустя: благодаря слабой валюте российские экспортные товары стали более конкурентоспособными, и средний класс постепенно снова встал на ноги. Главное воздействие кризиса имело политический характер. Кризис не только снес правительство реформаторов, но и дискредитировал в глазах большинства населения выбранную ими модель России как “нормальной” западной страны. Надежды реформаторов на то, что добиться преображения России в действующую рыночную демократию можно путем монетизации и приватизации, оказались такими же эфемерными, как и вера перестроечного поколения в то, что демократия и свобода слова автоматически приведут страну к процветанию.
В таком повороте событий просматривалась некая фатальная цикличность. Семь лет назад, в 1991-м, идеологи либеральных реформ в России, поколение “Коммерсанта” и НТВ, объявили моральными и финансовыми банкротами своих родителей – тех людей, которые начинали перестройку и верили в “социализм с человеческим лицом”. И вот теперь в положении банкротов очутились они сами.
Не сумев создать собственный политический фундамент, и реформаторы, и олигархи в равной степени зависели от политического прикрытия в лице Ельцина. Теперь же Ельцин ослаб – и в физическом, и в политическом смысле. Он никогда толком не понимал, как функционирует рыночная экономика, но целиком полагался на молодую меритократию, которая управляла экономикой и СМИ. Он верил, что эти профессионалы приведут Россию к лучшей жизни. Они не оправдали его доверия. Тем острее встал вопрос “престолонаследия” и “преемственности власти”.
Глава 6 Камера, мотор, Путин!
В поисках Штирлица
В сентябре 1998 года НТВ представило первый большой проект нового телевизионного сезона. Автором и ведущим новой передачи стал Леонид Парфенов, а посвящалась она 25-летию культового советского телефильма “Семнадцать мгновений весны” о последних днях Второй мировой войны. Главным героем был советский разведчик Максим Исаев, проникший в верховное командование нацистской службы безопасности под именем Макса Отто фон Штирлица в чине штандартенфюрера СС. Он получает задание выяснить, кто из руководства Рейха ведет тайные переговоры о сепаратном мире с Америкой, и помешать этим планам, которые идут вразрез с интересами Сталина и СССР. Штирлиц узнает о тайных связях Гиммлера с директором ЦРУ Алленом Даллесом, сообщает подробности Гитлеру и докладывает обо всем Сталину, тем самым расстроив предательские планы Америки.
Двенадцатисерийный телефильм про Штирлица вышел на экраны в 1973 году и сразу же стал хитом: каждый вечер он собирал от 50 до 80 миллионов телезрителей. Ни один советский фильм – ни до, ни после – не пользовался таким успехом. В половине восьмого вечера, когда фильм начинали показывать по первой программе центрального телевидения, улицы советских городов пустели, уровень преступности резко падал, зато возрастал уровень потребления электричества.
Штирлиц превратился в культового персонажа советского фольклора – он стал любимым героем анекдотов и детских уличных игр в войну. Реплики из фильма и его музыкальный лейтмотив обрели не меньшую популярность и узнаваемость, чем цитаты из бондианы в англоязычных странах.
Высокопоставленных нацистов играли самые известные и любимые советские актеры. Все отрицательные персонажи вышли очень живыми и человечными, но обаяние самого Штирлица, которого сыграл кумир зрителей Вячеслав Тихонов, затмило остальных. Высокий красавец с правильными чертами лица и безупречной осанкой, он был идеалом силы и невозмутимости. Нацистская форма идеального кроя, сшитая в спецателье министерства обороны СССР, сидела на нем как влитая. Он был безупречным русским “немцем” и обладал гораздо более “арийской” внешностью и манерами, чем любой из нацистов, фигурировавших в фильме.(Впоследствии телефильм послужил источником вдохновения для молодых русских неонацистов, которые даже заимствовали себе клички у персонажей “Семнадцати мгновений”.)
Телефильм “Семнадцать мгновений весны” был частью пропагандистской кампании по улучшению образа органов госбезопасности, задуманной Юрием Андроповым, который возглавил КГБ в конце 1960-х годов. За ведомством к тому моменту закрепилась мрачная репутация тайной полиции – само его название сделалось синонимом политических репрессий. Предполагалось, что кампания повысит престиж службы и привлечет в органы молодых и образованных людей. Роман Юлиана Семенова, который лег в основу сценария, был написан по личному заказу Андропова, чтобы прославить подвиги советской резидентуры за границей и показать, как разведчики определяли ход истории и судьбу мира.
В своем документальном фильме Парфенов рассказал и отчасти воспроизвел историю создания картины. В строгом костюме с галстуком, какие носили в 1970-е, Парфенов входил в кабинет Андропова на Лубянке со словами: “У этого кабинета одна особенность: входишь в дверь, и для человека, сидящего за столом, ты кажешься мельче, чем на самом деле, а тот, кто за столом сидит, тебе кажется больше, чем на самом деле”. Затем Парфенов снимал трубку телефона с гербом СССР на наборном диске – так называемой “вертушки” – и, войдя в роль Андропова, вызывал своего заместителя, которому было поручено общаться с автором романа и консультировать создателей фильма.
Телекритик Ирина Петровская писала в то время:
Едва ли не каждая реплика корреспондируется с современной российской ситуацией. А в особенности – песня про мгновения. Все политические деятели, все отечественные и зарубежные специалисты ежедневно твердят по всем каналам, что Россия стоит на краю пропасти, что счет идет даже не на месяцы, а на дни, на часы, на минуты – то есть на мгновения. И вот летят они, как пули у виска, эти самые мгновения… обдавая ужасом тех, кто сидит по ту сторону “ящика” в надежде уловить хотя бы проблеск света в конце тоннеля. А нету того проблеска, как нету и того Штирлица, который сумел бы найти выход из самого безвыходного положения[335].
Приблизительно за два месяца до выхода документального фильма НТВ кабинет председателя КГБ, переименованного в ФСБ, занял Владимир Путин, бывший офицер КГБ, служивший в 1980-е годы в Восточной Германии, в Дрездене. Путин был одним из тех самых молодых и образованных новобранцев, которым когда-то адресовалась “пиар-кампания” Андропова. Когда на экраны впервые вышли “Семнадцать мгновений весны”, Путин учился на юридическом факультете Ленинградского университета. Спустя два года, в 1975-м, он поступил на службу в КГБ.
Судьба распорядилась так, что впервые Путин появился на телеэкране именно в образе Штирлица. В 1992 году мэрия Санкт-Петербурга, где тогда работал Путин, заказала цикл телевизионных интервью, чтобы представить горожанам команду мэра Анатолия Собчака. Так получилось, что из всего цикла сняли только интервью с Путиным – по его собственной инициативе. Именно в этом фильме Путин называл себя бывшим кадровым разведчиком. Чтобы оживить съемку, режиссер Игорь Шадхан решил представить Путина эдаким современным Штирлицем. “Мне пришла идея об инсценировке эпизода, похожего на фрагмент из «Семнадцати мгновений весны», где в финале картины Штирлиц сидит в машине”[336], – вспоминал Шадхан. Путин сел за руль “Волги” и сыграл последнюю сцену фильма, где Штирлиц возвращается в Берлин. За кадром звучала знаменитая мелодия Таривердиева.
Запрос на настоящего Штирлица, который спокойно и невозмутимо справился бы с любым кризисом в стране, действительно был. В начале 1999 года “Коммерсантъ” провел опрос общественного мнения на тему “Кого из киногероев россияне хотели бы видеть своим следующим президентом?”. Штирлиц занял второе место после маршала Жукова – реального исторического персонажа. Еженедельное приложение “Коммерсанта” поместило на обложку Штирлица с подзаголовком “Президент-2000”. В этом не было ничего удивительного. Со времен ЧК и на протяжении всей своей истории КГБ культивировал собственный образ как службы безжалостной, но профессиональной и эффективной: она всегда руководствуется государственными интересами и обладает тайным знанием и навыками, необходимыми для управления страной и модернизации ее экономики. Таким авторитарным модернизатором в глазах многих был Андропов. (Неслучайно именно он способствовал продвижению Горбачева в начале 1980-х.)
Потеряв доверие к либералам и западникам, страна занялась поисками своего Штирлица. Ельцин тоже начал приглядываться к силовикам в поисках возможного преемника. Социологи, проводившие опросы, составляли характеристику будущего президента, каким его хотело видеть население: молодой, русский по национальности, выходец из спецслужб, непьющий. Ельцин, обладавший острым политическим чутьем, с перечисленными критериями соглашался. “Уже тогда я почувствовал, как растет в обществе потребность в каком-то новом качестве государства, в некоем стальном стержне, который укрепит всю политическую конструкцию власти. Потребность в интеллигентном, демократичном, по-новому думающем, но и по-военному твердом человеке”[337]. Через год такой человек действительно появился. Но в сентябре 1998 года о Владимире Путине еще никто не слышал.
Гудбай, Америка
В сентябре 1998 года Ельцин назначил премьер-министром России Евгения Примакова, 69-летнего министра иностранных дел и ветерана советской политики. Выбор этот был скорее вынужденным; олигархи (в том числе Березовский), еще несколько лет назад призывавшие к отставке Черномырдина, теперь лоббировали его возвращение, видя в нем гарантию преемственности.
Ельцин дважды вносил кандидатуру Черномырдина на рассмотрение Думы, где преобладали коммунисты, и дважды Дума ее отвергала. Ельцин понял, что в этом сражении ему не победить, и под конец был вынужден назначить Примакова – хитрого и опытного представителя советской номенклатуры, в прошлом кандидата в члены Политбюро и директора первой постсоветской Службы внешней разведки России. Предполагалось, что кандидатура Примакова устроит всех и он сыграет примерно такую же роль, какую Черномырдин сыграл в 1992 году: будет лоялен Ельцину, сумеет возглавить правительство с уклоном влево и удовлетворит коммунистов в Думе, которые никак не смогут забраковать его как либерала-западника.
Примаков был на два года старше Ельцина и свою карьеру начинал на государственном советском телевидении, которое часто служило прикрытием для разведчиков. Примаков также работал в газете “Правда”, специализировался на международных отношениях и часто выезжал за границу. Его связи с КГБ никогда не афишировались, но всегда воспринимались как данность. Примаков, востоковед-арабист по образованию, был личным другом Саддама Хуссейна и Ясира Арафата и работал с Горбачевым.
Назначение Примакова вызвало облегчение: как будто крепкая, опытная рука взялась за рычаги управления после того, как экипаж молодых и бесшабашных пилотов едва не разбил самолет. Всем своим видом Примаков как бы говорил: “Не волнуйтесь, эксперименты остались позади, мы вышли из зоны турбулентности”. На публике он говорил о большей роли государства в экономике, апеллируя к патерналистским настроениям страны. В то же время он распоряжался урезать некоторые статьи бюджета и прислушивался к советам американских экономистов. Его невнятная речь, солидность и стилистика типичного советского функционера вселяли чувство уверенности и не несли угрозы (по крайней мере, в глазах рядовых граждан). Назначение Примакова произвело эффект плацебо на страну, потрясенную финансовым кризисом: улучшило состояние при отсутствии каких-либо реальных целительных мер.
Примаков не делал резких движений. В сущности, главным его достижением было как раз то, что он почти не предпринимал никаких действий, позволяя экономике адаптироваться к кризису. Девальвация рубля и рыночные реформы предыдущих нескольких лет, главной из которых было узаконивание частной собственности, вскоре привели к восстановительному экономическому росту. И хотя Примаков имел весьма отдаленное отношение к оздоровлению экономики, он оказался в выгодном положении. Рейтинг его популярности пошел вверх, но не потому, что он что-то делал или не делал, а просто потому, что он производил впечатление крепкого государственника. Куда больше, чем экономика, Примакова заботили СМИ и то, что они о нем говорили и писали.
В чтении газет, в просмотре новостных программ сказывалась старая советская закалка. Он часто вызывал к себе главных редакторов и владельцев СМИ, чтобы высказать им свои претензии. По воспоминаниям Ельцина, однажды Примаков принес на встречу с ним “особую папку” с газетными вырезками, где была собрана вся критика в адрес его правительства, причем отдельные слова и предложения были подчеркнуты фломастерами. Ельцин, всегда спокойно и по-царски снисходительно относившийся к тому, что его полощут в СМИ, чрезвычайно удивился и сказал: “Евгений Максимович, я уже давно к этому привык… Обо мне каждый день пишут, уже много лет, знаете в каких тонах? И что же, газеты закрывать?”[338].
Российским либеральным журналистам – тем, кто принял сторону Ельцина в 1993 году и во многом задавал тон в 1990-е, – Примаков казался стилистически чужим. Их раздражали повадки премьер-министра, выдававшие в нем ископаемое советского периода. В лучшем случае такой человек вернет Россию в эпоху застоя, шептало им чутье. А в худшем – возродит сталинские методы управления – в облегченной форме. Взгляды Примаковы были далеки от либеральных, и все же он был прагматичным и разумным политиком, действительно хорошо знавшим страну и государственную систему. Александр Яковлев полагал, что “демократы напрасно принимают Примакова в штыки – консерватор! Он не консерватор, он просто не торопится с выводами. То, что можно сказать сегодня вечером, он предпочтет сказать завтра вечером”[339].
Но конфликт журналистов с Примаковым был вопросом власти и влияния. На протяжении 1990-х журналисты активно пользовались своим чрезвычайно привилегированным положением и статусом. Примаков журналистам не доверял и видел в них не союзников, а конкурентов за власть и государственную повестку. Как государственник он, естественно, был более склонен опираться на старую номенклатуру: на спецслужбы, чиновников и дипломатов. Первым делом Примаков ограничил журналистам доступ к правительству, устроил выволочку телевизионному руководству за искажение и очернение его образа и принялся растолковывать, как и о чем нужно делать репортажи. Журналисты восприняли это скорее как оскорбление, чем как угрозу. Утрату своего прежнего влияния они связывали именно с Примаковым. Ельцин написал в мемуарах: “Вольно или невольно Евгений Максимович консолидировал вокруг себя антирыночные, антилиберальные силы, вольно или невольно наступал на свободу слова”[340]. Вдобавок премьерство Примакова совпало по времени с резкой сменой отношения к Западу в России.
Главным международным событием, выпавшим на премьерство Примакова, стали бомбардировки Югославии силами НАТО, начатые в связи с этническими чистками албанского населения в Косово, которые проводились с одобрения президента Союзной Республики Югославия Слободана Милошевича. Накануне натовских ударов, 23 марта 1999 года, Примаков вылетел на переговоры в Вашингтон, где должен был обсуждать финансовую помощь для России. Уже находясь в воздухе, он узнал о том, что воздушный удар по Белграду неотвратим. Тогда Примаков сделал свой главный символический жест: велел развернуть самолет прямо над Атлантикой и лететь обратно в Москву.
На следующее утро “Коммерсантъ” вышел с короткой статьей на первой странице, отразившей чувство ярости, которое испытывало большинство российских журналистов по отношению к Примакову. Гнев и сам пафос заметки были нетипичны для “Коммерсанта”, который обычно придерживался саркастично-отстраненного тона. В заголовке не было и тени стеба, зато присутствовали злость и домысел: “15 миллиардов долларов Россия потеряла благодаря Примакову”. Такая цифра выводилась из стоимости всех договоров и соглашений о кредитах, которые Примаков мог бы подписать в Америке, – однако он
сделал свой выбор – выбор настоящего коммуниста. Большевика, готового полностью пренебречь интересами своей Родины и народа в угоду интернационализму, понятного только ему и бывшим членам КПСС… Вывод один: поддержка близкого Примакову по духу режима Милошевича оказалась для него нужнее и понятнее, чем нужды собственной страны… Только, вернувшись в Москву, премьер-министр потеряет всякое право смотреть в глаза тем старикам, которым он еще осенью обещал полностью выплатить пенсии[341].
Разворот Примакова над Атлантикой не просто сообщал о том, что российское правительство возмущено американской политикой по отношению к Сербии и тем, что США наплевали на возражения России против воздушных ударов. Этот разворот символизировал нечто гораздо более важное – общую перемену отношения к Америке и к Западу во всем российском обществе. В 1988 году, когда советская эпоха клонилась к закату, русская рок-группа “Наутилус Помпилиус” записала песню “Прощальное письмо”, в которой отразился русский взгляд на Америку как на неосуществимую мечту.
Гудбай, Америка, о-о, где не был никогда, Прощай навсегда… Мне стали слишком малы твои тертые джинсы. Нас так долго учили любить твои запретные плоды. Гудбай, Америка, о-о, где я не буду никогда.Образ Америки как утопии, мечты издавна укоренился в русской культуре. В “Преступлении и наказании” Свидригайлов, собираясь застрелиться, говорит случайному свидетелю, сторожу: “Коли тебя станут спрашивать, так и отвечай, что поехал, дескать, в Америку”. Америка – это тот свет, другая, потусторонняя жизнь. На протяжении почти всех 1990-х Америка служила источником вдохновения и ориентиром. Кризис 1998 года показал бесплодность этой мечты, бомбардировки Сербии разрушили ее окончательно. На Запад перестали смотреть как на спасителя. Оказалось, что не существует никакого единого счастливого постсоветского пространства и что Россия – сама по себе. Америка тут же превратилась в козла отпущения, которого можно винить во всех бедах и неудачах, обрушившихся на российский народ в течение предыдущего десятилетия.
Вспышка антиамериканизма и национализма была яркой и тревожной. Перед посольством США в Москве проводились массовые акции протеста. Кто-то даже пытался пальнуть по зданию посольства из гранатомета (к счастью, неудачно), а потом открыл стрельбу из автоматов. Толпа футбольных болельщиков забросала посольство яйцами и банками с краской. Трое погромщиков помочились на его дверь.
Все это отражало не столько солидарность русских с братским славянским народом Сербии (большинство вообще плохо себе представляло, что происходит в Косово), сколько потребность выплеснуть возмущение, раздражение и чувство унижения на своих давних противников – США и НАТО. Бомбардировки Сербии как будто высвободили стихийные силы, которые копились уже давно. Это была отложенная реакция на кризис 1998 года, на разборки олигархов и на события еще более далекого прошлого – на крушение СССР и утрату имперского величия России.
Некоторые СМИ подхватили и начали активно раздувать националистические настроения. Государственные телеканалы вдруг заговорили об “американских ястребах” и “натовских агрессорах”. Но еще более удивительным было освещение сербских событий на НТВ. В репортажах ни словом не упоминалось о косовских беженцах, зато авиаудары НАТО сравнивались с немецкими бомбардировками во время Второй мировой войны. “Впервые с 1941 года в небе над Белградом появились немецкие бомбардировщики с черными крестами на хвостах”, – сообщила ведущая новостей на НТВ. Формулировка была скопирована с заявлений главного государственного телеграфного агентства ТАСС. Информация подавалась таким образом, будто НАТО проявляло ничем не спровоцированную агрессию. За новости на НТВ отвечал Олег Добродеев. Смена тона на этом канале была такой же неожиданной, как примаковский разворот над Атлантикой, и повергла и Гусинского, и Киселева в глубокое недоумение.
Когда Киселев, только что вернувшийся из Праги и следивший за событиями в Югославии по репортажам CNN и BBC, указал Добродееву на откровенно антизападный тон НТВ, тот отреагировал жестко и эмоционально. “Он сказал мне: ты не понимаешь, ситуация в стране меняется, меняются общественные настроения, мы должны соответствовать ожиданиям общества, общество осуждает натовские действия. Если мы не будем идти в ногу с общественными ожиданиями, мы окажемся невостребованными”, – вспоминал Киселев[342]. Приступ “государственничества”, по словам Киселева, совпал у Добродеева с предложением ему Примакова перейти на работу в правительство. Если Малашенко мог участвовать в ельцинской избирательной кампании, то почему ему, Добродееву, нельзя работать на Примакова? Правда, Гусинский эту идею не поддержал.
В следующих выпусках “Итогов” Киселев показывал косовских беженцев и напоминал телезрителям об этнических чистках, жертвами которых становились косовские албанцы. Возможно, Америка в самом деле утратила чувство реальности и действовала чрезмерно нагло, говорилось в “Итогах”, но это не может служить оправданием для антиамериканской истерии, захлестнувшей Россию, которая в разные периоды истории сама неоднократно пренебрегала нормами международного права. Дальше шли черно-белые кадры кинохроники 1950-х и 1960-х, призванные напомнить зрителям о том, как в 1953 году советские войска силой загнали Восточную Германию в социалистический лагерь, как в 1956-м они подавили восстание в Венгрии, а в 1968-м вторглись в Прагу. “Советский Союз убивал людей, где хотел и как хотел. Есть ли в этом вина Америки? Конечно, есть. Ее вина в том, что Америка живет лучше и богаче нас, усерднее трудится и становится сильнее. Мы же потратили все силы на поиски третьего пути, который теперь обрели в безграничной, но губительной любви к Сербии”[343].
И все же Добродеев безошибочно уловил перемену в настроениях. Россия была не способна конкурировать с Америкой, но она больше не желала слышать о том, что Америка сильнее, богаче и лучше. Как покажут следующие полтора десятилетия, антиамериканизм окажется одной из самых устойчивых идеологических установок, на которую будет опираться Кремль. На Америку, как на какую-то условную, почти вымышленную страну, можно будет валить вину за все беды, происходящие на родине. Из символа русских надежд, о котором Блок писал: “То над степью пустой загорелась // Мне Америки новой звезда!”, она легко обратилась в символ их краха; утопия стала антиутопией.
После разворота Примакова над Атлантикой его рейтинг взлетел до новых высот: в апреле 1999 года он был самым популярным политиком в стране. Рейтинг Ельцина, напротив, упал из-за кризиса, разочарования в Западе и коррупционных скандалов. Без всяких конституционных изменений Россия на глазах превращалась в парламентскую республику с сильным премьер-министром, имевшим парламентскую поддержку. Примаков, будучи главой правительства, начал вести себя как независимый политик.
Еще до балканского кризиса, в декабре 1998 года, Ельцин, все чаще попадавший в больницу, с тревогой осознал, что теряет рычаги власти, уступая их Примакову и его кабинету министров. Он попытался заново установить контроль над силовыми ведомствами, включая министерство юстиции и налоговую полицию. В то же время он встречался с руководством телеканалов. “Вы можете спросить, почему президент снова заинтересовался СМИ? – спросил Ельцин. – Это потому, что вы – четвертая власть, вы – «силовики», – с харизматической улыбкой ответил он на свой же вопрос. – Поэтому вы и считайте, что вы – под президентом, под защитой президента. Вот это архиважно”[344].
В январе 1999 года на ОРТ, где фактически хозяйничал Березовский, начала выходить еженедельная программа “Время” с ведущим Сергеем Доренко. “На этой неделе мы стали свидетелями открытой борьбы за передел власти в стране, – взволнованным голосом сообщил Доренко. – Премьер-министр Примаков пытается формально лишить президента Ельцина права когда-либо его, Примакова, уволить…”[345]. Со слов Доренко, Примаков занимался установлением контроля над силовиками и средствами массовой информации – и не занимался экономикой, которая неминуемо движется к новому кризису. Примаков заявлял, что не собирается вводить цензуру, но Доренко сопровождал его слова кадрами со съезда КПСС во главе с Черненко, как бы прозрачно намекая, куда катится страна.
Не прошло и недели после выхода в эфир этой программы, как Примаков ответил Березовскому. Комментируя решение Думы амнистировать почти 100 тысяч заключенных, он заявил, что в России нужно освободить места в тюрьмах, чтобы было куда сажать тех, кто совершил экономические преступления. А еще через несколько дней в фирмы, связанные с Березовским, пришли с обыском вооруженные люди в масках и камуфляже. Березовского уволили с поста секретаря Содружества независимых государств и вскоре предъявили ему ордер на арест в связи с хищением денег у “Аэрофлота”. Заодно Примаков попытался вновь установить государственный контроль над ОРТ.
Для Примакова, за плечами которого была работа на Центральном телевидении и звание кандидата в члены Политбюро, программа “Время” олицетворяла незыблемость власти. Сама мысль о том, что Березовский фактически присвоил главный государственный канал, превратив его в инструмент личного влияния, казалась абсурдом. Примаков предложил первому каналу государственную субсидию в размере 100 миллионов долларов с условием, что Доренко уберут из эфира. Самим Доренко, между тем, занялась налоговая полиция.
Березовскому пришлось временно уехать из страны, но сдавать позиции он не собирался. ОРТ стало изображать Примакова фигурой мрачной и опасной, поддерживая страхи либеральных СМИ перед “застойными” повадками премьера. В начале апреля Березовский созвал пресс-конференцию в самом дорогом в Париже отеле Crillon.
“С моей точки зрения, Примаков значительно более опасен, нежели коммунисты, и заблуждается больше, чем коммунисты заблуждаются. Коммунисты хотят вернуть коммунистическую систему в России. Примаков хочет строить империю, – заявил Березовский. – С первого же дня Примаков стал последовательно сражаться за влияние на средства массовой информации, на спецслужбы, на губернаторов. И за влияние на президента. За Думу ему бороться не надо было – она его полюбила сразу. В борьбе за спецслужбы он добился успеха. Я имею в виду худших из худших в спецслужбах, лицемернейших из лицемерных. Десять лет они отсиживались, отмалчивались. Увидели своего и немедленно из всех щелей повылазили. Это не Примаков сегодня сражается с реформами и не слабые интеллектуально коммунисты – это ведут бой остатки российских спецслужб в худшем их представлении. И их лидер…”[346].
12 мая 1999 года к всеобщей радости либеральных журналистов Ельцин уволил Примакова. “Уход последнего крупного деятеля советской эпохи и то, что он не сумел прижиться в постсоветской России – главное доказательство того, что страна стала другой. Точка невозврата пройдена. К великому советскому прошлому мы уже не вернемся”, – писал журнал “Итоги”, входивший в империю Гусинского[347]. Журналисты описывали Примакова в привычном контексте борьбы между советским прошлым и “нормальным” будущим, определившей выборы 1996 года. Но теперь, в отличие от 1996 года, это была не схватка идеологий и не борьба за право вести страну по определенному пути. Битва велась за власть и выживание внутри Кремля. Она не имела никакого отношения к общественному благу России, зато имела самое прямое отношение к интересам людей, которые обрели власть и собственность при режиме Ельцина. Им было что терять. Право собственности не было безусловным и зависело не от институтов, а от воли правителя, а потому главным для них стал вопрос о преемнике, который мог бы гарантировать их безопасность, власть и собственность после ухода Ельцина.
Операция “Преемник”
“Первая задача, сквозная, была – власть. Мы были одержимы этим концептом, – рассказывал политолог Глеб Павловский, работавший на Кремль с 1996 года. – Власть была тождественна лично Борису Николаевичу и его возможности красиво выйти из игры по концу второго срока. Горизонта планирования дальше не было. Он должен иметь возможность назначить преемника, этот преемник должен быть избран”[348].
Все делалось под предлогом защиты Ельцина от возможной мести и сохранения его политического наследия. В действительности же тех, кто строил планы относительно передачи президентской власти, меньше всего волновало историческое наследие Ельцина как первого демократически избранного президента России, победившего коммунистов и начавшего реформы. В итоге друзья и родственники Ельцина нанесли больший урон его наследию, чем это могли бы сделать его враги. Самому Ельцину ничто не угрожало, под угрозой было его окружение.
Дочь Ельцина Татьяна Дьяченко и ее гражданский муж Валентин Юмашев оказались замешаны в нескольких финансовых скандалах, в том числе касавшихся откатов за контракты на реставрационные работы в Кремле, которыми руководил Павел Бородин, главный завхоз Кремля. В частности, утверждалось, что швейцарская фирма Mabetex выплачивала миллионные взятки российским чиновникам за получение подрядов.
Расследованием занимался генеральный прокурор Юрий Скуратов, который “копал” под ельцинскую семью и пользовался скрытой поддержкой Лужкова. Лужков тоже был своего рода олигархом: в его руках находилась вся Москва – одна из самых доходных “корпораций” России с гигантскими финансовыми потоками. С одной стороны, Лужков олицетворял российский региональный феодализм. С другой – рассматривал свое “удельное Московское княжество” как ядро большой страны, нуждавшейся в централизации. Вероятно, он видел себя в роли нового Юрия Долгорукого, основателя древней Москвы. Как написал Ельцин в своих мемуарах, “после невероятно помпезного, пышного 850-летия Москвы у мэра, очевидно, совсем закружилась голова”[349].
Летом 1999 года Лужков привлек Примакова на свою сторону. Их партии “Отечество” и “Вся Россия” образовали коалицию. Увольнение Примакова с поста премьера не одобрило 80 % населения, что сразу отразилось на его рейтинге, который подскочил с 20 % до 32 %. Довольно вероятная победа блока “Отечество – Вся Россия” на парламентских выборах в декабре 1999 года вполне могла бы вывести одного политика в президенты, а другого – в премьер-министры. При любом раскладе победа Примакова-Лужкова привела бы к переделу собственности, оттеснению ельцинской семьи и изгнанию или аресту их противников, включая Березовского и Романа Абрамовича, его младшего партнера в 1999–2000 годах. Лужков открыто призывал к пересмотру результатов приватизации и соглашения России с бывшими республиками СССР. “Севастополь – город российский, – заявлял он. – И Севастополь… будет принадлежать России. Важно, как это сделать. Можно это сделать силой. Но я… сторонник мирного решения этого вопроса”[350].
Для своих целей Лужков использовал подконтрольный ему московский телеканал ТВЦ, который он теперь обратил против ельцинского окружения[351]. Каждый день в сторону Кремля летели популистские снаряды. “Ельцинский режим продал Родину иностранному капиталу… Это он создал систему коррупции. Это он устроил «геноцид русского народа», это он повинен в падении рождаемости, в катастрофическом положении отечественной науки и образования, медицины и культуры. Вокруг президента сложилась мафиозная семья, настоящий бандитский клан”, – трубил лужковский телеканал[352].
В “семью” Ельцина, помимо его родственников, входили Александр Волошин, руководитель администрации президента и бывший личный брокер Березовского, и Роман Абрамович, младший бизнес-партнер Березовского. Все они нуждались теперь в собственном кандидате, послушном варианте Примакова. Когда Примакова только назначили на пост премьер-министра осенью 1998 года, Павловский представил в Кремль докладную записку: “Любой новый глава государства станет Примаковым. Или мы подключимся к этому процессу, или он будет развиваться без нас”[353]. Кремль “подключился к этому процессу” в конце весны 1999 года. Пока Березовский обвинял Примакова в том, что он использует службы безопасности для решения политических задач, Кремль приступил к поиску его политического “двойника”, способного заместить премьера в качестве будущего президента: лояльного и послушного человека со сходной биографией, способного привлечь тот же электорат.
В список кандидатов попали бывший министр внутренних дел Сергей Степашин, глава ФСБ Владимир Путин и министр путей сообщения Николай Аксененко. В итоге выбор пал на Путина. “Путин и Примаков – два бывших разведчика, два представителя спецслужб, занимают в общественном сознании одну нишу, они как бы вытесняют друг друга”, – написал Ельцин в мемуарах[354].
У “семьи” Ельцина имелись собственные причины проникнуться к Путину симпатией. Он хорошо зарекомендовал себя на службе у мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака. Когда Собчак оказался в центре коррупционного скандала и ему фактически запретили выезд из страны, Путин помог тайно переправить его в больницу во Франции. К тому моменту Путин уже перебрался в Москву и работал в управлении делами президента в качестве помощника Павла Бородина. Расчет ельцинской “семьи” был прост: если Путин не предал Собчака в трудную минуту, значит, он будет верен и Ельцину. Свою лояльность “семье” Ельцина Путин продемонстрировал в 1999 году, когда помог разделаться со Скуратовым. Настырного генерального прокурора тайком засняли на видео в постели с проститутками. Скуратов утверждал, что запись поддельная, и Путину, назначенному в 1998 году директором ФСБ, поручили вести расследование. Путин не только подтвердил подлинность записи, но, вероятно, и санкционировал ее показ по телевидению, что привело к немедленному отстранению Скуратова от должности.
У Березовского с Путиным были собственные отношения. Они сблизились в 1990-е, и Березовский пригласил Путина кататься на горных лыжах в Швейцарии. Весной 1999 года, когда конфликт Березовского с Примаковым был в самом разгаре, Путин без приглашения пришел на вечеринку в честь дня рождения жены Березовского. “Примаков никогда тебе этого не простит”, – сказал Березовский. “Дружба есть дружба”, – будто бы ответил Путин. Существуют и другие версии этого рассказа, но все они указывают на то, что Путин был верен старым связям. Березовский, который всегда управлял делами с помощью личных, а не формальных отношений, счел, что Путин – его человек.
Ключевая роль в игре с подменой преемника отводилась СМИ, доказавшим свою эффективность при переизбрании Ельцина в 1996 году. Правда, существовало серьезное отличие: Ельцин был настоящим политиком, фигурой исторического масштаба. Его никто не “создавал” – ни Малашенко, ни Чубайс, ни кто-либо другой. Все, что от них тогда требовалось – просто мобилизовать президента и убедить страну в том, что он тот же, кого так полюбили и за кем пошли пять лет назад.
Однако победа 1996 года внушила ельцинской команде уверенность в том, что этот трюк, выполненный при помощи телевидения, можно повторить и без Ельцина. По их мнению, любого, даже самого незаметного кандидата, удастся превратить в преемника, если пустить в ход грамотную технологию.
Так в 1999 году политику подменили политтехнологией, граждан – зрителями, а реальность – телевидением. “СМИ сделались органом государственной власти”, – говорил Павловский[355]. Мысль о том, что посредством телевидения группа политических технологов и медиаменеджеров сумеет вывести в президенты человека, о котором до этого никто даже не слышал, казалась невероятной. Но неожиданно НТВ Гусинского, которое обеспечивало избирательную кампанию 1996 года, отказалось играть партию Кремля.
Гусинского не смущала сама идея использования телевидения для продвижения преемника. Ему не понравилось, что Кремль рассматривает его как часть собственной политической машины, а не как самостоятельную силу. В 1996 году он чувствовал себя партнером, который по собственному желанию поддержал Ельцина и получил от этого положенные дивиденды. Теперь же ему практически указывали: или встраивайся в общую повестку, или проваливай. Вопрос был не только в деньгах, но и в самолюбии. Гусинский потребовал, чтобы НТВ получило от правительства те же 100 миллионов долларов, что и ОРТ. В ответ Александр Волошин, руководитель ельцинской администрации, за которым стояли Березовский и Абрамович, сказал, чтобы он убирался куда подальше. Гусинский, известный своей вспыльчивостью, сорвался. Трудно сказать, была ли ссора случайной или спровоцированной, но вражда разгорелась не на шутку. Ни Гусинский, ни Малашенко, которому Ельцин когда-то предлагал должность главы президентской администрации, не собирались мириться с хамством Волошина.
Пока Гусинский ругался с Волошиным, Юмашев пытался найти более мягкий подход к Малашенко. В июне 1999 года Дьяченко и Юмашев, у которых тоже был дом в Чигасове, по-соседски зашли к Малашенко на чашку чая и стали уговаривать его поддержать Путина. Малашенко идея не понравилась. Вспоминая свои аргументы в том разговоре, Малашенко рассказывал: “Это КГБ, я не имею в виду, что это какие-то людоеды, но это люди, которым нельзя доверять”. В ответ он получил стандартный ответ: “Он Собчака не сдал, он нас не сдаст”[356].
Малашенко попросил своего друга Петра Авена, банкира и бывшего министра торговли, лично знакомого с Путиным, устроить ему с ним встречу. В итоге в загородном доме Авена (на бывшей даче писателя Алексея Толстого) как бы невзначай собрались на обед несколько гостей. Путин пришел с двумя дочками. Дочь самого Малашенко в это время летела в Лондон, чтобы закончить семестр в английской школе-пансионе. Обед длился три часа, и за это время мало что прояснилось, но произошел один характерный эпизод.
Когда обед подходил к концу, дочь Малашенко позвонила родителям из аэропорта Хитроу, где только что приземлилась. Школьная машина, которая должна была забрать ее из аэропорта, не приехала, и она звонила посоветоваться: подождать немного или взять такси? Жена Малашенко посоветовала дочери взять такси, но та решила действовать по правилам и все-таки дожидаться школьной машины. О своем разговоре с дочерью жена Малашенко рассказала гостям. И в этот момент в разговор неожиданно вмешался Путин: “Вы плохой дали дочери совет, дочка правильно поступила”. Жена Малашенко, которая пришла позже других и до этого почти не замечала Путина, удивленно посмотрела на незнакомого ей человека и с некоторым раздражением спросила, почему он так считает. На что Путин, как вспоминал Малашенко, ответил: “Вы же не знаете, что это будет действительно такси”.
Жена Малашенко снисходительно начала объяснять, что дочь в Хитроу, в Лондоне, что там стоянка, что там стоят большие машины с желтыми фонариками, что ошибиться невозможно и что такси – это такси. Путин так же спокойно, как ребенку, ответил: “Не имеет никакого значения. Вы никогда не можете быть уверены, что это будет действительно такси”. Фактически Путин намекал, что дочь Малашенко могут похитить. После неловкой паузы Малашенко перевел разговор на другую тему. Позже, когда Малашенко объяснил жене, кто это был и зачем они встречались, “она долго говорила, что в этой истории, как в капле воды, весь Путин”. “Я над ней смеялся долго и говорил, что она все преувеличивает. Но потом через какое-то время я стал думать, что, наверное, она права, потому что КГБ – это давно не про репрессии. КГБ – это про контроль. Вот то, что вы контролируете, безопасно. То, что вы не контролируете, является угрозой по определению. И это подход, с которым общество не может развиваться, потому что я, наоборот, считал, что развивается то, что бесконтрольно”[357], – говорил Малашенко.
Он не был диссидентом и имел богатый опыт общения с КГБ и в Институте США и Канады, который курировался КГБ, и в “Медиа-Мосте”, в котором служил бывший генерал КГБ Филипп Бобков. Малашенко видел в КГБ не угрозу репрессий, а угрозу для движения страны по намеченному, в том числе им самим, пути. После крушения компартии с ее идеологией именно КГБ стал воплощением государственного контроля, с которым боролся Малашенко, считавший, что не государство должно контролировать граждан, а граждане – государство.
Через несколько дней после того памятного обеда Малашенко зашел на дачу к Юмашеву и сказал, что не сможет поддержать Путина, что “КГБ – это навсегда, что это мировоззрение и что это неправильно”. После этого разговора пути назад уже не было, и впереди замаячила война. Вскоре телеканал выпустил очередную программу “Итоги”, которая рассказала о ельцинской “семье” как об узком круге людей, принимавшем все решения в стране и манипулировавшем самим президентом. Рассказ сопровождался наглядными схемами, пояснявшими “внутрисемейные” связи. Это был явный выпад против ельцинского клана, а значит, и лично против Путина, которого “семья” видела преемником. Само понятие “семья” раньше почти не использовалось, хотя в Москве уже стали появляться странные рекламные щиты, скорее всего, в рамках антиельцинской кампании Лужкова. Один такой билборд явно намекал на личность магната Романа Абрамовича, который, по слухам, являлся “кассиром «семьи»”. Надпись на щите, окруженная золотыми монетами, гласила: “Рома думает о семье. Семья думает о Роме”.
В представлении кремлевских политтехнологов атака Гусинского на “семью” и аналогичные нападки Лужкова слились в одну скоординированную кампанию. В воспоминаниях Ельцина, записанных Юмашевым, программа НТВ про “семью” названа ударом в спину президента:
Эти фотографии на экране чем-то напомнили мне стенд “Их разыскивает милиция”. Я такие стенды в Свердловске очень часто видел: на территории заводов, на автобусных остановках, возле кинотеатров. Там красовались личности пьяниц, воров, убийц, насильников. Теперь “милиция” в лице НТВ “разыскивала” мою так называемую Семью: мою дочь, Волошина, Юмашева… Всем этим людям, включая меня, приписывалось подряд все что можно: счета в швейцарских банках, виллы и замки в Италии и Франции, взятки, коррупция…[358]
Само то, что разоблачениями занимались люди, Ельцину лично знакомые и близкие его семье, воспринималось президентом не просто как враждебные выпады, а как предательство.
Журналистов с НТВ перестали пускать на важные кремлевские встречи. По словам Павловского, отвечавшего за отношения со СМИ во время путинской президентской кампании, появилось строгое распоряжение: на НТВ не должен появляться ни один кремлевский чиновник[359]. НТВ осталось только с Примаковым и Лужковым. “Мы стали изгоями”, – вспоминал Киселев. В редакцию журнала “Итоги” наведалась налоговая полиция.
Березовский, выступавший за кандидатуру Путина, воспользовался сложившейся ситуацией в собственных целях и убедил Кремль в том, что НТВ переметнулось на другую сторону и работает теперь на Лужкова с Примаковым. Строго говоря, это была неправда. Гусинский уже рассорился с Лужковым, а Малашенко еще в сентябре 1998 года в разговоре с Ельциным отговаривал его от назначения Лужкова на пост премьера. Примакова они тоже не считали своим человеком, во всяком случае, изначально. Их слабость заключалась в том, что они не предложили собственного кандидата и даже не осознавали, насколько это важно. Контролируя самый влиятельный телеканал в стране, они считали себя самодостаточной силой, с которой придется считаться всем, независимо от того, кто станет президентом.
9 августа Ельцин назначил Путина премьер-министром и назвал его своим преемником – единственным человеком, который сможет сплотить страну. Березовский был в приподнятом настроении. Теперь, когда Гусинского убрали с дороги (возможно, не без помощи самого Березовского), он остался единственным “царедворцем” – самым незаменимым человеком в России, контролировавшим главный телеканал. И хотя основная публично высказанная претензия Березовского к Примакову состояла в том, что тот был связан с органами госбезопасности, биография Путина его мало смущала.
Вне кремлевских стен новое назначение восприняли как очередную “загогулину” Ельцина. Его прежний премьер-министр Сергей Степашин продержался на посту меньше трех месяцев. Большинство людей никогда не слышали о Путине и в лицо бы его не узнали. Многие вообще не заметили его назначения. Его рейтинг был почти не виден в социологических опросах, попадая в разряд статистической погрешности – менее 2 %. Он редко появлялся на публике и почти не давал интервью. Между тем рейтинг Примакова по-прежнему составлял 32 %. Гусинский имел все основания полагать, что перевес на его стороне и у него есть все шансы победить Березовского и “семью”.
Пока “бароны” готовились к политической схватке за ельцинский “престол”, заключали союзы, заряжали свои медийные орудия взрывными разоблачениями и компроматом, большинство граждан страны испытывало все большее отчуждение от политики и уж точно не чувствовало ответственности за действия своего правительства. “От нас ничего не зависит, все решается там, за кулисами”, – такова была наиболее распространенная позиция российских избирателей. И они были не так уж далеки от истины.
Социолог Александр Ослон, работавший на Ельцина во время выборов 1996 года и выполнявший аналогичную работу для предвыборной кампании Путина, отмечал, что население, конечно, знало в лицо главных политических деятелей – Ельцина, Лужкова или Примакова, но смотрело на политику в целом как на чужую игру, где “простым людям” отведено лишь место зрителей. Подобное отношение к политике, заложенное во многом самими СМИ, идеально вписывалось в формат “телесмотрения”. И никто не получал большего удовольствия от телевизионных постановок, чем Березовский.
Однако на этот раз условия игры отличались от президентской кампании 1996 года. Тогда, при всей предвзятости СМИ, Ельцин был готов состязаться с Зюгановым. Теперь у его малоизвестного преемника без какого бы то ни было политического опыта не было никаких шансов победить в честной борьбе таких тяжеловесов, как Лужков и Примаков. Единственная возможность осуществить операцию “Преемник” заключалась в том, чтобы вообще удалить их со сцены, оставив Путина единственным реальным кандидатом. Для устранения конкурентов Березовский нанял человека с репутацией профессионального телекиллера – Сергея Доренко.
Пулеметчик
Доренко был сыном военного летчика и вырос в военных городках и гарнизонах, часто переезжая с места на место. У него была яркая биография, подходящая скорее шоумену. В детстве он мечтал стать военным, но в итоге из-за плохого зрения попал на телевидение. Он выучил испанский и португальский и работал военным переводчиком в Анголе во время гражданской войны, в которой Советский Союз противостоял США. Доренко часто общался с КГБ, хотя утверждал, что никогда не был официально завербован. “Каждый раз, когда они со мной разговаривали, я мог бы все выболтать, поэтому меня не считали надежным”[360]. В начале 1990-х он кочевал с одного телеканала на другой и работал внештатным корреспондентом испанской службы CNN, делая репортажи о расстреле Белого дома и о войне в Чечне. В представлении самого Доренко две эти профессии – военного и телевизионщика – сливались в одну. Он называл себя “пулеметчиком”. Состояние войны было для него самым комфортным. Неважно, какая война – политическая или армейская, – ему годилась любая.
Доренко принадлежал к той же породе, что и Невзоров, он тоже был идеальным наемником. Как журналист он и стилистически, и “содержательно” был антиподом Евгения Киселева. Если Киселев все еще оставался символом респектабельности и буржуазности, пользуясь доверием интеллигенции и среднего класса, то Доренко обращался к более широкой и менее искушенной публике. Уверенный и харизматичный альфа-самец с хрипотцой в голосе, он не изображал из себя глубокого мыслителя и аналитика, не призывал аудиторию думать самостоятельно, как это делал Киселев, а объяснял, что именно нужно думать и чувствовать, при этом искусно манипулируя инстинктами и предрассудками толпы.
Березовский “влюбился” в Доренко в 1994 году, когда оправлялся от неудавшегося покушения (тогда взорвали его “мерседес”). Лежа на больничной койке, он смотрел телевизор и увидел Доренко, который как раз говорил зрителям, что пускай, конечно, олигархи взрывают друг друга на здоровье, но лучше бы они нашли для этого специальное место, чтобы простые люди не страдали.
Потом Березовский пришел к Доренко на работу, желая с ним познакомиться. Тот попросил передать, что занят, и велел помощнице накормить визитера арбузом. Березовский послушно поел арбуза, но так и не дождался появления своего героя. “А зачем мне было с ним встречаться? Он был всего лишь олигарх”, – вспоминал Доренко[361]. Эпатаж Доренко только сильнее раззадорил Березовского, который оценил театральность отказа. Когда они наконец встретились в японском ресторане напротив Кремля в гостинице “Россия”, Березовский предложил Доренко стать ведущим главной новостной передачи на телевидении – программы “Время”. “Прямо посреди разговора он помчался в Кремль – согласовывать с администрацией мое назначение”[362].
Березовскому нравился стиль Доренко. “Я поклонник творчества Доренко… Я считаю, что Доренко – выдающийся журналист… Я, конечно же, смотрю Доренко не как политического аналитика. Это мне не нужно… Я смотрю это как блестящее шоу, в котором моя точка зрения совпадает с точкой зрения Доренко. Для меня особенно важна форма. Я не умею читать книги, написанные плохим языком, зато я могу читать книги практически ни о чем, но написанные блестящим языком”, – рассказывал Березовский в одном интервью той поры[363]. Доренко же рассказывал, что Березовский звонил ему после каждого выпуска программы. “Он всегда начинал разговор со слов: «Ты – гений». А потом цитировал мне наизусть длинные пассажи из моей же программы”[364].
Сделавшись ведущим программы “Время” в 1997–98 годах, Доренко превратил ее в шоу-монолог, состоявший из сенсационных разоблачений, наставлений и водевильных номеров. Где заканчивалась “проповедь” и начиналась “оперетка”, уловить было часто невозможно. Доренко возбуждал, вызывал восторг или возмущение, но главное – неизменно захватывал зрителей и разрушал существующие рамки и правила. Он не взывал к разуму, как Киселев. Он работал на уровне подсознания, повторял, как заклинания, некоторые слова и фразы, нарочито раскатисто произносил звук “р” в таких словах, как “Россия” или “предательство”, модулировал голосом изумление, жонглировал словами и показывал кадры, которые вызывали нужные ассоциации, даже если не имели прямого отношения к затронутой теме. Факты не играли особой роли.
Это был настоящий цирк и буффонада. Доренко выступал в роли Коровьева из “Мастера и Маргариты” Булгакова. В романе Коровьев проводит сеанс “черной магии” в театре Варьете: разоблачает супружеские измены и алчность, тыча пальцем в виновников, сидящих в зале среди публики. Примерно этим же занимался и Доренко: на потеху зрителям он терроризировал жертв, для уничтожения которых его, собственно, и наняли. Сам Доренко определял свое амплуа как “пересмешник”.
На самом деле, по словам журналиста, тот Сергей Доренко, который появлялся на экране, был телевизионной ролью, сценическим произведением и существовал ровно столько, сколько он находился на сцене, перед камерой.
Березовский несколько раз говорил мне, что меня очень зовут приехать домой Таня с Валей, дружить. Интересуются и хотят поближе [познакомиться]. Я сказал ему такую вещь, которую я и потом повторял всем. Я сказал: Борь, я социопат. Я интроверт. Я занимаюсь самосожжением на сцене. Но когда я со сцены сошел, я всех вас видел в жопе. Поэтому я их поближе не знаю и знать не желаю. А у меня есть интерфейс для мира – это ты. Считай, что ты – мой министр иностранных дел[365].
На экране он занимался такой бесстыдной демагогией и передергиванием фактов, так искусно тасовал правду и вымысел, был до того циничен в своих голословных обвинениях, что просто дух захватывало. Как фокусник на ярмарочной площади, он вызывал у зрителей и критиков изумление: “Да как же он это вытворяет?” или “Да как же ему сходит это с рук?”. Чем более невероятными и нелепыми были разоблачения Доренко, тем выше оказывалась их зрелищная ценность.
Люди верили в эти телевизионные разоблачения не потому, что их убеждали приведенные факты, а просто потому, что они подтверждали их собственные догадки: все вокруг врут и воруют. “Никто никого не «программировал». Я шептал на ухо то, что хотели слышать люди”, – говорил Доренко[366]. Березовский обихаживал Доренко именно потому, что разглядел в нем огромный телевизионный талант, не обремененный нравственными принципами.
Вернувшись в августе 1999 года в Россию после непродолжительного добровольного изгнания, к которому его вынудил Примаков, Березовский снова угодил в больницу – на этот раз с гепатитом. Он вызвал Доренко, и тот пришел к нему с пакетом мандаринов. По воспоминаниям Доренко, Березовский занимал палату из двух комнат в инфекционном отделении. В коридоре сидел Михаил Леонтьев. В первой комнате, “зале приемов”, обнаружился Игорь Шабдурасулов, генеральный директор ОРТ. “Сам Березовский лежал в «генеральской» палате, обвешанный капельницами и кричал страшным голосом. Он нецензурно кричал: мы всех ****** [победим], мы всех ****** [победим]. Что я ему говорю? Боря, у тебя капельница кончилась? Или капельницу не ту по ошибке поставили?”[367].
Именно там, в больнице, Березовский впервые поделился с ним планом создать кремлевскую партию “Единство”, которая должна обеспечить Путину лояльных сторонников на парламентских выборах в декабре. “Партийной эмблемой будет медведь – сможешь нарисовать медведя?” – спросил он у Доренко. Через несколько дней Шабдурасулова откомандировали в Кремль в качестве первого заместителя руководителя администрации президента – создавать партию “Единство”.
Никаких теплых чувств по отношению к собравшимся в палате Березовского Доренко не испытывал, как не испытывал он их и по отношению к Путину (которым Березовский восхищался). Однако объединиться ради уничтожения Примакова и Лужкова был готов: “Я сказал, что выжгу их, просто выжгу напалмом. Я был средоточие всей ярости”.
За несколько месяцев до этого его выгнали с работы на ОРТ именно по указанию Примакова. Кроме того, Доренко стал объектом расследования налоговиков, в чем он также винил Лужкова и Примакова. Расследование против него прекратилось ровно в тот день, когда Примакова уволили с должности премьера. Адреналин, злость и азарт вели Доренко вперед: “Я говорю: «Боря, результат будет такой: тебя повесят в первой пятерке на Красной площади. Меня повесят тоже в первой пятерке, может, в первой десятке. Мы оба будем болтаться на Красной площади повешенные». Боря говорит: «И?». Я говорю: «И поэтому мы пока закурим от души и с Богом, пошли»”[368]. В эфире Доренко старался быть ироничным и первым делом задал вопрос: нет ли противоречия в том, что Лужков танцевал с Ельциным в 1996 году между инфарктом и шунтированием и считал его здоровым, а теперь, после шунтирования, когда Ельцину действительно лучше, он говорит, что нами правит больной человек?
Новая программа Доренко начала выходить в сентябре по воскресеньям, одновременно с киселевскими “Итогами”. Пародируя Киселева, Доренко тоже стал появляться на экране в очках. Он подготовил пятнадцать выпусков программы и назвал их “пятнадцатью серебряными пулями”. При последовательном просмотре эти пятнадцать “аналитических” представлений превращались в сериал, в основе которого была документальная съемка, но поданная таким образом, что смотрелась она как художественный фильм. Там были свои злодеи, герои и – вольный сюжет, приправленный заговорами и интригами, историями убийств, сексом и всяческими щекотливыми эпизодами. Как и положено сериалам, программа Доренко выходила в одно и то же время каждую неделю и радовала привычным сочетанием повторяющихся ситуаций, знакомыми лицами главных персонажей и новыми поворотами сюжета. Как писал в то время социолог Борис Дубин, повторение создавало успокоительное ощущение порядка, а новые повороты сюжета развлекали, не давая заскучать.
Заставка передачи соответствовала ее стилю и цели: под металлический скрежет и грохот на экране крутились шестеренки. Действительно, телевизионная машина Доренко с хрустом перемалывала в фарш главных героев представления – Лужкова и Примакова. Примитивный механизм работал крайне эффективно. Темы и даже отдельные формулировки Доренко подбрасывали участники предвыборной кампании Путина, но вдохновенное исполнение было исключительно авторским. Примакова следовало изображать старым, слабым и советским; Лужкова полагалось представлять олигархом с окровавленными руками и связями с северокавказской мафией. Доренко выставлял Лужкова как карикатуру, комическую инверсию крестного отца, дона Корлеоне: лысый коренастый толстяк, попавший под каблук своей жены Елены Батуриной, самой богатой российской “олигархини”.
В одном из выпусков Доренко недвусмысленно намекал на то, что семья Лужкова получает деньги от швейцарской фирмы Mabetex, замешанной в скандальной истории с ремонтом Кремля. Он крупным планом показывал банковские платежные квитанции, которые подтверждали переводы из швейцарского филиала некоего немецкого банка сотен миллионов долларов на многочисленные офшорные счета, открытые на имя человека по имени Андрей Батурин. В действительности этот человек не был родственником жены Лужкова и никакого отношения к Лужкову не имел, а сам Доренко его и в глаза никогда не видел. Но для Доренко все это было совершенно неважно. Лужков, который тоже не был образцом кристальной честности, был вынужден публично оправдываться, защищая себя и жену, но чем больше он говорил, тем глубже увязал в болоте. Лужков отчаянно пытался защищаться: “У моей жены есть брат, которого зовут Виктор, а не Андрей, и он является единственным партнером с моей женой”. Доренко подхватывал его слова, высмеивал и переводил в полный абсурд. “Мы не утверждали, что Андрей Батурин – единственный партнер с его женой в ущерб вышеупомянутому Виктору. Это подмена тезисов. Вообще, будь Лужков хоть сколько-нибудь мужчиной, не следовало бы ему вмешивать в такие дела свою жену. Это, Юрий Михайлович, не по-нашему, не по-сицилийски. Мы с вами, как два дона, дон Серджио и дон Джорджио, мы не должны трогать тему вашей жены. Как видите, я все еще пытаюсь защитить вашу честь, то, что от нее осталось. Дон Джорджио, не надо через слово упоминать свою жену”.
Лужков нарочно всех путает, мы с ним так договаривались. Он говорит про членов семьи его жены. Вы только что слышали его фразу: “Никакого отношения Андрей Батурин не имеет к связям с членами семьи моей жены”. Что значит эта фраза? Значит, что существуют некие связи с членами семьи лужковской жены, но к ним не имеет отношения Батурин. К связям не имеет. А к членам семьи его жены имеет или нет? До конца не понятно. А член семьи лужковской жены это кто? А это сам Лужков и есть, он себя так иносказательно называет. Ведь у лужковской жены семья с ним, верно? Я так понимаю. У лужковской жены только с Лужковым семья, верно? Раз женщина взрослая и замужем, то ее семья это которая у нее с мужем, правильно? Правильно. Значит, Лужков и есть член семьи своей жены. Экий путаник у нас, этот член батуринской семьи. Раз Лужкову так нравится, мы тоже станем звать его член семьи его жены. Хотя нет, я придумал сокращение: его жену звать Леной, стало быть, он член Лениной семьи, правильно? То есть Ленин муж. Чей муж? Ленин. То есть можно говорить Юрий Михайлович Ленин. А в официальных церемониях можно полностью, с титулом: член семьи своей жены Юрий Михайлович Ленин[369].
В другой программе Доренко обвинял Лужкова в убийстве американского бизнесмена Пола Тейтума, которого застрелили тремя годами раньше в ходе разборок из-за гостиницы “Рэдиссон-Славянская” в центре Москвы. Как сенсацию он сообщал новость о том, что семья Пола Тейтума подала в американский суд гражданский иск к мэру Москвы, но тот в суд не явился. “До сих пор расследованием убийства Пола Тейтума занималась московская прокуратура”[370], – напоминал Доренко. На экране появлялись адвокаты семьи Тэйтума, и их подозрения преподносились чуть ли не как вердикт верховного суда, заключившего, что Лужков причастен к убийству Пола Тейтума и виновен в присвоении его собственности в России.
Однако главная цель телешоу Доренко заключалась в том, чтобы постоянно глумиться над Лужковым и выставлять его на посмешище. “Предчувствую: за Лужковым станут охотиться правоохранительные органы. Его объявят в розыск в Интерпол… Ему поможет наша программа. Позвольте сделать официальное заявление, – с невозмутимым выражением лица вещал Доренко. – Я лично бегу из страны вместе с Лужковым. Мы попробуем перейти границу Аргентины с Парагваем инкогнито. Мне можно не менять внешность – все равно меня никто не знает. А вот члена семьи его жены придется камуфлировать. Я придумал: мы переоденем Лужкова мужчиной. Вот варианты внешности, которые мы хотели бы предложить Лужкову…”[371]. Далее Доренко показывал портрет Лужкова с бородой Фиделя Кастро или в берете Че Гевары. Но, поскольку “как ни крути, а из этого круглого лица мужчина в латиноамериканском вкусе не получается”, то Доренко предложил взять “волосы от Моники Левински – вдруг придется скрываться в Америке?”. Это было не что иное, как политическое убийство.
Рассказы Доренко о Примакове завораживали не меньше. В одной из самых запоминающихся программ он вначале обвинил Примакова в причастности к покушению на президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе, а затем без всякой связи с первым сюжетом показал кровавую хирургическую операцию, которую делали кому-то в московской больнице. Такого рода операцию, пояснил Доренко, Примакову сделали в Швейцарии. На самом деле Примаков нуждался в стандартной замене тазобедренного сустава, но Доренко сделал из этого длинный и обстоятельный репортаж из операционной. И пускай на экране телевизора показывали совсем не примаковскую, а чужую ногу, – это не имело никакого значения.
В качестве затравки Доренко рассказал телезрителям, которые в среднем зарабатывали 200 долларов в месяц и в большинстве своем могли рассчитывать на обветшалые советские больницы, что лечение Примакова в элитной клинике Берна обошлось, вероятно, в 45 тысяч долларов. “Если вы будете здесь делать операцию так же, как и Примаков, то касса примет у вас эти несколько десятков тысяч долларов в любом виде и в любой конвертируемой валюте. Источником и происхождением денег обычно не интересуются…”. Но кульминацией программы Доренко было кровавое описание подробностей самой операции и рассказы о сопряженных с ней рисках. “Сначала человеку удаляют головку бедренной кости, – объяснял голос за кадром. – Как видите, она очень непрочная и легко разрушается… А вот на место удаленного больного сустава ставят протез. Одна часть протеза вживляется в тазовые кости и крепится к ним шурупами. Затем, как вы видите, врачи расширяют полость внутри бедренной кости. Сюда вживляется вторая часть протеза, а затем его положение скрепляется цементным раствором”.
Камера показывала окровавленную ногу и хирургов, которые сверлили кость дрелью и стучали по ней молотком, одновременно судача между собой о результатах последнего футбольного матча. Бам, бам, бам! “На человека с улицы операционная производит мрачноватое впечатление, – продолжал журналист. – Но на самом деле и дрели, и молотки – это инструменты, совершенно необходимые для этой операции”. И, как бы добивая, Доренко объявлял, что если у Примакова вышел из строя один из тазобедренных суставов, то это значит, что и второй в скором времени тоже будет нуждаться в замене. Впрочем, со второй операцией придется немного подождать – до президентских выборов. “Став президентом, он сможет уже самым непринужденным образом лечиться в течение ближайших четырех лет”. Программа Доренко не оставляла ни малейших сомнений: Примаков – такой же больной и непригодный к президентской должности старикан, как и Ельцин. “Вспомните, совершенно больной Ельцин после инфаркта маскировал свое нездоровье. Насколько мог. Очевидно, что это следует ожидать и от Примакова”[372], – весело заключал Доренко. Если учесть, что рейтинг Ельцина ухудшался вместе с состоянием его здоровья, то подобная аналогия наносила больше вреда политической форме Примакова, чем любая хирургическая операция.
Примакова до того взбесила эта демагогия, что он решил немедленно позвонить и пожаловаться Киселеву, сопернику Доренко. Киселев как раз был в эфире со своей передачей “Итоги”, и звонок Примакова застал его прямо в телестудии. “Я очень удовлетворен тем, Евгений Алексеевич, что вы еще в эфире. Поэтому я имею возможность как-то отреагировать на программу, которую только что смотрел”, – объявил Примаков. “Вы имеете в виду нашу программу?” – решил уточнить Киселев, польщенный таким звонком.
“Я имею в виду программу широко известного своей «правдивостью, доброжелательностью и бескорыстием» Доренко”, – ответил Примаков. Киселева явно задела такая бестактность, но Примаков продолжал: “Он сказал, что я тяжело болен и мне предстоит серьезная операция. Должен успокоить всех своих многочисленных друзей: это абсолютно не соответствует действительности… И еще эпизод с Шеварднадзе… Вы не смотрели?”. “Нет, я, к сожалению, не могу комментировать, поскольку был в эфире и не видел программу”, – отвечал Киселев, все еще оставаясь в эфире. “И не надо”, – вздохнул Примаков. То, что начал Доренко, завершил сам Примаков: этот звонок выставил его смешным и слабым.
Лучшей рекламы программе Доренко было не придумать. И если кто-то смотрел в тот момент “Итоги” Киселева с его витиеватой манерой речи и рассудительной интонацией, то после звонка Примакова было самое время переключаться на цирковое представление Доренко. Соотношение сил между Киселевым и Доренко было примерно то же, что между средневековым мечом и пулеметом.
В других сюжетах, которые не касались напрямую Примакова и Лужкова, Доренко превозносил Путина, брал у него интервью для каждой второй программы и изображал единственным достойным кандидатом на пост президента. После пятнадцати передач рейтинг Примакова упал с 32 % до 8 %, Лужкова – с 16 % до 2 %. Зато рейтинг Путина вырос с 2 % до 36 %.
Березовский нахваливал Путина за то, что он обеспечит преемственность власти, которая позволит ему, Березовскому, “самореализовываться в России”. Он рассказывал, что в Путине его привлекает обещание не пересматривать результаты приватизации. “Потому что очень многие недовольны тем, как произошел передел собственности. Более того, нет вообще довольных этим переделом. Даже миллиардеры недовольны, потому что они считают, что у соседа-миллиардера больше, чем у него. И тем не менее Путин совершенно правильно понимает, что любой передел – это реально кровь”. Он проводил параллели между выдвижением Путина и выборами 1996 года, когда олигархи на время забыли междоусобные распри и сплотились вокруг Ельцина. “Сегодня… есть ясное понимание, что Путин – это и есть тот человек, который и должен быть поддержан обществом, в том числе и олигархами”[373].
Заклятый враг Березовского Чубайс вдруг согласился с ним, выступая в “Итогах” на НТВ, и заявил, что есть только один кандидат: Путин Владимир Владимирович. Это впечатление усиливалось в том числе и благодаря СМИ: Павловский внедрил в медиа понятие “путинское большинство”, хотя истинный рейтинг Путина не превышал 50 %. Очевидно было одно: Путин, не имевший ни политической программы, ни четкой идеологии, ни партии, тем не менее отвечал на общественный запрос и отражал чувство неудовлетворенности, которое накопилось к тому времени в России. Киселев в “Итогах” вообще перестал показывать рейтинги Путина. Социолог Ослон вспоминал, как Киселев сказал ему: “Я не понимаю этих цифр. А того, чего я не понимаю, не может быть”[374]. Впрочем, Киселев был не единственным, кого рейтинг Путина ставил в тупик. Неужели можно всерьез воспринимать как преемника Ельцина этого ничем не примечательного, лишенного харизмы человека с незапоминающимися чертами лица и блеклым голосом?
Однако именно разительный контраст с Ельциным и делал Путина привлекательным в глазах россиян. Народная поддержка Ельцина, которую удалось реанимировать в 1996 году, в том числе через угрозу победы коммунистов, начала угасать почти сразу же, как только эта угроза была устранена, а состояние Ельцина ухудшилось. После кризиса 1998 года поддержки не стало вовсе. Почти половина населения страны ощущала, что годы пребывания Ельцина у власти принесли стране только экономический кризис, инфляцию и крах Советского Союза. Лишь четверть россиян была благодарна Ельцину за предоставленные свободы и демократию. Остальные хотели, чтобы он ушел.
Фокус заключался в том, чтобы ловко превратить отрицательный рейтинг Ельцина в положительный рейтинг Путина. Для этого Путина нужно было представлять одновременно и оппонентом, и помазанником Ельцина. Как объяснял Павловский, концепция состояла в том, чтобы вначале мобилизовать ельцинский электорат, а затем – антиельцинский, расколотый между разными партиями. У Путина было идеальное положение: он уже находился у власти, что всегда импонирует российским избирателям, и в то же время выглядел полной противоположностью Ельцину. Ельцин был стар, болен и все больше терял связь с реальностью. Путин был молод, сообразителен и энергичен. Ельцин был рослым и крупным мужчиной с распухшим лицом и седыми волосами. Путин был невысоким, худощавым и с редкими волосами. Путин летал на военных самолетах, позировал на военных кораблях, занимался дзюдо. Говорил он четко, спокойно и решительно. После эмоционального, импульсивного и пьющего Ельцина, который был воплощением национального русского характера, Путин казался каким-то почти нерусским. Он был скрытен, сдержан, трезв, неэмоционален и довольно педантичен. В процессе социологических опросов люди на фокус-группах отмечали в нем немецкие черты характера. Это был идеальный Штирлиц. “Я был в восторге, собственно говоря, я влюбился в него во второй половине сентября”, – вспоминал Павловский[375].
Путин появился как бы ниоткуда, он не имел никакого политического багажа, не ассоциировался ни с перестройкой, ни с коммунистами – все это работало на него. Даже в апреле 2000 года, когда его уже избрали президентом, две трети опрошенных россиян говорили, что мало что знают о Путине, хотя его чуть ли не круглосуточно показывали по телевизору. Ему можно было бы приписать любые качества. Путин был человеком без лица, идеальным шпионом.
Тесная связь между Путиным и семьей Ельцина была единственным слабым звеном, которое могли использовать противники конструкции, выстроенной в Кремле, говорил Павловский. Самым эффективным способом избавить Путина от этой связи была бы досрочная отставка Ельцина. Этот ход стал бы решающим во всем плане по передаче “престола” Путину, и Ельцин согласился его сделать. Правда, он решил подождать до декабрьских парламентских выборов, чтобы убедиться в том, что пропутинская партия “Единство” благополучно прошла в Думу. Сама эта партия была абсолютно искусственным образованием. У нее не было никакой другой политической программы, кроме поддержки Путина. Задача кремлевских технологов состояла в том, чтобы распространить растущую как на дрожжах поддержку Путина на партию “Единство” с тем, чтобы установить контроль над Думой.
Судьба партии была решена в тот момент, когда Путин якобы случайно появился рядом с лидером партии Сергеем Шойгу. Эти кадры, занявшие на телеэкране всего несколько секунд, по словам Павловского, были тщательно срежиссированы медиаменеджерами, как и якобы импровизированный ответ Путина на вопрос, за кого он собирается голосовать на думских выборах. Путин ответил, что как государственный чиновник, не принадлежащий ни к одной партии, он никого не поддерживает, но как частное лицо собирается голосовать за “Единство”.
В “Итогах” Киселев возмущенно заявил, что как частное лицо Путин должен рассуждать где-нибудь “в бане или на кухне”, а не на телевидении. Однако путинская поддержка вписывалась в логику типичной телеигры и оказывалась ценнее любой политической программы или официального заявления. “Это образ, это некое грамматическое обстоятельство. Если его развернуть, смысл уже такой с точки зрения избирателя: Путин подходит все ближе к Кремлю, войска подходят к Грозному. Это все идет одновременно. Возникает надежда. А ведь у избирателя это позитивная надежда, что, наконец, он избавится от Ельцина. И тут, оказывается, этому угрожают, что есть проблема, что герой может не оказаться во власти, оказаться слабым не по своей вине, а потому что, как говорится, ему бейсбольную биту не дадут. Надо дать герою бейсбольную биту. Дума – это бейсбольная бита”, – пояснял Павловский[376].
Зрители, привыкшие к подобному формату – когда их просят нажать на кнопку или набрать телефонный номер, чтобы поддержать того или иного игрока, – действительно не подвели. На декабрьских всеобщих выборах партия “Единство”, созданная всего несколькими месяцами ранее, набрала почти 24 % голосов. Социолог Юрий Левада писал: “Если в советские времена единственная партия в стране объявляла себя государственной силой, то сегодня государственная власть объявляет себя единственно «правильной» партией”[377]. Лужковско-примаковский блок “Отечество – Вся Россия” оказался на третьем месте, набрав всего 13 %. Через год ОВР сольется с путинским “Единством” и вместе они образуют “Единую Россию”. И Примаков, и Лужков добровольно отказались от участия в президентских выборах.
И все-таки утверждать, что популярность Путина стала результатом медийных игр или что НТВ Гусинского проиграло потому, что оказалось менее эффективным, чем ОРТ Березовского, было бы так же неверно, как и отрицать это. У любой победы много родителей. Представление олигархов о том, что горстка людей способна решить, кто будет следующим президентом, действительно оправдалось. Олигархи, СМИ и политтехнологи вели свою игру: отстаивали интересы и разрабатывали новые планы, чувствуя себя хозяевами положения. Тем временем в стране происходили другие реальные события, которые совершенно не подчинялись их воле, хотя реальность тоже можно было использовать в политических интересах. Как политик Путин был, пожалуй, выдумкой СМИ, однако о событиях, превративших его в президента, этого сказать нельзя.
За день до назначения Путина и.о. премьера группа чеченских боевиков во главе с Шамилем Басаевым совершила вторжение в Дагестан в рамках масштабного плана по созданию “Кавказского эмирата”. После перестрелки между российскими войсками и чеченскими боевиками Путин с благословения Ельцина приказал ввести войска в Чечню. Таким образом, началась уже вторая за последние пять лет война. 8 сентября Путин сказал: “Россия защищается: на нас напали. И поэтому мы должны отбросить все синдромы, в том числе и синдром вины”[378].
И в ту же ночь в Москве, в спальном районе на Каширском шоссе, произошел первый из целой серии взрывов многоэтажных жилых домов, в результате которых погибло более 300 человек. Страну сковал ужас. Ответственность за эти взрывы никто на себя не взял.
Малашенко ехал в аэропорт в Испании, чтобы лететь домой в Москву, когда узнал о московском взрыве.
Когда взорвался первый дом, я не хотел верить, что это теракт. Я надеялся, что там какие-нибудь придурки, что-нибудь там складировали где-нибудь, рвануло это все. Когда взорвался второй дом, уже сомнений не было никаких. И я прекрасно помню это психологическое состояние… Это как если вы стоите где-то под горой, и вдруг вы видите, что пошла лавина, и вы понимаете, что вы ничего уже не можете сделать, даже убежать. Потому что она большая, широкая, идет со скоростью курьерского поезда. Я просто понимал, что это конец, все. Мало того, что все изменилось, что не будет больше просто [нормального] телевидения, ничего этого не будет[379].
Он понял, что за взрывами последует война, которая укрепит ФСБ и позволит Путину развернуть страну в сторону мобилизации. В 1994 году этому еще могло помешать НТВ, но на сей раз общественное мнение было на стороне силовиков.
Предчувствия Малашенко полностью подтвердились. Взрывы многоэтажек стали поворотной точкой в отношении страны к Путину и к войне в Чечне. Они изменили сознание людей и направление развития страны так же сильно, как через два года потрясет и изменит весь мир взрыв башен-близнецов в Нью-Йорке. Раньше Чечня представлялась какой-то черной дырой, территорией беззакония, где бородатые исламские террористы похищают и убивают людей. За четыре дня до взрыва в Москве похожий теракт произошел в жилом районе небольшого города Буйнакска в Дагестане; тогда погибло 64 человека, в том числе 23 ребенка. Но даже эта трагедия произошла “где-то там”, по ту сторону телеэкрана.
9 сентября после полуночи этот “телеэкран” разлетелся вдребезги. Миллионы людей в тот миг испытали общее чувство страха и опасности, которые вошли в их жизнь. Это происходило уже не в телевизоре, а здесь, сейчас и с ними. Люди вышли из домов и начали собираться в дружины, чтобы дежурить по ночам возле своих подъездов и следить за всем, что вызывает подозрение. Почти сразу начали возникать различные теории заговора.
Этому способствовал инцидент в Рязани, где жители заметили, как кто-то переносит непонятные мешки в подвал их дома, и вызвали милицию. Та сначала подтвердила наличие в мешках взрывчатки. Министр внутренних дел доложил Думе о предотвращении теракта. Однако спустя полчаса глава ФСБ объявил, что на самом деле там проводились учения по гражданской обороне и белое кристаллическое вещество в мешках – на самом деле не гексоген, а сахар. Сбивчивые и противоречивые объяснения только усилили подозрение: то ли сама ФСБ стояла и за этим провалившимся терактом, и за предыдущими взрывами, то ли террористам помогал Березовский, который таким образом пытался повысить рейтинг Путина. Обоснованными были эти подозрения или нет, но отчаянный поиск заговоров свидетельствовал об одном: люди были готовы поверить, что все происходящее в стране спланировано кем-то, кто прячется за кулисами. На НТВ – к явному раздражению Кремля – устроили публичное обсуждение инцидента в Рязани. Но кто бы ни стоял за терактами, жертвы были реальные.
Путин находился в Новой Зеландии, когда произошел первый взрыв, от которого обрушилась часть многоэтажного дома. Через несколько дней, вернувшись в Москву, он появился на телевидении, чтобы сделать заявление. Вид у него был потрясенный. По словам Александра Ослона, который каждую неделю отслеживал рейтинг Путина, именно тогда люди впервые по-настоящему “увидели и распознали Путина”. Выйдя почтить память погибших, он выразил словами то, что ощущали все: “Трудно назвать этих людей людьми. Их даже зверями назвать нельзя. Если это звери, то бешеные”. Эти взрывы, сказал он, представляют угрозу для существования Российского государства. “Ответ должен быть соответствующим, он должен быть сверхжестким”.
Дело даже не в том, что именно сказал или сделал Путин: сам его вид и интонации позволили людям отождествить себя с ним. Его обращение было созвучно тому, что чувствовала вся страна, и, по словам Ослона, вызвало эффект “короткого замыкания”. Внезапно Путин, безликий, достаточно случайный человек, стал героем, о существовании которого люди до этого момента даже не подозревали. Они начали смотреть на Путина как на единственную надежду, как на человека, который защитит их во что бы то ни стало. Он был готов взять на себя ответственность за то, с чем остальные не могли и не хотели разбираться. Через пару недель он произнес знаменитые слова, которые запомнят на много лет: “Мы будем преследовать террористов везде. В аэропорту – в аэропорту значит. Вы уж меня извините, в туалете поймаем – мы и в сортире их замочим, в конце концов. Всё, вопрос закрыт окончательно”.
Путин отличался от других политиков. Он вел себя и выражался не как политик, а как знакомый практически всем россиянам “отмороженный” парень – Данила Багров из фильма Алексея Балабанова “Брат”. Совпадение стилистики путинской речи с речью Данилы не было случайным.
“Брат” вышел на экраны в 1997-м, в том же году, когда в Чечне похитили журналистку НТВ Елену Масюк. Фильм имел бешеный успех главным образом потому, что он уловил наметившуюся перемену в отношении к Чечне и первые, почти неосознанные признаки националистического ресентимента. Когда весной 1999 года консультирующие Путина политтехнологи решили изучить отношение российского общества к различным вымышленным персонажам, то одним из первых в списке народных любимцев, наряду со Штирлицем, оказался Данила из “Брата”. Слова Данилы, обращенные в начале фильма к двум обнаглевшим кавказцам, которые отказываются платить за проезд, а потом при виде наведенного на них пистолета молят Данилу “Брат, не убивай, брат”, вызывали у зрителя восторг и чувство защищенности: “Не брат ты мне, гнида черножопая”. Короче говоря, молодой, искренний, обаятельный русский парень, который после двух лет службы в Чечне возвращается в бандитский Петербург, чтобы навести там порядок и восстановить справедливость – как он их понимает.
Как и Данила, Путин явился из ниоткуда в этот уродливый и жестокий мир, чтобы взять под свою защиту “братьев”.
Совсем как герой “Брата”, Путин фактически выдал разрешение на применение внесудебной силы. Как и Данила, он выглядел сильным и положительным персонажем, не обремененным ни политкорректностью, ни прочими западными условностями.
И в том и в другом чувствовались простота, жесткость и преодоление безнадежности. Как пояснял Павловский, эффект слов Путина “мочить в сортире” заключался не в использовании блатной лексики и не в обещании бороться с террористами жесткими средствами, а в том, что “Чечня – это бумажный тигр, что хватит бояться. Что мы их боимся? Кого мы боимся?” До взрыва домов и выступления Путина большинство выступало за мир в Чечне. “Совершенно нигде, ниоткуда нельзя было предположить, что люди поддержат войну”, – вспоминал Павловский[380]. Именно выступление Путина и то, как его восприняли, обозначило резкий поворот к войне.
Доренко в своих программах продвигал образ Путина как “брата”, “брательника”, противопоставляя его Примакову. “Я очень простую вещь нашептывал. Люди, смотрите, какая история. У нас есть хороший батя, но больной, Примаков, больной. Хороший, так вроде понимает нас. Он понимает нас, и за нас, и самолет развернул. Нормальный батя. Но батя болеет. Батю резали только что в Швейцарии. Этот клоун Лужков заставляет батю танцевать. За что? Оставьте его в покое. Есть брат, и он за нас заступится, брат. Батю любим, но брательник впряжется, потому как брат – солдат. Путин – брат-солдат. Брательник – крепкий у нас чувачок, солдат крепкий. Вот что. Он служилый, он такой”[381].
Доренко, регулярно ездивший в Чечню вместе с российской армией, брал интервью у Путина каждые две недели. “Я постоянно до интервью говорил ему: Владимирович, пожалуйста, еще, еще, армия просит. Я был глашатаем армии. Еще, еще, пожалуйста, сильнее, сильнее, сжигать, уничтожать, разбивать, бомбить и так далее. Я стране говорил простую вещь: мы должны это уничтожать. По возможности залить напалмом и сжечь. Нам надо было нажать кнопку, чтобы устранить эту проблему”[382].
Телевизионную кнопку в собственных руках Доренко использовал с той же целью. Он в числе первых репортеров приехал в Грозный, когда туда наконец вошла российская армия, предварительно сровняв город с землей. Весь в черном, он вел репортаж с центральной площади чеченской столицы, пока за его спиной разъезжали российские бронетранспортеры. Он склонялся над военными картами, глядя, как командующий российскими войсками объясняет диспозицию своей армии, и показывал минные поля, где встретили смерть сотни чеченских солдат. Он брал интервью у российских военных, которые говорили, что чеченским боевикам нельзя позволять возвращаться в свои города. Тех, кто прекратил войну в 1996 году, они называли предателями. Путин, который позволил им довершить начатое, для них явно был героем.
В “Итогах” Евгений Киселев пытался говорить о чрезмерном применении силы и о нарушении прав человека в Чечне, о критике со стороны Запада (как будто мнение Запада еще имело какое-то значение). Его слова тонули в общем гуле голосов, поддерживавших войну. Освещение второй Чеченской кардинально отличалось от освещения первой еще и потому, что журналистов не допускали в “зону проведения контртеррористической операции”, как называли войну в Кремле, без специального разрешения российских спецслужб. Во время первой военной кампании многие репортажи велись с чеченской стороны, а на этот раз съемка в Чечне осуществлялась исключительно со стороны российской армии. Если раньше даже рядовые, у которых брали интервью на камеру, рассказывали о бессмысленном насилии, которое они сами же творили, то на второй войне солдаты говорили уже о “русском единстве” и солидарности с властью.
Меньшинство, состоявшее из старых советских интеллигентов и правозащитников, выступало против войны. Григорий Явлинский, лидер либеральной партии “Яблоко”, призывал к переговорам с президентом Чечни Масхадовым. Но большинство тех, кого все еще называли молодыми либеральными реформаторами, встали на сторону Путина. В ответ на предложения Явлинского о мирном урегулировании Чубайс заявил: “В Чечне происходит возрождение российской армии, утверждается вера в армию, и политик, который так не считает… предатель”[383].
Гусинский и Малашенко, которые были против войны в Чечне, почти перестали контролировать собственный телеканал. Малашенко вспоминает, как осенью 1999 года в выпуске новостей на НТВ во всех деталях показали видеозапись, где чеченские боевики отрезают голову российскому заложнику. Сюжет был знаковый и имел мощное эмоциональное воздействие. “Единственное желание, которое возникало после просмотра – это убить чеченца. Понятно, что, когда есть такой материал, его нельзя не показать, но надо что-то с этим делать. Нельзя просто показать вот как призыв «Убей его», каким он явно выглядел… Я снимаю трубку и говорю: «Олег, послушай, но ты понимаешь значение этого материала. Во-первых, у нас принято такие вещи обсуждать, вообще, откуда этот материал взялся, что это за пленка?». Он говорит: «Ну, меня попросил это поставить Рушайло»”. Владимир Рушайло был министром внутренних дел и одним из руководителей боевых действий в Чечне и Дагестане. “Стало ясно, что мы имеем дело просто с пропагандой”, – вспоминал Малашенко[384]. Добродеев, чутко улавливающий желания властей, не только не отскочил в сторону от надвигающейся лавины – он решил оседлать ее.
Вскоре после начала войны Добродеев дал интервью газете “Красная звезда”, вышедшее под заголовком “Армия – это наши братья и сыновья”, в котором обозначал свою позицию: “Когда генералы Министерства обороны дают тебе информацию в режиме реального времени, не приходится просить о чем-то еще”. Армия и СМИ, утверждал он, делают одно дело, и всякий, кто пытается создать впечатление, будто нас разделяет стена, заблуждается. “Понятно, что Россия рано или поздно вступит в новую стадию развития. Мы уже не можем жить так, как раньше”, – говорил он[385]. Через несколько месяцев Добродеев покинул компанию НТВ, которую когда-то помогал создавать: его назначили руководителем государственного телеканала. Из этого-то высокого и удобного кресла Добродеев и наблюдал потом за тем, как Путин уничтожает НТВ и изгоняет его основателей.
Глава 7 Пульт дистанционного управления
Передача власти
Утром 31 декабря 1999 года Ельцин объявил о своей досрочной отставке с поста президента России и передаче власти Владимиру Путину.
Освещавшие политику в стране российские и иностранные журналисты уже готовились к встрече нового года, но были вынуждены срочно отменить все планы и вернуться в редакции, телестудии и корпункты, чтобы переделывать свои уже написанные, сверстанные и отснятые итоговые материалы года и десятилетия. В последние минуты уходящего 1999 года Ельцин появился на телеэкране с последним в своей жизни новогодним обращением к стране. Он объявил народу о том, что раньше положенного срока уходит с поста президента и передает бразды правления Владимиру Путину. “Россия должна войти в новое тысячелетие с новыми политиками, с новыми лицами, с новыми, умными, сильными и энергичными людьми. А мы, те, кто стоит у власти уже многие годы, мы должны уйти… Россия уже никогда не вернется в прошлое. Россия всегда теперь будет двигаться только вперед. И я не должен мешать этому естественному ходу истории”.
Это была эмоциональная и искренняя речь. Ельцин, первый народно избранный президент страны, возникшей после обвала империи, просил прощения у тех, кто поверил в то, “что мы одним рывком, одним махом сможем перепрыгнуть из серого, застойного, тоталитарного прошлого в светлое, богатое, цивилизованное будущее. Я сам в это верил. Казалось, одним рывком – и все одолеем. Одним рывком не получилось… Я ухожу. Я сделал все, что мог… Мне на смену приходит новое поколение, поколение тех, кто может сделать больше и лучше”.
За прощальной речью Ельцина практически сразу последовала приветственная речь Путина. “Сегодня на меня возложена обязанность главы государства… Ни минуты не будет вакуума власти в стране… Любые попытки выйти за рамки российских законов, за рамки Конституции России будут решительно пресекаться”.
За несколько часов до этого Ельцин в последний раз вышел из Кремля. Он передал Путину ядерный чемоданчик и ручку, которой подписал два указа – о своей отставке и о его назначении. Напоследок Ельцин сказал: “Берегите Россию… Берегите Россию”. В телевизионной картинке они стояли рядом, плечо к плечу в президентском кабинете: высокий грузный Ельцин и стройный человек небольшого роста, который собирался здесь обосноваться, как окажется впоследствии, на самый длительный срок со времен правления Сталина.
Передача власти выглядела совершенно безупречной. Впервые в истории России глава государства покидал свой пост не из-за смерти, переворота или распада государства, а в соответствии с конституцией страны. Ритуал был тщательно срежиссирован: новогоднее обращение лидера страны несло гораздо бóльшую символическую нагрузку, чем любые выборы. Стало ясно: Путин – уже президент. А выборы, которые должны были состояться через три месяца, нужны лишь для оформления свершившегося факта. Назначение Путина олицетворяло преемственность, но в то же время подчеркивало контраст между двумя лидерами. Пока вся страна смотрела выступление преемника Ельцина по телевизору, сам Путин уже был в Чечне. Праздничные программы в ту ночь перемежались кадрами, где Путин в куртке-“аляске”, окруженный людьми в военной форме, вручал награды российским солдатам. “Речь идет не просто о восстановлении чести и достоинства страны. Нет, речь идет о том, чтобы положить конец распаду России”, – говорил Путин.
В отличие от Ельцина, который воспринимал Россию как гражданскую нацию, Путин видел в ней в первую очередь государство, а в себе самом – его стража, государственника. За два дня до того, как страна официально перешла под управление Путина, он опубликовал манифест под названием “Россия на рубеже тысячелетий”, где государство провозглашалось главным фактором успеха России и консолидирующей силой. Россия не нуждается в государственной идеологии, утверждалось в манифесте. Ее идеологией, ее национальной идеей является само государство. Личные права и свободы – это, конечно, прекрасно, но они не могут гарантировать силу и безопасность. Россия, утверждал Путин, никогда не сможет повторить опыт Британии или США, “где либеральные ценности имеют глубокие исторические традиции”. Россия опирается на другие традиции. Это патриотизм, коллективизм, державность – то есть то, что “держит” страну, она же “государство”, и предохраняет ее от распада.
Крепкое государство для россиянина не аномалия, не нечто такое, с чем следует бороться, а, напротив, источник и гарант порядка, инициатор и главная движущая сила любых перемен… Общество желает восстановления направляющей и регулирующей роли государства… В России тяготение к коллективным формам жизнедеятельности всегда доминировало над индивидуализмом. Факт и то, что в российском обществе глубоко укоренены патерналистские настроения. Улучшение своего положения большинство россиян привыкло связывать не столько с собственными усилиями, инициативой, предприимчивостью, сколько с помощью и поддержкой со стороны государства и общества… Такие настроения имеют место. И потому не считаться с ними нельзя[386].
Есть соблазн проецировать наше сегодняшнее знание о России как националистическом корпоративистском государстве на первые годы правления Путина и описывать “манифест” как часть продуманного и последовательно воплощаемого плана. В действительности же мало кто обратил тогда внимание на путинский манифест. И уж тем более мало кого он встревожил.
Путинское послание на пороге нового тысячелетия, написанное политтехнологами и консультантами, включая Павловского, отражало не столько реальные замыслы Путина, сколько ожидания людей. Опрос общественного мнения, проведенный в январе 2000 года, показал, что 55 % россиян ожидали, что Путин вернет стране статус великой и уважаемой во всем мире державы, и лишь 8 % надеялись на то, что он приблизит Россию к Западу[387]. Как человек, вышедший из среды КГБ, Путин, конечно, являлся государственником, но при этом он был свободен от всякой идеологии, а это, в представлении большинства россиян, не противоречило идее капитализма. Оказалось, совсем наоборот.
В либеральной среде Путина воспринимали как авторитарного модернизатора, который восстановит функционирование государства и экономики. Журналистам, определявшим повестку, Путин казался человеком без определенных убеждений, готовым подхватывать и распространять написанные ими лозунги. Коридор возможностей был изначально довольно широк, и именно от них зависело, в какую сторону он будет сужаться. Просвещенный, обеспеченный, прозападно настроенный средний класс видел в Путине правоцентристского президента с либеральным взглядом на экономику – своего рода российского Аугусто Пиночета.
Через пять дней после официального избрания Путина его давний знакомый Петр Авен, руководитель “Альфа-банка”, крупнейшего в России частного банка, дал интервью газете The Guardian. Он упомянул Пиночета в качестве образца для подражания: “Я сторонник Пиночета не как личности, а как политика, который принес пользу своей стране. Он не был коррупционером. Он поддерживал свою команду экономистов в течение десяти лет. Для этого нужна сила. Я вижу здесь параллели. У нас сейчас похожая ситуация”[388]. Если президенту понадобится прибегнуть к авторитарным методам для осуществления дальнейших реформ, что ж, пусть так оно и будет, говорил Авен. Прошлое Путина не слишком беспокоило российских либеральных журналистов. Клеймить его за то, что раньше он работал в КГБ, означало бы подвергать его своего рода социальной дискриминации. На тех, кто все-таки выступал против Путина, ссылаясь на его чекистское прошлое, смотрели как на “демшизу”.
На думских выборах 1999 года “Союз правых сил” (СПС), избирательный блок, созданный Гайдаром, Немцовым, Чубайсом и Ириной Хакамадой, набрал солидные 8,5 % голосов. Он выступал за либеральные экономические реформы и шел на выборы под лозунгом “Путина – в Кремль, Кириенко – в Думу!”. Немцов, голосовавший против поддержки Путина, остался в меньшинстве. На вечеринке, которую устроил СПС по случаю парламентских выборов 1999 года, Путин произнес тост за “нашу общую победу”.
На следующий день он собрал в своем кабинете лидеров всех победивших фракций и присоединился к тосту лидера КПРФ Геннадия Зюганова, который предложил выпить за Сталина по случаю его 120-летнего юбилея. Путина, чей дед был поваром на сталинской даче, этот тост не покоробил. В глазах Путина Сталин символизировал не репрессии, а наивысшее воплощение государственной мощи. Путин не был ни сталинистом, ни либералом: как профессиональный разведчик он умел не выделяться из толпы и адаптироваться к меняющимся обстоятельствам. Он мог входить в роль и менять образ в зависимости от ситуации, чтобы завоевать доверие и симпатию собеседника. Его умение подыграть и изобразить нужную эмоцию создавало у людей впечатление, что он полностью разделяет их взгляды.
Путин наблюдал упадок и крах плановой экономики, служил в ГДР и, как многие в его окружении, стремился к капиталистическим благам. Он не питал иллюзий по поводу социализма и легко встроился в рыночные отношения. В начале 1990-х он служил помощником Собчака и отвечал за внешнеэкономические связи, которые обогатили немало его друзей и в том числе Геннадия Тимченко.
Ранняя экономическая программа Путина, включавшая плоскую шкалу налогообложения с низкой ставкой, была вполне либеральной. Советником Путина по экономике стал убежденный либертарианец Андрей Илларионов, а министром финансов – Алексей Кудрин, входивший в круг Чубайса и Гайдара. Путин тогда вовсе и не помышлял о демонтаже капитализма.
В первые годы путинского правления у среднего класса прибавилось и денег, и жизнерадостности. Цены на нефть пошли вверх; экономический рост России в 2000 году составил 10 %; располагаемые доходы росли еще быстрее. Общественный договор первого путинского срока был достаточно прост и привлекателен для большинства граждан: мы дадим вам безопасность, стабильность и чувство гордости, обеспечим деньгами и импортными товарами – и не станем докучать никакой идеологией. В сущности, это было воплощением мечты середины и конца 1980-х. Взамен Кремль просил только одного – чтобы люди занимались своими делами и не лезли в политику. Население такой договор вполне устраивал: после перенасыщенных политикой 90-х годов возможность заняться собственными делами и пожить в свое удовольствие выглядела крайне привлекательной. Да и возможностей заметно прибавилось. В Москве, к примеру, открылся первый магазин Ikea, и городской средний класс, как и во всем мире, занялся обустройством своего частного пространства в европейском стиле. Одновременно начали появляться недорогие кофейни, где за чашкой утреннего капучино можно было пролистать ежедневную деловую газету “Ведомости”, которую ее учредители, Financial Times, The Wall Street Journal и The Moscow Times, запустили в том же 1999 году в расчете на экономический рост. Вечером можно было сходить в современный кинотеатр в торговом центре или на отечественный мюзикл.
Гидом по новым возможностям и развлечениям стал новый глянцевый журнал “Афиша”. Изначально он задумывался как российский аналог Time Out, но, как всегда в России, перерос в нечто явно большее. Если “Коммерсантъ” когда-то программировал сословие “новых русских”, а НТВ формировало вкусы и ценности среднего класса и бизнесменов, полагавшихся на себя, то “Афиша” конструировала образ молодого, образованного, европеизированного горожанина, выросшего в среде советской интеллигенции, но отвергнувшего и само понятие “совинтеллигенции”, и проклятые вопросы, мучившие их родителей.
Как писал Илья Осколков-Ценципер, один из основателей и первых главных редакторов “Афиши”, читатели этого журнала представляли собой нечто среднее между креативным медиаклассом и молодыми городскими профессионалами – яппи. “Афиша” изображала Москву как обычную европейскую столицу – город, мало чем отличавшийся, скажем, от Берлина или Мадрида. “В некотором роде «Афиша» сама была подтверждением того, что Москва – это такой же [европейский] город, как и другие, – вспоминал Ценципер. – Все это совпало с путинской эпохой – все вокруг стали богатеть, и после раздрая, развала и кризиса возникла какая-то совсем другая история. Вдруг люди стали думать про какую-то длинную жизнь… Стали появляться у людей дети и собаки, и все это «жить быстро, умереть молодым» стало терять свою привлекательность. На руинах разваленной империи была страшная энергия, прорастала новая жизнь”[389]. Вскоре издательский дом “Афиша” начал выпускать и путеводители – для людей, которые свободно говорили по-английски и предпочитали самостоятельно путешествовать по миру. Читатели “Афиши” и “Ведомостей” и избиратели, голосовавшие за “Союз правых сил”, считали себя либералами, но при этом хотели, чтобы государство обеспечивало им свободы, высокий уровень дохода и стабильность.
Образ “стабильности” 2000-х возникал в контрасте с образом 90-х как “смутного времени”, хаоса и бандитизма. В мае 2000 года НТВ начало показ своего самого популярного сериала “Бандитский Петербург” – о вакханалии организованной преступности, ворах в законе, заказных убийствах и продажных “ментах”. Героем сериала был питерский журналист, пытавшийся расследовать преступления; правда, из-за его действий погибали все новые люди. С распадом СССР у бандитов действительно появилось множество новых возможностей, и Россия 1990-х годов стала неисчерпаемым источником вдохновения для романов и фильмов о преступном мире. Однако именно сериалы 2000-х годов формировали образ “лихих девяностых”. Путин был плотью от плоти тех самых девяностых и работал в петербургской мэрии как раз в те годы, когда разворачивались события “Бандитского Петербурга”, но он строил собственный образ на противопоставлении, выступая в роли правителя, добившегося стабильности и порядка и преодолевшего “смутные времена”.
Одним из первых символических шагов Путина в должности президента стало восстановление государственного гимна СССР. Изначально он был написан в 1938 году – на пике сталинского Большого террора – как гимн большевистской партии, а позднее переделан в гимн страны. Ельцин отменил его вместе с другой советской символикой и заменил на “Патриотическую песню” без слов Михаила Глинки. После встречи с российскими спортсменами, которые якобы пожаловались, что теперь они лишены возможности петь гимн страны, Путин предложил вернуть старую музыку, правда, с обновленным текстом. Сергей Михалков, автор двух прежних вариантов советского гимна, быстро написал новые слова. Утверждать, будто россияне мечтали о восстановлении советского гимна, было бы неправдой. Большинству было просто все равно.
Реставрация того, что однажды было упразднено по идеологическим соображениям, безусловно, имела символическое значение. Александр Яковлев увидел в этом неуважение к прошлому страны и отсутствие “христианского чувства покаяния”. “Я, пока жив, музыку эту… Ни петь, ни вставать под нее не буду. Это не мой гимн. Это гимн чужой страны не по названию даже, а другой страны по содержанию. Мы – новая страна, мы – свободная Россия, мы хотим свободными быть людьми”[390]. В действительности и Ельцин, и Путин воспринимали Россию не как новую страну, а как продолжение старой. Ельцин и его идеологи пытались найти символы российской государственности в дореволюционной эпохе, отвергая советский период как нечто идеологически чуждое. Путин сделал следующий логический шаг, вмонтировав советское прошлое в непрерывную историю величия Российского государства.
В этой системе координат демократам, требовавшим осуждения преступлений советского государства и покаяния, отводилась роль сектантов, если не предателей. “Допускаю, что мы с народом [России] ошибаемся. Но я хочу обратиться к тем, кто не согласен с этим решением [о возвращении советского гимна]. Я прошу вас не драматизировать события, не возводить непреодолимых барьеров, не жечь мостов и не раскалывать общество в очередной раз”, – сказал Путин, выступая перед Думой[391]. За формулировкой “мы с народом” маячил персоналистский авторитарный режим – и даже не один.
Старый гимн большевистской партии вновь стал гимном России почти одновременно с освящением Храма Христа Спасителя. Разрушенный большевиками собор вновь отстроили стараниями мэра Лужкова. Но миф о величии державы снимал это очевидное историческое противоречие символов. Возможно, именно поэтому решение Путина о восстановлении гимна не встретило возражений даже со стороны патриарха Алексия II. В сущности же оба действия были по смыслу актами реставрационными. Средний класс, читающий “Афишу” и более искушенный в пиаре, конечно, поморщился, но воспринял восстановление гимна как постмодернистскую игру, где ничего нельзя принимать всерьез, поскольку все есть лишь цитата, копия и имитация – будь то реконструированный собор или гимн с новым текстом и старой музыкой. Возрождение советского гимна не означало возврата в СССР. Оно возвещало эпоху реставрации, которая неминуемо следует за любой революцией, но чаще всего приводит в новую точку, отличную от заявленной цели.
Накануне нового тысячелетия и десятой годовщины крушения СССР страна вновь поднимала бокалы под звуки советского гимна. Это лишний раз доказывало, что свобода и новый постсоветский порядок не были для Путина важнейшими и безусловными элементами новой России, а служили всего лишь декоративным элементом, который можно сменить так же легко, как театральные декорации. Как проницательно писал тогда же обозреватель Кирилл Рогов, восстановление советского гимна, как и любой символический акт, повлекло за собой практические последствия, которые уже не подчинялись воле его вершителей. Символ был первичен. А смысл нашелся уже потом[392].
В отличие от Ельцина, Путин не испытывал к советскому прошлому чувства отторжения. За год до выборов он открывал памятную табличку Юрию Андропову, возглавлявшему КГБ в те годы, когда совсем молодой Путин только поступил на службу в эту организацию. В качестве генерального секретаря многие воспринимали Андропова как просвещенного и авторитарного модернизатора. Он умер всего через полтора года после того, как вступил в должность главы государства. Слишком уж недолгое пребывание Андропова у власти породило миф о том, что он, если бы не преждевременная кончина в возрасте семидесяти лет, смог бы навести порядок в Советском Союзе, возродить упадочное хозяйство и сохранить единство страны.
Поиском роковой развилки истории, после которой все в стране “пошло не так”, занимались не только либералы. Это же волновало и силовиков, увидевших в продвижении Путина на роль лидера страны шанс осуществить идеи Андропова[393].
Как и большинство людей, служивших в КГБ, Путин не испытывал особого уважения к Горбачеву. Для Путина он был не реформатором, подарившим России свободу, а неудачником, проигравшим и страну, и свой пост из-за собственной слабости. Как сказал Путин несколькими годами позже, у того, кто не жалеет о распаде Советского Союза, нет сердца, а у того, кто хочет восстановить его, нет ума. У Путина ум, несомненно, был. Он не пытался восстанавливать Советский Союз; он видел свою миссию в том, чтобы помешать дальнейшим процессам распада страны. А поскольку к подрыву советского строя при Горбачеве во многом привела либерализация СМИ, Путин не собирался наступать на те же грабли.
Волшебный телевизионный гребень
Борис Немцов вспоминал, как пришел в кабинет к Путину вскоре после избрания того президентом. Это был тот же самый кабинет, где Немцов бывал много раз, когда президентом был Ельцин. “Мы разговаривали, и вдруг посреди разговора Путин сказал, что хочет посмотреть трехчасовой выпуск новостей”. Немцов удивился. Присмотрелся к знакомому кабинету, в котором, кажется, ничего не изменилось. За исключением одной детали. У Ельцина на пустом столе всегда лежал один-единственный предмет – его ручка. Та самая ручка, которую он потом подарил Путину, когда подписал указ о своей отставке. Теперь вместо ручки на пустом столе лежал пульт для телевизора[394]. Едва ли Немцов мог тогда вообразить, что и сам падет жертвой этого “пульта дистанционного управления”, который поднимет волну агрессии и ненависти и сделает из него “врага народа”.
Телевизионный пульт станет орудием Путина, своего рода скипетром. В отличие от Ельцина, который редко обращал внимание на то, что о нем говорят и как его показывают по телевидению, и просто переключался на другой канал, когда ему что-то не нравилось, Путин был одержим телевизионной картинкой. Ходили рассказы, что он каждый день под вечер смотрел, как его изображают на разных каналах. Осознав, какую роль телевидение сыграло в его собственном приходе к власти и в разгроме Примакова и Лужкова, Путин понял, что власть олигархов заключается именно в контроле над СМИ; оставлять им эту власть он не намеревался.
В январе 2000 года НТВ показало крайне злой и точный выпуск “Кукол” по мотивам сказочной повести Э. Т. А. Гофмана “Крошка Цахес, по прозванию Циннобер”, в которой жители маленького города принимают уродливого карлика Цахеса за прекрасного юношу. Такой обман зрения происходит благодаря волшебным чарам, насланным феей, которая жалеет крошку Цахеса. Что бы ни делал Цахес, все вызывает у народа восторг и лестные отклики, и вскоре он делается министром. Под конец один из персонажей повести обнаруживает, что колдовские чары Цахеса заключены в трех красных волосках у него на голове. Когда эти волоски выдергивают, Цахес теряет магическую силу и тонет в ночном горшке с нечистотами. В “Куклах” Ельцин нянчил в колыбели карлика с лицом Путина, а Березовский исполнял роль феи, которая причесывала волосы карлика “волшебным телевизионным гребнем”, тем самым превращая его в глазах всех российских чиновников в мудрого и благообразного президента.
Эта серия “Кукол” вышла в эфир за несколько месяцев до президентских выборов – в то самое время, когда государственные каналы изображали Путина героем и суперменом, показывая его то за штурвалом истребителя, то на капитанском мостике военного корабля. Пародия била по самым больным местам, особенно с учетом небольшого роста Путина, и была им воспринята как личное оскорбление.
Через несколько недель газета “Санкт-Петербургские ведомости” опубликовала “Заявление членов инициативной группы Санкт-Петербургского университета по выдвижению и.о. Президента В. В. Путина кандидатом в Президенты России”. Заявление, подписанное ректором университета и деканом юридического факультета, где учился Путин, было выдержано в лучших традициях коллективных писем-доносов, которые обычно писались под копирку в КГБ. Программа “Куклы” вызывала у авторов “чувство глубокого возмущения и негодования и могла служить красноречивым примером злоупотребления свободой слова”[395]. Создатели программы, по их мнению, совершили уголовное преступление, пытаясь “ошельмовать с особым озлоблением и остервенением, не считаясь с его честью и достоинством” исполняющего обязанности президента. Вскоре против Гусинского и его группы “Медиа-Мост” начала расследование генеральная прокуратура. Примерно тогда же кремлевский чиновник передал руководителям НТВ список условий, при выполнении которых нападки на канал могут прекратиться. Первым в списке значилось изъятие “первого лица”, то есть Путина, из “Кукол”. Кроме того, телеканал должен был перестать говорить про “так называемую семью” и изменить информационную политику в отношении событий в Чечне, а Гусинскому следовало покинуть страну. Шендерович вспоминал:
Я уговорил Киселева рассказать в эфире об условиях, поставленных Кремлем, – и анонсировать, что в ближайшее воскресенье “Куклы” выйдут в эфир без резинового Путина.
Сюжет лежал на поверхности в готовом виде и был даже не классикой, а – основой основ: Моисей, скрижали, десять заповедей… И, собственно, Господь Бог. Как полагается – невидимый… Никакой резиновой физиономии – только облако на горе и куст в пламени, в точном соответствии с первоисточником[396].
Глава президентской администрации Волошин выступал в роли Моисея, который принес “оттуда”, с горы, десять заповедей: например, “Не убий – только если в сортире и лицо кавказской национальности”; “Не возжелай федерального имущества своего, ни газа своего, ни нефти своей”. К тому же он “велел, чтобы у вас не было других богов, кроме него: только он, и всё, как минимум на два срока” и “велел не произносить его имени напрасно”. На вопрос: “Как же нам называть его?” Волошин дает ответ: “А никак, просто по должности – Господь Бог. Сокращенно – ГБ”[397].
Как будто этого было мало, 24 марта, всего через два дня после избрания Путина президентом, на НТВ вышло ток-шоу под названием “Независимое расследование”, где подвергалась сомнению официальная версия взрывов жилых домов осенью 1999 года. В центре внимания оказалась провалившаяся попытка взрыва в Рязани. Ведущий программы расспрашивал бывших и действующих сотрудников ФСБ и жильцов того дома, где были обнаружены мешки с белым веществом, которое вначале опознали как гексоген и которое затем ФСБ объявило сахаром. Хотя программа ничего не доказывала, она, безусловно, вселяла в зрителей большие подозрения относительно того, что ФСБ скрывает правду и что, возможно, ее сотрудники не проводили никаких учений, а пытались по-настоящему взорвать многоэтажку. Путин усмотрел в этой передаче диверсию, выпад в свой адрес, припасенный специально к выборам. Сразу после программы Киселеву позвонил Михаил Лесин, министр по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. “Он мне сказал только одно: «А вот этого вам не простят»”[398].
11 мая, через четыре дня после пышной инаугурации, в офис “Медиа-Моста” ворвались вооруженные люди в масках. Работники прокуратуры и налоговой полиции ставили сотрудников компании спиной к стене, обыскивали кабинеты и сейфы и изымали документы. В телевизионных новостях в тот день Путин встречался с Тедом Тёрнером, основателем и владельцем CNN, и рассуждал о демократии и свободе слова. Через пять дней после “налета” Михаил Горбачев согласился возглавить Общественный Совет НТВ, сопроводив свое решение письмом Гусинскому: “Деятельность негосударственных средств массовой информации, свободных от бюрократического произвола, – одна из необходимых и существенных гарантий демократизма. В ближайшее время я намерен вступить в непосредственные контакты с видными представителями общественных кругов России и мира по вопросу формирования Общественного совета телекомпании НТВ. С наилучшими пожеланиями. Михаил Горбачев”.
Если зимой 1995 года, во время войны с Коржаковым, создатели НТВ чувствовали, что история на их стороне, то теперь они понимали, что история повернулась к ним спиной и они находятся в куда более уязвимом положении. “Я понял, что это конец. Раз они пустили этих людей в масках и так далее, они не остановятся уже ни перед чем, что это будет просто разгром. Вот и все. И с тех пор я боролся за плавучесть корабля, но я знал, что от государства мы не отобьемся, в силу разницы в ресурсах”, – вспоминал Малашенко[399].
13 июня 2000 года Гусинский был арестован по обвинению в мошенничестве и заключен в следственный изолятор Бутырской тюрьмы. Этот арест был явно не связан с предыдущими расследованиями. Малашенко в это время находился на отдыхе недалеко от Малаги в Испании.
“Вдруг до меня доходит: завтра начинается первый государственный визит президента Российской Федерации Путина в Испанию в город Мадрид. Вот оно. Я заказываю номер в той же гостинице Ritz, где он останавливается. Там же помещение для пресс-конференции после того, как он закончит”. Малашенко позвонил Киселеву и сообщил ему о своем плане созвать пресс-конференцию сразу же после выступления Путина, усилив таким образом резонанс от ареста Гусинского и перехватив новостную повестку. Ни Малашенко, ни Киселев не знали, что по делу Гусинского создана оперативная группа ФСБ, которая слушает все телефонные разговоры в реальном времени. Ничего не подозревая, вечером Малашенко вылетел из Малаги в Мадрид на частном самолете Гусинского. Когда самолет приземлился, у трапа его ждал взвод испанских гвардейцев, которые, по просьбе российских спецслужб, долго проверяли документы Малашенко, но, не найдя ничего противозаконного в его действиях, вынуждены были его пропустить.
По дороге из аэропорта Малашенко позвонили из гостинцы и сообщили, что его бронь и аренда зала для пресс-конференции отменена по настоянию начальника охраны президента Путина, который сказал, что если Малашенко остановится в Ritz, Путин ее покинет. Малашенко поселился в гостинице по соседству и арендовал зал для пресс-конференции прямо напротив Ritz. После пресс-конференции Путина все журналисты переместились на пресс-конференцию Малашенко. В этот момент в зале отключили свет. Малашенко предложил телевизионным операторам включить софиты камер и продолжить работу. “Кадры были очень эффектные, потому что почему-то в темноте, освещенный переносными софитами, я рассказываю про то, что в России появился политзаключенный номер один, зовут Гусинский Владимир Александрович”, – вспоминал Малашенко.
После пресс-конференции и нескольких интервью Малашенко поехал в аэропорт, чтобы лететь в Берлин, куда должен был переехать Путин. “Когда я уже еду по рулежной дорожке, все останавливается, потому что сейчас будет взлетать президент России. Мимо меня проплывает гигантский Ил-96, мы становимся ему в хвост, и оба летим в Берлин, он и я. В Берлине цирк повторяется. Причем буквально, – вспоминал Малашенко. – Мне отказывают в помещении, которое я забронировал для пресс-конференции. Мне приходится искать другое помещение и так далее”[400]. Выступление гастролирующего дуэта продолжилось: Путин рассказывал об инвестиционном климате в России, а Малашенко – о политически мотивированном преследовании частной компании.
Малашенко удалось сменить повестку. Вместо репортажей о встречах и заявлениях Путина газеты писали о конфликте, который разворачивался в реальном времени. Через день после ареста Гусинского президент США Билл Клинтон заявил, что, хоть он и не знает всех подробностей обвинения, сажать людей за то, что говорят принадлежащие им СМИ, неправильно. В то время выступление президента США еще могло произвести впечатление на российскую власть, как и мгновенно последовавшая за ним отмена визита делегации американских бизнесменов во главе с бывшим послом Робертом Страуссом.
Путин оправдывался, уверяя, что ничего не знает о деле Гусинского. “Надеюсь, у прокурора имелись законные основания для такого шага”, – говорил он и добавлял, что не может ему дозвониться. Все понимали, что это неправда; Путин понимал, что они это понимают, но такая линия поведения была профессиональной особенностью его работы. Как бывший разведчик Путин, в глазах населения, имел право пускать в ход хитрость и обманные маневры в борьбе с олигархами. НТВ же тем временем прибегло к своей старой тактике “активной брони” и подготовило специальный выпуск популярного ток-шоу, где темой разговора стал арест Гусинского. Самым неожиданным гостем программы был Доренко.
“Мы думали, что в течение этих десяти лет старая система развалилась. Мы выбросили роботов на свалку. Они лежали там. Потом они зашевелились и снова начали двигаться, как будто услышали какую-то музыку. Они встали и начали двигаться. Сегодня структуры безопасности по всей стране воспринимают приход Путина к власти как сигнал… Они слышат музыку, которую не слышим мы, они встают, как зомби, и идут. Они окружают нас. И они пойдут далеко, если будет тихо… Нам нужно колотить их по голове каждый день”, – говорил в эфире Доренко[401].
Подобное проявление солидарности со стороны Доренко, который раньше превозносил Путина, выглядело странно. Путина до того удивило появление Доренко на НТВ, что через несколько дней он пригласил его к себе побеседовать.
“Мы с вами в одной команде”, – сказал он Доренко. “Я не состою ни в чьей команде”, – ответил Доренко[402].
Но еще он сказал Путину, что, напав на Гусинского, тот подает мощный сигнал ФСБ по всей стране. Когда, по словам Доренко, Путин намекнул на то, что журналист мог бы получить неплохое вознаграждение за свои услуги, Доренко почувствовал себя оскорбленным. Он вспоминал, что, выйдя из кабинета Путина, сразу же позвонил Березовскому и стал кричать в телефон: “Что ты наделал, Боря? Что ты наделал, мать твою?”[403].
Суть противостояния между владельцами НТВ и Кремлем заключалась не только и не столько в том, как телеканал освещал те или иные события – конфликт был системным и касался взаимоотношений между властью и частными собственниками, между “баронами” и государством. Да, телеканалы, которые принадлежали олигархам или контролировались ими, не были объективны, но они не зависели от государства. Именно из-за этого Путин воспринимал их как угрозу – либо как уже проявившуюся (в случае НТВ), либо как потенциальную (в случае ОРТ). Так или иначе, но Гусинский, благодаря собственному уму и энергии, создал свой бизнес с нуля. Как предупреждал Гайдар еще в 1994 году, чиновник всегда больше склонен к коррупции, чем бизнесмен. “Бизнесмен может обогащаться честно… Чиновник может обогащаться только бесчестно. Так что бюрократический аппарат несет в себе куда больший заряд мафиозности, чем бизнес. А каркас бюрократической (в том числе карательной) системы легко может стать каркасом системы мафиозной, весь вопрос только в целях деятельности”[404].
В конфликте с НТВ и Гусинским государство, безусловно, использовало методы мафиозные. Пока Гусинский находился в Бутырке, Кремль отправил министра печати Михаила Лесина, который когда-то продавал рекламодателям эфирное время на НТВ, договариваться с Малашенко об условиях “выкупа” его босса.
Кремль готов был снять все обвинения и выпустить Гусинского, списав долги, если тот согласится продать свою империю “Газпрому” за 300 миллионов долларов США. В случае несогласия, по свидетельству Гусинского, его обещали посадить в одну камеру с заключенными, больными СПИДом и туберкулезом[405]. Гусинский согласился продать свою компанию, и через три дня после ареста его выпустили из тюрьмы, официально запретив покидать Москву до тех пор, пока он не подпишет договор о сделке.
Пока шли переговоры, Малашенко с главными редакторами СМИ, входивших в “Медиа-Мост”, должен был вылететь на восточноевропейский форум в Зальцбург. Частный самолет Гусинского уже выруливал на взлетно-посадочную полосу Внуково, когда диспетчеры приказали пилоту остановиться и открыть дверь. В самолет вошли пограничники и потребовали, чтобы Малашенко отдал им паспорт и проследовал за ними. Малашенко сказал, что из самолета выйдет только вместе со всеми главредами СМИ, и тут же, прямо в аэропорту, созвал пресс-конференцию. На фоне взлетающих самолетов Малашенко говорил об опасности прихода КГБ к власти. “Я сказал: эти ребята погубят страну. Вот была уже одна страна, которую погубили ЦК КПСС и КГБ – СССР, они погубят вторую”[406].
20 июля Гусинский подписал контракт о продаже НТВ – предварительно сообщив своим американским юристам, что действует по принуждению. Одновременно он потребовал от Лесина письменных гарантий, и тот, очевидно, не слишком считаясь с конституционными нормами, подписал так называемый тайный протокол номер шесть, в котором официально говорилось, что, в обмен на продажу компании, гарантируется “прекращение уголовного преследования гр. Гусинского Владимира Александровича… перевод его в статус свидетеля по данному делу, отмена избранной меры пресечения в виде подписки о невыезде, предоставление гр. Гусинскому Владимиру Александровичу, другим акционерам и руководителям Организаций гарантий безопасности, защиты прав и свобод”[407]. Таким образом, министр Российской Федерации своей подписью подтвердил условность конституционных прав граждан Российской Федерации.
Позднее, когда Гусинский обратился в Европейский суд по правам человека, этот протокол послужил важным свидетельством политической подоплеки его ареста. 26 июля 2000 года, через шесть дней после того, как Гусинский подписал все бумаги, прокуратура без всяких объяснений сняла с него все обвинения. В тот же день Гусинский и Малашенко сели в самолет и покинули Россию, надеясь когда-нибудь вернуться. (Малашенко вернулся спустя девять лет; Гусинский до сих пор ждет этой возможности.)
Атака на Гусинского вновь вызвала к жизни давний спор “отцов и детей”. Старая интеллигенция опознала в действиях Кремля привычные советские методы. “Общая газета”, впервые вышедшая в августе 1991 года, когда путчисты попытались закрыть все независимые газеты, и позднее воскрешенная Егором Яковлевым как реинкарнация его старых “Московских новостей”, утверждала, что Гусинский боролся не только за собственный бизнес, но и за достоинство и справедливость, попранные Кремлем. “Дети” же – те, кто стоял у истоков “Коммерсанта”, – отвечали на такие суждения “отцов” презрением и насмешками. Несколько недель спустя Александр Тимофеевский, помогавший Путину в его предвыборной кампании, говорил: “Какая диктатура, какой террор? Я не вижу ни одного реального признака террора. Химеры интеллигентского сознания вижу, а террора нет”. Тот самый Тимофеевский, который когда-то восхвалял “Коммерсантъ” за то, что он занимается моделированием реальности, теперь обвинял НТВ в ее искажении: “Гусинский… реальность не описывал, а создавал и, создавая, продавал”. Тимофеевский высмеивал “гусинскую интеллигенцию” – “эти трепещущие сердца, так любящие дальних – маленький, но гордый народ Чечни”[408]. На самом деле главная причина, по которой НТВ Гусинского выступало против войны в Чечне и в 1994-м, и в 1999 году, заключалась в логичном предположении, что государство, убивающее собственных граждан в Чечне, способно нарушать любые законы.
В день отъезда Гусинского из страны другой “либерал” и бывший главный политический колумнист “Коммерсанта” Максим Соколов написал: “Борцы с государством, с его мертвящим вмешательством, с его потугами регулировать и перераспределять (причем в случае той же свободы слова эти регулятивные наклонности еще и заведомо преувеличиваются), бесспорно правы в том, что даже и в минимальном государственном вмешательстве нет ничего особенно приятного. В чем они неправы, так это в том, что они либо не задумываются, либо сознательно умалчивают о том, какой оказывается практическая альтернатива мертвящего государственного вмешательства. По умолчанию предполагается, что этой альтернативой будет личность, сугубо самостоятельная в хозяйственном и духовном отношении”. Но, продолжал Соколов, “Медиа-Мост” цинично использовал понятие свободы слова для защиты собственного права вмешиваться, диктовать и регулировать. “Как относиться к этому – дело вкуса”, – заключал Соколов[409]. Тимофеевский и Соколов, оба так презиравшие советскую эпоху, повели себя совершенно по-советски: пнули напоследок человека, выдворенного из собственной страны по политическим причинам. Правда, на сей раз речь шла не об идеологии, а об элементарной этике или отсутствии таковой.
Вскоре после отъезда Гусинского из России корреспондент НТВ, работавший в кремлевском пуле, задал Путину вопрос о его отношениях с магнатом. “Я могу с ним сейчас поговорить, если хотите. У вас есть его номер телефона?” – игривым тоном спросил Путин. И уже через несколько секунд Путин разговаривал с Гусинским в присутствии журналистов. У “театральных” телефонных звонков, когда лидеры страны звонили опальным художникам, богатая история, начатая знаменитым звонком Сталина Михаилу Булгакову. Правда, в отличие от писателя, едва перебивавшегося с хлеба на воду в Москве, Гусинский в это время плавал на собственной яхте в Испании. Путин согласился встретиться с Гусинским, видимо, намекая на то, что тот может вернуться в Москву после летнего отдыха. Это показалось добрым знаком.
Но август – опасный месяц в России. Пока весь мир отдыхает, в России случаются катаклизмы, перевороты и войны. Тот год не стал исключением. 12 августа на российской атомной подводной лодке “Курск” с 118 членами экипажа на борту произошли два мощных взрыва. Большинство моряков погибло сразу же, но 23 члена экипажа успели запереться в заднем отсеке судна, пока оно погружалось в песок на глубине 106,5 метра ниже уровня моря.
Российские военные отреагировали традиционном образом – попытались скрыть происходящее и самоуверенно отвергли иностранную помощь. Командование флота, поначалу вообще избегавшее комментариев, предоставляло противоречивые сведения. Сообщалось, будто с экипажем пытаются связаться, стуча снаружи по корпусу субмарины; будто туда по специальным трубкам подается кислород; будто спасательной операции мешают шторм и сильное течение… но, как выяснилось позже, все это было ложью.
В день, когда произошла самая страшная в истории России авария на подводной лодке, Путин уехал отдыхать в Сочи. Он решил не прерывать отпуск и хранил молчание в течение четырех дней. Рассказы о том, что Путин катается с семьей на водном мотоцикле и “распугивает рыбу”, резко диссонировали с репортажами, где показывали обезумевшие от горя семьи моряков “Курска”. НТВ ставило под сомнение официальную версию событий и требовало ответа на вопрос: почему военные отказываются от помощи иностранных спасательных служб? “Если страна думает о жизни своих солдат и моряков, обычно это не бьет по национальной гордости”, – горько говорил корреспондент НТВ телезрителям. ОРТ проводил параллели между реакцией Кремля на трагедию с “Курском” и позорными попытками скрыть аварию на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Путин пришел в ярость.
Если ложь о Чернобыле в итоге послужила катализатором гласности в СМИ, то трагедия с “Курском” привела к противоположному результату. Тележурналистов не пускали в Видяево – военный городок в Мурманской области, где базировался экипаж подводной лодки. Даже 22 августа, когда в Видяево прибыл Путин, весь в черном, чтобы встретиться с родственниками моряков, в зал допустили лишь нескольких репортеров. Им не позволили пронести с собой никакой записывающей аппаратуры. Единственная телекамера была установлена в кинорубке актового зала за звуконепроницаемым стеклом. Звук записывался отдельно и поступал в передвижную телевизионную станцию, а затем его, возможно, редактировали специалисты из ФСБ. Полная запись, которую тайно сделал на диктофон один из корреспондентов “Коммерсанта”, свидетельствовала, что Путина гораздо больше взбесило освещение этих событий телевидением, чем попытки военных скрыть аварию. Он видел задачу СМИ не в том, чтобы информировать зрителей, а в том, чтобы, наоборот, скрывать от них самое главное.
“Телевидение? Значит, врет. Значит, врет. Значит, врет”, – кипел он от злости. Вину за плачевное состояние армии и флота он возложил на олигархов. “Там есть на телевидении люди, которые сегодня орут больше всех и которые в течение десяти лет разрушали ту самую армию и флот, на которых сегодня гибнут люди. Вот сегодня они в первых рядах защитников этой армии. Тоже с целью дискредитации и окончательного развала армии и флота! За несколько лет они денег наворовали и теперь покупают всех и вся!”[410]
После возвращения из Видяева Путин встретился с журналистами из кремлевского пула. “Я не хочу ни видеть Гусинского, ни говорить с ним. Он не уважает наши договоренности”, – сообщил Путин Алексею Венедиктову, главному редактору радиостанции “Эхо Москвы”, который выступал посредником между президентом и Гусинским[411]. В сущности, никакой договоренности и не было, но в сознании Путина его телефонный звонок Гусинскому с предложением встретиться был жестом примирения, а освещение трагедии с “Курском” на НТВ – нарушением этого негласного договора. В том же разговоре с Венедиктовым Путин обозначил разницу между врагами и предателями. Гусинский, который никогда не был на его стороне, был врагом. Березовский стал предателем.
Отношения между Путиным и Березовским начали портиться несколькими месяцами ранее, когда Березовский посоветовал своему “протеже” начать мирные переговоры с Чечней. Вдобавок к этому Березовский написал Путину открытое письмо, которое напоминало (не по смыслу, а по уровню претензий) знаменитое письмо Солженицына советским лидерам и содержало советы о том, “как обустроить Россию”. Законы, предлагаемые Путиным, утверждал Березовский, посягают на гражданское общество и свободы, которые стали главным достижением периода ельцинского правления. Одновременно с этим Березовский направил президенту приватное письмо, где называл его по имени и на “ты”. Доренко потом вспоминал: “Я ему говорил: Боря, у русских, чтобы ты понимал, есть царь-жрец. Это не Европа, где царь – вождь. Это есть русское свойство. Оно очень восточное. Но ты не можешь царю-жрецу писать: «Володя, ты». Ты дурак? Ты умный человек, что ты делаешь? Нет никакого «Володи». Ты говоришь с троном русских, с тысячелетним троном, мистическим. Раком встань и ползи, говорю. Вот как надо разговаривать с троном. По-другому нельзя. «Владимир Владимирович» – это самая высокая фамильярность. А глаза в пол”[412].
По словам Доренко, в апреле 2000 года Березовский в разговоре с Путиным изложил четыре основных пункта, исходя из которых следует управлять Россией. Во-первых, к 2004 году России понадобится настоящий президент; во-вторых, ей потребуется настоящая партийная система – как в Америке; в-третьих, одну из левых партий может возглавить Путин; в-четвертых, партию правого крыла возглавит сам Березовский.
“Когда Березовский рассказал мне все это, у меня волосы встали дыбом. Я спросил: а что Путин на это сказал? «Он сказал, что это очень интересно, и стоит попробовать», – ответил Березовский. «Борь, тебе ****** [конец], тебе пришел черный шелковый шнурок. Ты должен немедленно повеситься после этих слов»”, – сказал Доренко Березовскому[413]. Всякий, кто читал “Государя” Макиавелли, сказал бы Березовскому ровно то же самое: ведь правило номер один гласит, что нужно избавляться от людей, которые помогли тебе прийти к власти и которые числят тебя своим должником. “Я прочел Макиавелли. Но не обнаружил для себя ничего нового”, – говорил Березовский через несколько лет, уже в лондонском изгнании. Больше времени он уделял Ленину – “не как идеологу, а как тактику в политической борьбе”: “Он лучше остальных понимал, что возможно, а что нет. У него был уникальный нюх на время и события”[414]. Сам Березовский полагал, что его личные возможности безграничны, но в итоге неверно оценил и время, и события.
Отношения между Путиным и Березовским окончательно сломались после “Курска”. ОРТ не просто критиковало Путина за то, что он как ни в чем не бывало продолжал отдыхать на курорте: Доренко открыто назвал Путина лжецом и обвинил его в том, что он “безнравственно” откупается от вдов подводников. Конечно, в устах Доренко рассуждения о нравственности звучали нелепо, но, как вспоминал Доренко, он сам вырос в военных городках и действительно воспринял горе людей из Видяева близко к сердцу. В привычной напористой и бескомпромиссной манере Доренко показывал в своей передаче фрагменты из интервью Путина и снабжал их жесткими комментариями: “Президент серьезно противоречит самому себе и фактам”, – отчеканивал он. Как и Невзоров, Доренко был наемником, у которого, как у танка, “пушка могла поворачиваться в любую сторону”. Но и у профессиональных киллеров есть свой кодекс чести, и Доренко свой контракт отрабатывал до конца. Даже когда Березовский попал в опалу, он не направил свою “пушку” против него.
Программа, посвященная “Курску”, для Доренко оказалась последней. Через несколько дней его уволили. Березовскому же было сказано, что либо он продает акции “Общественного российского телевидения” (ОРТ), как тогда назывался “Первый канал”, либо отправляется по стопам Гусинского. Дэвид Хоффман в своей подробной книге об олигархах передает разговор, состоявшийся между Березовским и Путиным.
Зачитав список обвинений, которые вполне мог бы сформулировать Примаков – давний противник Березовского, – Путин объявил: “Я хочу руководить ОРТ. Я лично буду руководить ОРТ”. “Березовский был ошеломлен. «Слушай, Володь, – ответил Березовский, – это просто смешно. И во-вторых, это невыполнимо. – Сигнал ОРТ принимают на 98 процентах территории России, в 98 процентах домов россиян, – холодно ответил Путин. – Не приводи мне статистику! – ответил Березовский. – Я все это знаю. Ты понимаешь, о чем говоришь? Фактически ты хочешь контролировать все средства массовой информации в России, лично!» – Путин встал и вышел”[415]. Не желая идти по стопам Гусинского, Березовский продал акции ОРТ своему младшему партнеру Роману Абрамовичу и покинул Россию. Спустя много лет он пытался судиться с Абрамовичем в лондонских судах, но проиграл тяжбу. Вскоре после этого Березовского не стало – официальная версия утверждает, что он повесился.
В начале сентября 2000 года Путин давал интервью Ларри Кингу на CNN. На вопрос, что случилось с подводной лодкой “Курск”, Путин с легкой улыбкой ответил: “Она утонула”[416]. В том же интервью он сравнил свою прежнюю работу в КГБ с работой журналиста. “Сотрудники разведки очень близки по своим функциональным обязанностям к сотрудникам средств массовой информации. Их задача – собирать информацию, обобщать и предлагать ее… для руководителей политического органа, которые могли бы использовать эту информацию при принятии решений”. Но на этот раз он сам был главным в стране политическим органом, принимавшим решения. Контроль над потоком информации являлся необходимым условием его власти.
Между тем Гусинский принимал собственные меры. Еще до трагедии с “Курском” он провел в Испании встречу со своими младшими партнерами, в числе которых были Малашенко и Киселев. Предстояло решить, соблюдать ли обязательства по продаже акций НТВ. У всех собравшихся возникло ощущение дежавю: пять лет назад эти же люди встречались в Лондоне, чтобы решить, нужно ли уступить и продать НТВ – или же продолжать бороться. Тогда Малашенко был единственным, кто выступал за то, чтобы НТВ оказывало сопротивление. Теперь же он был в числе того меньшинства, которое высказывалось за продажу НТВ. Киселев держался противоположного мнения и предлагал НТВ продолжать борьбу. Гусинский принял сторону Киселева и заявил “Газпрому”, что он отказывается от соглашения, подписанного им под давлением. Это было объявление войны, причем боевые действия происходили прямо на экране. Каждый из противников использовал собственные профессиональные методы: Кремль пускал в ход давление и подкуп; журналисты сражались при помощи камер.
Выдавить Гусинского из страны и отобрать у него активы оказалось достаточно легко, а вот изменить суть телеканала и подчинить себе “уникальный журналистский коллектив”, как прозвали команду журналистов во главе с Евгением Киселевым, было сложнее.
В январе 2001 года нескольких журналистов НТВ, включая Татьяну Миткову, принялись регулярно вызывать в прокуратуру. На очередной допрос Миткова пришла в сопровождении коллег – с включенными камерами. Телеканал НТВ вел трансляцию в прямом эфире. Светлана Сорокина, ведущая популярного ток-шоу “Глас народа”, глядя прямо в камеру, обратилась непосредственно к Путину как к бывшему земляку-питерцу, у которого когда-то брала интервью: “Владимир Владимирович, пожалуйста, услышьте нас, найдите время, может быть, вы встретитесь с нами?.. Мы не олигархи, не входим в Совет директоров, у нас нет акций. Мы просим, найдите возможность, чтобы встретиться с нами и поговорить с нами более конкретно, не только общими выражениями о принципах демократии, о свободе слова. Мы хотели бы услышать что-то конкретное! Но если завтра мы получим все повестки в прокуратуру, то будем тоже считать, что это конкретный ответ”[417]. В тот же день Путин позвонил Сорокиной и пригласил в Кремль для беседы ее и еще десятерых журналистов, в том числе Киселева.
“Беседа” между Путиным и журналистами НТВ длилась больше трех часов. Первые пятнадцать минут Путин был дружелюбен, он как будто старался обаять своих собеседников, обещая, что все продолжат работать. После нескольких жестких вопросов тон президента изменился. “Его взгляд стал холодным и злобным. Он смотрел на нас как на врагов”, – вспоминал Киселев[418]. Путин оказался очень хорошо подготовлен и периодически цитировал документы, предоставленные прокуратурой. Послушав Путина в течение первых тридцати минут общего обсуждения, Сорокина передала коллегам короткую записку: “Все бесполезно”. Путин явно не верил, что журналисты НТВ говорят от своего имени. Как чекист, он верил в заговоры, а не в свободную волю людей. Глядя прямо в глаза Киселеву, Путин сказал: “Мне все известно о телефонных разговорах, которые вы часами ведете с Гусинским”, – ясно давая понять Киселеву, что его телефон прослушивается. “Ну и что, мы с ним партнеры с 1993 года!” – возразил Киселев. “Мне известны все инструкции, которые вы получаете от Гусинского”, – холодно сказал Путин[419].
4 апреля “Газпром” совершил корпоративный захват НТВ, сместив Киселева с должности генерального директора канала и заменив все руководство. В разгроме НТВ Кремль опирался на тех, кто пострадал от него в прошлом. Альфред Кох, бывший член команды Чубайса, которую в 1997 году дискредитировали при помощи НТВ, был назначен генеральным директором холдинга “Газпром-Медиа”, которому и должно было отойти НТВ. Гендиректором НТВ вместо Киселева был назначен Борис Йордан, американский банкир русского происхождения, который помог Потанину привлечь деньги на покупку “Связьинвеста” на аукционе.
На подконтрольных государственных телеканалах Кремль представлял атаку на НТВ исключительно как “спор хозяйствующих субъектов”. На самом НТВ происходящее изображалось как борьба за свободу слова и демократию. Ни то, ни другое не было правдой – во всяком случае, полной правдой.
Гусинский находился в крайне уязвимом положении. Его долг “Газпрому” в виде двух займов, которые он получил для финансирования спутникового телевизионного проекта НТВ Плюс, составлял почти 500 миллионов долларов. Теоретически эти займы можно было конвертировать в акции “Медиа-Моста” и передать их “Газпрому”. Кремль, однако, велел главе “Газпрома” Рему Вяхиреву ни в чем не идти навстречу Гусинскому. Вяхирев, на которого в Кремле имелось достаточно компромата, был вынужден подчиниться. Положение Гусинского усугублялось еще и тем, что общественная поддержка была сильно ослаблена войнами за “Связьинвест”, политическими разборками и кризисом 1998 года.
Тот кредит доверия, который НТВ получило в 1993 году, когда только начало выходить в эфир, оказался исчерпан почти полностью.
Мало кто в России, включая даже защитников НТВ, был готов воспринимать его как борца за гражданские права и свободу слова. Журналисты телеканала пытались проводить параллели между своими протестами и акциями, которые за несколько месяцев до того происходили в Чешской Республике. Там журналисты общественного телевидения устроили забастовку против назначения нового руководства; тогда это вызвало массовые демонстрации по всей стране и на стороне бастующих выступил Вацлав Гавел. Но такие параллели выглядели неубедительно.
Сколь ни велик соблазн изобразить журналистов НТВ бескорыстными защитниками свободы слова, это было бы так же неточно, как выставлять их противников поборниками справедливости и государственных интересов. Кремль нападал на НТВ не из-за недостатков канала, а именно из-за его достоинств, используя при этом слабые места оппонента. Многие журналисты, испорченные и скомпрометированные своим непомерно раздутым статусом, деньгами и цинизмом, который они считали достоинством, когда находились на вершине благополучия и власти, теперь вспомнили и разом заговорили о нравственных ценностях.
Превращение НТВ в протестное движение выглядело неестественным. Журналисты вывесили флаг НТВ за окном своей студии в “Останкино”. Новостные программы начали выходить с зеленым логотипом канала, перечеркнутым по диагонали красным словом “протест”. Лозунг “Новости – наша профессия” превратился в лозунг “Протест – наша профессия”. НТВ сократило свое вещание до информационных выпусков. В остальное эфирное время НТВ показывало то, что в реальном времени происходило внутри его собственных телестудий и других помещений. По сути, это было реалити-шоу “Большой брат” – еще до того, как этот формат утвердился в России. Было очень странно наблюдать, как Киселев в элегантном черном пальто обращается к митингующей толпе в своей узнаваемой манере респектабельного телеведущего, а потом берет за руки других корреспондентов, и они все вместе раскачиваются в такт песне. Парфенов не выдержал такого стилистического диссонанса и опубликовал открытое письмо Киселеву в газете “Коммерсантъ”, в котором объявил о своей отставке. “Я не в силах больше слушать твои богослужения в корреспондентской комнате – эти десятиминутки ненависти, – а не ходить на них, пока не уволюсь, я не могу”[420].
Через два дня Парфенов пришел в студию НТВ, чтобы принять участие в ток-шоу “Антропология”, где присутствовали исключительно сотрудники канала. “Ты – предатель! – прокричал ему в прямом эфире Дмитрий Дибров, ведущий ночного ток-шоу. – Ты хоть понимаешь, что ты предатель? Ты своим письмом предал нас, когда мы боремся за свободу слова!”[421]. Парфенов, как всегда ироничный, спросил своего эмоционального коллегу: “Дима, ты что, можешь произносить слова «предатель», «свобода слова» и «борьба» только вот так – с тремя восклицательными знаками?” Принципиальная позиция Парфенова выглядела бы более убедительно, если бы он уже не получил заманчивое предложение от новых хозяев НТВ.
В действительности конфликт с НТВ имел гораздо большее отношение к свободе слова, чем многие сознавали. Да и сама свобода слова – не синоним объективности и не оценка качества журналистики; она является просто правом человека высказывать свое мнение, не боясь при этом преследований. НТВ не было примером объективности, но зато было необходимой составляющей плюрализма, или многоголосия. Если бы в России вещали еще десять частных влиятельных информационных каналов с тем же охватом аудитории, как у государственного телевидения, то судьба одного НТВ не имела бы такого значения. Но в России работали тогда два государственных или квазигосударственных канала с еще более мутным, чем у НТВ, финансированием. Захват НТВ был не только расправой с неугодным олигархом или критически настроенными журналистами – он уничтожал само понятие соперничества и конкуренции.
Лучше других это понимали не молодые зрители НТВ, а те самые “осколки” советской интеллигенции, шестидесятники. Они быстро распознали в конфликте вокруг НТВ прямой отголосок советской практики подавления, которую многие из них испытали на себе. Группа российских интеллектуалов – поэтов, артистов, художников и журналистов – опубликовала письмо в защиту НТВ под названием “Самое время начать беспокоиться”:
Политический подтекст этих преследований совершенно очевиден: подавление инакомыслия в стране. Старания власти объяснить происходящее исключительно финансово-хозяйственными или уголовно-процессуальными претензиями к холдингу и его владельцам представляются нам лицемерными.
Между тем российское общество все это время наблюдает за происходящим с поразительным хладнокровием. Создается впечатление, будто защита свободы слова – частная проблема телеканала НТВ и его партнеров, а угроза этой свободе – персональная неприятность сотрудников одной корпорации.
Это опасное заблуждение. Мы не сомневаемся, что политические последствия перехода НТВ под государственный контроль затронут всех. Весь мировой опыт – и особенно наш собственный, советский – подтверждает: приучив общество к молчанию, государство быстро входит во вкус. И этот вкус вскоре почувствует каждый – вне зависимости от отношения к бизнесу и политике[422].
И по языку, и по способу аргументации это письмо четко укладывалось в давнюю традицию поколения шестидесятников. Письмо было подписано, в числе прочих, Егором Яковлевым, Александром Яковлевым, Бовиным и Лацисом и опубликовано в “Общей газете”. Спустя десятилетие после выхода первого номера “Общей газеты” в дни путча августа 1991-го Егор вновь собрал главных редакторов печатных СМИ; общими силами был выпущен специальный номер тиражом 300 тысяч экземпляров, посвященный насильственному захвату НТВ. В собственной статье под названием “Опять «Что делать?»” Егор обвинял Путина в цинизме.
Прежде всего Владимир Путин не человек слова. Это он клялся в симпатиях к независимым СМИ, и он же благословляет их распять. Не могу умолчать и о цинизме, который всегда отличал контору, воспитавшую Путина. Именно НТВ показывало, как отдыхал президент, когда мы все скорбели о “Курске”. Скандал продолжается не первый месяц, а президент при этом хранит глубокомысленное молчание, отстранившись от волнений тех, кто его избрал. Увы, в этом глава государства не одинок. Немало людей моего цеха, не говоря уже о депутатах Думы, не прочь остаться в стороне. Поверьте, я не раз бывал тому свидетелем: кажется, что умываешь руки, а на самом деле оказываешься по уши в дерьме[423].
20 тысяч экземпляров этого спецвыпуска бесплатно раздали людям, которые вышли протестовать против захвата НТВ в Москве и Петербурге. Атмосфера, царившая на этих митингах, очень напоминала ту, что была на демократических маршах, проходивших в поздние перестроечные годы перед зданием редакции “Московских новостей”. Ирония заключалась в том, что именно “отцы”, которых в свое время потеснило поколение журналистов НТВ, встали на его защиту. Целевая аудитория телеканала – энергичные и самодостаточные “дети” шестидесятников – наблюдала за конфликтом вокруг НТВ, как за реалити-шоу, сохраняя хладнокровие и отстраненность – качества, которые все эти годы культивировало в своих зрителях НТВ. Как-никак это же было “нормальное телевидение” для “нормальной страны”, пропагандировавшее идею спокойной, частной, буржуазной жизни.
Кульминация телевизионной драмы состоялась 14 апреля 2001 года в четыре часа утра и больше напоминала военный переворот. Восьмой этаж Останкинской телебашни, где размешались студии НТВ, заблокировали чоповцы, преградив членам киселевской команды вход в студийные помещения. Камеры при этом продолжали работать, снимая, как один из основателей НТВ Олег Добродеев, теперь руководящий государственным телевидением, пытается урезонить своих бывших коллег. Большинство журналистов отказалось с ним говорить и даже пожимать ему руку. После бессонной ночи команда журналистов, куда входили Сорокина и Шендерович, окончательно покинула НТВ, забрав собственные фотопортреты, висевшие на стене в коридоре. Журналисты перешли на другую сторону улицы и из соседней телестудии, принадлежавшей Березовскому, рассказали зрителям о случившейся ночью драме. Само НТВ продолжало работать как обычно, начав с утреннего выпуска новостей. Захват НТВ стал просто темой очередного новостного сообщения.
После разгрома НТВ “уникальный журналистский коллектив” во главе с Киселевым нашел прибежище и возродился на ТВ-6 – частном канале, созданном в 1993 году Эдуардом Сагалаевым, когда-то стоявшим у истоков “Взгляда”, и Тедом Тёрнером, владельцем CNN. В июне 1999 года Сагалаев продал свой контрольный пакет акций Березовскому, который и приютил Киселева с его командой. Канал запустил реалити-шоу “За стеклом” и осенью 2001-го по рейтингам обогнал НТВ, заняв третье место после ОРТ и РТР. Такого возрождения Кремль допустить не мог. Через несколько месяцев миноритарный акционер телеканала, пенсионный фонд нефтяной компании “Лукойл”, обратился в суд с требованием о ликвидации ТВ-6 как убыточного, несмотря на то, что Березовский как главный акционер готов был продолжить финансирование, а сама статья, по которой “Лукойл” возбудил иск, готовилась к отмене. 30 декабря 2001 года команда Киселева собралась на новогодний корпоратив, больше напоминавший поминки. 22 января 2002 года в 00:09 по московскому времени телеканал ТВ-6 был отключен от эфира с помощью рубильника – прямо посреди передачи о шансоне и русской блатной песне, которую вел Владимир Соловьев. Через 20 секунд сигнал снова появился, дав возможность ведущему попрощаться с телезрителями: “Это ничья не вина. Такая у нас власть, такая у нас жизнь, такое у нас время. Всего вам хорошего!”. Спустя несколько секунд картинка из студии сменилась на настроечную таблицу.
Ельцин, как и Горбачев, встал на защиту ТВ-6 и дал интервью каналу РТР. “На ТВ-6 работают талантливые журналисты, и мне не хотелось бы, чтобы канал распался”, – сказал Борис Ельцин.
Ельцин, немало настрадавшийся от разоблачений, критики и насмешек СМИ, продолжал считать свободу слова “одним из главных завоеваний демократической России и десятилетнего периода президентства” и призвал не бояться журналистских “завихрений”: “Это проходит. За это нечего бояться. Надо, чтобы канал жил и работал”[424].
Выступление Ельцина ТВ-6 не спасло, но вскоре к Киселеву обратился Чубайс, продолжавший общаться с Ельциным и его семьей, и предложил встретиться. Свидание назначили в японском ресторане “Изуми”. Один из самых дорогих московских ресторанов принадлежал Потанину и считался местом “водяных перемирий” и откровенных разговоров между конкурентами, где “не пишут”. Чубайс говорил от имени группы из двенадцати бизнесменов, близкой семье Ельцина и включавшей в себя, среди прочих, Абрамовича, Олега Дерипаску и Александра Мамута. Он предложил создать частный телеканал ТВС, на котором мог бы работать “уникальный журналистский коллектив” во главе с Киселевым. Канал запустили, но просуществовал он недолго.
В ночь с 21 на 22 июня 2003 года канал был отключен от вещания с формулировкой “в интересах телезрителей”. В 00:02 по московскому времени эфир оборвался и на экране появился логотип ТВС с надписью “Прощайте! Нас отключили от эфира”, вскоре сменившийся настроечной таблицей. Впрочем, исчезновение ТВС уже мало кого удивило и не вызвало практически никакой протестной реакции. “Уникальный журналистский коллектив” испустил последний тихий вздох.
Кремлю было важно уничтожить независимое телевидение не только физически, но и морально. Задача оказалась проще, чем можно было предположить. На сопротивление не хватило больше ни сил, ни желания. Кто-то покинул телевидение, кто-то вернулся на НТВ, пытаясь вести себя по возможности честно и профессионально. Для кого-то высокие оклады, статус и влияние оказались притягательнее свободы самовыражения – такие люди охотно отдались новой власти, которая, в отличие от Ельцина, терпеть “завихрения” журналистов не намеревалась. Когда журналисты иностранных изданий допекали Путина вопросами о ситуации со свободой слова в России, он давал довольно грубый ответ: “Настоящий мужчина всегда должен пытаться, а настоящая девушка – сопротивляться”[425].
“Десять лет назад российские журналисты мнили себя четвертой властью, а теперь президент сказал им, что они – представители древнейшей в мире профессии”, – прокомментировала слова президента Ирина Петровская[426]. В 2010-е годы НТВ эту репутацию подтвердило, в полной мере превратившись в наиболее “желтый” канал. В середине десятилетия именно на НТВ стали выходить “разоблачения” оппозиционеров и иностранных дипломатов, именно оно выполняло роль запевалы в травле Бориса Немцова. Андрей Норкин, один из тех, кто возмущенно покидал студию НТВ в 2001-м, в феврале 2015 года, всего через несколько часов после убийства Немцова, вел скандальное ток-шоу, где убитого называли источником всех зол. Но все это будет потом.
Dolce Vita и “Кровь, пот и слезы”
В 2001 году смена руководства на НТВ не слишком бросилась в глаза зрителям. Канал стал даже живее, появилось больше хороших развлекательных программ. НТВ по-прежнему критически освещало войну в Чечне и выказывало Кремлю не больше почтения, чем любой из западных телеканалов того времени. Там даже появилось ток-шоу под названием “Свобода слова”. Место Киселева в качестве главного ведущего и лица канала занял Леонид Парфенов. Протестная риторика и морализаторство ушли. На смену киселевским “Итогам” пришло “Намедни”, ставшее главной политической программой недели. Там, где Киселев проповедовал, Парфенов информировал и развлекал. Там, где Киселев делал многозначительные паузы, подчеркивая серьезность затронутой темы, Парфенов пускал в ход остроумие и сарказм, давая понять: с иронией можно говорить абсолютно обо всем.
Создатели “Намедни” сформулировали и записали свод правил, который они называли своей “библией”. Согласно ее заповедям, в программе должны быть сбалансированно представлены dolce vita и “кровь, пот и слезы”. Богатство не должно бить через край: “Да, мы, конечно, преуспевающая городская публика, но все-таки мы знаем, как живут другие”. Впрочем, элементы “сладкой жизни” все равно преобладали, а когда корреспонденты “Намедни” выезжали в российскую глубинку, то их репортажи больше всего напоминали программу о путешествиях, рассказывающую о жизни туземного населения экзотического края.
Скучный деловой сюжет о том, как Путин вместе с Сильвио Берлускони открывает в России новую фабрику, которая будет выпускать итальянские стиральные машины, иллюстрировала стиральная машина, привезенная прямо в телестудию. Парфенов рассказывал о событии так, будто рекламировал саму машину. Реклама, кстати, станет одним из основных занятий Парфенова после его ухода с телевидения. Правда, главным товаром, который продвигал тогда на телевидении Парфенов, был российский либерализм и неотъемлемый от него образ жизни российского среднего класса. По закону жанра, в рекламе либеральные ценности выглядели более привлекательными, чем на самом деле. “Мы изображали Россию более либеральной, чем она была”, – говорил сам Парфенов позднее, когда его уже уволили с НТВ[427].
Должность Парфенова в контракте по ошибке значилась не как “ведущий программы”, а как “ведущий программист”. Опечатка, тем не менее, имела свой смысл. Во многом “Намедни” действительно “программировало” Россию как страну, какой Парфенов хотел ее видеть: такой, где люди не лезут на баррикады и не говорят с пафосом о политике, а получают удовольствие – тратят деньги и путешествуют. Либерализм, повторял он, не в политических лозунгах: он в интернете, в кофейнях, в модных бутиках, в путешествиях за границу и в пешеходных улицах. В этом смысле Россия, конечно, становилась все более либеральной. Само НТВ тоже идеально вписывалось в эту картину, прославляя российских капиталистов за инициативу и предпринимательский талант.
Такая позиция вполне устраивала Кремль. Назначение Бориса Йордана должно было успокоить оппонентов власти в России и на Западе, а также убедить российский средний класс в том, что он совершенно правильно не стал встревать в конфликт вокруг НТВ. Не важно, что люди думали о Гусинском – никто не был готов к явному закручиванию гаек в СМИ. Кремль, в свою очередь, не пытался форсировать события. Напротив, он сделал из НТВ своего рода наглядное пособие, которое демонстрировало, что власть придерживается экономического либерализма. При этом в Кремле не было никаких сомнений в том, что он полностью контролирует всю эту “вольницу”.
Границы свободы, лицензию на которую выдал Кремль, отчетливо проявились спустя год, когда произошел теракт на Дубровке. 23 октября 2002 года банда чеченских террористов захватила театральный центр на Дубровке (ранее Дворец культуры Государственного подшипникового завода), где шел мюзикл “Норд-Ост”, и взяла в заложники 916 человек. В самом захвате была какая-то зловещая театральность. Когда на сцену вышел первый террорист в камуфляже и маске, выстрелил в воздух и объявил всех заложниками, зрители вначале подумали, что это – просто часть представления. Они не могли поверить, что чеченские боевики, до сих пор остававшиеся где-то в другом измерении, вдруг ворвались в благополучную жизнь московского среднего класса.
Как и в 1995 году, при захвате заложников в Буденновске, террористы требовали немедленного прекращения войны в Чечне. Но на этот раз никто уже не собирался ставить жизни заложников выше интересов государства. Пока шли переговоры с террористами, “Первый канал”, полностью перешедший под государственный контроль, подливал масла в огонь. В аналитической передаче показали старые кадры телефонных переговоров Черномырдина с Басаевым. В своей программе “Однако” Михаил Леонтьев вещал: “Мы все эти семь с лишним лет платим за Буденновск. За невиданный нигде в мире позор политического соглашения с бандитами и выродками. У нас нет никакого намерения рассказывать российской власти, российским спецслужбам, что и как надо делать. Потому что нет никаких оснований сомневаться, что все делается правильно…”[428]. Затем на экране появилось изображение Путина.
В конце третьего дня драмы российские спецслужбы закачали в зрительный зал нервнопаралитический газ неизвестного состава и начали штурм здания. Все террористы были убиты, а заложники подверглись воздействию газа и потеряли сознание. Затем спецслужбы предоставили телеканалам видеозапись с мертвыми террористами. Некоторые из них так и остались сидеть в креслах, другие, окровавленные, лежали на полу. Камера наезжала и задерживалась на их мертвых изувеченных лицах; мертвый главарь террористов лежал на полу в коридоре, рядом с бутылкой Hennessey, которую, как говорили свидетели, поставил туда журналист с телеканала “Россия”, раньше работавший на НТВ. Даже смерть не мешала телевидению подстраивать реальность под свои цели. Государственные телеканалы показывали взрывчатку, которую могли бы использовать террористы. СМИ всеми силами внушали главную мысль: “Слава Богу (и Кремлю) за успешное завершение операции”. Эвакуация пострадавших длилась больше четырех часов. К тому времени, когда кареты скорой помощи доехали до больниц, многие заложники, в том числе дети, уже скончались. Врачи не знали, с каким веществом имеют дело, и не могли применить антидот, потому что спецслужбы, ссылаясь на государственную тайну, отказывались раскрывать состав примененного ими газа. В результате спецоперации погибли 130 заложников.
На общем фоне выделялись репортажи НТВ. Они показывали разворачивавшуюся трагедию в реальном времени, давая полный охват событий, включая штурм Тетрального центра. Это был единственный телеканал, которому захватившие заложников боевики позволяли (точнее, даже требовали от него) вести съемку внутри здания. НТВ выпустило в эфир интервью с главарем террористов Мовсаром Бараевым, о смерти которого (что особо подчеркнуло НТВ) спецслужбы рапортовали всего две недели назад. НТВ показывало протестующих родственников заложников, требовавших прекратить войну в Чечне. НТВ наняло сурдопереводчика для работы с беззвучной видеозаписью, предоставленной кремлевской пресс-службой, чтобы прочитать по губам Путина, что именно он говорил, и задалось вопросом: а все ли было сделано для того, чтобы избежать штурма здания и спасти жизни заложников?
Число погибших заложников продолжало расти, и Путин выступил с телевизионным обращением к народу: он попросил прощения за то, что не сумели спасти всех. У террористов, заявил он, нет будущего, “зато оно есть у нас”. Никто из тех, кто планировал и проводил спецоперацию, не получил даже выговора. Как и в дни трагедии с “Курском”, Путин переложил вину на телевидение, обвинив НТВ в том, что оно подвергло опасности жизни заложников, показывая подготовку к штурму театрального центра. Путин вызвал в Кремль руководителей информационных отделов и гневно сказал им, что “журналисты не должны наживаться на крови своих сограждан, если, конечно, они считают их своими”. Это была фактически черная метка генеральному директору НТВ гражданину США Борису Йордану, которого демонстративно не пригласили на встречу в Кремле. Йордан, будучи прагматичным инвестиционным банкиром, ушел в отставку, получив приличную компенсацию от “Газпрома”.
Глава ФСБ Николай Патрушев регулярно проводил встречи с руководством телевидения и прессы. “Наши традиционные встречи проходят не зря. У нас есть взаимное доверие, – говорил он. – Мы делаем одно дело – работаем на общество, на государство”[429].
Парфенов продержался на НТВ еще пару лет. “Я понимал, что рано или поздно «Намедни» закроют. Но пока ты можешь чирикать, ты чирикаешь. Вот и все. Три сезона мы выпускали хорошую программу, за которую не стыдно и сейчас. Прекрасное время, отличное”[430]. “Чириканье” Парфенова вселяло оптимизм и отчасти компенсировало тревожность и мрачность сюжетов. В 2003 году, когда арестовали Михаила Ходорковского, самого крупного российского олигарха и владельца нефтяной компании ЮКОС, Парфенов назвал случившееся “Ходоркостом”. Он попросил популярного комика Максима Галкина прокомментировать психофизическое состояние президента и спародировать адресованные правительству слова Путина по поводу ареста Ходорковского: “Что касается правительства, то попросил бы его не вмешиваться в эту ситуацию, и вообще в целом истерику прекратить”. Сюжет Парфенова с Галкиным назывался “Попросил бы истерику начать”.
Скорее всего, последней каплей стал выпуск “Намедни”, посвященный инаугурации Путина в 2004 году. Реальные кадры церемонии были эффектно смонтированы со сценами из “Сибирского цирюльника” – художественного фильма Никиты Михалкова, действие которого происходит в эпоху Александра III. Прибытие Путина в Кремль на черном лимузине перекликалось с прибытием Александра III туда же на белом коне; когда Путин обращался к кремлевской гвардии, ему отвечали гвардейцы Александра III. Игровой прием “Намедни” нес в себе серьезный посыл: торжественное вступление Путина в должность – это не инаугурация президента, а венчание на царство.
Но как бы точно и остроумно ни монтировались и ни рифмовались документальные и художественные кадры, “Намедни” смешивала разные языковые формы. Программа предлагала постмодернистский взгляд на реальность, где все состоит из цитат, которые можно собирать и разбирать, как конструктор, переставлять местами и создавать новые смыслы. Парфенов воспользовался этим приемом для критического высказывания по отношению к власти, но ничто не помешало его последователям и коллегам прибегать к тому же методу для достижения противоположной цели – усиления лжи и пропаганды. Все ведь относительно.
В июне 2004 года Парфенова уволили, а программу “Намедни” закрыли. “Чириканье” вошло в диссонанс с новым порядком и стилем, которые стали проявляться в начале второго президентского срока Путина. Время игр прошло. События, происходившие в стране, в том числе арест Ходорковского, ликвидация нефтяной компании ЮКОС и периодические теракты, были слишком серьезными и сложными, чтобы описывать их с помощью игры слов и сарказма. Парфенов сам это признал, но только спустя шесть лет, когда неожиданно для всех произнес серьезную речь, полную искреннего и не характерного для него гражданского пафоса. Парфенову в тот день вручали премию имени Владислава Листьева, журналиста, телевизионного менеджера и шоумена, застреленного неизвестными в 1995 году. В своем ответном слове на официальной церемонии, где присутствовали руководители государственных каналов, Парфенов высказал всё, что думает о нынешнем состоянии телевизионной индустрии. “Наше телевидение все изощреннее будоражит, увлекает, развлекает и смешит, но вряд ли назовешь его гражданским общественно-политическим институтом”, – заявил Парфенов с заметным волнением. “Для корреспондента федерального телеканала высшие должностные лица не ньюсмейкеры, а начальники его начальника”. А это значит, что “корреспондент тогда и не журналист вовсе, а чиновник, следующий логике служения и подчинения”[431].
В прошлом Парфенов сам поморщился бы от таких слов. Теперь же он произносил их абсолютно серьезно. Телевизионные начальники, превратившие российское государственное телевидение в смесь развлечения и пропаганды, смотрели на Парфенова с невозмутимыми лицами. Среди них был и Добродеев, давний коллега Парфенова по НТВ, и Константин Эрнст, его старый приятель и сопродюсер “Старых песен о главном”, ныне возглавлявший “Первый канал”.
“Первый”
Константин Эрнст не был советским “аппаратчиком”. Статный плейбой с волосами до плеч, тележурналист и продюсер, поклонник голливудского кино, часть богемы, он всегда оставался на плаву и поднялся на самый верх, возглавив главный телеканал страны, вещавший на одиннадцать часовых зон. Эрнст родился в 1961 году и был одним из самых ярких и амбициозных представителей поколения, порожденного одновременно и Советским Союзом, и реакцией на его существование. Это поколение сильнее всего презирало запреты и ограничения советского периода и больше всех выиграло от их упразднения. Эрнст принадлежал к советской “аристократии”, конкретнее – к интеллектуальному истеблишменту: его отец был профессором биологии, да и сам он успел защитить диссертацию по биохимии. Впрочем, его настоящей страстью было кино, и он, как многие одаренные и энергичные люди своего времени, искал самореализации на телевидении. Начинал он в программе “Взгляд”, которая тогда представляла собой авангард перестроечного телевидения, но вскоре создал собственную передачу под названием “Матадор”.
К корриде она не имела никакого отношения: Эрнсту просто понравилось звучание слова, полного энергии и сулившего зрелищность и игру. Он водил телезрителей по голливудским киностудиям, знакомил с кинозвездами и новостями Каннского кинофестиваля. Формат его передачи напоминал ранние неполитические выпуски “Намедни”. Как сказал Эрнст на двадцатилетии программы Парфенова, оба проекта пытались говорить языком того времени, которому еще предстояло наступить. “Нас интересовало проговаривание еще не наступившего времени. Мы хотели, чтобы время наступающее выглядело примерно вот так. И мы его опережали”, – сказал он[432].
В одном из первых выпусков “Матадора” Эрнст рассказывал о создании фильма Фрэнсиса Форда Кополлы “Апокалипсис сегодня”. Переодетый в форму ВВС США, Эрнст был полностью поглощен энергией той сцены, где американские вертолеты бомбят вьетконговцев под вагнеровский “Полет валькирий”. Молодому Эрнсту Фрэнсис Форд Коппола казался естественным образцом для подражания.
В 1995 году Березовский обратил внимание на Эрнста, выделявшегося решительностью и амбициями, и назначил его генеральным продюсером “Первого канала”, который в то время назывался “Общественное российское телевидение” (ОРТ). Эрнст стал не столько идеологом, сколько организатором и продюсером. Управляя самым массовым по охвату аудитории каналом, он не только занимался выпусками новостей и популярными шоу, но и создавал объединявшие страну переживания и впечатления. Его проекты всегда были увлекательными и блестящими по форме. Первым большим хитом Эрнста в качестве продюсера стали “Старые песни о главном”, плавно объединявшие советское прошлое с российским настоящим.
Через четыре года, в сентябре 1999 года, в то самое время, когда Путина начали выдвигать в качестве преемника Ельцина, Эрнста назначили руководителем “Первого канала”. При Эрнсте слово “Первый” ассоциировалось уже не столько с номером кнопки, сколько с лидирующим местом этого канала в рейтингах и его широким влиянием. Пока Путин восстанавливал советский гимн как “самую главную песню о старом”, Эрнст воскрешал “Время” с его советской музыкальной заставкой в качестве главной вечерней информационной программы, определявшей повестку страны. При этом сам Эрнст был больше увлечен игровым кино, чем новостями. В конце девяностых – начале “нулевых” Эрнст и его “Первый канал” стали главным в стране продюсером художественных фильмов и телесериалов. Эрнст сделал телевидение важнейшим из искусств. Зрительные образы воздействуют на сознание людей мощнее, чем слова. И гораздо лучше продаются. Эрнст не намеревался посредством кино продавать идеологию, ее у него попросту не было, зато он использовал идеологию для продажи своих фильмов.
После кризиса и девальвации рубля в 1998 году замещение импортной продукции товарами внутреннего производства стало одним из главных движущих факторов российского экономического роста. Оно же стало главным фактором роста российской киноиндустрии. Точно так же, как люди стали покупать в магазинах отечественные продукты и вещи вместо импортных, они переключились на местную кинопродукцию вместо американских сериалов. Слово “Россия” превратилось в бренд.
Эрнст лучше многих осознавал спрос на патриотизм, а возможно, и создавал его к своей же выгоде. Помимо ресурсов государственного телеканала, он пускал в ход российские патриотические лозунги для продвижения новых фильмов, созданных по американским лекалам. В 2004 году Эрнст выступил продюсером фильма “Ночной дозор” – на тот момент самого успешного постсоветского блокбастера. По жанру это был фантастический триллер со спецэффектами. Эрнст продал права на распространение фильма студии 20th Century Fox. За первые четыре недели проката фильм собрал больше 16 миллионов долларов, побив все рекорды кассовых сборов, а в России опередив даже фильм “Властелин колец: возвращение короля”.
“Ночной дозор”, снятый по фантастическому роману Сергея Лукьяненко, был русским ответом “Матрице”. Действие происходит в современной Москве, где самые обычные люди в параллельной реальности становятся вампирами, шаманами и колдуньями. Они делятся на Воинов Света и Воинов Тьмы, на две силы, которые борются между собой с самого начала времен.
Светлые в фильме тесно связаны со своим советским прошлым, тогда как Темные явно принадлежат миру российского капитализма. Враждующие стороны бьются за душу 12-летнего мальчика, Великого Иного, который в итоге становится на сторону Тьмы. Мальчик говорит своему отцу, который живет отдельно и является одним из Светлых: “Вы не лучше Темных – вы хуже! Вы врете. Вы только притворяетесь хорошими”.
В интервью по поводу выхода фильма Эрнст объяснял, что Темные, при всей их агрессивности, не обязательно воплощают зло, а Светлые – добро. “Темные – это гораздо более свободные люди, они позволяют себе быть такими, какими хочется. А Светлые более фрустрированные, у них слишком много обязательств, они чувствуют ответственность за огромное количество людей”[433]. Эрнст отождествлял себя с Темными.
Он бросил все имеющиеся ресурсы “Первого канала”, включая новостные программы, на продвижение фильма и тем самым обеспечил ему коммерческий успех. Создатели фильма пытались нагрузить его какими-то дополнительными смыслами, но все они вскоре испарились, зато остался сам прецедент создания российского блокбастера голливудского размаха. В интервью, которое Эрнст дал после выхода фильма, он сетовал на неспособность русского зрителя жить настоящим моментом. “У нас люди живут либо в прошлом, либо в будущем. И никогда в настоящем”, – сказал он[434]. Сам Эрнст не только жил настоящим временем, но и формировал его.
Эрнст не испытывал никакого когнитивного диссонанса: реальные новости и вымысел прекрасно сосуществовали, дополняя друг друга и переплетаясь. В одном из эпизодов “Ночного дозора” фигурирует девятичасовая новостная программа “Время”, и ее лощеный ведущий (сыгравший самого себя) сообщает зрителям о приближающемся катаклизме.
“Время” и в кино, и в жизни было массовым антидотом от хаоса и беспорядка, источником стабильности и упорядоченности, универсальной матрицей. Каждый выпуск, будто колыбельная, следовал раз и навсегда заведенному порядку: вначале показывали Путина, разъезжающего по стране или принимающего министров у себя в кабинете, затем приводились наглядные примеры “вставания России с колен”, а под конец преподносились плохие новости из-за рубежа. В отличие от остальных передач, “Время” никогда не прерывалось (и по сей день не прерывается) рекламой.
Строго говоря, “Время” не сообщало новости. Оно конструировало параллельную реальность, выстроенную в соответствии с государственной иерархией, на самом верху которой находится Путин. Как государственная новостная программа “Время” не позволяло себе ни тени сарказма, иронии или насмешки. Ведущие всегда выдерживали серьезный и строгий тон. Цель программы состояла в том, чтобы заверить зрителей: они могут спать спокойно, зная, что страну охраняет и ведет верным курсом мудрый и энергичный президент, всегда принимающий правильные решения; преступников и террористов ждет наказание, а чемпионов – награда. “Любая стабилизация делает новости спокойными. В нестабильной стране, где существуют многовекторные силы, которые постоянно и ежедневно схлестываются между собой, новости являются нервными и привлекающими такое внимание. При существовании многовекторности есть такое ощущение объективного, активного процесса, а на самом деле это процесс обмена ударами. Он тоже не про объективность. Он является сообщением о многовекторности политических сил”, – объяснял Эрнст[435].
К 2004 году от “многовекторности” практически ничего не осталось. Телевизионные новости свидетельствовали не о стабилизации – то есть балансе разных сил в стране, – а о консолидации власти в одних руках. Новости создавали иллюзию стабильности – подобно тому, как телесериалы и кинодрамы, заполонившие экран картинами насилия и преступности, создавали иллюзию полного беззакония и хаоса. И новости, и сериалы были одинаково искусственными и делали одну и ту же работу: создавали видимость равновесия между силами тьмы и света – примерно так же, как задумывалось в “Ночном дозоре”. Новости успокаивали, а жестокие криминальные драмы повышали уровень адреналина. Как рассказывал один высокопоставленный российский чиновник и бывший генерал ФСБ, этот шквал наглядного насилия на экранах был вовсе не ответом на повышенный зрительский спрос, а сознательной политикой, выработанной в высших кругах российской власти. У зрителя должно было возникать ощущение, что только сильное государство, изображаемое в выпусках новостей, способно защитить беспомощное население от того разгула насилия, что бушевало на экране.
Вопрос о том, что для зрителя хорошо, а что плохо, решался отнюдь не исходя из вкусов и желаний самого же зрителя. “Врач ведь не спрашивает пациента, лежащего под ножом в операционной, как ему сделать хорошо”, – говорил Эрнст[436]. Эта задача – прописывать и выдавать лекарство – была возложена на него и на Добродеева.
Битва между светом и тьмой
“Ночной дозор” вышел на экраны в начале июля 2004 года. А через несколько недель, 1 сентября, страну сковал уже настоящий ужас: в Северной Осетии, в городе Беслан, чеченские боевики захватили школу и взяли в заложники больше 1000 детей и взрослых. Это был самый страшный террористический акт в истории России, гораздо более жестокий и кровавый, чем все предыдущие. На протяжении всего кризиса официальные российские СМИ сообщали цифры, спущенные им из Кремля, согласно которым в школе находилось всего 354 заложника. Сокрытие реальных масштабов теракта так разъярило захватчиков, что они перестали разрешать детям пить и ходить в туалет, вынуждая их глотать собственную мочу. Как вспоминал один из выживших заложников, террористы слушали новости по радио. Когда они услышали озвученное число, один из них сказал: “Россия говорит, что вас тут только триста человек. Может, надо убить всех остальных, чтобы только триста и осталось?”[437]
От участия в переговорах были намеренно отстранены российские журналисты и активисты, включая Анну Политковскую, обозревателя “Новой газеты”. Политковская, которая много писала о войне, часто бывала в Чечне и пользовалась там уважением, вызвалась выступить посредником в переговорах с террористами и вылетела в Беслан, но в самолете ее отравили загадочным токсином, что помешало ей достичь своей цели. Спустя два года, 7 октября 2006-го, она была убита в лифте своего дома в Москве.
После двух дней и трех ночей спецслужбы начали штурм здания. 3 сентября, в 13:05, в спортзале школы, где держали большинство заложников, раздались два взрыва. Как выяснилось позже, источником взрывов была термобарическая граната, выпущенная российскими спецназовцами. Террористы открыли стрельбу по детям, началась паника. Иностранные вещательные компании CNN и BBC освещали события в прямом эфире и в реальном времени. В России эфир срочными выпусками новостей не прерывался, и на двух государственных телеканалах продолжали идти запланированные программы. Через час они все-таки переключились на кризис в Беслане, который к тому времени уже перешел в отчаянную бойню, однако осветили происходящее сбивчиво и коротко. “Первый канал” уделил Беслану всего десять минут, а потом вернулся к бразильскому сериалу “Влюбленные женщины”. Либеральная столичная радиостанция “Эхо Москвы” держала своих слушателей в курсе событий, отслеживая происходящее на CNN.
Весь день каждый час на обоих государственных каналах выходили выпуски новостей, в которых заученно повторялись тезисы официальной версии: власти не планировали штурмовать школу; стрельбу начали террористы; захват заложников совершили члены международной террористической организации, в состав группы входили этнические арабы и даже один африканец (позже оказавшийся чеченцем).
Через несколько часов после начала вооруженного столкновения спецназа с террористами канал “Россия” преподносил все так, будто бой закончен и большинство заложников уцелело. Телезрители видели детей на руках у родителей и слышали чей-то голос за кадром: “Они живы, все в порядке, они живы, живы!” Пока родители обнимали своих детей, корреспондент комментировал: “Люди снова плачут, но теперь это слезы радости”. Ведущий назвал количество людей, увезенных в больницы, но старательно избегал даже приблизительно сообщать число погибших. “По последней информации, – говорил он, – стрельба в школе закончилась. Там нет ни убитых, ни раненых… Мы не можем привести более точные данные о числе пострадавших… и… назвать точное количество освобожденных заложников”[438].
Около девяти часов вечера, когда погибло уже больше 300 детей и взрослых, а перестрелка между террористами и спецназом все еще продолжалась, государственные каналы телевидения стали показывать совершенно невероятный материал. Канал “Россия” демонстрировал кинобоевик “Честь имею!”, в котором бравые российские солдаты сражались с бородатыми чеченскими бандитами, прячущимися в пещерах и кричащими “Аллаху Акбар!”. Тем временем “Первый канал” показал американский фильм “Крепкий орешек”, где Брюс Уиллис играет супермена, спасающего заложников в нью-йоркском небоскребе. Телевидение создавало параллельную реальность, в которой актеры на экране как бы мстили за тех, кто в реальной жизни продолжал гибнуть в Беслане.
Добродеев и Эрнст выступали демиургами, творившими мифы и толковавшими реальность. Позднее Эрнст говорил: “Наша задача номер два – информировать страну о том, что происходит. Сегодня главная задача телевидения – мобилизовать страну. России нужна консолидация”[439]. Если на советском телевидении царила бдительная цензура, то Эрнст чаще всего принимал решения сам. “Никто мне не звонит и не дает никаких указаний”, – утверждал он[440]. Возможно, это была правда. Но даже если нет, то нельзя сказать, что он рабски следовал указаниям Кремля: он просто охотно использовал свой талант и воображение в государственных целях – как он их понимал.
“Я государственник, либеральный государственник”, – говорил Эрнст спустя десятилетие[441]. Возглавляя “Первый канал” много лет, он тратил все силы на то, чтобы сплотить народ вокруг зрелищных телевизионных проектов. Эрнст создавал новый общий для всех россиян опыт, не требующий лишних размышлений или рефлексий. Он закладывал культурный код, в основе которого – идея о верховенстве государства. В отличие от Добродеева, который превратился в политического функционера и мастера кремлевской пропаганды, Эрнст считал себя художником, творцом – или, выражаясь телевизионным жаргоном, продюсером страны.
Как всякий хороший продюсер, он безошибочно угадывал потребности аудитории, а в “нулевые” годы стране отчаянно хотелось видеть хоть какие-то признаки возрождения. Людям, чьи доходы постоянно росли не потому, что они работали больше и лучше, а благодаря повышению цен на нефть, хотелось зрелища, которое подкрепляло и дополняло бы их растущее благосостояние. В середине 2000-х такой запрос во многом удовлетворяли спорт, развлечения и парады.
В июне 2008 года российская футбольная сборная победила сборную Голландии в четвертьфинале Чемпионата Европы по футболу. Матч смотрели 80 % жителей страны – это рекордный показатель для истории российского телевидения. Ночью Москву накрыла массовая патриотическая эйфория: гудели машины, реяли флаги, разъезжали байкеры (те же самые, которые через несколько лет будут размахивать российскими флагами в Крыму). На первый взгляд, это народное ликование выглядело точно так же, как и поведение европейских футбольных болельщиков, но если в Европе спорт давно превратился в заменитель войны, то в России он стал ее предвестником.
Победа стала новостью номер один на российском телевидении. В популярных ток-шоу только и говорили, что о спорте. Девиз футбольных болельщиков “Россия – вперед!” превратился в национальный лозунг. Празднование этой победы совпало по времени с эскалацией пропагандистской кампании против Грузии, которую изображали марионеткой США. Уже через несколько недель в Грузию вторглись российские танки и военные самолеты. Это была первая война России, целиком освещавшаяся телевидением и строившаяся точь-в-точь по сценарию натовской операции в Косово. Она вызвала реакцию, схожую с победой в футбольном матче.
Это была наглядная демонстрация восстановления мощи России. Телеканалы стали участниками военной операции: они выполняли важную пропагандистскую работу, распространяли дезинформацию и демонизировали страну, на которую Россия собиралась напасть. Война разразилась в день открытия Олимпийских игр в Пекине – 8 августа 2008 года. Опасаясь ползучего вторжения российских военных на территорию Грузии, грузинские власти обстреляли из тяжелой артиллерии Южную Осетию, откуда велся огонь по грузинским деревням и где находились российские “миротворцы”. В изображении российской пропаганды Грузия представала безжалостным и опасным агрессором, а Россия просто выполняла свой долг, защищая жертв нападения. Российское телевидение говорило о геноциде, гибели двух тысяч мирных жителей и о десятках тысяч беженцев. В действительности в ходе конфликта погибло 133 жителя Южной Осетии.
Путин в светлой спортивной куртке, разговаривающий с осетинскими женщинами, фактически сыграл роль супермена в кинодраме со спецэффектами, поставленной Эрнстом и Добродеевым. Он прилетел во Владикавказ прямо из Пекина, чтобы услышать от беженцев шокирующие рассказы:
Первая женщина. Они сожгли наших девочек заживо.
Путин (удивленно). Заживо сожгли?
Первая женщина. Да, молоденьких девочек! Согнали, как скот, и подожгли…
Вторая женщина. Полуторагодовалого ребенка зарезали. В подвале.
Путин. Не могу даже слушать, страшно.
Вторая женщина. Старушка бежит с двумя маленькими детьми, и по ним проехал танк.
Путин. Совсем с ума сошли. Это же просто геноцид…[442]
Российское телевидение распространяло информацию о том, что грузинские военные устроили геноцид и нарочно стреляют по женщинам и детям. Позднее сведения оказались ложными, но в те дни они послужили толчком для этнических чисток в грузинских селах, которыми занялись южноосетинские ополченцы. Однако главной целью кремлевской пропаганды являлась не Грузия (пусть она и выступала в роли очевидного врага), а сами российские телезрители, которых начали бомбардировать антиамериканской пропагандой.
Если судить по телевизионной картинке, то Россия сражалась не с крошечной бедной страной с населением менее пяти миллионов, а с могучим агрессором, который опирается на поддержку империалистического Запада. Один депутат российской Думы сказал в интервью для телевидения то, что думали тогда многие: “Сегодня совершенно очевидно, кто является сторонами конфликта. Это США, Великобритания, Израиль, которые помогали обучать грузинскую армию, и Украина, которая поставляла Грузии оружие. Мы имеем дело с агрессией НАТО против нас”[443].
Вскоре, чтобы ослабить возникшее напряжение, США предложили России так называемую “перезагрузку” отношений. Дмитрий Медведев, занимавший тогда пост президента, заговорил о модернизации под лозунгом “Россия – вперед!”. Патриотические запросы россиян удовлетворялись военными парадами и песенными конкурсами. 9 мая 2009 года сразу после традиционного ежегодного Парада Победы на Красной площади Владимир Путин поехал посмотреть, как идет подготовка к проведению “Евровидения”. Подготовкой конкурса, который открылся три дня спустя, тоже руководил Эрнст. При всей разности смыслов Парад Победы и “Евровидение” выполняли сходную идеологическую функцию и символизировали восстановление величия страны. Как говорил тогда Эрнст, важен был именно “внешнеполитический эффект”. Но главное “геополитическое шоу” в истории телевизионной карьеры Эрнста было еще впереди.
Эрнсту доверили постановку одного из самых главных зрелищ времен путинского правления – церемонию открытия зимней олимпиады 2014 года в Сочи. Олимпиада в Сочи стала личным проектом Путина и должна была “легитимизировать” его возвращение во власть в качестве президента России в 2012 году. На проведение Олимпийских игр было выделено 50 миллиардов долларов; для церемоний торжественного открытия и закрытия была построена специальная арена; над созданием олимпийских объектов круглосуточно работали лучшие в мире инженеры, дизайнеры, архитекторы, монтировщики и музыканты. Результатом их трудов стало грандиозное шоу, которое поражало масштабом замысла и качеством его исполнения.
Эрнст назвал свое олимпийское шоу “Сны о России”. Словно превозмогая силы земного притяжения, представление разворачивалось и на сцене, и в воздухе: тяжелые декорации парили на высоте и двигались по специальным рельсам, прикрепленным к крыше стадиона. Семь островов (каждый из них изображал часть страны) проплывали по воздуху, как облака, под песню “Улетай на крыльях ветра” из оперы “Князь Игорь”, рассказывавшую об обетованной земле – “крае родном”, где “так привольно”, где “так ярко солнце светит”, где “в долинах пышно розы расцветают, и соловьи поют в лесах зеленых, и сладкий виноград растет”. Это была захватывающая и прекрасная утопия.
Центральным сюжетом действа стала история империи и государства, а не его народа. По небу плыла тройка лошадей, сотканных из белого света; разноцветные, наполненные гелием шатры-купола собора Василия Блаженного скакали среди скоморохов и акробатов на средневековой ярмарке; гравюры, изображавшие строительство Санкт-Петербурга Петром I, оживали и сменялись парадом армии Российской империи, который, в свою очередь, плавно переходил в массовую сцену бала из “Войны и мира”. Этюд на тему Октябрьской революции тонул в красном свете; паровоз, подвешенный в воздухе, тянул за собой колеса и рычаги сталинской индустриализации. Эта сцена разворачивалась под свиридовский мотив “Время, вперед!” – тот самый, который давно уже служил музыкальной заставкой для программы “Время”. Время плавно двигалось вперед к оптимистичным и гуманным 1960-м, изображенным с юмором и ностальгией. Чем-то это напоминало “Старые песни о главном”, придуманные когда-то Эрнстом и Парфеновым.
Эрнст превзошел самого себя: еще ни одна страна никогда не делала столь сложных театральных постановок в воздухе. Он наблюдал церемонию открытия олимпиады из центра управления. Когда отгремел последний фейерверк, Эрнст вскочил с кресла и выкрикнул по-английски: We’ve done it! Россия, образ которой Эрнст создал на сцене, не была банальным царством матрешек и казацких плясок: это была родина художников-авангардистов и великого балета, родина Толстого, Набокова и Гоголя; это была подлинно европейская страна, гордившаяся своей культурой и историей; “страна, где хочется жить”, как написала у себя в блоге Ксения Собчак, светская львица и журналистка. С одной только досадной оговоркой: такого “края родного” в реальности не существовало.
“Я хотел создать матрицу, которая опосредованно бы воздействовала на страну”, – говорил Эрнст[444]. По сути, это было изобретение России. Оно выполняло ту же мифотворческую функцию, что и открывшаяся 1 августа 1939 года, перед самым началом Второй мировой войны, Всесоюзная сельскохозяйственная выставка (ВСХВ), демонстрировавшая “достижения” коллективизации и индустриализации и позднее трансформировавшаяся в ВДНХ. В первый год работы по выставке водили быков, которые символизировали собой витальность и фертильность страны. Забавно, что спустя год после олимпиады-2014 театральные декорации с церемонии открытия тоже были выставлены на ВДНХ.
Получая в 2014 году премию “Человек года” от русской редакции GQ, Эрнст заявил, что открытие олимпиады было самым счастливым и страшным опытом в его жизни. “Мало кому удается объясниться в любви к своей Родине на глазах трех миллиардов землян. И что может быть для меня более важно, чем объединить в одной эмоции моих соотечественников, которых в принципе в одной эмоции объединить нельзя?”[445]. Весь вопрос, однако, в том, какого рода была эта эмоция.
При всей современности технологий и приемов настоящее страны целиком было представлено как ее прошлое. Не возникло ни образа перестройки, ни девяностых или “нулевых” годов. Все заканчивалось советской оттепелью – временем рождения самого Эрнста – так, как будто Советский Союз и не распадался. “Мы живем в послевоенное время”, – говорили комментаторы с “Первого канала” своим телезрителям.
Как отметил архитектурный критик и обозреватель Григорий Ревзин, выбор хрущевской оттепели в качестве последнего исторического рубежа отражал дух того времени, когда замышлялась церемония открытия игр. Готовиться начали в 2010 году, на пике президентства Дмитрия Медведева, чьи слова о свободе и лозунги, призывавшие к модернизации, для многих ассоциировались с оттепелью. К моменту открытия игр атмосфера в стране напоминала не столько о 60-х годах, сколько о начале 30-х в Германии и СССР. Оптимистичный настрой церемонии шел вразрез с военизированной атмосферой мобилизации, подогреваемой государственными телеканалами, включая “Первый”, который на время олимпиады окрестил себя “Первый Олимпийский”. Ведущие новостных программ появлялись на экране в форме российской сборной и рапортовали о завоеванных медалях так, словно речь шла о военных победах. Каждый, кто осмеливался критиковать олимпиаду и упоминать о коррупции при сооружении олимпийских объектов, считался предателем. Мало кто знал, что в то самое время, когда телевизионные каналы трубили об успехах сборной России, спецслужбы страны были заняты секретной операцией по сокрытию результатов проб на допинг, взятых у российских спортсменов. Ночью, через дыру в стене лаборатории, за которой располагалось потайное помещение, сотрудники ФСБ производили подмену анализов. “Грязную” мочу со следами стероидов заменяли на чистую, заготовленную заранее, до того, как спортсмен принял допинг. Допинговый скандал, который стоил России участия в олимпиаде в Бразилии, лучше, чем что-либо иное, отражал имитационную и лживую сущность путинской системы. Впрочем, как вскоре выяснилось, параллельно с олимпиадой Кремль готовил еще более сильный “допинг” для страны – аннексию Крыма.
Проведение олимпиады в Сочи совпало с политическим кризисом в Украине, который перерос в “революцию достоинства” и свержение власти.
Тысячи людей, собравшихся на Площади Независимости (Майдане Незалежности), протестовали против клептократического, неэффективного и авторитарного постсоветского режима во главе с коррумпированным президентом Виктором Януковичем, который под давлением России передумал подписывать соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом. Катализатором восстания был, впрочем, не столько срыв подписания соглашения, сколько жестокий разгон студентов, вызвавший справедливый гнев их родителей. Люди размахивали флагами ЕС как символом той достойной жизни, к которой они стремились. Милиция и спецназовцы вместе со свезенными в Киев наемниками, так называемыми “титушками”, периодически пытались разогнать протестующих, устроивших на площади палаточный городок. На Майдане была установлена сцена, где выступали политики и активисты; их изображения проецировались на гигантские экраны. Как и в любой революции, во всем, что происходило тогда в Киеве, ощущалась большая доля театральности. Лидеры протеста призывали народ к спокойствию и стойкости, священники читали вслух молитвы, а популярная украинская певица Руслана, победительница конкурса “Евровидение-2004”, пела национальный гимн Украины: “Ще не вмерла України і слава, і воля”. И тысячи митингующих на Майдане подхватывали припев: “Душу, тiло мы положим за свою свободу”. Казалось, на глазах происходит рождение новой нации. В начале февраля кризис в Украине вступил в критическую фазу. В Киеве жгли костры и строили баррикады, на западе Украины демонстранты брали под контроль административные здания. 7 февраля Янукович отправился на открытие олимпиады в Сочи, чтобы проконсультироваться с Путиным.
Через десять дней, 18 февраля, после трехмесячного стояния, на Майдане началось вооруженное столкновение между внутренними войсками Украины и демонстрантами, которое привело к гибели десятков людей. Снайперы стреляли по толпе боевыми патронами, а протестующие забрасывали солдат “коктейлями Молотова”. 21 февраля, после трехдневной бойни, Янукович бежал из Киева и власть перешла к временному правительству, поддержанному силами Майдана. События в Киеве полностью затмили собой закрытие олимпиады в Сочи 23 февраля. Путин был убежден: революцию в Киеве устроил Запад, чтобы подорвать его репутацию и оторвать Украину от России. “Олимпиада – это событие, далеко выходящее за рамки спорта, – говорил Эрнст. – Это геополитика… Олимпиада была хороша и теперь вызывает такую сильную ответную реакцию… Думаю, спустя годы нам можно будет поднять всякие документы и написать подлинную историю 2014 года”[446].
Через три дня после церемонии закрытия сочинской олимпиады (также поставленной по сценарию Эрнста) российские “зеленые человечки” в военной форме без опознавательных знаков совершили переворот в Крыму. Российские военные корабли, охранявшие берега вокруг Сочи, взяли курс на Севастополь. Кремль приступил к аннексии Крыма и развязал войну на востоке Украины. Телевидение оказалось на передовой, и Эрнст с Добродеевым начали командовать информационными войсками. Война работала как стероид или как наркотик, притупляя сознание и создавая чувство силы и превосходства. Это было новое телевизионное шоу, и цена его измерялась уже не миллиардами долларов, а тысячами человеческих жизней.
Эпилог Бой в эфире
В мае 2000 года, через два месяца после избрания Путина на пост президента России, на экраны вышел фильм “Брат-2”. Если первый “Брат” мгновенно стал хитом, то его продолжение приобрело статус культового произведения, где была сформулирована главная национальная идея. Действие картины разворачивается в Америке, куда Данила отправляется сводить счеты с американским дельцом, промышляющим наркотиками и порнографией и виновным в убийстве друга Данилы. Устранив чернокожих гангстеров и украинских мафиози, Данила наконец оказывается близок к цели. В черных ботинках, свитере и спортивной куртке он поднимается по пожарной лестнице на последний этаж небоскреба, твердя детский стишок:
Я узнал, что у меня Есть огромная семья. И тропинка и лесок, В поле каждый колосок. Солнце, небо голубое Это всё моё, родное! Это – Родина моя! Всех люблю на свете я!Бесстрастно, как-то даже буднично застрелив охранника, Данила попадает, наконец, в офис американца, на столе которого стоит початая бутылка “Столичной”. Опрокинув стакан водки, Данила обращается к трясущемуся от страха дельцу: “Вот скажи мне, американец, в чем сила? Разве в деньгах?.. Я вот думаю, что сила в правде. У кого правда, тот и сильней”.
Алексей Балабанов, режиссер картины, снятой по классическим канонам голливудского триллера, уловил и точно сформулировал главную национальную идею: русские сильные, потому что за ними мораль и правда, а американцы слабые и лицемерные, потому что их интересуют только деньги. Как и советский лозунг “Учение Маркса всесильно, потому что оно верно”, слова Данилы не нуждались в дальнейших доказательствах. Русские лучше просто потому, что они лучшие. Фильм делил мир на “наших”, то есть “братьев”, и “чужих”, то есть “других”. “Братство” строилось не на основе идеологии или общих ценностей, а на крови.
В конце фильма Данила и Даша, проститутка, которую он спасает, летят на родину. Перед посадкой в самолет сотрудник аэропорта, проверяющий паспорта, изумленно говорит русской женщине: “Ваша виза давно просрочена. Вы больше никогда не сможете вернуться в Америку”. Вместо ответа она показывает пограничнику средний палец. Финальные титры идут под песню “Гудбай, Америка!” в исполнении детского хора.
Фильм был художественным произведением, а не идеологической агиткой. Он не навязывал людям свои мысли: скорее угадывал и визуализировал их собственные. Он не снимался по заказу Кремля, однако помог тому уловить уже зародившееся в народе подсознательное чувство несправедливости, униженности и оскорбленности, требовавшее удовлетворения. В 2000 году мало что предвещало тот поворот, который страна совершит десятилетие спустя. В конце первого фильма “Брат” Данила едет из Петербурга в Москву. Примерно в это же время из Петербурга в Москву приехал еще один кумир публики – Сергей Шнуров со своей группой “Ленинград”. Как писал Максим Семеляк, музыкальный критик и биограф Шнурова, “время… было не то чтобы захватывающим – скорее податливым. В равной и ни к чему не обязывающей степени оно располагало и к неимоверному кайфу, и к маленьким чудесам. Время само по себе ничего не предлагало, оно велось. Никакого очевидного драйва в воздухе не витало, но его можно было изобрести и навязать”.
Шнуров был двойником и одновременно противоположностью Данилы. Данила нес в себе заряд национализма, если не фашизма – во всем его коварном и опасном обаянии. Шнуров же был концентрацией пьяного нигилизма и гедонизма. Дух путинской России витал где-то между этими двумя персонажами. Выразителем этого духа был Владислав Сурков – формально советник Путина по внутренней политике, а по сути манипулятор, мистификатор и иллюзионист раннего путинизма.
Сурков был родом из Чечни; не доучившись на факультете режиссуры массовых театрализованных представлений московского Института культуры, он отслужил в армии, в спецназе ГРУ, затем какое-то время работал у магната Михаила Ходорковского – сначала как охранник, потом как пиарщик; ненадолго задержался в “Альфа-Групп”, у другого олигарха, Михаила Фридмана, и в конце концов попал в кремлевскую администрацию, где занял кабинет, ранее принадлежавший главным советским идеологам. Только, в отличие от своих предшественников, Сурков не имел никакой идеологии. Он творил политическую реальность из симулякров, фантомов и миражей. На первый взгляд, Россия обладала всеми атрибутами демократии: в ней были и разные политические партии, и выборы. Но большинство партий контролировал Кремль, а выборы, которые по идее являются механизмом упорядоченной передачи власти, превратились в механизм, гарантирующий ее несменяемость. Сурков строил комнату кривых зеркал. Те, кто пытался соперничать с Кремлем, в итоге боролись лишь с собственным искаженным отражением.
В начале 2000-х годов Сурков попытался привлечь и встроить в свою конструкцию и Данилу Багрова из “Брата-2”, и Шнура. Один был нужен для продвижения национализма, другой – для поощрения гедонизма и разврата.
В 2003 году Сурков придумал и провел в российский парламент фальшивую левую националистическую партию под названием “Родина”, которую возглавил демагог и популист Дмитрий Рогозин, устраивавший кампании против иммигрантов и олигархов. На думских выборах его партия набрала 9 % голосов. Путин и его “Единая Россия” оказались на политическом “рынке” в качестве единственной альтернативы темным силам националистов. Год спустя, после “оранжевой революции” в Украине, Сурков организовал молодежное движение “Наши”, которое должно было противостоять угрозе цветной революции в России. Название было литературное. У Достоевского в “Бесах” Петр Верховенский, провокатор и мистификатор, определяет кружок псевдосоциалистов, куда он намерен ввести “князя тьмы” Ставрогина, как “Наших”. По дороге Верховенский поясняет Ставрогину: “Знаете еще, что говорит Кармазинов: что в сущности наше учение есть отрицание чести и что откровенным правом на бесчестье всего легче русского человека за собой увлечь можно”.
И уже после заседания кружка изумленный Ставрогин полуспрашивает-полуутверждает: “Вы, стало быть, и впрямь не социалист, а какой-нибудь политический… честолюбец?”
И Верховенский соглашается: “Мошенник, мошенник…”
За всеми этими политическими играми, которые Сурков называл “суверенной демократией”, стояло не видение будущего России и не амбициозное желание возродить империю, а нечто куда более примитивное: тяга к личной власти и деньгам. Как писал социолог Александр Ослон в середине 2000-x, “дух денег”, завладевший страной еще в 1990-е, стал для многих, особенно среди правящей элиты, и мировоззрением, и идеологией, и даже религией. В отличие от Данилы Багрова, убежденного в том, что правда сильнее денег, Кремль считал, что вообще никакой правды не существует, что сила – только в деньгах, что никаких моральных ценностей нет и что единственное различие между политиками в России и на Западе состоит в том, что западные политики искуснее прячут собственный цинизм за лицемерными разглагольствованиями о демократии. А раз у новой российской элиты есть деньги, она может обзавестись и западным образом жизни, и лояльностью населения, не усложняя себе существование всеми этими “ценностями”, которые, по ее мнению, являются всего лишь красивой упаковкой.
В активном классе дух денег не только утвердился как основа системы ценностей, но и обусловил придание высшей значимости процессам “делания денег”. Но если первые адепты “духа денег” делали свое состояние в условиях рынка посредством собственной предприимчивости, то их последователи, пришедшие во власть вместе с Путиным, начали делать деньги посредством государства, провозглашенного Путиным как основная ценность. Таким образом устранялся конфликт между “долгом” службы государству и личным обогащением. Напротив, долг предполагал личную выгоду.
Совмещение в одной персоне этоса “служения” и этоса “денег” приводит к возникновению гибрида чиновника-предпринимателя (для краткости – ЧИП). Как бизнесмен ЧИП делает все возможное, чтобы способствовать рыночному успеху причастных структур, в которых он явно или тайно является либо совладельцем, либо одним из топ-менеджеров. С одной стороны, благодаря чиновному рангу и статусу ЧИП обладает уникальными возможностями содействовать бизнесу, лоббировать его интересы, обеспечивать защиту как от конкурентов, так и от государственного и общественного контроля. С другой стороны, ЧИП, как и всякий приверженец духа денег, нацелен на активное и изобретательное “делание денег” и получение удовольствия от пользования деньгами[447].
Особенно преуспели в этом силовики, наделенные неоспоримым преимуществом в состязании – правом на насилие. Арест Михаила Ходорковского и дело ЮКОСа утвердили их власть и изменили историю страны. Права на собственность и на личную свободу объявлялись условными и зависимыми от воли тех, в чьих руках были бразды правления. Чтобы оправдать собственный рэкет, люди Путина представляли себя патриотами, защищавшими государственные интересы. А поскольку они и были государством, приобщение к его богатствам казалось им естественным и справедливым. В условиях роста доходов и с учетом нелюбви к олигархам большинство населения России особенно не протестовало. Путин, при всем его авторитаризме, пользовался народной поддержкой и, хотя о честных выборах даже речи не шло, придавал большое значение общественному мнению.
Опросы же общественного мнения в 2004 году показали, что число россиян, считающих, что они ничем не отличаются от жителей других стран, снизилось, зато популярнее стало мнение о том, что Россию окружают враги. “Как будто невидимая стена… по-прежнему противопоставляет «наше» – всему «чужому»”, – писал социолог Юрий Левада[448]. Одно из старейших идеологических клише – представление о России как об “осажденной крепости” – оказалось к тому же еще и одним из самых живучих.
Путин “вербовал” людей, говоря им ровно то, что они ожидали услышать. Он внушал своему электорату, костяк которого составляли традиционалисты, что государство – это единственный источник общественного блага и что родину со всех сторон окружают неприятели. Но было у него что сказать и элите: не ввязывайтесь в политику и просто наслаждайтесь жизнью, пока мы тут, в Кремле, сами управляемся с этим темным, необразованным плебсом, которому даром не нужна никакая западная демократия. В глазах простого населения он защищал народ от элиты, а в глазах элиты – охранял ее от народа.
Пока государственные телеканалы разгоняли волну антизападной пропаганды, близкое окружение президента и ведущие этих же самых телеканалов наслаждались благами западной жизни: ездили на шоппинг в Милан, отдыхали во Франции, держали деньги в Швейцарии и отправляли детей учиться в лучших частных школах Англии. Многие считали, что деньги и коррупция удержат Кремль от заигрывания с националистской идеологией и от серьезной конфронтации с Западом. Высокие цены на нефть позволяли Путину удовлетворять всех: его друзья сделались миллиардерами, патерналистски настроенный электорат радовался повышению заработной платы, а городской средний класс наслаждался низкими налогами и личными свободами. Хотя главным механизмом управления страной оставались деньги, в дело шли и разного рода зрелища: к демонстрации возрождающейся мощи России, будь то футбольный матч или война с Грузией, все относились с одинаковым воодушевлением.
К концу десятилетия средний класс вырос настолько, что составлял уже 25 % населения страны и почти 40 % рабочей силы; для крупных городов эти цифры были еще выше. Менее чем за десять лет в России появилось массовое общество потребления. Правда, потребляли, в основном, импорт. Россияне, жившие в больших городах, внешне мало чем отличались от своих сверстников на Западе: они ездили на таких же машинах, носили такую же одежду, покупали те же айпады, ели такую же еду, смотрели те же фильмы, работали в таких же офисах с открытой планировкой, выпивали в таких же модных барах. Чем стремительнее Москва обзаводилась бытовыми атрибутами нормального европейского города, тем очевиднее становилось отсутствие того, что импортировать невозможно: уважения к личности и чувству собственного достоинства, справедливости и верховенства закона.
Финансовый кризис 2008–2009 годов выявил слабые места путинской экономической модели, базировавшейся на высоких ценах на нефть; средний класс начал испытывать беспокойство; слова “пора валить” стали мемом. Разговоры об отъезде были не столько декларацией о намерениях, сколько симптомом тревоги и признаком надвигающегося кризиса. Непосредственно связанное с рокировкой во власти чувство, что их одурачили, вызвало у людей дополнительное раздражение. В 2008 году, чтобы обойти конституцию, не позволяющую одному человеку занимать президентскую должность больше двух сроков, Путин поменялся местами с премьер-министром Дмитрием Медведевым, “назначив” того президентом, а сам заняв его кресло. Это был очередной кремлевский симулякр. Медведев рассуждал о модернизации и свободе, обращался к народу через Твиттер и вел видеоблоги, создавая иллюзию обновления. Истинный же смысл был в том, чтобы оставить все в неприкосновенности и позволить Путину по истечении четырех лет снова стать президентом. Но Медведев, сам того не желая, быстро становился символом ожидаемых перемен. Когда же Путин разрушил эту иллюзию обновления, открыто заявив, что собирается снова стать президентом и снова сделать Медведева премьер-министром, раздражение, накопившееся у среднего класса, прорвалось наружу. Медведев только подлил масла в огонь, заявив, что такая “рокировка” задумывалась с самого начала. Многие россияне почувствовали себя обманутыми и униженными. Возвращение Путина в Кремль поворачивало время вспять.
В декабре 2011 года, после откровенно сфальсифицированных парламентских выборов, на улицы вышли десятки тысяч возмущенных москвичей. С начала 1990-х это были самые масштабные протестные акции, которые, однако, ознаменовали собой не начало революции, а превращение среднего класса из потребителей в граждан. Люди требовали к себе того же уважения со стороны государства, каким они пользовались в качестве покупателей и клиентов. Массовые протесты – сначала на Болотной площади, затем на проспекте Сахарова – больше походили на карнавал, чем на восстание. Люди повязывали белые ленточки и несли белые воздушные шары с лозунгами типа “Если нас опять надуют, мы взорвемся”. Протестовать вышли студенты, бизнесмены, журналисты, пенсионеры, учителя и управленцы, представлявшие самые разные слои общества и самые разные взгляды. В толпе встречались и люди в ярких спортивных куртках, еще недавно мелькавших на европейских горнолыжных курортах, и персонажи в валенках и овечьих тулупах.
Рейтинг Путина начал падать, и доверие к СМИ пошатнулось. Сурковская система политических фикций явно дала сбой. Россияне, выходившие на улицы, были не выдуманными, а настоящими. Хуже того: Путин и ухищрения его пиарщиков – вроде полета со стерхами или ныряния за заранее подложенной античной амфорой – вызывали смех. Путин вышел из моды и превратился в героя анекдотов, как старые советские вожди.
Путин отреагировал болезненно и агрессивно. Он назвал участников протестных митингов бандерлогами (обезьянами из “Книги джунглей” Киплинга) и высмеял их белые ленточки и шарики, сравнив их с использованными презервативами. В его представлении люди, вышедшие на улицы, своим благополучием были обязаны его десятилетнему правлению, а потому протестные лозунги “Россия без Путина” – это просто верх неблагодарности.
Протестное движение возглавляли не оппозиционные политики – их как раз протесты застигли врасплох, – а гражданские активисты, журналисты, писатели и блогеры. Они стали идеологами протестов, обозначив их “повестку дня” и сформулировав ряд требований и лозунгов. Свои идеи они распространяли через социальные сети, в основном через Фейсбук. “Афиша” – популярный журнал о моде и развлечениях, формировавший вкус московского “креативного класса” и строивший образ Москвы как европейского города, – стала одним из флагманов протестного движения. Ее молодые сотрудники – дети советской интеллигенции – оказались практически в таком же положении, в каком тридцать лет назад пребывали их родители.
Подобно интеллигенции 1970-х, которая взращивалась в закрытых научно-исследовательских институтах, московский “креативный класс” вырос под крылом авторитарного государства, жившего за счет нефти. В течение почти всех 2000-х эти люди избегали политики, считая интерес к ней дурным тоном и предпочитая комфорт собственной среды. Теперь же политика вошла в моду. Восприимчивый к стилю и к веяниям моды Леонид Парфенов, который десять лет назад высмеивал Евгения Киселева за то, что тот вдруг “полез на баррикады”, теперь обращался с трибуны, сооруженной на уличном митинге, к своей аудитории – успешным, европеизированным профессионалам. Средний класс требовал действующих государственных институтов и возможностей для определенного образа жизни, а не нового политического лидера и не революции. Эти люди вообще не доверяли никаким партиям и организациям. Они были готовы сами организовываться и выступать наблюдателями на выборах, но не собирались делегировать свои полномочия каким-либо партиям или политикам, включая даже юриста Алексея Навального – популярного антикоррупционного блогера, который изначально и привел этот протест в движение.
Молодой, энергичный, голубоглазый. в джинсах и белой рубашке с закатанными рукавами, Навальный стал первым русским политиком американского типа. Не будучи частью сложившейся политической элиты, он жил с семьей на окраине Москвы, в Марьино, и всячески подчеркивал свою “обычность”. Его стиль и тактика будто были навеяны американским телесериалом “Прослушка”. Он пользовался социальными сетями, обходя препятствие в виде государственной монополии на телевидение, и в итоге ему удалось вывести тысячи своих подписчиков из виртуальной реальности интернета в реальность уличную.
Навальный родился в 1974 году в семье военного и вырос в подмосковных полузакрытых военных городках. Когда-то он был пламенным сторонником Чубайса и команды радикальных рыночных реформаторов начала девяностых, а в 2010-е отрекся от них как от “неудачников”. Он принадлежал к следующему, новому поколению и всячески выделял это стилистически. При всех различиях в возрасте, биографии, статусе и жизненных ценностях Навальный делал упор на то же, что и Ельцин в 1980-е: на коррупцию (при Ельцине речь шла о несправедливых привилегиях высшего партийного начальства) и на гражданский национализм (Ельцин выдвигал лозунг “суверенитета” России от советской империи). Навальный не был либералом и обращался к самым широким слоям населения, не ограничиваясь одним только “креативным” средним классом. Он позиционировал себя как националиста европейского толка и принимал участие в маршах против иммиграции из Средней Азии и с Кавказа. Россия, заявлял он, должна стряхнуть с себя бремя имперского наследия и строить национальное государство. Он эксплуатировал распространенное в народе недовольство привилегированным положением Чечни, управлять которой Путин поставил бывшего боевика Рамзана Кадырова.
Но главными мишенями Навального были клептократия и ложь кремлевской власти. Он находил и выкладывал в сеть сведения о богатствах путинских приближенных, публиковал фотографии их дворцов и названия английских школ, куда они отправляли учиться своих детей. Он выставлял представителей партии власти не коварными тиранами и страшными злодеями, а обыкновенными “жуликами и ворами”, прибравшими к рукам ресурсы большой страны. Определение прижилось и, несмотря на отсутствие Навального в телевизоре, разошлось по стране.
За протестами в больших городах последовали всплески недовольства в разных областях страны. Быстрее всего снижение популярности Путина происходило среди бедно живших людей старше 55 лет: они поняли, что Путин нарушил данные обещания, и устали ждать улучшений. Очевидная наглость партийной верхушки единороссов, которая бесстыдно захватывала землю и строила себе огромные особняки, вызывала особое раздражение населения. Кремлевская партия теряла легитимность в глазах самых разных социальных слоев, и возникал риск более массовых протестов. Внутренние войска и ОМОН могли разогнать демонстрацию, но остановить изменения в сознании людей им было не под силу.
Участников протестов арестовывали и давали им реальные тюремные сроки, однако на массовые репрессии Путин не решался. Кровопролитие лишило бы Кремль остатков легитимности. Путину необходимо было переиграть своих противников, одержав над ними идеологическую победу. Ему требовалось изменить настроение и образ мыслей, перехватить политическую повестку, озвученную лидерами протестного движения.
Путин отверг идею модернизации и, заручившись поддержкой православной церкви, начал продвигать архаичную идею “традиционных ценностей”. Судебный процесс против девушек из панковской группы Pussy Riot, устроивших представление прямо перед алтарем Храма Христа Спасителя, нападки на гомосексуалов и закон против усыновления российских детей американскими супружескими парами объединяла одна цель: возможность объявить либералов, протестовавших против нарушения прав человека и законности, кучкой гомосексуалистов и наемников Запада, готовых продавать русских детей иностранцам. Утратив лояльность среднего класса, Путин попытался сплотить более консервативный костяк своих избирателей, противопоставив рабочих условного “Уралвагонзавода” условным городским хипстерам. На самом деле и протестующие не были хипстерами, и “Уралвагонзавод” был мифологизирован, но требуемый образ все-таки возникал. Путин встал на путь популистского авторитаризма, отвернулся от “продажной” элиты и начал обращаться напрямую к народу, объявив протесты западным заговором против России.
Он использовал антиамериканскую риторику, как единственную идеологическую доктрину, пережившую гибель Советского Союза. Россия больше не хотела походить на Запад, она перестала искать его одобрения или признания. Напротив, она принялась трубить о своем особом пути. Максим Шевченко, тележурналист и активный борец с либерализмом, действующий с одобрения Кремля, писал в газетной колонке под заголовком “Мы не Европа? И слава Богу!”, что “между Россией и Западом идет война… Понимание, что мы с большинством западных людей принадлежим скорее всего к разным гуманоидным видам, внешне похожим, но внутри уже принципиально иным, не только не покидает – усиливается и укрепляется”[449].
Путинская тактика сработала, но лишь отчасти: она дискредитировала протестное движение и слегка насторожила тех, кто только собирался к нему примкнуть, однако не подняла рейтинг самого президента. Недоверие к Кремлю оказалось слишком глубоким. И если в 2011 году люди протестовали против нечестных выборов, то в 2013-м протестное движение обрело более откровенный политический характер. Навальный нападал на режим не только из-за манипуляций с подсчетом голосов, но и потому, что этот режим был жульническим, морально обанкротившимся и, следовательно, нелегитимным. В ответ Путин напирал на геополитику, восстановление статуса великой державы и превосходство русского мира над Западом. “Мы видим, как многие евроатлантические страны фактически пошли по пути отказа от своих корней, в том числе и от христианских ценностей, составляющих основу западной цивилизации”, – говорил Путин. Россия же, напротив, “всегда развивалась… как государство-цивилизация, скрепленная русским народом, русским языком, русской культурой, Русской православной церковью”[450].
Слова нужно было подкреплять делами. Политический кризис в Украине, в феврале 2014-го вылившийся в свержение президента Виктора Януковича, представлял собой одновременно и угрозу, и удобный предлог для действий. Российское государственное телевидение объявило революцию в Киеве частью американского заговора, главной целью которого было ослабить влияние России на постсоветском пространстве и отбросить ее за Урал. Логика пропаганды была примерно та же, что и в августе 2008 года, во время войны с Грузией, но новая кампания оказалась беспрецедентной по своему накалу и масштабу.
Готовясь к войне в Украине, Кремль зачистил последние островки вольнодумства в России: независимые СМИ, в том числе некоторые популярные информационные сайты, личные блоги и либеральный кабельный телеканал “Дождь”. Чтобы пропаганда была эффективной, ее следовало сделать тотальной. К делу приставили Дмитрия Киселева, главного телеведущего на канале “Россия”, которым руководил Олег Добродеев, некогда отвечавший за новости на НТВ.
Киселев в плотно обтягивающем фигуру костюме расхаживал взад-вперед по студии, опереточно жестикулируя и гримасничая. “Вот – усталые штурмовики-знаменосцы, – комментировал он кадры с тремя участниками протеста в Киеве, сидевшими со свернутым флагом Евросоюза. – В глазах – пустота и испуг… Вот – приготовление горячей пищи. Блюдо для гурманов: куски сала на раскаленной ржавой бочке”[451]. Еженедельная аналитическая новостная программа Киселева по стилю была близка оруэлловским “двухминуткам ненависти”, только растянутым на целый час. В 1999 году Киселев морализировал по поводу журналистской этики: “Если говорить: «о, пипл хавает», то он будет «хавать» постоянно… Любое снижение планки, морали и правил… – тогда в один прекрасный момент мы обнаружим себя в грязи, купающимися, как свиньи… И мы будем «хавать» друг друга, вместе с грязью, и вот тогда мы себя найдем, а ниже уже опуститься будет нельзя”[452]. Слова Киселева 1999 года лучше всего описывали его собственные программы 15 лет спустя. Неожиданное бегство Виктора Януковича и падение его режима позволило Путину осуществить амбициозный план, по-видимому, давно зревший у него в голове: аннексировать Крым. Удачное выполнение операции произвело тот же самый эффект “короткого замыкания”, который произвело выступление Путина после взрыва жилых домов в Москве в 1999 году.
Рейтинг Путина взлетел с 60 % до 80 %. Коррупция – главная тема на протяжении предыдущих двух лет – отступила на дальний план. Многие состоятельные россияне, еще несколько лет назад выступавшие против него, теперь перешли на его сторону. Ресентимент пьянил и мутил сознание. Аннексия Крыма стала заменой модернизации. Она дала людям ощущение достигнутой цели, хотя для этого им не пришлось пошевелить даже пальцем. Лишь 3 % россиян осудили аннексию. Крым давно являлся нервным центром имперской ностальгии России, а его возвращение было навязчивой идеей русских националистов с самого момента краха СССР. Аннексия – или, как ее официально называли в России, “присоединение” Крыма – вызвала всплеск эйфории.
18 марта 2014 года, выступая с торжественной речью по поводу присоединения Крыма к России в позолоченном Георгиевском зале Кремля, Путин чуть ли не буквально повторил слова, которые лет двадцать назад опубликовал в одиозной газете “День” Игорь Шафаревич, один из идеологов русского национализма: “В Крыму буквально всё пронизано нашей общей историей и гордостью. Здесь древний Херсонес, где принял крещение святой князь Владимир… В Крыму – могилы русских солдат, мужеством которых Крым в 1783 году был взят под Российскую державу”[453]. События рифмовались: князь Владимир крестился в Крыму, а теперь президент Владимир вернул эту землю России. В октябре 1993-го русские националисты пытались штурмовать Останкинскую телебашню, чтобы транслировать оттуда свои идеи. Теперь же эти самые идеи публично озвучивал президент России, и не понадобилось ни единого выстрела, чтобы его речь передали по всем центральным каналам телевидения.
На самом деле мало кто из россиян знал о том, что князь Владимир крестился именно в Крыму. Для большинства этот полуостров ассоциировался не столько с духовным или даже историческим наследием, сколько с обычными радостями жизни. Крым, некогда называвшийся всесоюзной здравницей, был местом, где многие проводили летний отпуск, крутили курортные романы. В советские времена там находились правительственные дачи и множество государственных санаториев. Но чтобы придать аннексии легитимность, Путину понадобилось сделать акцент на связь с христианской мифологией. Истинное же символическое значение аннексии Крыма заключалось в том, что Путин возвращал России ощущение былой имперской славы, утолял фантомную боль от распада страны. Прежде националисты и коммунисты могли только мечтать об этом.
Однако красно-коричневая коалиция, сформировавшаяся в начале 1990-х, с тех пор сильно изменилась. Нина Андреева, написавшая некогда письмо “Не могу поступиться принципами”, живет сегодня в крохотной квартирке в новозастроенной части Петергофа, штудирует труды Ленина и “руководит” Центральным комитетом Всесоюзной коммунистической партии большевиков – партии, куда входит, кроме нее самой, небольшая горстка пенсионеров. Старый коммунист Виктор Анпилов, который в 1993-м вел толпу на штурм “Останкино”, ютился на окраине Москвы в затхлом подвале, среди портретов Сталина и старых советских флагов, и умер в 2018 году.
В 2013 году возникла новая коалиция, объединившая националистов и жуликов. Аннексия Крыма, осуществленная с поразительной быстротой и ловкостью, скрепила этот союз. Но даже Александр Невзоров, первый российский телевизионный “каскадер”, экспериментировавший в 1990-е с идеей русского фашизма, однако потом “разочаровавшийся” в ней, испытывал брезгливость. “Если бы Крым взяли у сильной, богатой, храброй страны, это была бы благородная и честная победа. Но он был взят у истекающей кровью, раненой, обездвиженной страны. Это называется мародерство”, – писал он[454]. Однако именно телевизионные технологии, которые сам Невзоров пускал в ход в конце 1980-х, и позволили России взять Крым без боя.
События на месте разворачивались по сценарию телевизионной постановки, суть которой сводилась к следующему: власть на Украине захватили неонацисты, при поддержке американских спонсоров совершившие государственный переворот. Потомки коллаборационистов, сотрудничавших с Гитлером во время Второй мировой войны, сейчас оскверняют советские памятники и угрожают уничтожить русский язык и память о русской истории в Крыму. Русское население Крыма обращается за помощью к Владимиру Путину, и тот оказывает эту помощь. Уже готовый сценарий разыграли без предварительных репетиций 27 февраля, когда российские военные без опознавательных знаков за несколько часов совершили государственный переворот на территории Крыма, заняв здание парламента и заставив его депутатов – буквально под дулами автоматов – проголосовать за отделение от Украины; они взяли под контроль Симферопольский аэропорт и телевещательные компании, заблокировали украинские военные базы и посадили в местное правительство своих марионеток.
Российских солдат изображали не оккупантами, а освободителями. В интернете появилось видео, на котором российский солдат в Крыму держит на руках маленького ребенка. Изображение рифмовалось с гигантским памятником советскому Воину-освободителю, поставленным в 1949 году в Берлине. В Севастополе, на родине Российского Черноморского флота, горожане бурно радовались освобождению. Недоставало только одного – врага.
Пока военные делали свое дело, московские политконсультанты, работу которых координировал Владислав Сурков, формировали новое правительство Крыма. Одним из этих консультантов был Александр Бородай, сын православного философа-националиста, принимавший участие в антиельцинском восстании в 1993 году. В качестве студента философского факультета МГУ Бородая-младшего особенно интересовала идеология ультранационалистов, которые бежали из России после Октябрьской революции и весьма сочувствовали и содействовали подъему фашизма в Европе.
В 1992 году, когда ему было 19 лет, Бородай ездил воевать в Приднестровье, защищая этнических русских от молдавских “фашистов”, а годом позже оказался у Белого дома в Москве. По его собственным словам, он командовал отрядом из двадцати человек при штурме Останкинского телецентра в октябре 1993-го. После подавления восстания Бородай продолжил учебу, время от времени публикуясь в националистской газете “Завтра”. Правда, потом он зарабатывал на жизнь консультированием частных нефтяных компаний – как российских, так и иностранных. Таким образом, Бородай был живым воплощением слияния “духа денег” с имперскими националистическими идеями. Если Путин полагал, что он просто использует националистов, то националисты были уверены, что это они используют Путина. Крым был только началом. За ним должно было последовать создание протектората на юго-востоке Украины, который давал бы России фактический контроль над будущим всей Украины и возможность блокировать ее внешнеполитические решения.
Задача Бородая заключалась в том, чтобы разогреть ситуацию в Донбассе и спровоцировать цепную реакцию сепаратизма в других областях на востоке Украины. Назвали этот проект “Русская Весна” – по аналогии с “Арабской Весной”. Путин заговорил о “русском мире” и о Новороссии, использовав старый исторический термин, который относился к южным землям Российской империи. Туда входили обширные территории современной Украины, в том числе Одесская область, но, что курьезно, не входил сам Донецк, столица Донбасса. Россия начала тайно переправлять в Донецк деньги, оружие и провокаторов. В результате небольшая группа, состоящая из местных криминальных авторитетов, аферистов и радикально настроенных люмпенов, захватила здание местной администрации, которое вскоре превратилось не столько в революционный штаб, сколько в дурно пахнущий и захламленный сквот. Конфликт в Донецке тлел, но не разгорался. Для массового сепаратистского движения не хватало зажигательного материала и горючего. Весной 2014 года таким “зажигательным материалом” стало вторжение в небольшой город Славянск отряда Игоря Гиркина (Стрелкова). Гиркин, взявший себе псевдоним Стрелков, работал с Бородаем в Крыму и имел большой боевой опыт: в начале 1990-х он воевал в Приднестровье, потом в Боснии, на стороне сербской армии, и, наконец, в Чечне, где на его счету было несколько “исчезновений” (тайных казней) жителей республики, подозреваемых в пособничестве боевикам. Он утверждал, что раньше служил в ФСБ. Но, что гораздо важнее, он страстно увлекался историческими реконструкциями прошлых войн. Гиркин, выпускник Историко-архивного института, состоял в одном из клубов реконструкторов, которые наряжались в исторические костюмы и разыгрывали театральные представления, воспроизводившие знаменитые сражения прошлого. Особенно привлекала Стрелкова гражданская война 1917–1922 годов: в ней он играл роль офицера-белогвардейца. Сценарии последних военно-исторических игр, в которых он участвовал, имели отношение к действиям русской Добровольческой армии на юго-востоке Украины в 1920 году. Летом 2014-го у Стрелкова появился шанс “поиграть” в российскую гражданскую войну с применением настоящего, а не бутафорского оружия.
В апреле 2014 года Стрелков с отрядом, поддерживаемым российским спецназом. нелегально пересек государственную границу Украины и вошел в Славянск, где первым делом захватил здание администрации, местный телецентр и, в качестве надежного укрытия, здание психиатрической больницы. Как рассказывал впоследствии Гиркин, в его распоряжении на момент входа в Славянск были 62 автомата и 62 пистолета. Правда, была еще пара танков, которые Гиркин для “поддержания боевого духа” пускал по городу по ночам, имитируя присутствие большой группировки войск. Расчет был на крымский вариант и на ввод российской армии, но он не оправдался: боеприпасов не подвезли, регулярные войска в город не вошли. Украинские военные вскоре выбили отряд Гиркина из Славянска. Но это вторжение сыграло свою роль, и через несколько дней вооруженные сепаратистские конфликты разгорелись на всем юго-востоке Украины. Во многих населенных пунктах украинское вещание отключили от эфира, оставив только российские телеканалы.
Российское телевидение вообще сыграло ключевую роль в событиях в Украине. Информационная война, которая велась в основном силами телевидения, приводила к реальным жертвам и разрушениям. Войны и раньше транслировали по телевидению. Но еще никогда война не начиналась, а территория не захватывалась посредством телевидения и пропаганды. Роль военных сводилась к тому, чтобы поддерживать телевизионную картинку гражданской войны в Украине и отражать попытки украинской армии взять территорию своей страны под контроль. Российские СМИ уже не просто искажали реальность – они изобретали ее: использовали поддельную видеосъемку, передергивали цитаты, привлекали актеров (бывало даже, что один и тот же актер разыгрывал для одного канала жертву, а для другого – агрессора). “Наша психика устроена так, что только художественная форма способна объяснить время [в которое мы живем]”, – сказал однажды Эрнст[455].
12 июля 2014 года “Первый канал” показал интервью с женщиной, которая представлялась жительницей Украины, якобы ставшей свидетельницей страшной картины – публичной казни трехлетнего мальчика, которого распяли на доске объявлений на главной площади Славянска, когда туда вновь вошли правительственные войска Украины. Она не поскупилась на кровавые подробности: украинские “твари” – “правнуки галичан”, сотрудничавших с гитлеровцами, – изрезали малыша и заставили его мучиться полтора часа перед смертью. Женщина добавила, что мать мальчика привязали к танку и протащили по площади. История, рассказанная в эфире главного телеканала страны, была вымыслом от начала и до конца. Запуская такие легенды о распятых или замученных украинскими солдатами детях, российская пропаганда приводила в действие испытанный временем механизм возбуждения ненависти. Многие российские телевизионщики, закончившие журналистский факультет, где была военная кафедра, обучались средствам “спецпропаганды”, целью которой было “деморализовать вражескую армию и установить контроль над оккупированной территорией”. Как писал в 2015-м Владимир Яковлев, посещавший занятия на этой военной кафедре, одним из приемов, которым обучали студентов, был метод “большой лжи”.
Его суть заключается в том, чтобы с максимальной степенью уверенности предложить аудитории настолько глобальную и ужасную ложь, что практически невозможно поверить, что можно врать о таком. Трюк здесь в том, что правильно скомпонованная и хорошо придуманная “большая ложь” вызывает у слушателя или зрителя глубокую эмоциональную травму, которая затем надолго определяет его взгляды вопреки любым доводам логики и рассудка. Особенно хорошо работают в этом смысле ложные описания жестоких издевательств над детьми или женщинами. Допустим, сообщение о распятом ребенке за счет глубокой эмоциональной травмы, которую оно вызывает, надолго определит взгляды получившего эту информацию человека, сколько бы его потом ни пытались переубедить, используя обычные логические доводы[456].
В отличие от инструкций, описанных в учебниках по спецпропаганде, направленной на деморализацию противника, главной мишенью российской спецпропаганды и большой лжи стали граждане собственной страны.
Российское телевидение действовало, как психотропное средство, как галлюциноген. Вот что писал об этом Невзоров: “Патриотические видения истеричны, агрессивны и настойчивы… Следует помнить, что, помимо задач прикладных и промежуточных, у патриотизма всегда есть главная цель. Та самая, ради которой этот идеологический наркотик и закачивается стране в вены. Она состоит в том, чтобы по первому же щелчку пальцев любого дурака в лампасах толпы мальчишек добровольно соглашались бы превратиться в гниющее обгорелое мясо”[457].
Цель информационной войны, развязанной Россией, заключалась не в том, чтобы убедить кого-то в правоте российской позиции, а в том, чтобы втянуть в конфликт гражданское население как в России, так и в Украине, – и этой цели телевидение добилось. Многие из жителей украинского юго-востока, взявших в руки оружие, не имели регулярных доходов и социального статуса, подрабатывая в “копанках” – нелегальных шахтах, и не ощущали причастности к Украине как к государству. Некоторые раньше служили в советской армии и после распада СССР полагали, что советская родина их бросила. Нажимая на эти болевые точки, российское телевидение звало их воевать за страну, которой больше не было, которая прекратила свое существование почти четверть века назад. Затеянная Россией гибридная война придавала смысл жизни этих людей, возвышала их над прежним жалким и безнадежным существованием, выводила их на телеэкраны, внушала, что они – жертвы и герои, обеспечивала оружием и указывала на врага. Одновременно российская пропаганда мобилизовала еще и тысячи добровольцев из россиян, которые устремились на восток Украины, чтобы тоже поучаствовать в кровавой битве с украинскими “фашистами”.
Люди, которые вели российскую пропаганду, руководствовались отнюдь не идеей пресловутого “русского мира” или мечтой о возрождении империи: для этого они были чересчур прагматичны. Они действовали, руководствуясь не реальностью, а полным пренебрежением ею. Фантазмы, ожившие их стараниями, выходили из-под контроля и начинали жить своей жизнью. Через пять дней после того, как по телевизору показали сюжет о якобы распятом мальчике, сепаратисты, при поддержке российских военных и с применением российской ракетной установки “земля-воздух” “Бук”, сбили малайзийский “Боинг”, выполнявший рейс MH 17, и лишили жизни 298 ни в чем не повинных людей, среди которых были дети.
Впрочем, для подавляющего большинства россиян война в Украине оставалась всего лишь телевизионным шоу. На протяжении всего 2014 года новостные программы, часто длившиеся вдвое дольше обычного, целиком посвящались Украине, словно жизнь в самой России остановилась. Войну по сути превратили в сериал, состоявший из ежедневных часовых выпусков, полных крови и насилия. В новостных программах использовались кинематографические приемы и спецэффекты: клипы, драматические флэшбэки, монтаж, тревожная музыка. Телеканалы соревновались между собой за наибольшее число зрителей (и рекламодателей), “продавая” им кинодраму о войне, которую сами же и продюсировали. Впервые в истории России новостные программы заняли первое место в рейтинге зрительского внимания, опередив даже мыльные оперы и сериалы. Как всегда, лидировали в списке “Первый канал” и его программа “Время”.
Для российских зрителей это шоу было практически бесплатным. Санкции, наложенные на Россию Западом, почти не затрагивали большинство населения – во всяком случае, поначалу. Случаи гибели российских солдат, которых тайно отправляли воевать в Украину, тщательно скрывались. Телевизионная мобилизация стала главным ресурсом поддержки рейтинга Путина.
Чтобы удержать зрительское внимание, сюжет должен был развиваться, обрастая новыми виртуальными врагами и повышая уровень агрессии и ненависти. Воинственная риторика применялась не только по поводу Украины, но и в адрес Запада в целом. В сознание простых россиян внедрялась мысль о том, что Россия находится в состоянии войны с Америкой. Те же, кто выступал против войны, автоматически признавались “национал-предателями” и пособниками украинского фашизма, взращенного на деньги западных спонсоров.
На либералов нападали все телеканалы, но с особым рвением этим занималось НТВ, будто отыгрываясь за собственное прошлое. Одной из постоянных мишеней для нападок сделался Борис Немцов – человек, когда-то символизировавший надежды России на то, что ей удастся стать нормальной, цивилизованной и прежде всего свободной страной, частью которой хотело видеть себя раннее НТВ. 3 мая 2014 года он написал на своей странице в Фейсбуке:
Такого уровня всеобщей ненависти, как сейчас в Москве, я не помню. Ни в 91 во время августовского путча, ни даже в 93… Агрессия и жестокость активно разжигаются зомбоящиком, а ключевые дефиниции исходят от перекошенного злобой бесноватого хозяина Кремля. Национал-предатели, пятая колонна, фашистская хунта, карательные операции бандеровцев – все эти термины исходят из одного кабинета. Самые низменные и подлые инстинкты поощряются нынешней властью, культивируются ею. Людей натравливают друг на друга, провоцируя бойню… Весь этот ад закончиться мирно не может[458].
Меньше чем через год, 27 февраля 2015 года, Борис Немцов был застрелен четырьмя выстрелами в спину в считанных метрах от Кремля. Через два дня должна была состояться антивоенная демонстрация, которую готовил Немцов. Теперь же его крупное тело лежало на мокром асфальте, накрытое черным мусорным мешком, на фоне куполов собора Василия Блаженного. Место убийства было нарочито открыточным; убийцы предъявляли эту “открытку” как знак полной своей безнаказанности и своего права на насилие. Когда одного из подозреваемых все-таки задержали, он оказался офицером из гвардии Рамзана Кадырова. Война ударила не только по Украине, но и по самой России. Волна ненависти, ксенофобии и агрессии, разгоняемая телевидением, накрыла страну и тех, кто пытался этому мороку противостоять. Именно за эти попытки Немцова клеймили предателем, именно этот морок настиг Немцова у стен Кремля.
За несколько недель до его гибели на фасадах московских домов стали появляться провокационные плакаты с портретами Немцова и надписью “Пятая колонна – чужие среди нас”.
За шесть дней до убийства Немцова власть устроила в центре Москвы шествие против Украины, Запада и российских либералов. Сотни людей, свезенные в центр города, стройными рядами шли вниз по Петровке в сторону Кремля с антиукраинскими лозунгами. Картина напоминала немецкие хроники 1930-х годов. Накачанные ребята, представлявшие Чечню, несли плакат “Путин и Кадыров не допустят Майдана в России”, а рядом – фотографии Немцова, подписанные “Организатор Майдана”.
После убийства Немцова Владимир Яковлев, основатель “Коммерсанта”, публично обратился ко всем журналистам, работающим в СМИ. Он говорил не только за себя лично, но и от имени покойного отца, Егора Яковлева. “Перестаньте учить людей ненависти. Потому что ненависть уже разрывает нашу страну на части. Люди ненавидят друг друга. Люди живут в безумной иллюзии, что страну окружают враги. Мальчишек убивают на войне. Политиков расстреливают у стен Кремля. Не Европа и не Америка, а наша страна находится на грани социальной катастрофы. «Информационная война» прежде всего уничтожает нас самих”[459]. Ни один враг России не мог бы нанести столько вреда стране, сколько нанесли телевизионные каналы, по которым распространялся вирус ненависти. Как наркоделец, телевидение эксплуатировало слабости и желания людей, потакая и обращаясь к худшим человеческим инстинктам и формируя зависимость от агрессии. Российская пропаганда работала именно потому, что люди хотели в нее верить. Причем многих из тех, кто испытывал такое желание, никак нельзя было назвать бедными и невежественными: напротив, они были весьма состоятельны и хорошо информированы. Опросы общественного мнения показывали, что почти половина населения России осознавала, что Кремль лжет всему миру об отсутствии российских войск на Украине, но одобряла эту ложь, видя в ней признак силы. Больше половины россиян считали, что СМИ имеют право искажать информацию в интересах государства. Главная задача информационной войны состояла в том, чтобы убедить население, будто все думают одинаково, создать страх оказаться в одиночестве, назвать морок мороком.
Морок же тем временем требовал постоянной подпитки и новых жертв. Война в Украине плавно перетекла в военные действия в Сирии. В сентябре 2015 года Россия начала бомбить сирийских повстанцев, пытаясь таким образом защитить президента Башара Асада, применявшего химическое оружие против собственных граждан. Бомбардировки Сирии были первыми военными действиями российской армии за пределами постсоветского пространства после ввода войск в Афганистан в 1979 году. Если война в Украине преподносилась и воспринималась в основном как региональный конфликт, в котором участие российских военных скрывалось, то в Сирии российские ВВС воевали открыто и действовали в одном воздушном пространстве с американскими самолетами. Операция в Сирии отвлекала зрителей от снижения интенсивности военных действий на юго-востоке Украины. Летом 2015 года и война на Донбассе, и эйфория, вызванная аннексией Крыма, стали постепенно затухать. Тогда же начали ощущаться последствия введения Западом экономических санкций в отношении России и падения цен на нефть. Реальные доходы населения постепенно снижались. Расширить конфликт в Украине можно было только путем введения регулярных войск и фактической оккупации части страны. Но платить за телевизионное шоу жизнями своих родных население не было готово, как не готово оно было и жертвовать своими доходами при неизбежном введении новых санкций. Кремль решил конфликт заморозить, в надежде на то, что Украина сама начнет разваливаться под грузом экономических и социальных проблем, отчасти вызванных войной.
В то же время после двухлетнего военного сериала о русскоязычных повстанцах Донбасса, борющихся против украинских “фашистов”, захвативших власть в Киеве, телевидение не могло вернуться к картинке мирной и спокойной жизни. Не могло оно и переключиться на внутреннюю повестку, поскольку это бы неизбежно обнаружило разрыв между нарастающими экономическими и социальными проблемами и телевизионной пропагандой “могущества державы” с ее “великими свершениями”. Путин прекрасно понимал, что именно это несоответствие между жизнью и телекартинкой подрывало успешнее любого врага эффективность советской пропаганды. Легитимность путинского режима традиционно держалась на росте благосостояния и образе великой державы. который определялся уровнем конфронтации с Америкой. Резкое сокращение доходов и потребления должно было компенсироваться демонстрацией внешнеполитических побед. Война в Сирии, проявившая слабость американской позиции, представляла идеальную возможность для Кремля. Официально Москва заявляла, что сражается с исламским государством ИГИЛ, запрещенным в России; в реальности бомбы падали на всех, кого поддерживал Запад.
Не в силах восстановить экономический рост, Путин сделал свой третий президентский срок сроком войны и мобилизации.
Телевидение не столько освещало внешнюю политику, сколько предлагало ее, используя военные действия в качестве исходного материала для создания нужной картинки. Рейтинг Путина напрямую зависел от размера телевизионной аудитории и способности телевидения удерживать внимание этой аудитории. Для этого в ход пускались любые художественные и коммерческие приемы. Новостные сюжеты о военных действиях в Сирии напоминали боевик. Те же самые репортеры, которые отличились в Украине, теперь смаковали драматические удары российских ракет в Сирии и рёв российских истребителей, взмывающих в воздух перед их камерами. Даже прогнозы погоды стали напоминать боевые сводки. Сообщения о благоприятных погодных условиях в небе над Сирией для осуществления бомбардировок сменялись кадрами самих взрывов, снятыми из кабины пилота. “По взлетно-посадочной полосе разгоняется пара штурмовиков «Су-25». У каждого на подкрыльевых пилонах – по восемь бомб «ФАБ-250». Пара наберет высоту, развернется над морем – для безопасного набора – и перелетит через хребет, возьмет курс на цель”, – заходился в кадре корреспондент телеканала “Россия”.
Телевизионное шоу явно пользовалось успехом, и за две недели бомбардировок количество граждан, одобряющих российское военное вмешательство в Сирии, увеличилось втрое.
Телевизионщики упивались картинками войны и показывали одни и те же кадры изо дня в день, от одного выпуска новостей к другому. Запуск крылатых ракет из акватории Каспийского моря 7 октября 2015 года – в день рождения Путина – был объявлен началом новой геополитической эры и привел телевизионные каналы в состояние экстаза. “Это первое боевое использование крылатых ракет морского базирования. Между пусками разница всего в несколько секунд, так что это больше всего было похоже на непрерывную ракетную очередь. Впервые стреляли залпами, по несколько ракет подряд, сразу со всех кораблей ударной группы. Зрелище незабываемое”, – восторгался Киселев. “И конструкторские бюро работают, и предприятия, и личный состав обучен. Это огромная цепочка больших коллективов слаженно и творчески работающих людей. Первый боевой опыт боевого применения наших лучших в мире крылатых ракет – их общий успех, как и успех всей страны”.
Создавалось впечатление что запуском ракет – как салютом – “коллективы” приветствовали президента страны в день его рождения. Смысл операции заключался не столько в уничтожении сил ИГИЛ, сколько в демонстрации Америке военной мощи России. Киселев не унимался: “Любой американский авианосец, например, может быть уничтожен попаданием трех «Калибров»… «Калибр» в натовской классификации называют sizzler, что можно перевести как «испепелитель». Ее убойная дистанция – 4 тысячи километров. Может оснащаться как обычной боеголовкой, так и ядерной”. Операция в Сирии должна была наглядно опровергнуть утверждение Обамы, что Россия – региональный игрок, и подтвердить ее статус глобальной державы, не уступающей США в исключительности. Пять месяцев и пять тысяч вылетов спустя Путин, кажется, добился поставленной цели. 22 февраля – накануне праздника армии – президент РФ объявил с экранов телевизоров о достигнутой Россией договоренности с США о прекращении огня, фактически констатировав победу над Америкой в геополитическом состязании, которого, по мнению Обамы, не существовало в природе.
В начале марта 2016 года Путин заявил о выводе российских войск из Сирии – таком же внезапном, как и вторжение туда. В реальности войска оставались в Сирии, но телеканалы трубили победу и показывали ликующие толпы россиян с триколорами и женщин в кокошниках и народных костюмах, встречающих российских летчиков хлебом-солью. Победа “добра над злом”, как ее описывали телеканалы, сопровождалась масштабной пиар-акцией. Оркестр Мариинского театра во главе с дирижером Валерием Гергиевым и в сопровождении российских и иностранных журналистов прилетел в Сирию и устроил концерт в древнеримском амфитеатре в Пальмире, где за год до того исламские террористы казнили 25 человек. Звуки разрывающихся снарядов сменились музыкой Баха и Прокофьева. Шоу показывали по телевизору – совсем как открытие олимпиады. Путин по видеосвязи благодарил музыкантов, среди которых был и Сергей Ролдугин – друг Путина, выведший, согласно “панамским бумагам”, два миллиарда долларов на офшорные счета. Трудно было себе представить лучшую иллюстрацию путинского правления.
Перемирие в Сирии, о котором объявил Путин, продолжалось недолго, и военные действия вскоре возобновились с новой силой при участии российских бомбардировщиков. Но эта пауза дала возможность кремлевским пропагандистам и идеологам закрепить в сознании зрителей образ победы. Миссия была выполнена. Россия сравнялась с Америкой и приблизилась к ней, но совсем не в том и не так, как представляло себе это горбачевское поколение, закончившее холодную войну.
Америка занимала определяющее место в русском сознании на протяжении веков.
Америку воспевал Радищев в оде “Вольность”; Америка с ее Декларацией независимости вдохновляла декабристов, вышедших на петербургскую Сенатскую площадь в 1825 году; Америка мерещилась большевикам в качестве модели для индустриализации. (Сталин определял ленинский стиль как соединение “русского революционного размаха и американской деловитости”.) На протяжении всей советской эпохи Америку клеймили и Америке подражали. Власть безуспешно пыталась бороться с “тлетворным” американским влиянием в литературе, кино, моде, музыке, вызывая тем самым еще большее влечение к американской мечте. Власти были правы в своих страхах: именно экономические успехи Америки и ее моральные ценности и подорвали в конце концов советский режим.
В первые годы после распада СССР Америка была безусловным образцом для реформаторов – пока действия олигархов, с одной стороны, и американские военные интервенции в Югославию и Ирак, с другой, в корне не изменили это положение вещей. Но чем больше нарастал антиамериканизм в государственных СМИ, тем активнее массовая культура копировала американские образцы. Песня Олега Газманова “Сделан в СССР” 2005 года, которая начиналась словами “Украина и Крым, Беларусь и Молдова – это моя страна”, была написана на музыку песни Брюса Спрингстина Born in the USA. Патриотические российские блокбастеры были сделаны по американским лекалам (иногда – даже с использованием изначальных диалогов). Нарратив войны в Грузии 2008 года копировал американские действия в Косово и Ираке. Война в Украине подавалась как противостояние с американской экспансией. Если в советские годы Америка была символом свободы, то теперь она использовалась как пример безнаказанности и вседозволенности. Так и не восприняв американский опыт в сфере личностных прав и свобод и приоритета частной жизни перед государственными интересами, Россия легко усвоила негативный опыт использования США военной силы. Если Америка могла бомбить Косово и Ирак, то почему Россия не могла бомбить Грузию или Сирию? Победу на выборах Дональда Трампа праздновали в России как собственную победу. И дело было не только и не столько в том, что российские хакеры поспособствовали его приходу к власти: Трамп наглядно подтверждал все то, о чем трубила сначала советская, а затем российская пропаганда. Любой, кто вырос на советских книгах, мог легко узнать в нем “мистера Твистера” – “владельца заводов, газет, пароходов”. Трамп, объявивший войну ненавистной ему либеральной элите, ярко демонстрировал то, что Путин внушал многие годы российскому народу: все разговоры о либеральных демократических ценностях – это лицемерие, а в основе всего лежат шкурные интересы правящего класса. А если так, то Россия ничем не отличается от других “цивилизованных” стран, просто их лидеры умеют лучше прикрывать свои интересы политкорректными словами о свободе. Однако теперь пришел Трамп и назвал все своими именами, почти дословно повторив то, что говорил Путин, но применительно к США: пообещал поднять Америку с колен и объявил либерально настроенные медиа рассадниками лжи и ненависти.
И Трамп, и Путин (образца 2010-х годов) стали реакцией на либеральную эпоху 1990-х, и оба они выдвинули повестку реставрации былого величия и восстановления статуса “сверхдержав”. Но “реставраторы” редко приводят свои страны в ту “золотую” эпоху, которую намереваются то ли восстановить, то ли создать заново. Их главный ограничитель – это историческое время, которое ярко проявляет себя в поколенческих сдвигах. В России подобные сдвиги особенно заметны, и именно они определяют траекторию страны. Дело здесь не в “мировом духе”, а в слабости институтов, которые должны обеспечивать преемственность политики вне зависимости от прихода к власти людей нового поколения.
Именно поколенческий сдвиг стал мотором протестного движения начала и середины 2010-х годов. В одном из интервью Горбачева автору этой книги последний советский лидер сказал, что, затевая перестройку, он прекрасно осознавал, что ее результатами воспользуются не его ровесники и даже не их дети, а поколение внуков, то есть те, кто родился в середине или конце 1980-х. В середине 2010-х им было около 30 лет – столько, сколько было ровесникам самого Горбачева в начале 1960-х годов, когда они ощутили в себе силы и желание строить “социализм с человеческим лицом”. Слово “человеческий” было для них не менее важно слова “социализм”. Их разногласия с советской властью носили не только эстетический, но и этический характер. Именно поэтому введение войск в Чехословакию в 1968 году было для них травмой и крушением надежд, объединивших их в поколение шестидесятников.
Для поколения их внуков таким событием стало подавление протестов 2011–2012 годов и последовавшие за ним введение войск в Украину и аннексия Крыма. Их травма – это та же травма неосуществленной модернизации страны. Их расхождение с путинизмом носит не экономический и даже не политический, но в первую очередь этический характер. Они выступают против коррупции, “басманного правосудия” и войны не потому, что это портит “инвестиционный климат”, а потому, что это безнравственно и лишает их будущего.
В отличие от путинского поколения, для которого главным критерием успеха было материальное благополучие, для поколения “внуков” Горбачева таким основным критерием является самореализация, которой сложно добиться в условиях “осажденной крепости”. Они не “преклоняются” перед Западом и не завидуют ему. Они чувствуют себя частью открытого мира. Они хотят гордиться своей страной, не испытывая при этом трепета перед государством. Как и любое другое поколение, они отвергают поколение отцов и апеллируют к опыту “дедов”, провозгласивших главенство человеческих ценностей над государством. Они уверены в собственных силах и лишены комплекса неполноценности.
Особенно ярко этот поколенческий сдвиг проявился весной и летом 2017 года, когда на призыв Навального выйти на улицы откликнулись те, кто родился в 2000 году, год прихода к власти Путина. 12 июня 2017-го, в День независимости России, провозглашенной Ельциным в 1990 году, две повестки – будущего и прошлого – столкнулись на центральной московской улице лицом к лицу. Нижняя часть Тверской была занята “реконструкторами”, ряженными в исторические костюмы разных эпох – от Ивана Грозного до НКВД. Сверху, от Пушкинской площади, шли современно одетые молодые люди с российскими флагами. Они скандировали “Мы здесь власть” и “Долой царя”. ОМОН сначала преградил шествию дорогу, а затем начал жестко разгонять его участников. За щитками омоновских шлемов скрывались лица солдат, не многим старше протестующих. Но дело было не в возрасте, а в ощущении принадлежности к поколению. Одни отстаивали будущее, другие защищали прошлое.
На стороне государства были деньги, армия, полиция и пропаганда. На стороне протестующих – слова, моральные ценности и ощущение правды, а как говорил Данила Багров в “Брате -2”, “у кого правда, тот и сильнее”. Этих людей можно было разогнать и даже задержать, загнать в идеологическую резервацию и в конце концов выдавить из страны. Но чем сильнее сжимать пружину, тем сильнее будет отдача. В начале 20-го века это “сжатие” привело к большевистской революции. В конце века – к распаду страны, большевиками провозглашенной. В истории есть предрасположенность, но нет неизбежности. Единственная постоянная черта российской истории – ее полная непредсказуемость. Как сказал однажды Егор Гайдар, описавший гибель советской империи, большие перемены происходят позже, чем мы думаем, но раньше, чем мы ожидаем. К чему приведут попытки удержать Россию в прошлом, как она будет выглядеть и что будет говорить в будущем – знать не дано.
Избранная библиография
Авен П., Кох А. Революция Гайдара. История реформ 90-х из первых рук. М., Альпина-Паблишер, 2013.
Альбац Е. Мина замедленного действия. Политический портрет КГБ. М., РУССЛИТ, 1992.
Амальрик А. Просуществует ли Советский Союз до 1984 года? Амстердам, Фонд имени Герцена, 1969.
Бабель И. Одесские рассказы. М., Азбука, 2013.
Бакатин В. Дорога в прошедшем времени. М., Дом, 1999.
Бобков Ф. КГБ и власть. 45 лет в органах государственной безопасности. М., Ветеран МП, 1995.
Бовин А. ХХ век как жизнь. М., Захаров, 2003.
Бродский И. Полторы комнаты. Перевод Дмитрия Чекалова. Новый мир, № 2, 1995.
Бунин И. Окаянные дни. М., Советский писатель, 1990.
Волков А., Пугачева М., Ярмолюк С. Пресса в обществе, 1959–2000. М., Московская школа политических исследований, 2000.
Гайдар Е. Власть и собственность: смуты и институты. Государство и эволюция. СПб., Норма, 2009.
Гайдар Е. Гибель империи: уроки для современной России. М., РОССПЭН, 2007.
Гайдар Е. Дни поражений и побед. М., Альпина-Паблишер, 1996.
Геворкян Н., Тимакова Н., Колесников А. От первого лица: разговоры с Владимиром Путиным. М., Вагриус, 2000.
Горбачев М. Наедине с собой. М., Грин-стрит, 2012.
Горбачев М. Жизнь и реформы, в 2 томах. М., Новости, 1995.
Грачев А. Горбачев. М., Вагриус, 2001.
Грачев А. Кремлевская хроника. М., Эксмо, 1994.
Гроссман В. Жизнь и судьба. М., Книжная палата, 1989.
Ельцин Б. Записки президента. М., РОССПЭН, 2008.
Ельцин Б. Исповедь на заданную тему. М., РОССПЭН, 2008.
Ельцин Б. Президентский марафон. М., Огонек, 1994.
Зорин А. Где сидит фазан: очерки последних лет. М., Новое литературное обозрение, 2003.
Зорин А. Кормя двуглавого орла. М., Новое литературное обозрение, 2001.
Зыгарь М., Панюшкин В. Газпром: новое русское оружие. М. Захаров, 2008.
Иванова Н. Ностальящее. М. Радуга, 2002.
Колесников А. Я Путина видел! М., Эксмо, 2005.
Коржаков А. Борис Ельцин: от рассвета до заката. М., Интербук, 1997.
Кувшинова М. Балабанов. СПб., Сеанс, 2013.
Куцылло В. Записки из Белого Дома. М. Коммерсантъ, 1993.
Лацис О. Тщательно спланированное самоубийство. М., Московская школа политических исследований, 2001.
Левада Ю. От мнений к пониманию. М., Московская школа политических исследований, 2000.
Медведев Р. Андропов. М., Молодая гвардия, 2006.
Митрохин Н. Русская партия: движение русских националистов в СССР 1953–1985. М., Новое литературное обозрение, 2003.
Немцов Б. Исповедь бунтаря. М., Партизан, 2007.
Оруэлл Дж. 1984. М., АСТ, Харвест, 2009.
Парфенов Л. Намедни. Наша эра 1946–1960. М., КоЛибри, 2014.
Парфенов Л. Намедни. Наша эра 1961–1970. М., КоЛибри, 2010.
Парфенов Л. Намедни. Наша эра 1971–1980. М., КоЛибри, 2010.
Парфенов Л. Намедни. Наша эра 1981–1990. М., КоЛибри, 2010.
Парфенов Л. Намедни. Наша эра 1991–2000. М., КоЛибри, 2010.
Парфенов Л. Намедни. Наша эра 2001–2005. М., КоЛибри, 2012.
Парфенов Л. Намедни. Наша эра 2005–2010. М., КоЛибри, 2013.
Пихоя Р., Журавлев С., Соколов А. История современной России: десятилетие либеральных реформ: 1991–1999. М., Новый хронограф, 2011.
Ревзин Г. Русская архитектура рубежа XX–XXI веков. М., Новое издательство, 2013.
Розанов В. Апокалипсис нашего времени. М., Захаров, 2001.
Саппак В. Блокноты 1956 года. М., Московский художественный театр, 2011.
Саппак В. Телевидение и мы. Четыре беседы. М., Искусство, 1963.
Сахаров А. Воспоминания, в 3 томах. М., Время, 2006.
Смелянский А. Междометия времени. М., Искусство, 2002.
Соколов М. Поэтические воззрения россиян на историю, в 2 томах. М., Русская панорама, 1999.
Солженицын А. Бодался теленок с дубом. М., Согласие, 1996.
Солженицын А. Один день Ивана Денисовича. М., Азбука, 2012.
Солженицын А. Архипелаг ГУЛАГ, в 3 томах. М., Советский писатель, 1989.
Солженицын А. Жить не по лжи!:
Твардовский А. Новомирский дневник, 1961–1966. М., ПРОЗАиК, 2009.
Твардовский А. Василий Тёркин. М., Речь, 2015.
Томилина Н. (под редакцией) Никита Сергеевич Хрущев. Два цвета времени: документы из личного фонда Н. С. Хрущева, в 2 томах. М., Международный фонд “Демократия”, 2009.
Трегубова Е. Байки кремлевского диггера. М., Ad Marginem, 2003.
Ходорковский М., Невзлин Л. Человек с рублем. М. Менатеп-Информ, 1992.
Черняев А. Совместный исход. Дневник двух эпох. 1972–1991 годы. М., Российская политическая энциклопедия, 2010.
Черняев А., Вебер А., Медведев В. (под редакцией) В Политбюро ЦК КПСС: 1985–1991. М. Альпина-Бизнес-Букс, 2006.
Шварц Е. Дракон. Ленинград, Советский писатель, 1972.
Шендерович В. Здесь было “НТВ” и другие истории. М., Захаров, 2004.
Яковлев А. Омут памяти, в 2 томах. М., Вагриус, 2001.
Яковлев А. Сумерки. М., Материк, 2005.
Яковлев Е. Я иду с тобой. М., Молодая гвардия, 1965.
Янов А. После Ельцина. Веймарская Россия. М. Московская городская типография Пушкина, 1995.
Albats, Y. KGB: State Within a State. The Secret Police and its Hold on Russia’s Past, Present and Future. London. I. B. Tauris, 1995.
Almqvist, K. and A. Linklater (eds) On Russia. Perspectives from the Engelsberg seminar 2008. Stockholm, Axel and Margaret Ax: son Johnson Foundation, 2009.
Amalrik, A. Will the Soviet Union Survive until 1984? New York, Harper & Row, 1981.
Aron, L. Yeltsin: A Revolutionary Life. New York: St Martin’s Press, 2000.
Aron, L. Roads to the Temple: Truth, Memory, Ideas, and Ideals in the Making of the Russian Revolution, 1987–1991. New Haven and London: Yale University Press, 2012.
Baker, P. and S. Glasser Kremlin Rising. New York: Scribner, 2005.
Billington, J. The Icon and the Axe: An Interpretative History of Russian Culture. New York: Vintage Books, 1970.
Brodsky, J. Less Than One. London: Viking, 1986.
Brown, A. The Gorbachev Factor. Oxford University Press, 1996.
Bunin, I. Cursed Days: A Diary of Revolution. Trans. by G. Marullo. London: Phoenix Press, 2000.
Clark, B. An Empire’s New Clothes: The End of Russia’s Liberal Dream. London: Vintage, 1995.
Colton, T. J. Yeltsin: A Life. New York: Basic Books, 2008.
Conquest, R. The Great Terror: A Reassessment. London: Pimlico, 1990.
Copetas, A. C. Bear Hunting with the Politburo. American Adventures in Russian Capitalism. Lanham, MD: Madison Books, 2001.
Cohen, S. F. (ed.) An End to Silence: Uncensored Opinion in the Soviet Union from Roy Medvedev’s Underground Magazine Political Diary. New York: W. W. Norton and Company, 1982.
Cohen, S., and K. Heuvel, vanden Voices of Glasnost: Interviews with Gorbachev’s Reformers. New York: W. W. Norton and Company, 1989.
Freeland, Ch. Sale of the Century: Russia’s Wild Ride from Communism to Capitalism. New York: Crown Books, 2000.
Gaddy, Cl. G. The Price of the Past: Russia’s Struggle with the Legacy of a Militarized Economy. Washington: Brookings Institution Press, 1996.
Gaddy, Cl. G., and B. Ickes Russia’s Virtual Economy. Washington: Brookings Institution Press, 2002.
Gaidar, Y. Days of Defeat and Victory. Trans. by J. A. Miller. University of Washington Press, 1996.
Gaidar, Y. Collapse of an Empire: Lessons for Modern Russia. Trans. by A. W. Bouis. Washington: Brookings Institution Press, 2007.
Gall, C., and Th. Waal, de Chechnya: A Small Victorious War. London: Pan Books, 1998.
Gessen, M. The Man Without a Face: The Unlikely Rise of Vladimir Putin. New York: Riverhead Books, 2012.
Gevorkyan, N., N. Timakova, and A. Kolesnikov First Person: An Astonishingly Frank Self-Portrait by Russia’s President Vladimir Putin. Trans. by C. A. Fitzpatrick. New York: Public Affairs, 2000.
Grossman, V. Life and Fate. Trans. by R. Chandler. New York: Random House, 2011.
Gorbachev, M. Memoirs. New York: Doubleday, 1995.
Gorbachev, M. and Z. Mlynář Conversations with Gorbachev – On Perestroika, the Prague Spring, and the Crossroads of Socialism. Columbia University Press, 2003.
Hill, F., and C. Gaddy The Siberian Curse: How Communist Planners Left Russia Out in the Cold. Washington: Brookings Institution Press, 2003.
Hill, F., and C. Gaddy Mr Putin: Operative in the Kremlin Washington: Brookings Institution Press, 2013.
Hoffman, D. The Oligarchs: Wealth and Power in the New Russia. New York: Public Affairs, 2003.
Jack, A. Inside Putin’s Russia. Oxford University Press, 2004.
Klebnikov, P. Godfather of the Kremlin: Boris Berezovsky and the Looting of Russia. New York: Harcourt, 2000.
Kokh, A. The Selling of the Soviet Empire. New York: SPI Books, 1998.
Ledeneva, A. How Russia Really Works. Ithaca, NY: Cornell University Press, 2006.
Lieven, A. Chechnya: Tombstone of Russian Power. New Haven and London: Yale University Press, 1998.
Lipman, M. and N. Petrov (eds) Russia 2025: Scenarios for the Russian Future. London: Palgrave Macmillan, 2013.
Lloyd, J. Rebirth of a Nation: An Anatomy of Russia. London: Michael Joseph, 1998.
Lucas, E. The New Cold War. New York: Palgrave Macmillan, 2008.
Matthews, O. Stalin’s Children: Three Generations of Love and War. London: Bloomsbury, 2008.
McFaul, M. Russia’s Unfinished Revolution: Political Change from Gorbachev to Putin. Ithaca, NY: Cornell University Press, 2001.
Mickiewicz, E. Changing Channels: Television and the Struggle of Power in Russia. Durham, NC: Duke University Press, 1999.
Orwell, G. Nineteen Eighty-Four. London: Secker and Warburg, 1949.
Ostrovsky, A. ‘Aerial Combat. How the Truth got Lost in the Battle for Post-Soviet TV’.Financial Times Weekend Magazine, 9 October 2004, pp. 16–22.
Pipes, R. Russia under the Old Regime. New York: Charles Scribner’s Sons, 1974.
Politkovskaya, A. A Dirty War. London: The Harvill Press, 2001.
Pomerantsev, P. ‘Putin’s Rasputin’. London Review of Books, Vol. 33, No. 20, 20 October, 2011.
Pomerantsev, P. Nothing Is True and Everything Is Possible. London: Faber & Faber, 2014.
Prokhorova, I. (ed.) 1990. Russians Remember a Turning Point. London: Maclehose Press/Quercus, 2013.
Remnick, D. Lenin’s Tomb: The Last Days of the Soviet Empire. New York: Random House, 1993.
Remnick, D. Resurrection: The Struggle for a New Russia. New York: Random House, 1997.
Roxburgh, A. The Strongman. New York, I. B. Tauris, 2012.
Sakharov, A. Memoirs Trans. by R. Lourie. London: Hutchinson, 1990.
Shevtsova, L. Putin’s Russia. Washington: Carnegie Endowment for International Peace, 2005.
Sinyavsky, A. Soviet Civilization. A Cultural History. New York: Arcade publishing, 1990.
Stites, R. Russian Popular Culture: Entertainment and society since 1900. Cambridge University Press, 1992.
Solzhenitsyn, A. The Oak and the Calf. Trans. by H. Willets. London: Collins/Harvill Press, 1980.
Stoppard, T. The Coast of Utopia. New York: Grove Press, 2007.
Talbot, S. The Russia Hand. New York: Random House, 2002.
Taubman, W. Khrushchev: The Man and His Era. London: Simon & Schuster, 2003.
Tvardovski, A. Tyorkin and the Stove Makers. London: Carcanet Press, 1974.
Venturi, F. Roots of Revolution: A History of the Populist and Socialist Movements in Nineteenth Century Russia. New York: Grosset & Dunlap, The Universal Library, 1966.
Wilson, A. Virtual Politics: Faking Democracy in the Post-Soviet World. New Haven and London: Yale University Press, 2005.
Wegren, S. K., and D. R. Herspring (eds) After Putin’s Russia: Past Imperfect, Future Uncertain. Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 2010.
Yeltsin, B. Midnight Diaries. Trans. by C. A. Fitzpatrick. New York: Public Affairs, 2000.
Yeltsin, B. The Struggle for Russia. Trans. by C. A. Fitzpatrick. New York: Times Books, 1994.
Zorin, A. By Fables Alone: Literature and State Ideology in Late Eighteenth and Early Nineteenth-Century Russian Literature. Trans. by M. C. Levitt. Boston: Academic Studies Press, 2014.
Zorin, A. Are We Having Fun Yet? Available at:
Сноски
1
Заявление президента СССР М. С. Горбачева об отставке. // Российская газета, 26 декабря 1991 г., № 286–287. С. 1.
(обратно)2
Заявление Бориса Ельцина, 31 декабря 1999 г.
(обратно)3
Последнее выступление М. С. Горбачева на посту президента СССР. 25 декабря 1991 г.
(обратно)4
Павлов И. П. Об уме вообще, о русском уме в частности.
(обратно)5
О большевиках как о милленаристской секте см. в книге Юрия Слезкина Дом Правительства, вышедшей в 2019 г. в издательстве “Corpus”.
(обратно)6
Грачев А. С. Кремлевская хроника. М., 1994. С. 392.
(обратно)7
Там же.
(обратно)8
Черняев А. С. Совместный исход. Дневник двух эпох. 1972–1991. М., 2008. С. 477.
(обратно)9
Яковлев А. Н. Омут памяти. М., 2001. Т. 2, с. 83.
(обратно)10
Хрущев Н. С. Два цвета времени: документы из личного фонда Н. С. Хрущева. М., 2009. Т. 2, с. 465.
(обратно)11
Бовин А. Е. ХХ век как жизнь. М., 2003. С. 108.
(обратно)12
Лацис О. Р. Тщательно спланированное самоубийство. М., 2001. С. 64.
(обратно)13
Документальный фильм “Хвост кометы”, Москва, ТВС, 2003. Я приношу свою благодарность Сергею Костину за возможность ознакомиться с полной записью его интервью с Егором Яковлевым.
(обратно)14
Яковлев А. Н. Омут памяти. М., 2001. Т. 1, с. 447.
(обратно)15
Яковлев А. Н. Сумерки. М., 2005. С. 33.
(обратно)16
Яковлев А. Н. Омут памяти. М., 2001. Т. 1, с. 447.
(обратно)17
Бродский И. А. Полторы комнаты. Пер. Д. Чекалова // Новый мир. 1995. № 2. С. 62.
(обратно)18
“Отблеск костра” впервые появился в 1965 году в литературном журнале “Знамя”; отдельной книгой вышел спустя год.
(обратно)19
Личное дело Егора Яковлева. Архив “Известий”.
(обратно)20
Архив Егора Яковлева. Москва, Российский государственный архив (ГАРФ).
(обратно)21
Бунин И. А. Окаянные дни. М., 2012. С. 267.
(обратно)22
Бунин И. А. Окаянные дни. М., 2012. С. 267.
(обратно)23
Бабель И. Э. Одесские рассказы. М., 2013. С. 38.
(обратно)24
Яковлев Е. В. Я иду с тобой. М., 1965. С. 127.
(обратно)25
Ирина Яковлева, интервью с автором, ноябрь 2012 г.
(обратно)26
Голицын С. М. Записки уцелевшего // Дружба народов. 1990. № 3. С. 148.
(обратно)27
Яковлев Е. В. Я иду с тобой. М., 1965. С. 89–90.
(обратно)28
Сахаров А. Д. Воспоминания. М., 2006. Т. 1, с. 362.
(обратно)29
Там же. С. 276.
(обратно)30
Инна Соловьева, интервью с автором, ноябрь 2012 г.
(обратно)31
Яковлев Е. В. Я иду с тобой. М., 1965. С. 56–57.
(обратно)32
Яковлев А. Н. Омут памяти. М., 2001. Т. 1, с. 177.
(обратно)33
Taubman W. Khrushchev: The Man and His Era. London, 2003. Р. 278.
(обратно)34
Taubman W. Khrushchev: The Man and His Era. London, 2003. P. 276.
(обратно)35
Бовин А. Е. ХХ век как жизнь. М., 2003. С. 56.
(обратно)36
Яковлев Е. В. Я иду с тобой. М., 1965. С. 110–111.
(обратно)37
Саппак В. С. Блокноты 1956 года. М., 2011. С. 36–38.
(обратно)38
Саппак В. С. Телевидение, 1960. Из первых наблюдений // Новый мир. 1960. № 10. С. 177.
(обратно)39
Соловьева И. Н. Неопубликованные воспоминания. Декабрь, 2017 г.
(обратно)40
Слуцкий Б. А. Современные размышления // Лошади в океане. М., 2011. С. 191.
(обратно)41
Соловьева И. Н. Неопубликованные воспоминания. Декабрь, 2017 г.
(обратно)42
Там же.
(обратно)43
Егор Яковлев в документальном фильме “Хвост кометы”.
(обратно)44
Солженицын А. И. Бодался телёнок с дубом. Париж, 1975. С. 12.
(обратно)45
Твардовский А. Т. Новомирский дневник. 1961–1966 гг. М., 2009. С. 111.
(обратно)46
Твардовский А. Т. Честно я тянул мой воз. М., 2010. С. 10.
(обратно)47
Лацис О. Р. Тщательно спланированное самоубийство. М., 2001. С. 63.
(обратно)48
Бовин А. Е. ХХ век как жизнь. М., 2003. С. 123.
(обратно)49
Там же.
(обратно)50
Бовин А. Е. ХХ век как жизнь. М., 2003. С. 126.
(обратно)51
Сословие людей государственных // Журналист. 1967. № 1. С. 2.
(обратно)52
Аграновский А. А. Давайте думать // Журналист. 1967. № 4. С. 15.
(обратно)53
Деревицкий В. Д. Теоремы и прописи // Журналист. 1967. № 3. С. 32.
(обратно)54
Черниченко Ю. Д. Факт наш насущный // Журналист. 1968. № 2. С. 26.
(обратно)55
Черниченко Ю. Д. Факт наш насущный // Журналист. 1968. № 2. С. 29.
(обратно)56
Левада Ю. А. Homo post-Soveticus // Левада Ю. А. Время перемен. М., 2016. С. 567.
(обратно)57
Маврина Т. А. Часы с перечасьем // Журналист. 1968. № 1. С. 75.
(обратно)58
Маврина Т. А. Часы с перечасьем // Журналист. 1968. № 1. С. 75.
(обратно)59
Борин А. Б. Да здравствует привереда! // Журналист. 1967. № 4. С. 54.
(обратно)60
Пресса в обществе (1959–2000). Оценки журналистов и социологов. М., 2000. С. 470.
(обратно)61
Бек А. А. Шоссе документалиста // Журналист. 1967. № 2. С. 15.
(обратно)62
“Пражская Весна” и международный кризис 1968 года: документы. Под ред. Н. Томилиной, С. Карнера и А. Чубаряна. М., 2010. С. 197.
(обратно)63
Бовин А. Е. ХХ век как жизнь. М., 2003. С. 184.
(обратно)64
Там же. С. 189.
(обратно)65
Цит. в Горбаневская Н. Е. Полдень: Дело о демонстрации 25 августа 1968 года на Красной площади. Frankfurt/M, 1970. С. 366.
(обратно)66
Из письма Анатолия Якобсона 18 сентября 1968 года.
(обратно)67
Сахаров А. Д. Воспоминания. М., 2006. Т. 1, с. 410.
(обратно)68
Л. Окунев (Лен Карпинский) в: Cohen S. F. An End to Silence: Uncensored Opinion in the Soviet Union from Roy Medvedev’s underground magazine, Political Diary. New York, 1982. P. 306.
(обратно)69
Федотов М. А. Закон СССР о печати как юридическое лицо // Новое литературное обозрение. 2007. № 83. С. 115.
(обратно)70
Окунев М. (Лен Карпинский). Слово – тоже дело. 1970. Цит. в Ремник Д. Могила Ленина. Последние дни советской империи. М, 2017. С. 200.
(обратно)71
Яковлев А. Н. Сумерки. М., 2005. С. 312.
(обратно)72
Яковлев А. Н. Омут памяти. М., 2001. Т. 1, с. 256.
(обратно)73
Твардовский А. Т. Новомирский дневник. М., 2009. Т. 1, с. 256.
(обратно)74
Яковлев А. Н. Против антиисторизма // Литературная газета. 15 ноября 1972 г. С. 5. Более подробно о дискуссии на тему националистов в КПСС см. Николай Митрохин. Русская партия. Движение русских националистов в СССР. 1953–1985 гг. М., 2003.
(обратно)75
Яковлев А. Н. Омут памяти. М., 2001. Т. 1, с. 272.
(обратно)76
Солженицын А. И. Письмо вождям Советского Союза. Париж, 1974. С. 31.
(обратно)77
Текст выступления И. В. Сталина на приеме в Кремле в честь командующих родами войск Советской армии с авторской рукописной правкой. 24 мая 1945 г. // Сталин и космополитизм: документы. Под ред. А. Н. Яковлева. М, 2005. С. 23.
(обратно)78
Гроссман В. С. Жизнь и судьба. М., 1990. С. 11.
(обратно)79
Яковлев А. Н. Омут памяти. М., 2001. Т. 1, с. 45.
(обратно)80
Яковлев А. Н. Омут памяти. М., 2001. Т. 1, с. 305.
(обратно)81
Там же. Т. 1, с. 306.
(обратно)82
Солженицын А. И. Жить не по лжи // Новое русское слово. 16 марта 1974 г. С. 2.
(обратно)83
Солженицын А. И. Образованщина // Новый мир. 1991. № 5. С. 38.
(обратно)84
Там же. С. 40.
(обратно)85
Амальрик А. А. Просуществует ли Советский союз до 1984 года? Амстердам, 1969. С. 12.
(обратно)86
Ирина Яковлева, интервью с автором, май 2012 г.
(обратно)87
Солженицын А. И. Образованщина // Новый мир. 1991. № 5. С. 32.
(обратно)88
Документальный фильм “Хвост кометы”.
(обратно)89
Лацис О. Р. Тщательно спланированное самоубийство. М., 2001. С. 173.
(обратно)90
Лацис О. Р. Тщательно спланированное самоубийство. М., 2001. С. 173.
(обратно)91
Смелянский А. М. Олег Ефремов: о театре и о себе. М., 1997. С. 130.
(обратно)92
Ostrovsky А. Echoes in the Cherry Orchard // Financial Times (Weekend FT). 30 мая 1998 г. P. 8.
(обратно)93
Смелянский А. М. Междометия времени. М., 2002. Т. 1, с. 79.
(обратно)94
Буртин Ю. Г. Вам, из другого поколенья… // Октябрь. 1987. № 8. С. 200.
(обратно)95
Gorbachev M., Mlynar Z. Conversations with Gorbachev – On Perestroika, the Prague Spring, and the Crossroads of Socialism. New York, 2003. P. 77.
(обратно)96
Яковлев А. Н. Омут памяти. М., 2001. Т. 1, с. 319.
(обратно)97
Яковлев А. Н. Омут памяти. М., 2001. Т. 1, с. 367.
(обратно)98
Яковлев А. Н. Омут памяти. М., 2001. Т. 1, с. 367.
(обратно)99
Там же. С. 391.
(обратно)100
Яковлев А. Н. Омут памяти. М., 2001. Т. 1, с. 390.
(обратно)101
В Политбюро ЦК КПСС: 1985–1991. Под редакцией А. Черняева, А. Вебера и В. Медведева. М., 2008. С. 64.
(обратно)102
Отравленное облако антисоветизма // Московские новости. 11 мая 1986 г. С. 3.
(обратно)103
В Политбюро ЦК КПСС: 1985–1991. Под редакцией А. Черняева, А. Вебера и В. Медведева. М., 2008. С. 64.
(обратно)104
Там же. С. 65.
(обратно)105
Яковлев Е. В. К докладу на партсобрании. 25 сентября 1987 г. ГАРФ.
(обратно)106
Александр Любимов, интервью с автором, 2004 г.
(обратно)107
Лацис О. Р. Тщательно спланированное самоубийство. М., 2001. С. 213.
(обратно)108
Шатров М. Ф., Коэн С. Вернуться, чтобы идти вперед // Московские новости. 14 июня 1987 г. С. 9.
(обратно)109
Андреева Н. А. Не могу поступаться принципами // Советская Россия. 13 марта 1988 г. С. 2.
(обратно)110
Цит. в: Ремник Д. Могила Ленина. Последние дни советской империи. М., 2017. С. 98.
(обратно)111
Ремник Д. Могила Ленина. Последние дни советской империи. М., 2017. С. 99.
(обратно)112
Cohen S., Heuvel K. Voices of Glasnost: Interviews with Gorbachev’s Reformers. New York, 1989. P. 210.
(обратно)113
В Политбюро ЦК КПСС: 1985–1991. Под редакцией А. Черняева, А. Вебера и В. Медведева. М., 2008. С. 249.
(обратно)114
Цитируется в: Aron L. Yeltsin: A Revolutionary Life. New York, 2000. Р. 222.
(обратно)115
Cohen S., Heuvel K. Voices of Glasnost: Interviews with Gorbachev’s Reformers. New York, 1989. Р. 211.
(обратно)116
Кабаков А. А. Унижение // Московские новости. 12 марта 1989 г. С. 5.
(обратно)117
Copetas A. C. Bear Hunting with the Politburo: American Adventures in Russian Capitalism. Lanham, 2001. P. 13.
(обратно)118
Зыгарь М. В., Панюшкин В. В. Газпром: новое русское оружие. М., 2008. С. 18.
(обратно)119
Гайдар Е. Т. Власть и собственность: смуты и институты. СПб, 2009. С. 280.
(обратно)120
Гайдар Е. Т., Ярошенко В. А. Нулевой цикл. К анализу механизма ведомственной экспансии // Коммунист. 1988. № 8. С. 74–86.
(обратно)121
Гайдар Е. Т. Частная собственность – новый стереотип // Московские новости. 8 октября 1989 г. С. 11.
(обратно)122
Игорь Малашенко, интервью с автором, сентябрь 2010 г.
(обратно)123
Там же.
(обратно)124
Достоевский Ф. М. Братья Карамазовы. Собрание сочинений в 15 томах, Ленинград, 1991. Т. 9, с. 287.
(обратно)125
Mickiewicz E. Changing channels: television and the struggle for power in Russia. New York, 1997. Р. 10.
(обратно)126
Сахаров А. Д. Воспоминания. М., 2006. Т. 3, с. 655.
(обратно)127
Сахаров А. Д. Воспоминания. М., 2006. Т. 3, с. 717.
(обратно)128
Аверинцев С. С. // Московские новости. 31 декабря 1989 г. С. 2.
(обратно)129
Сахаров А. Д. Последнее выступление // Московские новости. 31 декабря 1989 г. С. 10.
(обратно)130
Speaking Truth to Power // The Economist. 9 August 2008. Р. 11.
(обратно)131
Чудакова М. О. При начале конца // Новое литературное обозрение. 2000. № 84. С. 533.
(обратно)132
Александр Невзоров, интервью с автором, 2004 г.
(обратно)133
Яковлев А. Н. Перестройка: 1985–1991. Документы. М., 2008. С. 405–406.
(обратно)134
Кабаков А. А. Невозвращенец. М., 2003. С. 67.
(обратно)135
Альбац написала еще и одно из лучших политических исследований о КГБ: KGB: State within a State. New York, 1994.
(обратно)136
Наталия Геворкян, интервью с автором, 2012 г.
(обратно)137
Геворкян Н. П., Тимакова Н. А., Колесников А. И. От первого лица: Разговоры с Владимиром Путиным. М., 2000. С. 75.
(обратно)138
Геворкян Н. П. Откровенность возможна, лишь когда за тобой закроется дверь // Московские новости. 24 июня 1990 г. С. 11.
(обратно)139
Геворкян Н. П. Госбезопасность: пражский вариант // Московские новости. 29 июля 1990 г. С. 16.
(обратно)140
В Политбюро ЦК КПСС: 1985–1991. Под редакцией А. Черняева, А. Вебера и В. Медведева. М., 2008. С. 543.
(обратно)141
Чудакова М. О. При начале конца // Новое литературное обозрение. 2000. № 84. С. 555.
(обратно)142
Грачев А. С. Горбачев. М., 2001. С. 273.
(обратно)143
Чудакова М. О. При начале конца // Новое литературное обозрение. 2000. № 84. С. 556.
(обратно)144
Неопубликованные дневники сэра Родрика Брейтвейта.
(обратно)145
Неопубликованные дневники сэра Родрика Брейтвейта.
(обратно)146
Яковлев Е. В. Возрождение партии – в руках левых сил // Московские новости. 22 июля 1990 г. С. 4.
(обратно)147
Там же.
(обратно)148
Шмелев Н. П. С кем и куда “Московским новостям” // Московские новости. 29 июля 1990 г. С. 6.
(обратно)149
В Политбюро ЦК КПСС: 1985–1991. Под редакцией А. Черняева, А. Вебера и В. Медведева. М., 2008. С. 645.
(обратно)150
Грачев А. С. Кремлевская хроника. М.,1994. С. 285–286.
(обратно)151
В Политбюро ЦК КПСС: 1985–1991. Под редакцией А. Черняева, А. Вебера и В. Медведева. М., 2008. С. 645.
(обратно)152
Абуладзе Т. Е., Адамович А. М., Амбарцумов Е. А., Черниченко Ю. Д. Страна устала ждать // Московские новости. 18 ноября 1990 г. С. 1.
(обратно)153
Черняев А. С. Совместный исход. Дневник двух эпох. 1972–1991 годы. М., 2010. С. 887.
(обратно)154
Неопубликованные дневники сэра Родрика Брейтвейта.
(обратно)155
Цит. в: Ремник Д. Могила Ленина. Последние дни советской империи. М., 2017. С. 128.
(обратно)156
Александр Невзоров, интервью с автором, январь 2015 г.
(обратно)157
Там же.
(обратно)158
Там же.
(обратно)159
Преступление режима, который не хочет уходить со сцены // Московские новости. 20 января 1991 г. С. 1.
(обратно)160
Ремник Д. Могила Ленина. Последние дни советской империи. М., 2017. С. 418.
(обратно)161
Цитируется в: Альбац Е. М. Мина замедленного действия. Политический портрет КГБ. М., 1992. С. 405.
(обратно)162
Яковлев А. Н. Омут памяти. М., 2001. Т.1, с. 429.
(обратно)163
Слово к народу // Советская Россия. 23 июля 1991 г. С. 1.
(обратно)164
Яковлев А. Н. Перестройка: 1985–1991. Документы. М., 2008. С. 690.
(обратно)165
Ремник Д. Могила Ленина. Последние дни советской империи. М., 2017. С. 484.
(обратно)166
Из обвинительного заключения по делу ГКЧП // Новая газета. 15 августа 2011 г.
(обратно)167
Ельцин Б. Н. Записки президента. М., 2008. С. 88.
(обратно)168
Альбац Е. М. Мина замедленного действия. Политический портрет КГБ. М., 1992. С. 241.
(обратно)169
Яковлев А. Н. Сумерки. М., 2005. С. 123.
(обратно)170
Цитируется в: The Making of a Neo-KGB State // The Economist, 25 August 2007. Р. 25.
(обратно)171
Лацис О. Р. Тщательно спланированное самоубийство. М., 2001. С. 371.
(обратно)172
Гайдар Е. Т. Гибель империи. М., 2007. С. 388.
(обратно)173
Ремник Д. Могила Ленина. Последние дни советской империи. М., 2017. С. 526.
(обратно)174
Кабаков А. А. Тень на пиру // Московские новости. 1 сентября 1991 г. С. 3.
(обратно)175
Аверинцев С. С. Да оградит Бог нас от призраков // Литературная газета. 25 сентября 1991 г. С. 15.
(обратно)176
Там же.
(обратно)177
Передача “Момент истины”. РТР, июнь 1992 г.
(обратно)178
Ремник Д. Могила Ленина. Последние дни советской империи. М., 2017. С. 25.
(обратно)179
Мальгин А. В. Смотрите, кто ушел // Столица. 1993. № 4. С. 6–12.
(обратно)180
Яковлев Е. В. Разговор с сыном // Московские новости. 8 сентября 1991 г. С. 8–9.
(обратно)181
Copetas A. C. Bear Hunting with the Politburo: American Adventures in Russian Capitalism. Lanham, 2001. P. 79.
(обратно)182
История русских медиа, 1989–2011. Версия “Афиши”. Под ред. А. Горбачева, И. Красильщика. М., 2011. С. 196.
(обратно)183
Владимир Яковлев, интервью с автором, сентябрь 2014 г.
(обратно)184
Яковлев В. Е. Почему мы решили не издавать новую газету? // Коммерсантъ. Нулевой номер, август 1989 г. С. 1.
(обратно)185
Владимир Яковлев, интервью с автором, сентябрь 2014 г.
(обратно)186
Владимир Яковлев, интервью с автором, сентябрь 2014 г.
(обратно)187
Чудакова М. О. При начале конца // Новое литературное обозрение. 2000. № 84. С. 547.
(обратно)188
Максим Соколов, интервью с автором, июль 2013 г.
(обратно)189
Соколов М. Ю. Десять лет спустя // Новое литературное обозрение. 2000. № 41. С. 292–295.
(обратно)190
Соколов М. Ю. Слава Богу, перестройка закончилась // Коммерсантъ. 19–26 августа 1991 г. С. 1.
(обратно)191
Астахов П. А., Авхименко Д. Будет уголь, зерно и страшно дорогая водка // Коммерсантъ, 26 августа – 2 сентября 1991 г. С. 18.
(обратно)192
Тимофеевский А. П. Пузыри земли // Столица. 1991. № 46–47. С. 19.
(обратно)193
Перевод А. И. Кронеберга.
(обратно)194
Гайдар Е. Т. Дни поражений и побед. М., 1996. С. 153.
(обратно)195
Интервью с Владимиром Яковлевым из документального фильма Леонида Парфенова “С твердым знаком на конце”, 2009 г.
(обратно)196
Елена Нусинова, интервью с автором, июнь 2013 г.
(обратно)197
Владимир Яковлев, интервью с автором, сентябрь 2014 г.
(обратно)198
Copetas A. C. Bear Hunting with the Politburo: American Adventures in Russian Capitalism. Lanham, 2001. P. 84.
(обратно)199
Владимир Яковлев, интервью с автором, сентябрь 2014 г.
(обратно)200
Елена Нусинова, интервью с автором, июнь 2013 г.
(обратно)201
Левада Ю. А. От мнений к пониманию. М., 2000. С. 18.
(обратно)202
Цитируется в: Ходорковский М. Б., Геворкян Н. П. Тюрьма и воля. М., 2012.
(обратно)203
Цитируется в: Хоффман Д. Олигархи. Богатство и власть в новой России. М., 2007. С. 312.
(обратно)204
Higgins А. Insufficient Funds: How a Russian Banker Outfoxed Creditors to Rebuild an Empire // The Wall Street Journal. 4 October 2000. P. 1.
(обратно)205
Цитируется в: Ostrovsky A. Father to the Oligarchs // Financial Times Magazine, 13 November 2004. P. 14–15.
(обратно)206
Коммерсантъ-Daily. 6 октября 1992 г.
(обратно)207
Коммерсантъ-Daily. 6 октября 1992 г. Сравнение “Коммерсанта” с “Правдой” провела Наталия Иванова в своей книге “Ностальящее” М., 2002.
(обратно)208
Махненко К. Что хорошего? // Коммерсантъ-Weekly. 1992. № 12. С. 1.
(обратно)209
Опрос ВЦИОМ, 1992 г.
(обратно)210
Соколов М. Ю. Так какую же войну мы проиграли? // Октябрь. 1992. № 4. С. 171.
(обратно)211
Нарочницкая Н. А. Россия и Европа // Наш современник. 1993. № 12. С. 101.
(обратно)212
Шафаревич И. Р. Третья оборона Севастополя // День. 28 марта-3 апреля 1993 г. С. 3.
(обратно)213
Там же.
(обратно)214
Цит. в: Янов А. Л. После Ельцина. “Веймарская” Россия. М., 1995. С. 21.
(обратно)215
Янов А. Л. История одного отречения: почему в России не будет фашизма. М., 2011. С. 9.
(обратно)216
Игорь Малашенко, интервью с автором, сентябрь 2014 г.
(обратно)217
Петровская И. Е. Нам всем дали пощечину // Независимая газета. 28 ноября 1992 г. С. 5.
(обратно)218
Виктор Анпилов, интервью с автором, декабрь 2014 г.
(обратно)219
Анпилов В. И. Наша борьба. М., 2002. С. 8.
(обратно)220
Надеин В. Д. Только сообща можно остановить программу погромов // Известия. 19 июня 1992 г. С. 1.
(обратно)221
Геворкян Н. П. Что, если замолчит “Останкино” // Московские новости. 21 июня 1992 г. С. 8.
(обратно)222
Ельцин Б. Н. Записки президента. М., 2008. С. 286.
(обратно)223
Янов А. Л. История одного отречения: почему в России не будет фашизма. М., 2011. С. 17–18.
(обратно)224
Цитата дня // Российская газета. 13 августа 1993 г. С. 1.
(обратно)225
Александр Невзоров, интервью с автором, январь 2015 г.
(обратно)226
Пархоменко С. Б. Партизанская республика Белого Дома // Сегодня. 2 октября 1993 г. С. 2.
(обратно)227
Куцылло А. И. Записки из Белого Дома. М., 1993. С. 55–56.
(обратно)228
Интервью с Сергеем Пархоменко из фильма Марии Слоним “Это тяжкое бремя свободы”, 2001 г.
(обратно)229
Сергей Пархоменко, интервью с автором, июль 2014 г.
(обратно)230
Куцылло В. И. Записки из Белого Дома. М., 1993. С. 6.
(обратно)231
Куцылло В. И. Записки из Белого Дома. М., 1993. С. 113.
(обратно)232
Там же. С. 114.
(обратно)233
Гайдар Е. Т. Дни поражений и побед. М., 1996. С. 286–287.
(обратно)234
Mickiewicz E. Changing channels: television and the struggle for power in Russia. New York, 1997. P. 10.
(обратно)235
Петровская И. Е. “Останкино” отключило само себя // Независимая газета. 9 октября 1993. С. 10.
(обратно)236
Clark B. An Empire’s New Clothes: The End of Russia’s Liberal Dream. London, 1995.
(обратно)237
Куцылло А. И. Записки из Белого Дома. М., 1993. С. 117.
(обратно)238
Александр Невзоров, интервью с автором, январь 2015 г.
(обратно)239
Александр Невзоров, интервью с автором, январь 2015 г.
(обратно)240
Гайдар Е. Т. Дни поражений и побед. М., 1996. С. 290.
(обратно)241
Ельцин Б. Н. Записки президента. М., 2008. С. 362.
(обратно)242
Цитируется в: Aron L. Yeltsin: A Revolutionary Life. New York, 2000. P. 545.
(обратно)243
Ельцин Б. Н. Записки президента. М., 2008. С. 362.
(обратно)244
Обращение президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина к гражданам России.
(обратно)245
Гайдар Е. Т. Дни поражений и побед. М., 1996. С. 293.
(обратно)246
Пархоменко С. Б. В начале был мятеж // Сегодня. 7 октября 1993 г. С. 2.
(обратно)247
Александр Невзоров, интервью с автором, январь 2014 г.
(обратно)248
Левада Ю. А. От мнений к пониманию. М., 2000. С. 29–30.
(обратно)249
Александр Невзоров, интервью с автором, январь 2011 г.
(обратно)250
Яковлев А. Н. Омут памяти. М., 2001. Т. 2, с. 152.
(обратно)251
Игорь Малашенко, интервью с автором, сентябрь 2010 г.
(обратно)252
Игорь Малашенко, интервью с автором, сентябрь 2010 г.
(обратно)253
Евгений Киселев, интервью с автором, май 2012 г.
(обратно)254
Евгений Киселев, интервью с автором, май 2012 г.
(обратно)255
Евгений Киселев, интервью с автором, май 2012 г.
(обратно)256
Игорь Малашенко, интервью с автором, сентябрь 2010 г.
(обратно)257
Поначалу “Итоги” выходили на Первом канале, а потом под тем же названием перебрались на НТВ.
(обратно)258
Евгений Киселев, интервью с автором, май 2012 г.
(обратно)259
Игорь Малашенко, интервью с автором, сентябрь 2010 г.
(обратно)260
Игорь Малашенко, интервью с автором, сентябрь 2010 г.
(обратно)261
Там же.
(обратно)262
Игорь Малашенко, интервью с автором, сентябрь 2010 г.
(обратно)263
Там же.
(обратно)264
Кучкина О. А. Я ухожу в отставку // Комсомольская правда. 23 февраля 1993 г. С. 6.
(обратно)265
Сергей Шахрай. Цитируется в: Авен П. О., Кох А. Р. Революция Гайдара. М., 2013. С. 288.
(обратно)266
Евгений Киселев, интервью с автором, август 2013 г.
(обратно)267
Игорь Малашенко, интервью с автором, сентябрь 2010 г.
(обратно)268
Там же.
(обратно)269
Цит. в: Mickiewicz E. Changing channels: television and the struggle for power in Russia. New York, 1997. P. 246.
(обратно)270
Там же. P. 255.
(обратно)271
Игорь Малашенко, интервью с автором, сентябрь 2010 г.
(обратно)272
Падает снег // Российская газета. 19 ноября 1994 г. С. 3.
(обратно)273
Игорь Малашенко, интервью с автором, сентябрь 2010 г.
(обратно)274
Яковлев А. Н. Омут памяти. М., 2001. Т. 2, с. 161–162.
(обратно)275
“Дон Кихот и его телохранитель”. “Куклы”. НТВ, 29 апреля 1995 г.
(обратно)276
“Итоги”. НТВ, 18 июня 1995 г.
(обратно)277
Яковлев А. Н. Омут памяти. М., 2001. Т. 2, с. 170.
(обратно)278
Чудакова М. О. Блуд борьбы // Литературная газета. 30 октября 1991 г. С. 3.
(обратно)279
Игорь Малашенко, интервью с автором, сентябрь 2010 г.
(обратно)280
Анатолий Чубайс, интервью с автором, декабрь 2013 г.
(обратно)281
Анатолий Чубайс, интервью с автором, декабрь 2013 г.
(обратно)282
Ельцин Б. Н. Президентский марафон. М., 2008. С. 29.
(обратно)283
Там же. С. 31.
(обратно)284
Игорь Малашенко, интервью с автором, сентябрь 2010 г.
(обратно)285
Гайдар Е. Т. Дни поражений и побед. М., 1996. С. 361.
(обратно)286
Игорь Малашенко, интервью с автором, сентябрь 2010 г.
(обратно)287
Петровская И. Е. Сто одна неделя с Ириной Петровской. М.,1998. С. 95.
(обратно)288
Цит. в: Ostrovsky A. Broadcast Views // Financial Times Magazine, 9 October 2004. P. 22.
(обратно)289
Игорь Малашенко, интервью с автором, сентябрь 2010 г.
(обратно)290
Киселев Е. А. Победа Ельцина – еще не победа демократии // Итоги. 1996. № 5. С. 38.
(обратно)291
Анатолий Чубайс, интервью с автором, декабрь 2013 г.
(обратно)292
Игорь Малашенко, интервью с автором, сентябрь 2010 г.
(обратно)293
Гайдар Е. Т. Дни поражений и побед. М., 1996. С. 362.
(обратно)294
Freeland С., Thornhill J., Gowers A. Moscow’s Group of Seven // Financial Times, 1 November 1996. P. 17.
(обратно)295
Игорь Малашенко, интервью с автором, сентябрь 2010 г.
(обратно)296
Петровская И. Е. Сто одна неделя с Ириной Петровской. М.,1998. С. 27.
(обратно)297
Игорь Малашенко, интервью с автором, сентябрь 2010 г.
(обратно)298
Игорь Малашенко, интервью с автором, сентябрь 2010 г.
(обратно)299
Владимир Гусинский, интервью с автором, октябрь 2013 г.
(обратно)300
Владимир Гусинский, интервью с автором, октябрь 2013 г.
(обратно)301
Там же.
(обратно)302
Владимир Гусинский, интервью с автором, октябрь 2013 г.
(обратно)303
Анатолий Чубайс, интервью с автором, декабрь 2013 г.
(обратно)304
Там же.
(обратно)305
Владимир Гусинский, интервью с автором, октябрь 2013 г.
(обратно)306
Игорь Малашенко, интервью с автором, сентябрь 2010 г.
(обратно)307
Анатолий Чубайс, интервью с автором, декабрь 2013 г.
(обратно)308
Цит. в: Хоффман Д. Олигархи. Богатство и власть в новой России. М., 2007. С. 435.
(обратно)309
Игорь Малашенко, интервью с автором, октябрь 2013 г.
(обратно)310
Михаил Ходорковский, интервью с автором, март 2015 г.
(обратно)311
Ельцин Б. Н. Президентский марафон. М., 2008. С. 92.
(обратно)312
Ельцин Б. Н. Президентский марафон. М., 2008. С. 98.
(обратно)313
Владимир Гусинский, интервью с автором, октябрь 2013 г.
(обратно)314
“Время”. Первый канал, 15 ноября 1997 г.
(обратно)315
Борис Немцов, интервью с автором, июнь 2014 г.
(обратно)316
Немцов Б. Е. Исповедь бунтаря. М., 2007. С. 26.
(обратно)317
Соколов М. Ю. Поэтические воззрения россиян на историю. М., 1999. Т. 1, с. 272.
(обратно)318
Игорь Малашенко, интервью с автором, сентябрь 2010 г.
(обратно)319
Игорь Малашенко, интервью с автором, сентябрь 2010 г.
(обратно)320
Игорь Малашенко, интервью с автором, сентябрь 2010 г.
(обратно)321
Папилова Ю. Малашенко “наехал” на чеченцев // Коммерсантъ-Daily. 20 августа 1997 г. С. 1.
(обратно)322
Игорь Малашенко, интервью с автором, сентябрь 2010 г.
(обратно)323
“Время”. Первый канал, 3 сентября 1997 г.
(обратно)324
Новиков М. С. Не дай засохнуть Родине своей! // Коммерсантъ-Daily. 8 августа 1997 г. С. 1.
(обратно)325
Леонид Парфенов, интервью с автором, октябрь 2013 г.
(обратно)326
Леонид Парфенов, интервью с автором, октябрь 2013 г.
(обратно)327
Stanley A. Russians Begin to Gild the Communist Past // New York Times. 30 December 1995 -begin-to-gildthe-communist-past.html
(обратно)328
Зорин А. Л. Щастливая Москва // Итоги. 1997. № 36. Цит. по /
(обратно)329
Там же.
(обратно)330
Зорин А. Л. Щастливая Москва // Итоги. 1997. № 36.
(обратно)331
Игорь Малашенко, интервью с автором, сентябрь 2010 г.
(обратно)332
Гайдар Е. Т. Проталкивание реформ. Статья третья // Русская мысль. 1998. № 42–43. С. 6.
(обратно)333
Петровская И. Е. Не стреляйте в переводчика // Известия. 30 мая 1998 г. С. 6.
(обратно)334
Петровская И. Е. Не стреляйте в переводчика // Известия. 30 мая 1998 г. С. 6.
(обратно)335
Петровская И. Е. Тетя Ася уехала // Известия. 5 сентября 1998 г. С. 6.
(обратно)336
Шадхан И. “Случайное интервью Путина поражает откровенностью”. НТВ, 27 марта 2007 г. /
(обратно)337
Ельцин Б. Н. Президентский марафон. М., 2008. С. 231.
(обратно)338
Ельцин Б. Н. Президентский марафон. М., 2008. С. 220.
(обратно)339
Цитируется в: Воскобойников Г. Вторая молодость пожилых реформаторов // Итоги. 1998. № 36. С. 15–17.
(обратно)340
Ельцин Б. Н. Президентский марафон. М., 2008. С. 269.
(обратно)341
Бородулин В. Г. 15,000,000 долларов потеряла Россия благодаря Примакову // Коммерсантъ-Daily. 1999. № 47. С. 1.
(обратно)342
Евгений Киселев, интервью с автором, август 2013 г.
(обратно)343
“Итоги”. НТВ, 28 марта 1999 г.
(обратно)344
ИТАР-ТАСС, 24 декабря 1998 г.
(обратно)345
“Время”. Первый канал, 23 января 1999 г.
(обратно)346
Цит. в: Гусейнов Э. Е. Я слабо похожу на жертву // Известия. 9 апреля 1999 г. С. 2.
(обратно)347
Гольц А. М., Пинскер Д. Г. Последний премьер империи // Итоги. 1999. № 20. С. 20.
(обратно)348
Глеб Павловский, интервью с автором, июнь 2014 г.
(обратно)349
Ельцин Б. Н. Президентский марафон. М., 2008. С. 288.
(обратно)350
“Авторская программа Сергея Доренко”. Первый канал, 7 ноября 1999 г.
(обратно)351
Одним из ведущих на этом канале был малоизвестный в ту пору Дмитрий Киселев, который позднее превратится в самого оголтелого пропагандиста даже по кремлевским меркам.
(обратно)352
Ельцин Б. Н. Президентский марафон. М., 2008. С. 287.
(обратно)353
Я благодарен Глебу Павловскому за то, что он ознакомил меня с текстом этой докладной.
(обратно)354
Ельцин Б. Н. Президентский марафон. М., 2008. С. 282.
(обратно)355
Глеб Павловский, интервью с автором, июнь 2014 г.
(обратно)356
Игорь Малашенко, интервью с автором, декабрь 2011 г.
(обратно)357
Игорь Малашенко, интервью с автором, декабрь 2011 г.
(обратно)358
Ельцин Б. Н. Президентский марафон. М., 2008. С. 292.
(обратно)359
Глеб Павловский, интервью с автором, июнь 2014 г.
(обратно)360
Сергей Доренко, интервью с автором, июнь 2014 г.
(обратно)361
Сергей Доренко, интервью с автором, июнь 2014 г.
(обратно)362
Сергей Доренко, интервью с автором, июнь 2014 г.
(обратно)363
Геворкян Н. П. Я по-прежнему сам с собой // Коммерсантъ-Daily. 1999. № 220. С. 1.
(обратно)364
Сергей Доренко, интервью с автором, июнь 2014 г.
(обратно)365
Сергей Доренко, интервью с автором, июнь 2014 г.
(обратно)366
Сергей Доренко, интервью с автором, июнь 2014 г.
(обратно)367
Там же.
(обратно)368
Сергей Доренко, интервью с автором, июнь 2014 г.
(обратно)369
“Авторская программа Сергея Доренко”. Первый канал, 3 октября 1999 г.
(обратно)370
“Авторская программа Сергея Доренко”. Первый канал, 15 января 2000 г.
(обратно)371
“Авторская программа Сергея Доренко”. Первый канал, 3 октября 1999 г.
(обратно)372
“Авторская программа Сергея Доренко”. Первый канал, 24 октября 1999 г.
(обратно)373
Геворкян Н. П. Я по-прежнему сам с собой // Коммерсантъ-Daily. 1999. № 220. С. 1.
(обратно)374
Александр Ослон, интервью с автором, июнь 2014 г.
(обратно)375
Глеб Павловский, интервью с автором, июнь 2014 г.
(обратно)376
Глеб Павловский, интервью с автором, июнь 2014 г.
(обратно)377
Левада Ю. А. От мнений к пониманию. М., 2000. С. 200.
(обратно)378
Ельцин Б. Н. Президентский марафон. М., 2008. С. 276.
(обратно)379
Игорь Малашенко, интервью с автором, декабрь 2010 г.
(обратно)380
Глеб Павловский, интервью с автором, июнь 2014 г.
(обратно)381
Сергей Доренко, интервью с автором, июнь 2014 г.
(обратно)382
Сергей Доренко, интервью с автором, июнь 2014 г.
(обратно)383
Polit.ru, 12 ноября 1999 г. /
(обратно)384
Игорь Малашенко, интервью с автором, декабрь 2010 г.
(обратно)385
Добродеев О. Б. Армия – это наши братья и сыновья // Красная звезда. 29 сентября 1999 г. С. 4.
(обратно)386
Путин В. В. Россия на рубеже тысячелетий // Независимая газета. 30 декабря 1999 г. -12-30/4_millenium.html
(обратно)387
Опрос ВЦИОМ, 21–24 января 2000 г.
(обратно)388
Traynor I. Putin Urged to Apply the Pinochet Stick // The Guardian. 31 March 2000
(обратно)389
Илья Осколков-Ценципер. Цитируется в: История русских медиа, 1989–2011. Версия “Афиши”. Под ред. А. Горбачева, И. Красильщика. М., 2011. С. 215.
(обратно)390
Александр Яковлев в интервью Newsru.com. 10 декабря 2000 г.
(обратно)391
Речь Владимира Путина перед Думой. 4 декабря 2000 г.
(обратно)392
Рогов К. Ю. Со Сталиным в сердце. Россия снова будет петь холуйскую песню // За Глинку! Против возврата к советскому гимну. Под ред. М. Чудаковой, А. Курилкина и Е. Тоддес. М., 2000. С. 58.
(обратно)393
Вскоре после своего назначения на пост премьер-министра Путин сказал полушутя на торжественном собрании сотрудников ФСБ в честь годовщины основания советских органов безопасности: “Группа сотрудников ФСБ, направленная вами в командировку для работы под прикрытием правительства, на первом этапе со своими задачами справляется”.
(обратно)394
Борис Немцов, интервью с автором, июнь 2014 г.
(обратно)395
Шендерович В. А. Здесь было НТВ. М., 2004. С. 11.
(обратно)396
Шендерович В. А. Здесь было НТВ. М., 2004. С. 11.
(обратно)397
“Усиление вертикали”, “Куклы”. НТВ, 28 мая 2000 г.
(обратно)398
Евгений Киселев, интервью с автором, август 2013 г.
(обратно)399
Игорь Малашенко, интервью с автором, декабрь 2010 г.
(обратно)400
Игорь Малашенко, интервью с автором, декабрь 2010 г.
(обратно)401
Хоффман Д. Олигархи. Богатство и власть в новой России. М., 2007. С. 684.
(обратно)402
Там же.
(обратно)403
Сергей Доренко, интервью с автором, июнь 2014 г.
(обратно)404
Гайдар Е. Т. Власть и собственность: смуты и институты. СПб, 2009. С. 323.
(обратно)405
Хоффман Д. Олигархи. Богатство и власть в новой России. М., 2007. С. 681.
(обратно)406
Игорь Малашенко, интервью с автором, декабрь 2010 г.
(обратно)407
Цитируется в: Пинскер Д. Г. Улика номер шесть // Итоги. 2000. № 39
(обратно)408
Кабанова О. Г. О чем говорил Тимофеевский // Русский журнал. 15 августа 2000 г. -
(обратно)409
Соколов М. Ю. О введении единомыслия в России // Известия. 26 июля 2000 г. С. 9.
(обратно)410
Встреча с родными // Коммерсантъ-Власть. 2000. № 34
(обратно)411
Алексей Венедиктов, интервью с автором, июнь 2014 г.
(обратно)412
Сергей Доренко, интервью с автором, июнь 2014 г.
(обратно)413
Там же.
(обратно)414
Борис Березовский, интервью с автором, апрель 2003 г.
(обратно)415
Хоффман Д. Олигархи. Богатство и власть в новой России. М., 2007. С. 694–695.
(обратно)416
Расшифровка интервью на русском языке
(обратно)417
“Глас народа”. НТВ, 26 января 2001 г.
(обратно)418
Евгений Киселев, интервью с автором, июль 2018 г.
(обратно)419
Цитируется в: Хоффман Д. Олигархи. Богатство и власть в новой России. М., 2007. С. 690.
(обратно)420
Открытое письмо Леонида Парфенова // Коммерсантъ. 2001. № 62. С. 1.
(обратно)421
“Антропология”. НТВ, 9 апреля 2001 г.
(обратно)422
Самое время начать беспокоиться.
(обратно)423
Яковлев Е. В. Опять “Что делать?” // Общая газета. 7 апреля 2001 г. С. 3.
(обратно)424
Из интервью Б. Н. Ельцина в программе “Зеркало” на РТР. 29 декабря 2011 г.
(обратно)425
Пресс-конференция В. В. Путина. 23 декабря 2004 г.
(обратно)426
Ostrovsky A. Broadcast Views // Financial Times Magazine, 9 October 2004. P. 22.
(обратно)427
Леонид Парфенов, интервью с автором, 2004 г.
(обратно)428
“Однако”, Первый канал, 24 октября 2002 г.
(обратно)429
Цит. по Newsru, 15 декабря 2002 г.
(обратно)430
Леонид Парфенов, интервью с автором, октябрь 2013 г.
(обратно)431
Речь Л. Парфенова. 25 ноября 2010 г.
(обратно)432
Замечание Эрнста прозвучало в документальном фильме “Намедни. 20 лет. Посиделки”, посвященном юбилею передачи.
(обратно)433
Юрий Сапрыкин беседует с Константином Эрнстом и Анатолием Максимовым // Афиша. Воздух. 19 декабря 2004 г. /
(обратно)434
Собеседник: Константин Эрнст // Сеанс. 15 декабря 2006 г. -konstantin-ernst/
(обратно)435
Константин Эрнст, интервью с автором, 23 августа 2004 г.
(обратно)436
Ostrovsky A. Broadcast Views // Financial Times Magazine, 9 October 2004. P. 22.
(обратно)437
Chivers C. J. For Russians, Wounds Linger in School Siege // New York Times, 26 August 2005 -russians-wounds-linger-in-school-siege.html
(обратно)438
Ostrovsky A. Broadcast Views // Financial Times Magazine, 9 October 2004. P. 22.
(обратно)439
Ostrovsky A. Broadcast Views // Financial Times Magazine, 9 October 2004. P. 22.
(обратно)440
Там же.
(обратно)441
Константин Эрнст, интервью с автором, декабрь 2014 г.
(обратно)442
“Время”, Первый канал, 10 августа 2008 г.
(обратно)443
A Scripted War // The Economist, 14 August 2008. p. 22.
(обратно)444
Константин Эрнст, интервью с автором, декабрь 2014 г.
(обратно)445
Речь Константина Эрнста на церемонии вручении премии “Человек года-2014” по версии GQ, 20 сентября 2014 г.
(обратно)446
Речь Константина Эрнста на церемонии вручении премии “Человек года-2014” по версии GQ, 20 сентября 2014 г.
(обратно)447
Ослон А. А. Дух денег в России: очерк становления и могущества. Социальная реальность, 1’ 2006. С. 62.
(обратно)448
Левада Ю. А. “Человек советский”: четвертая волна. Polit.ru. 24 декабря 2003 г.
(обратно)449
Шевченко М. Л. Мы не Европа? И слава Богу! // Московский комсомолец. 10 февраля 2011 г. С. 3.
(обратно)450
Из речи Путина, произнесенной на заседании международного дискуссионного клуба “Валдай”. 19 сентября 2013 г.
(обратно)451
“Вести недели с Дмитрием Киселевым”. Канал “Россия”. 8 декабря 2013 г.
(обратно)452
Как делать телевидение, Учебный проект, фильм 8, BBC Training and Development, DFID and Internews, 1999.
(обратно)453
Обращение Президента Российской Федерации, 18 марта 2014 г.
(обратно)454
Александр Невзоров. Безумцев в Кремле нет – они прагматики // Сноб. 24 марта 2014 г.
(обратно)455
Интервью с Константином Эрнстом вышло на сайте журнала “Сеанс”. -interview/
(обратно)456
Владимир Яковлев. Что такое пропаганда. /
(обратно)457
Александр Невзоров. Железные лапти Кремля // Сноб. 21 апреля 2014 г.
(обратно)458
Пост Бориса Немцова в Фейсбуке от 3 мая 2014 г.
(обратно)459
Пост Владимира Яковлева в Фейсбуке от 18 марта 2015 г.
(обратно)



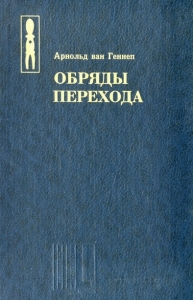


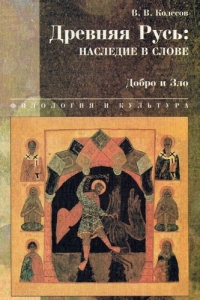
Комментарии к книге «Говорит и показывает Россия», Аркадий Островский
Всего 0 комментариев