Владимир Ильич Порудоминский Николай Ге
Освобождение
Ручей нанес так много земли и камней себе в ложе, что и сам принужден был покинуть свое русло.
Леонардо да ВинчиВместо пролога
Николай Ге, русский художник, спешил из-за границы на родину. Надо было поспеть к открытию академической выставки. Ге торопился показать соотечественникам свою картину.
Возвратиться насовсем он, судя по всему, еще не надумал: семья оставалась в Италии и «домом» в то время он большей частью называл Флоренцию.
Россия начиналась Королевством Польским. В Польском Королевстве было неспокойно. Стояло лето 1863 года. Жаркое лето польского восстания. Николай Ге читал в «Колоколе» о сожженных дотла деревнях, о разоренных крестьянах и повешенных пленных, о притихших городах, из которых слышится лишь шелест молитв в костелах, о понурых извозчиках, наряженных по приказу в ямщицкие кафтаны и шляпы русского образца, о женщинах, которым запрещают носить траур по мужьям и братьям, по своей Польше, ежедневно убиваемой из ста семидесяти шести царских пушек и ста двадцати шести тысяч царских ружей. Он знал людей — итальянцев, французов, русских, — которые уезжали сражаться на стороне инсургентов, он разговаривал с ними и пожимал им руки. Он жадно верил всякой вести о победе повстанцев.
Теперь он ехал по измученной Польше. Солдаты-конвойные сопровождали поезд на случай нежданной опасности.
Ге прильнул к окну — он хотел видеть следы.
Поверженный лес лежал плашмя вдоль дороги. Войска валили деревья, чтобы чаща не стала ничьим убежищем. Чернели, лениво дымясь, пепелища. Люди не показывались — словно вымерли.
У переезда трое верховых казаков ждали, пока пройдет состав. Кони топтались на месте, тревожно вскидывали головы.
Ге вдруг подумал, что давно не рисовал лошадей. В детстве он любил рисовать их. Что ни день прибегал на конюшню, бесстрашно гладил большие и теплые лошадиные морды. Рыжий, веснушчатый Гришка-кучер с прямыми, расчесанными на пробор волосами сажал его на караковую. Ге помнит крепкие Гришкины руки, желтые от веснушек, и ощущение взлета. Его снимали — он хватал кусок мела и рисовал лошадь тут же, на дощатом полу конюшни.
Ге хорошо помнит свою караковую. Вот она пьет, круто уткнувшись в колоду, вот, не желая, чтобы Николай гладил ее, резко запрокидывает голову и, чуть поведя ею, будто прислушиваясь, беспокойно и добро косит на него продолговатым, влажным глазом. Он представил себе ее сверху, ему захотелось набросать ее пером — с круто изогнутой шеей, разделенной продольной черной полосой, подвижным задом и струящимся хвостом. Но память бежала дальше, вырывала из прошлого новые картины. На том самом месте, где барчонок рисовал мелом свою лошадку, ставили гладкую скамью, приносили бадейку с рыжими, скользкими розгами… Ге не захотел больше вспоминать.
Лежали за окном леса. Синеватой гарью было подернуто небо. Люди не показывались. На площадке у солдат-конвойных в такт колесам побрякивали ружья.
Из прекрасной Италии едет в Петербург художник Николай Ге, везет на выставку свою картину. Он пробыл за границей шесть лет — все «положенные» шесть лет академического пенсионерства. За шесть лет он написал десятки эскизов, этюдов, портретов, но еще год назад он, скорее, мог подумать, что совсем оставит искусство, чем предположить, что создаст полотно, о котором сможет сказать словами Жан-Жака Руссо: «Вот что я делал, что думал, чем был!» Таков, видно, удел великих творений: они вынашиваются дольше обычного и рождаются неожиданней. Картина, которую Ге везет из Италии, называется «Тайная вечеря». С «Тайной вечери» начинается художник Николай Николаевич Ге.
Творческая его биография до 1863 года внешне почти непримечательна. За исключением фактов частного характера — что отличает Николая Ге в плотной толпе молодых русских художников, создаваемых словно по одному образу и подобию? Черты личности художника интересуют историю искусства лишь реализованные в творчестве.
В одно время с Ге в Италии совершенствовались живописцы Флавицкий, Бронников, Железнов, Сорокин, Годун-Мартынов. Можно пополнить этот перечень еще десятком имен, известных теперь только специалистам. Можно даже попробовать составить на всех одну общую творческую биографию — в конце концов, до приезда в Италию у всех за спиной одна и та же Академия, одни и те же профессора, одни и те же натурщики, Тарас да Василий, одни и те же гипсы, одни и те же темы для работ на соискание медалей, серебряных и золотых, и одни и те же традиции, образцы для подражания, каноны, предписывающие, что хорошо и что плохо.
Ге вспоминал потом, как русские художники, жившие в Риме, собирались в одной кофейне. Знакомые оставались знакомыми, приятели — приятелями, но дальнейшего сближения не происходило. Оно и понятно: «вырвавшись на свободу», они пытались идти в разные стороны — каждый искал себя.
Многие из живописцев, начинавших в одно время с Ге, искали себя не там, оттого и нашли быстро. Пропитанные традициями, они колесили по городам и галереям Европы, сквозь призму канонов рассматривали заранее заданные образцы для подражания, прикидывали: «И я так попробую», а кто посмелее: «И я так могу». Гонка за лидером прибавляет скорость; найдя себя слишком быстро, они себя теряли — часто навсегда.
Они любили говорить, что вырвались на свободу, но их надежды были призрачны: мало самому уйти из старого, надо, чтобы старое ушло из тебя.
Когда в 1857 году Николай Ге вышел из Академии художеств, у него был один бог — Брюллов. Мудрено ли! Почти семь лет просидел он в Академии, где всё — классы, коридоры, лестницы — заполнено было Брюлловым. Этюдами Брюллова, набросками Брюллова, суждениями и изречениями Брюллова, рассказами о Брюллове, анекдотами о Брюллове. Один бог восседал на Олимпе — единственный и неповторимый Карл Павлович Брюллов!
Еще не приспело время переоценок. Отзывы Гоголя и Пушкина, Белинского и Герцена подкрепляют и утверждают восторги современников. Николаю ли Ге, академическому выученику, населявшему программы Ахиллесами, Патроклами, Саулами и Самуилами, ниспровергать богов с Олимпа! Тем более — Николаю Ге, порывистому, умевшему бросаться с головой в увлечения и не умеющему жить не увлекаясь.
Он и в Академию-то поступил вдруг, повинуясь охватившему его увлечению. Приехал из Киева в Петербург на математический факультет, деловито рассудив, что наука надежнее обеспечит его будущее, чем искусство, а тут увидел брюлловскую «Помпею» («и не мог наглядеться»), встретил к тому же гимназического товарища, будущего скульптора Пармена Забелло, и — прощай, университет! За несколько месяцев из благополучного, чинного студента Ге превратился в завзятого художника, фанатически преданного карандашу и кисти, беспечного, общительного, имеющего одно пальто на все времена года. Кстати, и здесь — опять увлечение! Отец присылал Николаю Ге-художнику ровно столько, сколько Ге-студенту, право, хватило бы и на отдельную комнату и на то, чтобы одеваться поприличнее. Да где вы видели обеспеченного художника?! И Ге живет общежитием, раздает деньги товарищам, питается кое-как и доводит свою одежду до такой степени ветхости и небрежности, что иные знакомые не рискуют показаться с ним на улице. Столь крутой поворот не мог не быть подготовлен, но сама крутизна поворота немало открывает нам в характере Ге.
Николай Ге был зоркий человек, он видел и слабости профессоров, и огрехи преподавания, и ограниченность академических канонов, но разве можно омрачить бурную радость человека, нашедшего свое призвание и ринувшегося ему навстречу? Что для увлеченного юноши равнодушие наставников, неумные требования, коробящие чувство советы, если есть темно-красные комнаты живописного класса, если весело стучат мольберты, щедрой юностью замешанная краска густо сползает с палитр, если слышатся позади одобрительные возгласы товарищей. Ге наслаждался Академией, брюлловской Академией.
Мог ли Ге отличить в Брюллове сегодняшнее от вчерашнего, мог ли отделить зерно от плевел, когда он видел гигантскую разницу между Брюлловым и остальными всеми, когда переданная из третьих рук случайная шутка Брюллова больше приносила пользы, чем долгие рассуждения профессоров, когда Брюллов был действительно единственным — и некого поставить рядом с ним.
Для ясного видения нужно время. Много лет спустя, как бы подводя итоги, Ге набрасывал в речи на съезде художников беглые и точные словесные портреты русских художников. Тогда-то среди своих предшественников он оценил не только Брюллова, но и Федотова. Он оценил в Федотове именно то, к чему сам всю жизнь стремился, — жажду «выразить в живописи те мысли, которые давили его и которые он спешил высказать».
Но в годы ученичества «завзятому академику» Федотов, быть может и прекрасный, казался случайным; русское искусство представлялось Ге кометой, увлекаемой ослепительным ядром — Брюлловым. Ге верует истово, он молится на «Последний день Помпеи». Он еще не понял, что надо быть собой. Его этюд хвалят: «Ого, настоящий Брюллов!» «Но я не обиделся, — вспоминает он, — я был вне себя от радости».
Через несколько лет Ге остановится на минуту отдышаться, оглянется назад и пойдет по-своему, спотыкаясь и падая, счастливый — не второй Брюллов, а первый Ге.
До перелома в русском искусстве рукой подать. Творческая биография Ге накладывается на место перелома.
Федотов уже был. Бунтари еще не пришли: Крамской с товарищами уйдет из Академии через два месяца после того, как Петербург увидит «Тайную вечерю» Николая Ге.
Увлечения и настроения
В автобиографических записках Ге называет свой отъезд за границу «бегством».
«1857 года весной мы — я с женой — побежали за границу. Этот порыв, этот спех был свойствен тогда всем; долго двери были заперты, наконец — отворили, и все ринулись… Право ехать за границу еще не получено, а билет в мальпосте уже взят: откладывать нельзя — очередь ехать придет через месяц».
Он не стал дожидаться ни документов о сдаче экзамена, ни завоеванной золотой медали, ни разрешения на выдачу академического пенсиона. Умер отец, Николай получил долю наследства и уехал на свои.
А куда он, собственно, так спешил? Почему бежал столь стремительно? Почему даже месяца лишнего не захотел ждать? За месяц не выцветут фрески в римских и флорентийских церквах, и в творческих планах Ге месяц не играл никакой роли, и не из тех он был, кому не терпелось проскакать галопом по Европе, других посмотреть и себя показать. Да и чем плохо, в конце концов, было ему, Николаю Ге, в России — барчонку, росшему под крылышком помещицы-бабушки, примерному гимназисту, чинному студенту и увлеченному ученику императорской Академии художеств? Как и всякий россиянин, встречался он каждый день с несправедливостью и угнетением, однако, редкий из россиян, он не испытал их на себе — чем ему плохо? А он торопится уехать, нет, он бежит, он объясняет откровенно: «Ежели бы меня спросили: зачем вы едете? Я бы, может быть, ответил: заниматься искусством; но это был бы ответ внешний, не тот. Себе я бы отвечал: остаться здесь я не могу; там, где ширь, где свобода — туда хочу… То, что я узнавал, приобретал, давило меня, отравляло. Не хватало уже воздуха, свободы…»
Вот он как заговорил — барчонок и завзятый «академик»! Но разве не тем и определяется общественное лицо человека, насколько при решении вопросов времени он умеет отвлечься от личного? И если Ге, которому живется во сто крат лучше, чем миллионам соотечественников, не выдерживает, кричит: «Довольно, больше нельзя выносить!» — то это уже от убеждений.
Видно, не только о композициях, торсах и складках говорили, собираясь вместе по вечерам, завтрашние художники.
«Вчера я был у Сырейщиковых и читал там очень интересную статью, и она меня не оставляет ни на минуту, тем более что сюжет этой статьи мне по сердцу (вообще о крепостном состоянии). Целый вечер, ложась спать, думал об этом и никак не могу переварить многое…»[1]
Стасов пишет про Сырейщикова — купец, приятель Ге, поверенный в его делах. Но, видно, не только в делах — в мыслях тоже.
В другом письме Ге сообщает, что подбирает «все лучшие статьи прошлых годов» из «Современника»[2].
Непрерываемый поток впечатлений, начиная с детских, — вроде экзекуций на конюшне или любимой няньки, избитой отцовским управляющим, — подготовил Николая Ге к восприятию определенных идей; демократическая публика, заполнившая классы Академии, оказалась благодатной средой для распространения этих идей; а откуда они шли, идеи эти, Ге объясняет без обиняков: «Самые влиятельные, близкие по душе были Герцен и Белинский».
Существует мнение, что в программной картине на большую золотую медаль — «Саул у аэндорской волшебницы» — Ге придал пророку Самуилу внешнее сходство с Белинским.
Если так, то программа Ге приобретает совершенно недвусмысленную направленность. Она писалась в 1856 году. Пришло к концу тридцатилетнее николаевское царствование («глухим и темным временем» называл его Ге), потянуло в воздухе весенним ветром надежд. И именно в этот момент ученик Академии Ге пишет грозного пророка Самуила, который предсказывает царю Саулу гибель и потерю царства. Вот что может означать сходство с Белинским!
Зато доподлинно известно, что в августе 1856 года (точно: 15 августа), то есть как раз когда шла работа над картиной о пророке Самуиле, ученик Академии художеств Николай Ге побывал на могиле Белинского и запечатлел ее в небольшом эскизе.
Известно также, что образ Белинского много лет волновал творческое воображение Ге.
Однако вернемся к новоиспеченному академическому пенсионеру, который спеша погрузился вместе с молодой женой в мальпост и уже катит без оглядки прочь от Петербурга — в сторону Варшавы.
Женился Ге так же увлеченно, как все делал. Скульптор Пармен Забелло, поселившись в одной комнате с Ге, много рассказывал ему о своей сестре, давал читать ее письма. Скоро Николай Ге сам стал переписываться с девушкой, жившей у своего отца в черниговском имении. «Божественная Анна Петровна», «святая Анна Петровна», «целую вашу подошву» и даже — «пойду, закажу башмаки и поцелую подошву на самом деле» — вот как он пишет девушке, которую по письмам оценил и по письмам полюбил.
Возникла даже легенда, что он и женился-то «не глядя», тоже «по письмам»: закончив курс в Академии, бросился к Анне Петровне, познакомился, сделал предложение, обвенчался и увез за границу. Легенда не соответствует действительности. Ге по дороге в имение отца несколько раз заезжал к Анне Петровне, видел ее; потом — уже в Петербурге — радовался: «Потушу свечку, лягу, и настанет для меня лучшее препровождение времени — буду вспоминать время, когда я был у вас, — особенно 28 февраля. Благодарю бога, что я художник — так ясно вижу вас в это время». Отношения с каждой встречей ближе, интимнее; в письмах тотчас замечаем этот трогательный переход от «вы» к «ты». Вспоминается пушкинское: «пустое вы сердечным ты она, обмолвясь, заменила».
Свадьба тоже не свалилась как снег на голову — они к ней готовились. Нет, не приданое укладывали в сундуки, не составляли опись салопам, шалям и постельному белью — они духовно готовились. Ге торопился: поменьше вещей, поскромнее свадебный ритуал, чтобы без визитов и прочих церемоний. «Наша будущая жизнь будет не такая, какая обыкновенно бывает после венчания». Главное: «Мы заживем как люди, а не бары»[3].
Но легенда о странном браке Ге «приехал — познакомился — увез» возникла, а легенды, коли возникают, значит, бывают нужны. Вот и в этой люди, должно быть, узнавали характер Ге.
Мы знаем Анну Петровну Ге по портретам — художник много писал ее в первые годы совместной жизни. Она, пожалуй, некрасива: крупный нос, подбородок тяжеловат, в чертах лица некоторая резкость. Но Николай Николаевич рассказывает в своих портретах об уме Анны Петровны, благородстве, воле, о ее способности точно видеть, чутко слышать и глубоко понимать.
Анна Петровна получила хорошее образование; сидя в деревне, сама пополнила его; теперь брак с Николаем Ге открыл перед нею новый мир — большого искусства.
Втройне радуясь — свободе, друг другу и творениям искусства, — путешествовали они по Германии и Швейцарии, добрались до Рима, оттуда бросились в Париж — и снова в Италию, уже надолго. По дороге из Генуи в Ливорно, на пароходе, — знаменательная встреча с поэтом и публицистом Иваном Сергеевичем Аксаковым. Не потому знаменательная, что с Аксаковым, а потому, что Аксаков из Лондона ехал — от Герцена.
По письмам Герцена датируем встречу Ге с Аксаковым: август 1857 года. С этой встречи начинается своего рода герценовское десятилетие в жизни Ге.
Герцен для Ге в то время — главнейший из наставников, никого нет влиятельнее, дороже, ближе. Белинский умер, а Герцен хоть и далеко, то и знай подает весть своим друзьям, единомышленникам, последователям. «Кто жил сознательно в 50-х годах, — вспоминал потом Ге, — тот не мог не испытать истинную радость, читая Искандера „Сорока-воровка“, „Письма об изучении природы“, „Дилетантизм и буддизм в науке“, „Записки доктора Крупова“, „Кто виноват?“, „По поводу одной драмы“, наконец, первый том „Полярной звезды“. Были и другие писатели, но никто не был нам дорог своей особенностью, как Искандер… Мы ему были обязаны своим развитием. Его идеи, его стремления электризовали и нас».
Перед свадьбой Николай Ге преподнес своей невесте, «как самый дорогой подарок», статью Герцена «По поводу одной драмы». Это статья о любви, о браке, о семье, об отношениях людей друг с другом и со своим временем. Молодые собирались строить жизнь по Герцену и тут — вот ведь удача какая! — встречают человека, который только что от их кумира.
Встреча Ивана Аксакова с Герценом была дружеской, интересной; Аксакову есть что рассказать, и, надо думать, столь вдохновенные слушатели, как Николай и Анна Ге, разжигали в нем желание рассказывать.
А для Ге в этой встрече есть еще нечто очень важное: он и раньше слыхал, что можно поехать к Герцену, теперь он точно знает, что это вполне осуществимо. В своих записках Ге пылко утверждает: будь у него средства — тотчас после свидания с Аксаковым повернул бы в Лондон. Но академическая пенсия еще не поступает, собственные деньги изрядно порастрачены — приходится отложить намерение до лучших времен и продолжить путь в Рим.
Наверно, тотчас после встречи с Аксаковым он и впрямь повернул бы в Лондон (это на Ге похоже!), однако затем произойдет нечто на первый взгляд необъяснимое.
Ге будет целые десять лет жить мечтой о свидании с Герценом. С еще большей страстью станет ловить всякое печатное слово Искандера, станет жадно выспрашивать всякого возвратившегося из Лондона. Он с Александром Ивановым будет говорить о Герцене — мы об этом разговоре почти ничего не знаем, знаем только, что его вряд ли могло не быть. Через общих знакомых Ге станет посылать приветы Герцену и однажды получит в ответ бесценный дар — фотографический портрет своего кумира. Ге познакомится с детьми Герцена и в 1863 году разминется с ним самим: незадолго до приезда Герцена во Флоренцию Ге повезет «Тайную вечерю» в Петербург.
И все десять лет Ге будет откладывать свое паломничество. Изнывая от желания видеть Герцена, говорить с ним, он будет изыскивать поводы, чтобы… не ехать: нет денег; нельзя ехать в Англию, не зная языка; Герцен слишком занят делами, вправе ли кто-нибудь мешать ему. Однако пóходя, в общем ряду, Ге назовет и главную причину — Герцен «окружен многими людьми и не даст мне того, что мне было дороже всего: знакомства интимного, отдельного». С годами Герцен уже не просто «кумир», а личность настолько духовно близкая, что Ге теперь не в силах раствориться в толпе обычных, рядовых посетителей.
Десять лет ждал Ге своего часа. Он дождался. Их знакомство было непродолжительным, но отдельным, содержательным и плодотворным. Герценовское десятилетие в жизни Ге разрешилось одним из лучших портретов в мировой живописи, который сам Герцен оценил коротко и выразительно: «rembrandtisch».
Когда Гекуба становится своей
Однако до этого портрета еще десять лет — долгие версты, тяжкий путь поисков себя.
Пока колесит по Италии академический пенсионер Николай Ге, всматривается в творения великих мастеров. Он говорит, что теперь «ближе стал к ним, мог понять, почему они такие и что говорили». Он радуется, что увидел их рост — «от лепета детского до полного совершенства, от Чимабуэ до Микеланджело».
Рим, Генуя, Ливорно, Неаполь, Помпеи, Милан — в конце концов Ге обосновывается во Флоренции. Здесь, в богатейших флорентийских сокровищницах, он как бы подводит итог всему, что увидел. Ге сжато намечает вехи развития живописи итальянского Возрождения: Джотто, Гирландайо, Мазаччо, Учелло, Рафаэль, Тициан, Леонардо, Микеланджело. Список весьма произволен, с Ге можно спорить — но зачем? Ге не историк искусства, он по-своему, опять-таки увлекаясь, укладывает ступени от Чимабуэ до полного совершенства, до Микеланджело.
Микеланджело его потряс. «Кто же для меня дороже, глубже всех, кто достиг недосягаемого? Бесспорно — Микеланджело».
Перед его творениями не сорвется с языка роковая скороговорка начинающего: «И я так попробую», тем более «И я так могу». Законченность совершенства: Микеланджело нельзя продолжать, ему даже подражать нельзя — он сам сделал все, что хотел. После него надо начинать сызнова. «Его мысль, дух творчества независимы, — пишет Ге. — Он один сам в своих произведениях». В Микеланджело для Ге не частности дороги, а общее — уразумение задачи искусства. Найти свою мысль, свое чувство — вот задача художника, ищущего истину. Ге увидел «полную связь художника с истиной». Он понял, к чему стремиться нужно. Он сделал первый шажок к самому себе, к своей истине.
Микеланджело «более всего поразил» Ге, Леонардо да Винчи он «больше всего» любит. Лет через тридцать пять старик Ге, беседуя с молодыми художниками о Леонардо, признается:
— Я иду следом за ним, иду по-своему…
Сколько сил нужно, сколько самоотречения, чтобы перешагнуть через эту запятую, посметь сказать: «Иду по-своему». Независимость и неповторимость — в искусстве синонимы. Когда Ге почувствует, что свободен, он не побоится пойти следом за Леонардо, но так пойти — это почти вызов бросить.
В конце 50-х годов Ге еще не свободен, зависим; близ Микеланджело и Леонардо академический пенсионер уже многое понял, но еще не приступил; он пока следует, повторяя, он пока лишь уразумевает суждения Леонардо «Об ошибках живописцев в прошлом и настоящем»: «Я говорю живописцам, что никогда никто не должен подражать манере другого, так как в таком случае он будет называться внуком, а не сыном природы в отношении искусства».
Заголовок трактата можно расширить: «Об ошибках живописцев в прошлом, настоящем и будущем».
В Италию Ге «привез мысль» написать полотно на сюжет «Смерть Виргинии». По словам самого Ге, это была первая мысль, которая показалась ему своей. Когда видишь своими глазами Форум, Колизей, Капитолий, воспринимаешь историю Рима совсем иначе, чем по книжке (даже с картинками). Внешние впечатления подогревали замысел Ге. Казалось, если писать с натуры колонны и портики, если голову Виргинии писать не с петербургской натурщицы, а с красавицы римлянки, картина сама оживет, заговорит. Ге увлекся, написал за год «целые кучи» эскизов, однако эскизы оставались эскизами — картина не задалась.
Но Ге — увлеченный работник, ему нужны были эти «кучи» эскизов, чтобы убедиться, что мысль не своя и чувство не свое — «и отца-римлянина я не знаю, и Аппия я не знаю, следовательно, это не живая мысль, а фраза».
Появляется слово «фраза», которым Ге обозначает внешнее, не горящее внутри мыслью и чувством, не свое. «Фраза» — это много говорить и ничего не сказать. Картина остается немой.
Николая Ге потряс Микеланджелов «Страшный суд»: какая неимоверная острота и сила чувства у художника великой мысли. Жизнь самого Микеланджело и вся жизнь, кипевшая вокруг него, словно одним ударом кисти брошены на стену Сикстинской капеллы.
Ге печально разглядывает и отвергает свои эскизы. Холодные картинки! Точно выписанные колонны и портики сами по себе ничего не значат. Фраза.
После «Виргинии» Ге целый год бился над новой темой — «Разрушение Иерусалимского храма».
На эскизе дым валит клубами и колонны вот-вот упадут, и в смятенных позах замерли охваченные ужасом и задрапированные тканями люди. Но Ге горько чувствует свою немоту. Его приговор безжалостен: «богатая остроумная фраза». Пожалуй, и фраза-то не своя — цитата. Как ни странно, цитирует молодой пенсионер не Джотто, не Рафаэля, не Леонардо и уж не Микеланджело, конечно, а все своих, наставников, — Бруни, Басина, Маркова, прежде всего и больше всего Брюллова.
За каждой колонной эскизов Ге стоит Брюллов, в лице и позе каждой запечатленной римлянки проглядывают черты Карла Павловича. Одну из работ («Утро») Ге прямо помечает: «подражание Брюллову»; впрочем, и так видно — можно было не помечать. «Разрушение Иерусалимского храма» — дитя или (следуя определению Леонардо) внук «Последнего дня Помпеи». «Мои мне были ближе, — признается Ге, — с ними дольше я жил, они меня учили».
Стасов будет потом посмеиваться над затянувшимся «академичеством» начинающего художника. Но сам Ге неожиданно и своеобразно объясняет это обстоятельство: он подражает Брюллову, борясь с подражательностью. Он переносит разговор из области искусства в область психологии. Великий Брюллов тоже прошел когда-то школу изучения итальянских мастеров, однако сумел же потом разбить скорлупу подражательности, едва ли не первый из русских художников стал совершенно самим собой.
Ге уже хочется взлететь, да страшно оторваться от земли, страшно начинать по-новому, на пустом месте; приобретать оказалось легче, чем отказываться, узнавать — легче, чем забывать. Еще не один десяток лет пройдет, пока Ге скажет, что надо вытряхивать из себя старый хлам, за каждую новую работу приниматься свободно — «как дитя». Но он к этому всю жизнь стремился — увидеть по-новому и по-новому сказать. В Италии он радуется, встречая рядом с Микеланджело и Рафаэлем фрески Беато фра Анджелико — Ге нравится, что этот мечтательный монах, не поддаваясь ветрам влияний, выражал себя «с наивностью и силой младенца».
Ге должен был подражать и мучиться оттого, что подражает.
Отвергая в себе чужое и прошлое, художник находит себя. Он осмысляет за время своего ученичества весь путь развития искусства и является затем на свет — наивное и мудрое дитя, которое все знает и жаждет тем не менее начать все сызнова.
Отвергая эскиз «Разрушение Иерусалимского храма», Ге энергично восклицает:
— Кто этот пророк? Кто эти голодные? Что такое для меня храм? Ничего!
Вспоминается Гамлет:
«…Что ему Гекуба, что он Гекубе, чтоб о ней рыдать?»
Искусство начинается, когда художнику есть дело до Гекубы, когда Гекуба стала своей.
Нужно, подобно шекспировскому Первому актеру, в воображенье поднять дух свой до своей мечты.
В 1858 году Ге написал эскиз «Похороны ребенка»: залитый солнцем итальянский дворик, посреди, на полуразрушенных каменных ступенях, скорбящая мать.
Ге написал с натуры и мать, и ступени, и дворик, но картинка получилась холодноватой. Не выручила даже трагическая тема.
Через восемь лет, тоже в Италии, Ге набросал рисунок пером — не с натуры, по памяти, — «Похороны ребенка в Каменец-Подольской губернии». Печальная заброшенная деревенька. Мрачный день. Жалкий поп с крестом и малолюдное крестьянское семейство, бредущее за гробиком. Ни скорбных поз, ни заломленных рук, все просто, буднично, даже торопливо как-то. Однако рисуночек — не фраза. Тут поэзия. Тут пушкинское:
Вот, правда, мужичок, за ним две бабы вслед, Без шапки он; несет под мышкой гроб ребенка И кличет издали ленивого попенка, Чтоб тот отца позвал да церковь отворил. Скорей! ждать некогда! давно бы схоронил…У Ге не иллюстрация к Пушкину — набросок пером сам по себе зазвучал с поэтической силой.
Так Гекуба становится своей.
Александр Иванов и Николай Ге
В Риме Ге застал Александра Иванова, успел увидеть его «Явление Мессии». Потом Ге вспоминал, что картина при всех ее громадных достоинствах не произвела на него большого впечатления. Картина запоздала: «Требования искусства были дальше ее».
В. В. Стасов, приведя мнение Ге, тут же начинает доказывать что оно случайно. Стасов припоминает, что в частных беседах «с близкими людьми» Ге отзывался об ивановской картине «с уважением и любовью». Кроме того, указывает Стасов, в списке произведений против одной из работ, написанных вскоре после знакомства с «Явлением Мессии», Ге собственноручно пометил: «Под влиянием Иванова».
Не будем принимать чью-либо сторону в этом странном заочном споре. Ограничимся лишь предположением, что Ге, человек порывистый, человек настроения, мог в разное время по-разному отзываться о картине Иванова, а Стасов в свою очередь мог не знать всех суждений Ге, высказанных в частных беседах с близкими людьми. Что же касается «роковой» пометы, то сама мысль, будто художник подражает лишь произведениям, вызвавшим в нем восторг, требует, пожалуй, доказательств. Ге, сидя в Италии, не подражал, к примеру, Микеланджело, а вот Бруни, о котором молодой художник высказывался весьма иронически, явно проглядывает хотя бы в той же «Смерти Виргинии».
Даже если полотно Иванова при первом знакомстве показалось Ге «запоздавшим», то это вовсе не означает, что личность Иванова, его творчество, его замыслы и пути их исполнения не произвели впечатления на человека, ищущего своей дороги в искусстве. Чтобы отказаться, надобно прежде на себе примерить. Вот Ге и «примеряет» Иванова — убежденно и бессознательно. И не в одной работе, упомянутой Стасовым, но также в пейзажах, в некоторых этюдах и рисунках. Влияние Иванова на Ге, быть может, вообще куда более сложно, чем представляется на первый взгляд. Параллели опасны, поэтому только упомянем об ивановских акварелях 50-х годов, таких, как «Пилат спрашивает Иисуса: „Откуда ты?“» или «Члены синедриона издеваются над Иисусом».
Для нас важно, что после знакомства с «Явлением Мессии» Ге, по собственному его признанию, начинал что-то под влиянием Иванова. Он еще переимчив. Зато Иванов помог ему «освобождаться» от Брюллова. После «Явления Мессии» Ге замечает холодность брюлловского совершенства. Иванов писал о Брюллове из Рима: «Его разговор умен и занимателен, но сердце все то же, так же испорчено…» Не будем разбираться в том, насколько справедлива эта характеристика. Обратим лишь внимание на разницу внешнего и внутреннего в Брюллове, подмеченную Ивановым, искреннейшим художником и, по свидетельству современников, человеком «с чистой младенческой душой».
Иванов помог Ге находить «фразы» у любимого Брюллова. Именно в этом плане Ге сопоставит Брюллова с Ивановым: искренне религиозный Иванов не мог писать образá, а равнодушный в вопросах веры Брюллов охотно их писал («и этим доказал свою слабость в этом жанре»). У двух великих художников своего времени Ге почувствовал разные взаимоотношения с Гекубой.
Ге понял: чтобы найти себя, мало познать брюлловскую тайну совершенной формы. Он понял: лишь осмысляя по-своему тысячелетний сюжет, Иванов стал независимым и неповторимым.
И еще одна особенность встречи Ге с Ивановым. Начинающий академический пенсионер пришел к художнику, подводящему итоги творческой жизни, без остатка отданной достижению одной цели. Казалось, Ге должен был увидеть удовлетворенность, успокоенность художника, завершавшего жизненный подвиг, но перед ним стоял человек смятенный, по-прежнему мучительно ищущий, тревожно вопрошавший себя, как быть дальше. А он-то, Ге, полагал по наивности, что до конца его собственных поисков рукой подать!.. Уже на закате жизни Ге скажет об Иванове: сплошное страдание, сплошное мучение, отыскивание, недовольство тем, что найдено, полное разочарование в конце работы, вечная борьба душевных стремлений с тем, что давала школа и жизнь.
Скромная помета на небольшом (43×54,2) эскизе 1859 года — «Под влиянием Иванова» — дорого стоит.
В конце августа 1857 года Иванов ездил в Лондон к Герцену — в те же дни, когда о таком путешествии начал мечтать Ге.
Можно предположить, что Иванов и Ге говорили о Герцене: слишком большое впечатление произвело на Иванова свидание в Лондоне, слишком интересовало Ге все, что связано с Герценом.
Беседа Иванова с Герценом касалась вопросов, в то время еще не вполне занимавших Ге, но скоро ставших основной проблемой всего его творчества. Иванов говорил, что утратил религиозную веру, которая облегчала ему работу, оттого мир души расстроился; он просил — укажите новые идеалы, новую веру.
— Конечно, христианская живопись не вдохновит больше, — отвечал Герцен, — но ведь поэтический элемент и, главное, драма присущи всем эпохам. Не есть ли задача художника схватить самый полный, страстный момент катастрофы. Поэтических и притом трагических элементов и в современном брожении бездна. Чем кровнее, чем сильнее вживается художник в скорби современности — тем сильнее они выразятся под его кистью. Ищите новые идеалы в борьбе человечества за свободу, тут тоже есть и жертвы и мученики.
А Ге все-таки пойдет по-своему: схватит самый страстный момент катастрофы и попробует передать в евангельской теме «скорби современности».
В голубой гостиной
Он поселился с семьей во Флоренции.
Где-то между собором Санта Мария дель Фьоре с «Положением во гроб» Микеланджело и церковью Санта Мария Новелла с фресками Гирландайо, между Санта Кроче с расписанными Джотто капеллами Барди и Перуцци и монастырем Сан Марко, расписанным Фра Анджелико, — где-то между творениями, на века запечатлевшими в камне и краске мысль, чувство и труд своих создателей, разместилась квартирка русского художника Николая Ге, о которой известно только, что в ней была гостиная, обитая голубым шелком.
В голубой гостиной было всегда полно народу — итальянцы, французы, русские. Здесь не жались по углам, не искали глазами знакомых, не представлялись чинно друг другу — здесь встречались без церемоний; гости не делились на постоянных и новичков — все равноправны; сюда являлись, когда хотели, и приводили приятелей — радушие хозяев было неистощимым.
Всякий салон имеет свое лицо. У Ге не слушали итальянских певиц, не играли в карты, не танцевали. У Ге говорили и спорили — об искусстве, о философии, о жизни. В голубой гостиной собирались те, кто умел серьезно говорить и остро спорить.
Здесь, во Флоренции, Ге открыл в себе и развил до совершенства талант оратора. Нет человека, который встречался с Ге и не был поражен его умением говорить, убеждать, доказывать. Восхищенные друзья именовали его пророком, недруги отзывались о нем неприязненно, как о фразере, но и те и другие подчеркивали захватывающую увлекательность его проповедей, блистательную отточенность оборотов речи, в споре — высокую технику шахматного виртуоза, умеющего неожиданными ходами захватить инициативу, разгромить противника, поставить мат. Ге был не просто оратор — он был полемист, «диалектик», как тогда называли. У Даля слово «диалектик» объяснено: «ловкий, искусный спорщик».
С годами он приобрел «чарующую» дикцию профессионала и постоянную уверенность, что его слушают, что внимают ему.
Ге даже внешне очень подходил для роли проповедника. Его красивое лицо было отмечено чертами благородства и силы. Величественная посадка головы. Крепкая, стройная фигура. В момент спора — страстная поза трибуна. И вместе с тем — располагающая доброта улыбки, глаз, задушевная мягкость жестов, как бы струящаяся от него готовность выслушать, понять, принять.
Его внешность часто называли апостольской. Этот эпитет употребляли даже художники — точность их наблюдений как будто не должна вызывать сомнений. (Впрочем, Мясоедов считал его темно-русым, а Репин брюнетом.)
Его называли «апостолом», Репин писал, что от его внешности «веяло эпохой Возрождения», Нестеров в недоброжелательных записках именует его «архиереем». Все это черты одного образа, нужно только смыть эмоциональную окраску.
Известно, что страстного апостола Петра в «Тайной вечере» Ге писал с самого себя. Однако это не флорентийский Ге: апостол Петр много старше автора «Тайной вечери». В 1863 году Ге как бы провидел автопортрет 1893 года.
У Ге всю жизнь были своеобразные отношения с женщинами — душевные и неясные. Женщины тянулись к нему, охотно его слушали, были с ним доверчивы, горячо и преданно разделяли его мнения. Родственница, близко с ним знакомая, вспоминает: «…У него всегда чувственности было очень мало. Он часто и прекрасно описывал красивых женщин, описывал живописно, ярко, но он относился к ним только как художник… Он мало знал женщин и не интересовался женской прелестью, а чем-то другим, когда писал их. Он испытывал, собственно, культ к прекрасным женщинам, но не любил их». Его могла воспламенить ложбинка над верхней губой или милая ямка на подбородке, но женщин, которые ему нравились, он называл «Беатричами»; в имени прекрасной возлюбленной Данте для нас звучит некоторая бесплотность. Женщины ценят чистоту обращенного к ним взгляда; они более чутки к проповеди — искренность для них важнее, чем безукоризненная правота.
…Что они говорили, Ге и его знакомые, собираясь в уютной голубой гостиной?
Не будем задним числом сочинять диалоги. Все равно не воспроизведем теперь ни индивидуальных особенностей, ни пафоса их речей. А пафос был велик; не жалели, по свидетельству очевидца, «ни слов, ни порицаний, ни восторгов»; у Ге в пылу спора выразительно подергивалась правая щека, что придавало его доказательствам особую убедительность.
Однако можем определить круг политических тем, которые обсуждались. Догадываемся, о чем говорили.
Годы 1857–1863-й перенасыщены событиями. Обе страны — и та, в которой поселился Ге, и та, к которой были обращены его помыслы, — переживали бурное время.
Надо полагать, Ге был свидетелем восстания во Флоренция: 27 апреля 1859 года народ изгнал тосканского великого герцога Леопольда. Скоро настала очередь других герцогов — поднялись граждане Пармы и Модены. Ге наверняка был свидетелем знаменитых флорентийских демонстраций. Толпы шли по улицам, несли знамена с гербами городов. На шляпах у демонстрантов были прикреплены розовые таблички с лозунгом «Рим — столица Италии!». Разгоралась борьба за освобождение и воссоединение страны. Знаменитая «тысяча» Гарибальди отплыла из Генуи на помощь восставшим крестьянам Сицилии. Вся страна затаив дыхание следила за победным шествием гарибальдийцев: Палермо — Милаццо — Неаполь. Решающая победа при Вольтурно. Среди «красных рубашек» — солдат «тысячи» — были русские добровольцы. Нет, порывистый Николай Ге не примкнул к отряду свободы, которой всей душой сочувствовал. Он уезжал из Флоренции разве что на этюды в деревню. Видным гарибальдийцем был Лев Мечников, человек блистательной биографии, ученый, публицист, друг Герцена; впоследствии он окажется в числе посетителей голубой гостиной.
Газеты, журналы — герценовский «Колокол», «Современник» — и многочисленные приезжие и проезжие приносили в флорентийскую квартирку Ге вести из России. У русских в Италии оказалось тогда вдоволь злободневных тем для обсуждения и споров. Ге «по целым часам может говорить о России, о ее несчастном положении», — писал едва ли не из гостиной художника один из посетителей. Подготовка крестьянской реформы и отмена крепостного права, мужицкие бунты, близость революции, в которую верили и к которой звали лучшие люди страны, острая взбудораженность общества, жаждавшего перемен, — подумать только, эти годы Ге прожил в далекой Флоренции! Две тысячи триста верст пути и голубой шелк, обтянувший стены гостиной, приглушали вести: тревожные события оборачивались пылкими разговорами.
Впрочем, кое-что ему довелось увидеть своими глазами. Архивные документы раскрывают неизвестную страничку жизни Ге[4].
Оказывается, бурным летом 1861 года он побывал с семьей в России. А принято считать, что он безвыездно прожил за границей все шесть лет пенсионерства.
Дата и маршрут поездки — через Вену и Львов в Подольскую и Черниговскую губернии — позволяют предположить, зачем он отправился на родину: шло межевание земель после реформы. Анна Петровна с сыновьями Николаем и Петром — дома их звали Коко и Пепе — сперва гостила в отцовском имении, потом поселилась на лето в небольшом (188 дворов) местечке Осламове. Здесь Ге расстался с женой и тронулся обратно во Флоренцию; по дороге он навестил своих братьев, Григория и Осипа; Григорий предложил ему взять при разделе поместье в Попелюхах. Ге вдруг почувствовал, что деревенская жизнь его манит: «Буду спешить… приехать и поселиться здесь. Во всех отношениях мне здесь нравится жить». Но до деревенской жизни — еще пятнадцать лет.
Неизвестно, что увидел Николай Ге в России. Однако доподлинно известно, что в Подольской губернии восемьдесят тысяч крестьян отказалось отбывать барщину, волнения охватили 159 сел. Известно, что Черниговская губерния стала центром движения на Левобережье. Вряд ли все это прошло мимо Ге.
Во Львове, на обратном пути во Флоренцию, он встречался с польскими деятелями, жадно набросился на местные газеты, прочитал в «Колоколе» послание русских женщин к польским. В первых же письмах к жене из Флоренции он рассказывает о «льве» Гарибальди.
Догадываемся не только, о чем говорили в гостиной у Ге, знаем, как говорили. По воспоминаниям, в разговорах о политике «господствовал» «тон крайнего либерализма»; в ту пору слово «либерал» означало — человек, мыслящий или действующий вольно. Но от мыслить вольно до вольно действовать самый трудный шаг… Чай из русского самовара, хоть и горячий, остужал пыл острых споров, за малороссийскими варениками, которые виртуозно готовила нянька, вывезенная из черниговского имения, наступало примирение. И все же молодой приятель Ге жаловался: «Он иногда меня упрекает со всем его добродушием, что я, несмотря на свои лета, так мало революционер»[5].
Как, однако, был чуток художник Ге, если запоздалые вести, заглушенные верстами и плотным шелком стен, шумом голосов и звяканьем чайной посуды, тревожили его, воспламеняли, пробуждали в нем замысел картины, в которой передовые деятели русского общества найдут нечто главное, свое.
Для Ге шаг к действию — шаг из гостиной в мастерскую.
Открылось!..
Ге потом вспоминал, как начал «Тайную вечерю». Читал Евангелие — и вдруг ему открылось. А он уже был в отчаянии, он уже хотел бросить живопись — вернуться в Россию и заявить, что ничего не привез, нету таланта, ошибся.
Он уже не разрушает храм, не убивает торжественно никого из своих героев. Шестидесятые годы Ге начал портретами знакомых, набросками на литературные темы: Лир и Корделия, леди Макбет, Дездемона, миф о Фаэтоне, Жан-Жак Руссо, «Пир во время чумы». Он все ищет, уже мало надеясь, — не в истории, так в книгах: сколько страсти у Шекспира — Лир возле мертвой дочери, у Пушкина — последние пирующие в замке, осажденном чумой. Его привлек ненадолго юноша Фаэтон, который не сладил с солнечной колесницей и, пораженный молнией, упал с неба — не всем дано светить людям.
Он пробует силы в пейзаже — Вико, Фраскати, Ливорно. Горные дали, Везувий, залив, виноградники. Природа на его холстах взволнованна и одушевлена. Не «равнодушная», «сияющая вечною красою», а увиденная чутким, влюбленным в мир человеком. Он будет писать пейзажи, пока не покинет Италию, он создаст замечательные полотна, по-новому, по-своему расскажет о прекрасной стране — лет через десять начинающий скульптор Гинцбург увидит в петербургской квартире Ге эти пейзажи и почувствует волнующую, порой гармоническую, порой тревожную красоту далекой страны. Но пейзажи — тоже только поиск. Творческого счастья, полного и всепоглощающего, они не приносили.
И когда, казалось, впереди уже ничего не маячит и он в который раз читал Евангелие, — ему открылось.
Он вдруг все увидел и понял, что это — то, что это ему теперь всего дороже — через неделю была подмалевана картина, «в настоящую величину, без эскиза».
Какое это счастье, когда открылось! Сразу забываешь о годах мучительных поисков, о мыслях и чувствах, которые тайно копились и ждали только последней капли, чтобы выплеснуться в творчестве. Она тяжела и сверкающа, эта последняя капля! Она слепит. Она одна остается в памяти. Рождаются легенды, что великое открывается вдруг. Ньютон увидел, как упало яблоко… Пушкин рассказал Гоголю анекдот о ревизоре… Чайковский услышал случайно песенку деревенского плотника… Так в прекрасных легендах рождаются законы физики, драма, симфония. Капля катализатора пересиливает во мнении людском целые моря — ума холодные наблюдения и горестные заметы сердца.
Как это, однако, много значит, что Ге нашел свое в Евангелии. В книге, которую до него миллионы людей читали полторы тысячи лет. В которой сотни художников до Ге искали и находили свое.
Как это много значит, что Ге, неудовлетворенный собой, страдающий от несамостоятельности, от зависимости, вдохновенно взялся за традиционный сюжет. Он, который вчера только отбрасывал кисть и повторял слова Брюллова: «Лучше ничего не сказать, чем сказать ничего»; он, который еще вчера и думать не смел о евангельской теме, вспоминал разговор Иванова с Герценом — лучше бросить кисть, чем взойти в храм без веры.
И вдруг все увидел там, где и не искал, поднял кисть, осмелился, приступил — да как пошел сразу!
Ручей устал пробиваться между камнями, которые натаскал в свое ложе, он принялся прокладывать новое русло.
Традиционный сюжет подчеркивает новаторство Ге.
Ге читал Евангелие от Иоанна. Он именно это Евангелие любил. Наверно, за его страстность, увлеченность. Оно было по характеру близко Николаю Ге. Мудрец Иванов анализировал Евангелие и в тексте от Иоанна нашел всего более «злоупотреблений и прибавок». А Ге загорелся, читая Евангелие от Иоанна, как просмоленное дерево загорается от молнии, пролетевшей рядом.
Что Николаю Ге до «прибавок»! Он не исторической достоверности искал в Евангелии, он вдруг нашел там отклик своим мыслям, чувствам, увидел в тысячелетней легенде иносказательное отражение того, что его, Николая Ге, сегодня тревожило и давило.
Ге потом признается, что во Флоренции «стал понимать Святое писание в современном смысле».
Разговоры в голубой гостиной, хоть и были всего лишь эхом бурных событий, пробуждали в нем острое чувство современности.
А читал он в Евангелии известную и много раз замеченную художниками сцену тайной вечери — последней встречи Иисуса Христа со своими учениками, когда произнес он роковые слова: «Истинно, истинно говорю вам, что один из вас предаст меня».
«И вдруг я увидел там горе Спасителя, теряющего навсегда ученика-человека. Близ него лежал Иоанн: он все понял, но не верит возможности такого разрыва; я увидел Петра, вскочившего, потому что он тоже понял все и пришел в негодование — он горячий человек; увидел я, наконец, и Иуду: он непременно уйдет. Вот, понял я, что мне дороже моей жизни… Вот она, картина! Чрез неделю была подмалевана картина, в настоящую величину, без эскиза. Правду сказал К. П. Брюллов, что две трети работы готовы, когда художник подходит к холсту…».
Одно важное обстоятельство отличает рассказ Ге о том, как он представляет себе тайную вечерю, от всего, что мы прежде слышали об этом эпизоде. У Ге отсутствует самое ходовое слово, самое привычное для характеристики Иуды — «предатель».
Предательство Иуды — неизбежный финал трагедии, но минута наивысшего напряжения — Иисус, теряющий навсегда ученика-человека. Иоанна взволновало не предательство — разрыв. И сам Иуда — не «предаст», а «непременно уйдет». Ге смещает акценты.
Для него Иуда — не мелкий негодяй, который со страху или из корысти предал своего учителя. Такого Иисус не сделал бы своим апостолом — посланником, избранным для распространения нового учения. В том-то и трагедия Иисуса Христа, что Иуда был доселе учеником и человеком, верным спутником, одним из двенадцати избранных, таким же, как Иоанн, как Петр.
Нужно очень верить, тогда пойдешь по воде. Иуда усомнился — надо ли идти до конца? — и пошел на дно. Новое учение требует служения беззаветного. Такое служение мучительно трудно. Подчас не выдерживают даже избранные — сами апостолы. Когда провокатор несет за тридцать сребреников донос в сыскное отделение — это вызывает омерзение, гнев, досаду. Но великая боль — это когда уходят избранные, словно отрываются кусочки сердца.
Всюду вокруг — в России, в Италии, в Польше — жили и боролись новые люди. Они собирались в группы и партии, каждый шаг их был труден, каждый рассвет означал для них новые бои, новые лишения и тяготы, а ведь чтобы идти, нужно было очень верить да еще убеждать сомневающихся, многие тысячи, — ради них избранные каждый день готовились отдать жизнь.
И, быть может, самая страшная трагедия рождалась тогда, когда один из новых людей, призванный вести других за собой, вдруг понимал посреди пути, что дальше идти не может, потому что идет не туда. Он уходил, зная, что предает, и не мог не уйти. Это было бы тоже предательством — он уже не верил.
Деятели, вместе начиная борьбу, на каком-то этапе по-разному видят конечные ее цели — вот неизбежный конфликт, расчленяющий новых людей общества, новые партии. Он необходим, такой конфликт, однако совершается тяжело, приносит участникам суровые испытания и душевные муки. Не мудрено — именно в этот момент решаются судьбы учений, партий, борьбы, определяется направление.
После ареста Христа преданнейший апостол Петр трижды за одну ночь отрекся от своего учителя. Но не свернул с пути. Пошел дальше. Позорная кличка предателя на века осталась за Иудой.
Замысел — сегодняшнее и вечное
«Современное брожение», свидетелем которого стал Ге в начале шестидесятых годов, было очень сильно и многообразно. Освободительное движение — русское, итальянское, польское — представляло собой яркую палитру направлений, тенденций, взглядов.
За освобождение Италии боролись и гарибальдийцы и монархисты. Монархисты вели тайные переговоры и заключали сделки, гарибальдийцы с оружием в руках принесли свободу доброй половине Апеннинского полуострова. Народ шел за Гарибальди; Гарибальди оставался один шаг до республики, но он добровольно передал власть в руки монархии. Король расформировал отряды Гарибальди, а его самого «отпустил домой».
Частыми посетителями голубой гостиной были поляки — завтрашние повстанцы. Богатые паны и безземельные шляхтичи. Теоретики-утописты. И практики, знавшие деревенские кузницы, где холопы по ночам тайно ковали косы. Все эти люди жаждали освобождения Польши. Завтра они вместе сделают первый шаг, но кто из них рискнет сделать второй, третий… Сотни людей, которых видел и о которых слышал Николай Ге, трогались в путь вроде бы по одному тракту, но направлялись до разных станций.
А Россия! И царь был «освободитель», и благонамеренные реформаторы обсуждали проекты «освобождения», и газеты трубили о «новом времени», но слышались и призывы браться за топоры.
Ге листал журналы, жадно ворошил газеты, добывал нелегальные издания: всюду говорили об идеалах свободы — и в отвлеченной научной полемике и в боевой прокламации. Раскол в «Современнике» показал, что не само слово важно, а кто его произнес. Прекрасные люди Тургенев, Григорович, Толстой — разве они не обличают, разве не пекутся о народном благе? И вдруг оказывается, что «зло» и «благо» для Чернышевского и Добролюбова нечто совсем иное, нежели для Тургенева и Толстого, и им не то что идти вместе, но даже в одном журнале сотрудничать никак невозможно.
К тому времени, когда Ге явится с картиной в Россию, Тургенев будет за границей, Толстой в Ясной Поляне (примется за «Войну и мир»), Чернышевский в крепости, а Добролюбов в могиле.
Кстати, Ге попадет в Петербург в разгар антибрюлловской кампании. Николая Ге станут противопоставлять Брюллову, авторитету и учителю, начнут побивать художника Брюллова художником Ге. Кто знает, может быть, Ге чувствовал себя иногда апостолом, уходящим навсегда от учителя, но уходящим, чтобы идти вперед.
В 1867 году Герцен увидел у Ге авторское повторение «Тайной вечери». Долго стоял перед полотном.
— Как это ново, как верно.
Ге стал говорить, что наступает минута — и уходят друзья, самые близкие, самые верные, уходят, словно часть самого тебя. Он напомнил Герцену о его разрыве с Грановским. Ге знал историю этого разрыва из «Былого и дум». Он помнил стихи Огарева:
И он ушел, которого, как брата Иль как сестру, так нежно я любил!Грановский! Кто бы подумал, Грановский сказал Герцену и Огареву, что ему с ними не по пути.
Герцен печально кивал головой перед «Тайной вечерей»:
— Да, да, это глубоко, вечно, правда.
Он рассказал Ге о своем отношении к новому поколению, идущему за ним, о встрече с Чернышевским:
— Я не смог полюбить его…
Вот ведь до чего конкретно задумывал Николай Ге — и его понимали так же конкретно и остро.
Но конкретное, осмысленное и переданное, как конкретное, никогда не приносило миру великих творений искусства. Нужно в конкретном увидеть общее, выразить это общее, не порывая с конкретным, — нужно, чтобы глубина мироощущения и широта взгляда слились со страстной взволнованностью современника и участника событий. Так рождался «Ночной дозор» Рембрандта.
Ге обладал этим подчас загадочным свойством больших художников, этим особым настроем ума и чувства. Много лет спустя в малороссийском селе он спросил крестьянского мальчика, как его зовут. «Меня — Грицком, — отвечал мальчик, — а вон его — Трофимом, а того — Опанасом». Этот ответ поразил Ге. Слова мальчика, на которые сотни, тысячи людей попросту не обратили бы никакого внимания, привели его к мысли о связи каждого человека с другими, со всем человечеством, о связи всех живущих в мире.
Открывать современное, конкретное в творениях искусства не значит снимать аккуратно масочки: «Под видом такого-то скрывался такой-то». «Этой сценой автор хотел сказать…». Открывать современное — значит, не расчленяя произведение, услышать в нем «музыку Времени», почувствовать идею и среду, в которых оно рождалось, увидеть за частным общее. Именно так прочитал, почувствовал чеховскую «Палату № 6» Владимир Ильич Ленин: «У меня было такое ощущение, точно и я заперт в палате № 6».
«Тайная вечеря» Ге — это тайная вечеря, последняя трапеза Христа с учениками; Христос, Иуда, Иоанн, Петр — именно они, а не ряженые. Но множество незримых нитей связывает картину Ге с той реальностью, в которой он жил. Замысел питало Сегодня…
1 августа 1861 года Герцен в частном письме сообщал: «Главные события в Париже — замирение с Львицким, вследствие чего превосходный портрет…»
Сергей Львович Левицкий (или Львов-Львицкий) — двоюродный брат Герцена, в 50-х годах известный парижский фотограф.
На фотопортрете 1861 года Герцен сидит (скорее, полулежит) у стола в большом кресле. Он облокотился о стол, голову положил на руку. Он глубоко задумался о чем-то. Более того: он живет сейчас лишь этой трагически-напряженной мыслью.
Фотография быстро стала знаменитой. Один из ее экземпляров Герцен через кого-то из общих знакомых переслал Ге. Герцен полагал, видимо, что вот-де живет где-то во Флоренции еще один горячий приверженец, молодой русский художник («Как его? Ге? Совершенно французская фамилия!») — ну хорошо, пусть будет у него фотография, коли ему охота!.. Ничего больше в ту пору Герцен о Ге и знать не мог. Ге даже не относили к числу «подающих надежды». Писатель Григорович, посетив его в Риме, пари держал, что «этот Ге» никогда «ничего не сделает». Между тем фотография Герцена оказалась очень важным эпизодом в жизни Ге.
Даже при беглом упоминании о «Тайной вечере» неизбежно отмечается портретное сходство Христа с изгнанником Герценом. Конечно, сходство есть, и не только портретное, даже поза Христа — как бы зеркально отраженная поза Герцена. Фотография подсказала художнику общие черты героя. Ге уже не отступает от них. Не нужно искать прямого копирования (Ге никогда не «вставлял» натуру в полотно), лицо Христа вовсе не лицо Герцена, но, когда в поисках обобщения художник делает карандашный портрет певца Кондратьева, в нем при полном внутреннем отличии повторяются основные внешние черты герценовской фотографии. Но, пожалуй, стоит задуматься не только о внешнем, бросающемся в глаза…
Тут все вместе: и уже отчаянное желание найти свою стезю в искусстве, любыми, пусть самыми решительными способами порвать со старым; и бурный поток впечатлений, тревожные раздумья, попытки осознать Евангелие в современном смысле; традиционно приходящий в голову образ Христа и полное глубокого значения лицо Герцена, его поза, его напряженная мысль, запечатленная фотографическим аппаратом; и поразивший, как открытие, рассказ о разрыве с Грановским, опубликованный в том же 1861 году в отдельном издании «Былого и дум».
Я правды речь вел строго в дружнем круге, Ушли друзья в младенческом испуге. И он ушел, которого, как брата Иль как сестру, так нежно я любил!Пир, который «приготовлял» Герцен для своих друзей, и неожиданное осознание того, что он расходится с ними, исполнившее его глубокой печалью, идейный разрыв, когда на сердце так тяжело, точно кто-нибудь близкий умер, — вот она межа, вот предел, но надо идти дальше, не оглядываясь, об истине глася неутомимо.
Этот рассказ странно, своеобразно перекликался с переосмыслением евангельской тайной вечери и вместе с тем как бы подытоживал многие беспокоившие Ге впечатления и раздумья.
Фотография, присланная Герценом, оказалась уже не просто внешней подсказкой: она сформировала замысел Ге.
Замысел — традиции и новаторство
Картина была подмалевана за неделю.
Ге всю жизнь писал «запоями». Приходил в мастерскую на рассвете. На нем был длинный, до полу, старый халат; подходя к картине, он засучивал рукава выше локтя. Но он не принимался сразу. Садился против картины в кресло, крутил папироску. Сидел, подперев кулаком щеку, покачивал ногой, стараясь не уронить висящую на пальцах просторную домашнюю туфлю без задника. Искоса и будто лениво разглядывал холст, дымил. Потом резко вставал; обжигая пальцы, торопливо гасил папироску, изо всей силы тыча ее в широкую медную чашку; путаясь в халате, теряя туфли, спешил к картине, брал палитру, кисти — и тотчас снова закуривал.
Он писал быстро, смело; его распирали идеи — он решительно переписывал лица, изменял ракурсы, по-новому решал освещение; шлепая туфлями, отбегал в другой конец мастерской — взглянуть — и уверенным боевым шагом возвращался к картине, будто шпагу, держа в вытянутой руке нацеленную кисть. Он не замечал, как в мастерскую входила Анна Петровна, принимала у него халат и подавала взамен темную, свободную в поясе рабочую блузу. Может, он и руку-то в рукав просовывал, не выпуская кисти.
Порой он злился — палитра со стуком летела на пол и кисти влипали в густые комья краски. Он подбегал к столу, отбрасывал тяжелый переплет альбома и с такой поспешностью, словно от этого зависела вся его жизнь, набрасывал карандашом портреты, позы, варианты композиции. Руки его все время были заняты (современник вспоминал: работал Ге так энергично, что казалось удивительным, как ему двух рук хватает), неизменную папироску он сжимал в зубах, синий дым обволакивал его встревоженную апостольскую бороду, лез в глаза — Ге щурился, встряхивал головой.
По ночам ему снилась его картина. Сердце отчаянно колотилось, он просыпался от страха и сомнений. Все не так…
С трудом попав ногами в растоптанные туфли, он быстро шагал в мастерскую, волоча по полу темно-красный, словно взятый напрокат с полотен Рембрандта халат. Подносил свечу к самому холсту — «не так, не так», — ставил свечу на стол, жадно от нее прикуривал, издали всматривался в картину. Рассказывают, он иногда даже писал ночью. В желтом густом свете бродили черные тени — предметы были изменены, выпуклы и подчеркнуто осязаемы.
Всю группу «Тайной вечери» Ге вначале вылепил из глины и с этой модели писал. Однажды ночью он зашел в мастерскую, поставил свечу на новое место — и вдруг увидел, что его скульптура освещалась с новой точки лучше, выразительнее. Но при таком освещении композиция ему не понравилась: вот если повернуть всю группу вправо вокруг вертикальной оси, тогда будет так. Ге схватил мел и прямо по записанному холсту, по оконченной почти картине набросал все заново. Он работал весело и дерзко. А до отъезда в Петербург, на выставку, оставалась всего неделя.
Это что! Через тридцать лет, работая над «Распятием», в поисках выразительности отхватит ножом правую часть картины!
Домашние в подобных случаях поглядывали на него с опаской — в своем ли уме? А он горячо говорил молодым художникам:
— Не бойтесь своих картин, иначе вам смерть!
Едва заходит речь о «Тайной вечере», сразу припоминаем Леонардо да Винчи; Ге и сам часто повторял:
— Ах, Леонардо! «Тайная вечеря»! Я шел за ним!
Шел-то, может, и шел, да только совсем не туда пришел. У Ге и замысел и решение — все свое.
Между художниками разных эпох и поколений есть более высокий и достойный способ общения, чем подражание.
Лев Толстой, будущий близкий друг Николая Ге, рассказывал, что читал однажды том прозы Пушкина: «И там есть отрывок „Гости собирались на дачу“. Я невольно, нечаянно, сам не зная зачем и что будет, задумал лица и события, стал продолжать, потом, разумеется, изменил, и вдруг завязалось так красиво и круто, что вышел роман…» Вышла «Анна Каренина».
Так художники передают из рук в руки горящий огонь.
Ге говорил о «Тайной вечере» Леонардо да Винчи:
— Вот вам и самый страшный из всех страшнейших суд…
Суд сомнения, суд недоверия, суд совести. «Один из вас предаст меня». Имя не названо. Но каждый из двенадцати учеников Христа уже не верит остальным одиннадцати. Себе не верит — вопрошает Иисуса: «Уж не я ли, господи?» Нарушено великое духовное братство. Гармонию сменила разобщенность. «Тайная вечеря» Леонардо — это двенадцать разных людей, узнавших одну жгучую истину. За длинным столом развернут как бы целый спектр чувств, оттенков отношения. Бессильная скорбь и жажда покарать, порыв самопожертвования и холодок недоумения. Фреска Леонардо — это одна большая духовная драма и еще тринадцать духовных драм.
Ге несет огонь дальше, развивает действие. Его «Тайная вечеря» — уже не смятение чувств, не сомнение. Услышав пророчество Иисуса, Иуда спросил, как и другие апостолы:
— Уж не я ли?
И Христос ответил:
— Ты сказал.
Это в Евангелии от Матфея. А в любимом Евангелии Ге от Иоанна — Христос подает Иуде кусок хлеба со словами:
— Что делаешь, делай скорее.
Апостолы не поняли, к чему это сказано. Они решили, что Учитель просит Иуду прикупить еще еды. Уход Иуды незаметен.
Ге как бы компонует и заостряет оба текста: имя названо, Иуда уходит, все понимают — куда.
Тема Ге — не смятение, не оттенки чувств, пробужденных роковым пророчеством. Тема Ге — столкновение.
Он находит удивительно экономную и напряженную композицию. Эти понятия взаимосвязаны — так же, как в физике, когда при уменьшении сечения проводника возрастает сопротивление.
Нет ни просторных покоев, ни архитектурных элементов, ни пейзажа на заднем плане, нет даже привычного длинного стола, за которым каждый апостол все-таки сам по себе. Угол небольшой комнаты, пустые стены (на них только тревожные глубокие тени). Обстановка помещения почти неощутима — все сосредоточено на главном; недаром современники часто именовали картину: «Тайная вечеря на полу». Низкий стол взят с торца, оттого апостолы как бы сгрудились в темном углу. Каждый из них по-своему откликается на происходящее, но это всего лишь многоголосье хора. Решение темы в четырех крестообразно расположенных фигурах: Христос — Иуда, Иоанн — Петр.
Сечение проводника, по которому течет мысль художника, уменьшено до предела. «Маленькие комнаты или жилища собирают ум…» — говорил Леонардо.
Когда Ге, уже известный художник, увидел в репинской мастерской «Бурлаков», он пришел в восторг:
— Слушайте, юноша, вы сами еще не сознаете, что вы написали. «Тайная вечеря» перед этим — ничто. Очень жаль только, что это не обобщено — у вас нет хора. Каждая личность поет у вас в унисон. Надобно было выделить две-три фигуры, а остальные должны быть фоном картины: без этого обобщения ваша картина — этюд. Ах, впрочем, вы меня не слушайте, это уже специальные придирки. И Рафаэль, и Джотто, и Чимабуэ не задумались бы над этим. Нет, вы оставьте так, как есть. Это во мне говорит старая рутина.
«Картина моя была уже окончена, — вспоминает Репин. — Но как он осветил мне ее этим замечанием зрелого художника. Как он прав! Теперь только я увидел ясно скучную, сухую линию этих тянущих людей, нехудожественно взятых и сухо законченных, почти все одинаково. „Да, разумеется, это этюд, — подумал я, — я слишком увлекся типами“. Но у меня уже не хватало духу переделать все сызнова. „„Тайная вечеря“ — ничто!“ Нет, она идеал картины. Какая широта живописи и обобщения, какая гармония, какая художественность композиции».
Ге ломал традиции. Он словно вошел в комнату тайной вечери на минуту позже, чем все, кто писал этот эпизод до него.
Роковые слова не только произнесены, они уже пройденный шаг. Совершается роковое действие. Происходит молчаливое столкновение. Следующий шаг — разрыв. События разворачиваются стремительно. Некогда даже остановить мгновение — рассказать о каждом из учеников Христовых. Да и нужно ли? Важно, что мы ощущаем их присутствие — там, в плохо освещенном углу, ощущаем их растерянность, волнение, тревогу, даже испуг, — через час, когда придут арестовывать Христа, апостолы разбегутся со страху.
1. Тайная вечеря. 1863
2. Закат на море в Ливорно. 1862
Ге не разворачивает спектра чувств, отношения к событию, он как бы выхватывает лишь два крайних цвета — красный и фиолетовый; точнее, пожалуй, инфракрасный и ультрафиолетовый. Группа апостолов — «хор» — замкнута слева и справа двумя ярко освещенными, выдвинутыми вперед фигурами. Это Иоанн, «ученик, которого любил Иисус» и который во время тайной вечери «припадал к груди» Учителя, и Петр, едва ли не первый, пошедший за Христом. Это границы, крайние точки чувства — страстное отчаяние и страстный гнев. Но их довольно. Все остальное между ними. Слыша стук сердец Иоанна и Петра, мы ощущаем все многоголосое тревожное волнение «хора». Уменьшение площади сечения проводника помогает обобщать.
Новаторство Леонардо состояло и в том, что он поместил Иуду вместе с остальными апостолами, выделив, правда, его лицо упавшей тенью. У предшественников Леонардо (у Гирландайо, например) Иуда одиноко ютится по другую сторону стола.
На картине Ге Иуда опять отдельно (и к тому же окутан тенью). Но в этом «повторении пройденного» заключено зерно нового. Полоса, отделяющая Иуду от остальных, — не воля художника, не средство выразительности, а межа разрыва.
В сохранившемся наброске пером Петр выдвинут вперед, как бы поставлен лицом к лицу с Иудой. Внешне конфликт обострен. Однако Ге изменил композицию. Тема физического столкновения полностью снята. Чистая полоса, отделившая Иуду от тех, с кем он был еще минуту назад, подчеркивает духовный характер, неизбежность и окончательность разрыва.
То же молча утверждают и главные герои. Страстный порыв Иоанна и Петра оттеняет внешнее спокойствие Христа и Иуды, спокойствие, рожденное глубоким осознанием того, что ничего уже изменить, ничего возвратить невозможно.
Все уже кончено для ушедшего в свою скорбную думу Христа, и все кончено для уходящего прочь Иуды. Взгляните, как Иуда накидывает на себя одежду! Его жест откровенен. Его вскинутые руки — словно темные крылья. Он еще думает о полете. Он еще думает, что идет своим путем. Он пока не осознал всей глубины предательства. Это не предатель, который, таясь, крадется продавать. Уходит в открытую человек, который не может остаться.
Рождение живой формы
Ге одел товарища в костюм Иоанна, попросил встать ненадолго в нужную позу, но писал потом — по памяти. Так же писал он Иуду: вглядывался, как кто-то из друзей накидывает плащ, а после изобразил движение — по памяти. Во время работы над «Тайной вечерей» метод был находкой. Впоследствии это стало системой: «Я в голове, в памяти принес домой весь фон картины „Петр I и Алексей“, с камином с карнизами, с четырьмя картинами голландской школы, со стульями, с полом и с освещением — я был всего один раз в этой комнате и был умышленно один раз, чтобы не разбить впечатления, которое я вынес». Из системы рождается теория, которая затем подкрепляет систему.
Жизнь движется непрерывно, не останавливаясь, нужно искать такие выразительные средства, которые передадут эту непрерывность движения. «Невозможно задержать в действительности жизнь», — Ге хочет, чтобы события и на холсте продолжали происходить. Он ищет живую форму.
Ге по-новому рассматривает и обдумывает все, что делал до «Тайной вечери». Почему не задавалось? Он хуже рисовал? Не умел передать натуру? Не знал правил живописи или приемов композиции? Наоборот, он знал слишком много, по крайней мере слишком много, чтобы стать собой; он старается сбросить с плеч лишний груз академических познаний и примеров. Все узнать, все забыть, потом начать сызнова.
Как и всем художникам до и после, Ге приходится для себя решать вопрос о взаимоотношении внутреннего и внешнего: живая форма вызывается живым содержанием, то есть «содержанием истинным». Главное — найти это истинное и вместе с тем до конца свое, броситься в него с головой или, может быть, целиком вобрать его в себя. Нужно быть «полным тем содержанием, которое в сердце и никогда его не покидающее».
Так Ге по-своему развивает мысль Брюллова о том, что картина на две трети готова, когда художник подходит к холсту.
Л. Н. Толстой в письмах к Ге размышлял о «картинах как произведениях человеческой души, а не рук». Ге к этому стремился. Чтобы «содержание, которое в сердце», словно бы само выплескивалось на полотно, чтобы открытая художником истина передавалась прямо из сердца в сердце.
Ге часто будет казаться, что он нашел форму, равнозначную тому, что в сердце, передающую веру в открытую истину, искренность, воодушевление художника, но его не будут понимать. Он станет утверждать, что если в картине то есть — все есть, но многие не почувствуют того. Он мечтал о таком искусстве, «чтобы было без разговоров дорого и ясно одинаково для всех», но ему, как никому другому, придется подолгу и подробно объяснять свои картины.
А он, уже старик, будет повторять восторженно:
— Искусство — это когда взглянул — и все, как Ромео на Джульетту и обратно.
Картина «Совесть» сюжетно как бы продолжает «Тайную вечерю». Стражники уводят Христа. Иоанн и Петр бегут следом. Иуда остается один на залитой лунным светом дороге. Он вдруг очень ясно понял, что ушел с тайной вечери не туда, что разрыв обернулся простым предательством. За доказательствами в идейном споре Иуда обратился к властям, а власти, приняв сторону Иуды, выдвинули свои доказательства: арест, публичное осмеяние, казнь. Они полагали, что можно убить идею, уничтожив ее носителя. Но Иуда понял, что казнь утвердит правоту идеи Христа; Иуда понял, что в борьбе с идеей предал человека, самого себя предал, предал свою идею, подкрепив ее доносом.
Сохранились карандашные наброски Ге — поиски главного, да, собственно, и единственного героя картины — Иуды. В набросках чувствуется упрямое желание поймать неостановившееся мгновение, самое главное, когда всё, ради чего художник взялся за кисть, передается к зрителю — как от Ромео к Джульетте.
Ге ищет живую форму. Иуда в порыве отчаяния прижался лицом к стене — нет, не прижался, он вдавиться в нее хочет, уйти в прохладный, остывший в лунном свете камень… Иуда, разметав руки, распластался на земле в бессильной ярости — что дальше: биться об острые камни? выкрикивать проклятие холодному диску луны? ждать, пока сердце в груди разорвется?.. Иуда сидит, скорчившись, уставился в одну точку, что-то бормочет растерянно; прозрение убило личность… Еще наброски — еще поиски: Иуды стремительные и застывшие. Иуда лежит, мечется, сжался в комок и решительно выпрямился.
И неожиданно последний, «окончательный» Иуда. Спиной к зрителям стоит посреди опустевшей дороги усталый, печальный человек, смотрит вслед ушедшим. Ни лица его не видно, ни рук — одна спина. К тому же — длинные, с головы до ног, одежды. Ничего внешнего — ни порыва, ни скованности, ни яростного раскаяния. Обхватив себя под плащом руками, стоит на дороге одинокий человек. Зябко ему, наверно, и ноги будто каменные — с места не сдвинешь. А ведь надо куда-нибудь идти. Может, бежать за тем, как Иоанн, как Петр? Пасть ниц перед ним? Целовать его израненные ноги? Но разве, вымолив прощение, он вновь уверует в того, перешагнет межу обратно? И уже совсем немыслимо смешаться с толпой, которая будет требовать казни Иисуса, но будет презирать того, кто отдал ей в руки ненавистного Иисуса. Стать рядом со стражниками — увидеть, как истязают человека, которого он любил, но за которым не мог идти дальше? Совершенно некуда деваться. А те уходят — стражники, Иисус, Иоанн, Петр — у каждого своя дорога. А он один посреди дороги — и деваться некуда…
Истина, открытая Ге, обрела живую форму, стремится из сердца в сердце.
Биография начинается
Но до «Совести» еще двадцать восемь лет. А пока — год 1863-й — едет в Петербург художник Николай Ге, везет на выставку первую настоящую картину. Жаждет славы — полного признания, шумного успеха. Он ее получит — свою славу: о «Тайной вечере» будут писать, говорить, спорить. Пролог заканчивается. Начинается биография. Ге это смутно чувствует. Но ему тревожно, даже страшно, по-детски страшно — перехватывает дыхание, замирает внутри. Мальчишеская, увлеченная вера в себя сменяется томительными сомнениями. Ему как-то не приходит в голову, что суждения могут быть разными, противоположными. Завтрашние зрители представляются ему то группой добрых, проницательных друзей, то возмущенной толпой придирчивых и ограниченных недругов. Он старается не думать об этом.
Он прижался лицом к пожелтевшему, в мелких трещинках стеклу. Лежат за окном поваленные, умершие деревья. В вагоне едва уловимо тянет горьковатым дымком.
Ге набивает папиросу и выходит на площадку. Побрякивают поставленные в угол ружья конвойных. Один солдат дремлет, сидя на корточках. Он смугл, похож на итальянца. Ге спрашивает:
— Откуда ты, братец?
— Из Старобельского уезда…
Странно, — этакий итальянец. А для «Тайной вечери» Ге позировали все больше русские, странно. Ге не хочет думать о картине, хочет думать о чем-нибудь пустяшном — о какой-нибудь вынырнувшей в памяти лошадке, которую он не нарисует никогда. Он вспоминает, как рисовал в детстве картинки про 1812 год — одинаковые солдатики на одинаковых лошадках едут рядами — сабли наголо. Тихо переговариваются конвойные. Вот такие смуглые солдатики — сабли наголо — въезжают в польские села.
Шесть лет назад Ге ехал до Варшавы в карете, обедал в деревенских харчевнях, ночевал на постоялых дворах. Теперь громко перестукиваются под вагоном колеса: железная дорога Варшава — Петербург. Ге беспокойно: за шесть лет многое изменилось.
В Италии, еще в Риме, зашел к нему в мастерскую красивый, седобородый старик, разглядывал его эскизы, этюды, бормотал:
— Как это ново, однако! Как необычно!
Ге перебил его с досадой:
— Это старо, подражательно. Вот это, например, я писал под влиянием Брюллова.
— Я не знаю Брюллова, — сказал старик и, взяв Ге под руку, добавил мягко. — Не удивляйтесь, друг мой, я оставил русское искусство во времена Ореста Кипренского.
Это был князь Волконский, декабрист.
На академической выставке 1863 года вместе с «Тайней вечерей» будет выставлен «Неравный брак» Пукирева.
К 1863 году уже открыл себя Перов; русская публика успела оценить запрещенный «Сельский крестный ход на Пасхе», написано «Чаепитие в Мытищах». В Петербурге, куда держал путь Ге, читали «Что делать?» Чернышевского, переданное из Петропавловской крепости, переданные из той же крепости статьи Писарева. В Петербурге запоем читали также Сеченова — «Рефлексы головного мозга». Ходили по рукам листки «Земли и воли».
За шесть лет появилась не только железная дорога Варшава — Петербург.
Знаменательно, что именно в это время — Перова и Пукирева, Чернышевского и Писарева — картину Ге встретят, как «великую искренность». О Ге скажут: «громадный», «колоссальный талант», что всего ценнее — «независимый талант». Независимость — уже много. Но не окончательный итог. Это одновременно результат и начало поисков. Начинается «мучительная работа, которая наполняет в жизни художника все его помыслы». «Мы постоянно должны открывать, узнавать, отыскивать!» — скажет Ге через десятилетия, вступая в последний месяц жизни.
…В воспоминаниях брата Ге, бесстрастных и, наверно, оттого — недобрых, рассказывается, что в детстве Николай не выказывал творческой одаренности: он лишь терпеливо копировал картинки из иллюстрированных журналов.
Бремя славы
Достаточно ли мощный я свершитель,
Чтобы меня на подвиг звать такой…
ДантеПетербургская мостовая
Ге вез домой свою «Тайную вечерю», волновался, а в России уже знали о картине, ждали ее.
В «Санкт-Петербургских ведомостях» появилось датированное первым августа 1863 года «Письмо из Флоренции»: «На годичную выставку Академии художеств прислана будет вещь поразительной красоты… Она удивляет своею новостию».
Автор письма, укрывшийся под инициалами Н. А. (это был романист и критик Н. Д. Ахшарумов), заключал рассказ о картине выводом: «Вы видите совершенно оригинального, самостоятельного мастера, за которого можно поручиться, что он пойдет своею дорогою и будет всегда верен себе и строгой правде своих сюжетов».
Ге волновался: он сам открыл себя в «Тайной вечере» — поймут ли? Он не знал, что едет навстречу славе.
Но российские ценители искусства, еще не видя картины, заранее, понаслышке, радостно и шумливо открывали нового художника — Николая Ге. В Петербурге его встречали восторженно — восходящая звезда, надежда русской живописи!
Шесть лет назад уезжал отсюда по проторенному пути в Рим обыкновенный академический пенсионер; сколько таких безвозвратно кануло в Лету вместе со своими несовершенными холстами, великими замыслами, нечеловеческими страданиями обидчивых неудачников — и следа не осталось! Разве что упоминание в протоколах заседаний академического совета.
А вот он, Ге, добился — едва ступил на петербургскую землю, сразу попал в объятия славы. Художники, ученики Академии, любители — все хотели видеть его самого и его картину.
Прямо с вокзала Ге повезли в Академию и, едва залы освободились от публики, развернули «Тайную вечерю» и натянули на раму. Профессора, члены совета, не пожелали дожидаться утра, толпою отправились в залу. Было уже темно, принесли канделябры, зажгли свечи и осветили картину. Все стояли пораженные, потом молчание разорвали шумные возгласы одобрения. Совет тут же решил присвоить Ге звание профессора, пренебрегая обычным порядком присуждения степеней: ученик — академик — профессор. Из учеников — в профессора! По свидетельству тогдашней печати, «случай, чрезвычайно редкий в летописях нашей Академии художеств».
В честь нового светила устроили торжественный обед. Н. В. Гербель, известный в те годы поэт и переводчик, «спешит уведомить» П. А. Ефремова, известного библиографа и историка литературы, «что обед для Ге будет сегодня в воскресенье, 15 августа, в 5 часов, в гостинице Верра, что около Демута…[6]».
У Гербеля описка — не «15 августа», а «15 сентября», но все остальное точно: обед состоялся, триумфальный обед с именитыми гостями, восторженными тостами и пылкими овациями.
Профессор Александр Брюллов, брат Карла Павловича, провозгласил тост за Ге, профессор Константин Тон — за молодое поколение художников, профессор Федор Иордан — за семейство Николая Николаевича. Тут же, прямо от стола, послали поздравительную телеграмму во Флоренцию, Анне Петровне.
Газета «Русский инвалид», посвятившая торжественному обеду большую статью, ликовала: «Прошли те времена чиновничьей щепетильности, которая иногда совершенно отчуждала молодые таланты, только что начинающие свою артистическую карьеру, от талантов, с патентами на знаменитость, подвизающихся уже не на одном артистическом, но и на служебном поприще». Выставка не успеет закрыться, как «бунт четырнадцати» взорвет трогательную идиллию, нарисованную «Русским инвалидом».
Но за два месяца до «бунта» репортер благодушно, или хитро, выдавал желаемое за действительное. Выставка всего день как открылась, еще слишком сильно первое впечатление, мнения только кристаллизуются, рецензенты прислушиваются, примериваются, оттачивают перья — борьба пока не началась, но уже началась политика. Обед — тоже политика: он должен был свидетельствовать о беспристрастности. Завтра в заседании совета профессора, которые при свечах восторгались картиною и, проливая шампанское, рукоплескали выспренним тостам, будут так же шумно ругать «Тайную вечерю», будут уверять друг друга, что Ге их «провел», и лишь амбиция принудит их после долгих прений подписать протокол о присвоении художнику профессорского звания. Но это завтра, а пока хлопают пробки, вместе с синим дымом сигар, клубясь, плывут над головами тосты, новоиспеченный профессор Ге, как равный, восседает рядом с именитыми профессорами и слушает извинения конференц-секретаря Академии Львова — конференц-секретарь сожалеет, что отзывался слишком резко о скупых отчетах, присылаемых Николаем Николаевичем из Италии. Есть от чего голове закружиться!.. Главное же, конечно, не обеды, не тосты, не овации, главное, что «Тайная вечеря» решительно признана событием в искусстве, а ее автор — совершенно зрелым и совершенно самостоятельным мастером.
«Весь Петербург тогда съезжался смотреть на „Тайную вечерю“», — свидетельствует современник. «Перед этой картиной всегда много публики… Множество господ с напряженным вниманием смотрят на картину, стараясь понять, почему она произвела такое сильное впечатление», — свидетельствует другой. Молодые педагоги рисовальной школы приходили к «Тайной вечере» с толпой учеников, проводили здесь целые часы — разбирали, толковали, вглядывались (такое бывало прежде лишь возле творений прославленных мастеров). Ге сравнивали с Ивановым, «Тайную вечерю» — с «Явлением Христа»: «В промежутке между этими двумя событиями… не было другого художественного произведения, которое так далеко выступало бы вперед из обычного ряда произведений интересных». Газеты и журналы наперебой печатали отзывы о «Тайной вечере», некоторые возвращались к ней дважды и трижды. Когда Михаил Достоевский попросил критика Медицкого написать для журнала статью о картине, тот усомнился: после всего, что говорилось о «Тайной вечере», разве возможно сказать что-либо новое?[7] Московские любители ревниво косились на суету в Академии: жаждали хоть на время заполучить знаменитое полотно. Сохранилось письмо Ге в Московское общество любителей художеств: «…за особенное удовольствие сочту употребить все старания доставить на выставку Общества… мою картину»[8].
Слава. Слава! Ге поначалу не ощутил ее бремени. Он легко привык к ней. День-другой — и он в Петербурге, словно у себя во флорентийской голубой гостиной: проповедует, витийствует, спорит, водит за собой обожающую гурьбу поклонников. Вдруг почудилось, что все сомнения уже позади, что судьба — не журавель в небе — синица в руках. Почва под ногами была твердая — каменная петербургская мостовая. И он шагал уверенно и легко.
В это время с ним познакомился молодой Репин.
«В первый раз я видел Ге в Античном зале Академии, где Крамской по заказу Общества поощрения художеств рисовал черным соусом картон с его „Тайной вечери“ для фотографических снимков. Величественный, изящный, одетый во все черное, Ге делал замечания скромному художнику петербургского типа. Картон Крамского был превосходный, и мне сначала казалось невероятным сделать какое-либо замечание такой чудесной, строгой копии. Но, приглядевшись, я заметил, что энергичная, смелая кисть оригинала была передана только строгим приближением, виртуозность была не та, хотя в общем этот черный снимок совершенно верно воспроизводил оригинал. Ге кое-где тронул по картону смелыми штрихами, доступными лишь автору картины. От всей его фигуры веяло эпохой Возрождения: Леонардо да Винчи, Микеланджело и Рафаэль разом вставали в воображении при взгляде на него. Мы, ученики Академии, снимали перед ним шляпы при встрече…».
Признание временем
В самом понятии «признавать» таится какая-то вынужденность: «он признал…», «он вынужден был признать»… Подлинное признание нередко совершается как бы насильственно: и рады бы не заметить, отмахнуться, но событие заставляет считаться с ним, замечать, откликаться. Яростные нападки говорят о значительности события подчас больше, чем безудержные похвалы.
Произведение искусства становится событием, когда выходит из ряда привычного, когда несет в себе нечто новое. Уже по одному этому оно обязано иметь хулителей. Признание, ограниченное всеобщими похвалами, неполно и оскорбительно. Художнику не могут принести удовлетворение восторги тех, кого он отвергал, открывая себя. Злые выпады не принявших «Тайной вечери» и радостное волнение принявших ее одинаково свидетельствовали о том, что она понята и признана.
Брат Николая Николаевича, Григорий Ге, советовал повременить с поездкой в Россию — сначала показать картину за границей. Но художник, едва краски просохли, решительно свернул полотно и отправился на выставку. Сидя во Флоренции, он, оказывается, точнее осознал и почувствовал, что происходит на родине, чем проживающий в России старший брат. Григорий Ге не увидел в «Тайной вечере» живой мысли и живого чувства русского человека начала шестидесятых годов, каким собственно и был «флорентиец» Николай. Это очень важно для художника — ощущать, что твой пульс бьется синхронно с пульсом твоего Времени. «Тайная вечеря» была необходима тогдашней России.
Почва для признания картины была вспахана и удобрена. Ге писал: «Я понял в Петербурге, что то, чего я искал в Риме, во Флоренции в искусстве или, лучше сказать, в себе, то самое все искали здесь…» Была пора крушения надежд.
«Удалось на этот раз, — писал царю шеф жандармов Долгоруков, — рассеять скопившуюся над русскою землею революционную тучу, которая грозила разразиться при первом удобном случае». Он писал это, когда крестьянские бунты были подавлены, студенческие сходки разогнаны, прокламации сожжены, когда Чернышевский и Писарев сидели в одиночках, когда на западе Польша обливалась кровью, а на востоке, в поволжских усадьбах, будто в крепостях, стояли воинские гарнизоны. И все-таки шеф жандармов не был уверен: «Удалось на этот раз…»
Пора крушения старых надежд переходит в пору зачатия и рождения новых. Это одновременно подведение итогов и прикидка планов. Без мыслей о будущем не проживешь. Первая книга, прочитанная Ге в Петербурге, — «Что делать?» Чернышевского.
В жилах Ге бился пульс Времени — он был из тех, кто слышит, как трава растет. Не разочарование, не подавленность общества бросились ему в глаза — он сразу приметил, как рвутся вверх, вширь зеленые побеги нового. Приметил, как новые проблемы безвозвратно вытесняют прежние — новые вопросы и новые ответы. Приметил, как «новые авторитеты громко заявили свои права руководителей общества». Он не стал метаться — уверенно пошел к новому. Отправился в редакцию «Современника» — знакомиться, отправился к Салтыкову-Щедрину.
А через два месяца уже к Ге, признанному мастеру, явится «душевно, нравственно» посоветоваться ученик Крамской. Хорошо ли поступили четырнадцать молодых «бунтарей», отказавшись участвовать в конкурсе, — спросит он. И Ге горячо ответит, что «ежели бы он был с ними, то сделал бы то же».
Ге всю жизнь делил общество на «стариков» и «молодых»: не по возрасту — по устремлениям. И всю жизнь принимал сторону «молодых». Порой не понимал их, не соглашался с ними — и в существенном! — но шел неизменно за «молодыми». Просто не в состоянии был за «стариками» идти! В 1888 году Ге, по возрасту сам уже старик, писал из Киева: «Старики ужасны… даже до гадости скверны, а молодые среди их отвратительны». Но «к чести юности можно сказать, что их мало среди стариков». От «встреч с единомышленниками молодыми» — «я оживал»[9].
Ге сразу уловил расстановку сил, понял, откуда ждать поддержки, а откуда выстрелов по «Тайной вечере». Он радовался, что картина не легким мячиком вкатывается в русскую живопись — входит острым, граненым штыком. Это и было признанием.
Ге торжествующе писал брату, не верившему в своевременность картины на российской выставке, что по отношению русского общества к «Тайной вечере» понял, насколько оно возмужало.
За и против
Академическую выставку 1863 года Стасов назвал в рецензии «по преимуществу профессорскою». Снова гладкие, однообразные работы многочисленных профессоров, чьи имена сегодня говорят неспециалисту едва ли больше, чем имена многочисленных неудачников-пенсионеров, так и не выбившихся ни в профессора, ни просто в художники. Снова бесконечные варианты по заданной программе — «Моисей источает воду из скалы», среди которых еще ничего не подозревающие рецензенты отмечают, как наиболее удачную, работу ученика Ивана Крамского.
Выставка была «профессорскою» по преимуществу, однако посетители могли видеть на ней и картины иного направления. Это направление было блистательно начато Федотовым и через десятилетие капитально подкреплено Перовым. На выставке не было ни Федотовых, ни Перовых — картины большей частью слабые, без полета, сваленные в одну кучу под общим именем «жанр», но зато и не «профессорские». Привлекал всеобщее внимание только «Неравный брак» Пукирева.
Нового направления в полном смысле слова, собственно, еще не было, хотя за десять лет перед тем Федотов один составлял целое направление. Но оно должно было появиться — все было готово, все замерло в ожидании, и все это чувствовали. Нужен был взрыв, чтобы началась цепная реакция; до взрыва, до ухода Крамского со товарищи оставались считанные дни. Бои были впереди, но от разведки боем, от острой схватки, коли случай выпадал, не отказывались. Теперь случай выпал — «Тайная вечеря» Ге.
«Тайная вечеря» сразу же стала центром или, как выразился ретивый рецензент, «львом» выставки. Ей посвящали статьи, в обзорах отводили главное место[10]. О ней упоминали в дневниках, письмах и мемуарах. Однако главное, пожалуй, не количество. Главное, что и превозносили «Тайную вечерю» и уничтожали за одно и то же — за современность. И почитатели и хулители картины поняли «современный смысл», прочитанный художником во взятом из Евангелия сюжете, поняли, что хотел сказать Ге.
Один обозреватель привел короткий диалог, подслушанный возле картины:
«Дама. Отчего на голове Христа не сделано сияние?
Старик. Оттого, что сияние делается на иконах… А это не образ, а картина; картина же изображает не символы, а действительность…».
В этом лаконичном диалоге ось полемики — делать ли сияние? Нужны ли нимбы в искусстве? Символы или действительность? Иллюстрация или проблемы? Красивый миф или тревожная реальность?
Салтыков-Щедрин писал в рецензии, которую Ге, не зная, кому она принадлежит, назвал «дорогою»:
«Было на этой выставке одно явление, до того сосредоточившее на себя общее внимание, что обойти его значило бы показать совершенное непонимание того общественного значения, которое оно в себе заключает…
Мне нравится общее впечатление, производимое картиной; мне нравится отношение художника к своему предмету; мне нравится, что художник без всяких преувеличений разъясняет мне, зрителю, смысл такого громадного явления…
Я… требую, чтоб художник… если желает сделать меня участником изображаемого им мира, то не заставлял бы меня лазить для этого на колокольню, а вводил бы в этот мир так же просто и естественно, как вхожу в мою собственную квартиру».
«Картина эта сделала на меня неприятное впечатление, — записал в дневнике профессор словесности и цензор Никитенко. — …Это они называют простотою в духе новейшего искусства. Ведь идеалов положено не иметь ни в поэзии, ни в живописи, хотя человек на каждом шагу творит их сотнями, потому что… идеализация в его природе».
То, что Никитенко заметил для себя, журнал «Библиотека для чтения» объявил во всеуслышание: Ге «представляет вместо Христа натуру обыкновенную, чтоб не сказать более». Нужна была, указывал журнал, «идеализация… в приложении к натуре, бесконечно превосходящей людей обыкновенных».
Скульптор Рамазанов в «Современной летописи» уже прямо обвинял: «Ге первый из живописцев намеренно отнял у величайшего из мировых событий его божественность».
«Простота», «реализм», «правда» — этими словами насыщены отзывы о «Тайной вечере». Все дело в отношении.
«Картина Ге представляет у нас явление совершенно новое именно по совершенному отсутствию всяких рутинных приемов и приторно-казенных эффектов и по совершенно ясному отношению художника к изображаемому им событию, — писал Салтыков-Щедрин. — И такова сила художественной правды, что это отсутствие эффектов не только не умаляет значения самого события, но, напротив того, усугубляет его и представляет событие во всей его торжественной поучительности, во всей поразительной красоте».
«Нет, это не Тайная вечеря, а открытая вечеринка, — негодовал историк Погодин. — Несколько человек евреев только что оставили трапезу, на столе чаши и хлебы, на полу сосуды, двое поссорились… Помилуйте, что здесь есть общего с Тайной вечерью? Тайная вечеря есть событие религиозное и вместе историческое… Картина представляет то, чего не бывало, вопреки тому, что было…»
Вот и хорошо, что не картинка к священному писанию, а проникновение в смысл события, повод для раздумий, — радовался Салтыков-Щедрин. Хорошо, что художник «оставляет мне полную свободу размышлять и даже сам подает повод для разнообразнейших выводов и умозаключений».
Ну, уж это как раз никуда не годится, — возмущалась ретроградная газета «Весть»: «Если каждый толкует по-своему, то значит мысль не ясно выражена».
Но так как мысль была выражена ясно, цензор Никитенко отметил в знаменитом своем дневнике: «Она есть не иное что, как так называемая натура, обнаженность от всех возвышенных проявлений и выражений духа… пошлость, жалкое отражение наших ежедневных жалчайших сплетней, интересов и пр.».
Многое не договаривалось — ни в печати, ни в дневниках.
Знакомство со всеми хвалебными и ругательными отзывами позволяет обнаружить множество оттенков в споре о «Тайной вечере». Однако осмысление этого спора как дуэли-диалога хулителей разного калибра с Салтыковым-Щедриным дает возможность, при некоторой утрате оттенков, точнее увидеть главное. Статья Салтыкова-Щедрина в «Современнике» отличалась удивительной целенаправленностью. Вся суть ее в том, что «Тайная вечеря» Ге, как всякое крупное явление искусства, есть событие не в одной только живописи, но прежде всего, в общественной жизни, и что потому борьба вокруг картины есть борьба политическая.
Многое не договаривалось, кое-что вымарывала цензура, но вот они, выводы Салтыкова-Щедрина, как бы затаившиеся среди прочих его, вызванных «Тайной вечерей» размышлений:
«Для толпы некоторое вразумление и поучение еще очень и очень не лишне. Как только дело выходит из области интересов чисто материальных, она почти всегда находится в недоумении, если не в глубоком невежестве… Она положительно хлопает глазами и недоумевает, когда до слуха доходят такие выражения, как „свобода“, „убеждение“, „право“ и тому подобное».
И финал отзыва:
«Но как скоро художник осязательно доказывает толпе, что мир, им изображаемый, может быть, при известных условиях, ее собственным миром, что смысл подвига самого высокого заключается в его преемственности и повторяемости, тогда толпа чувствует себя, так сказать, прижатою к стене и не шутя начинает сознавать себя малодушною и виноватою…»
Скульптору Рамазанову легче. Он почти не таится:
«Художник сумел угодить ходячим современным идеям и вкусам… он воплотил материализм и нигилизм, проникший у нас всюду, даже в искусство…»
«Даже в искусство»… Осторожный Никитенко в очередной дневниковой записи еще чуточку откровенней:
«Был также Крамской, с которым я имел прения о картине Ге… Главное, она меня возмущает не сама собою, а тем, что служит выражением того грубого материализма, который хочет завладеть искусством так же, как нравственным порядком вещей».
Была пора подведения итогов, пора крушения старых надежд и зарождения новых. Спорили те, кто удовлетворился реформами, и те, кто ждал революции. И, как нередко случается в политической борьбе (сама картина Ге давала повод поразмышлять об этом), иные, исчерпав доводы, бросались к доносам.
От идей Ге, — публично заявляла «Библиотека для чтения», — недалеко до «защищения всевозможных преступлений, совершенных от века, конечно, под условием отыскивать обстоятельства против жертв в пользу злодейства». Впрочем, не следует отказывать косноязычной «Библиотеке» в известной полицейской прозорливости.
В печати полемизировали, а перед «Тайной вечерей» толпились посетители выставки. Пришлось даже стулья поставить — люди задерживались надолго. Молодые педагоги петербургской рисовальной школы говорили ученикам, что Христос у Ге — мученик идеи, готовый на Голгофу за правоту своих убеждений.
Время было переходное. Герцен томился в изгнании. Чернышевский и Писарев сидели в крепости. Выстрел Каракозова, «Народная воля» и первое марта 1881 года были впереди.
«Часть огромного механизма»
Нынешний устроитель выставки вряд ли разместит рядом «Тайную вечерю» Ге и «Неравный брак» Пукирева[11]. Тема, жанр, творческая манера — все розно.
Однако понятие совместимости в искусстве зависит от степени его развития, от времени, от восприятия общества.
Для посетителей академической выставки 1863 года «Тайная вечеря» и «Неравный брак» — во многом явления одного порядка. В самом деле, у каких-нибудь «Ангелов, возвещающих гибель Содома» (кисти профессора Венига) так же мало общего с встревоженными апостолами Ге, как и с женихом или шафером пукиревского «Неравного брака». Картину Пукирева некоторые называли «Насильственный брак» — сюжет ее казался предельно острым; особенно по соседству с благовоспитанным Моисеем и прилизанными ангелами. Пукирев как бы снаружи ломал цитадель академического искусства, Ге разрушал стену изнутри: новизною замысла и формы взрывал сюжет, утвержденный веками.
Но у Пукирева — жанр, «низший сорт живописи»; Ге и сюжетом и темой вроде бы «свой», «академический», — и вот, надо же, одним ударом сметает и ангелов, возвещающих гибель Содому, и старательных Моисеев, источающих воду из скалы. А звание профессорское уже выдано — наверно, слишком поспешно. «Бойтесь первого порыва, — учил Талейран, — он всегда благороден!..»
Отвергнуть позицию художника, но признать, что картина написана талантливо, — всегда опасно. Слишком лестно для автора, слишком заманчиво для подражателей. Критики обычно хотят прочнее связать обе части отзыва: «Не так, потому что не то».
Хулители «Тайной вечери» изощрялись в софистике. Отзывы начинались — «Талантливо, но не то», а завершалось — «Талантливо, но не так».
Вот, если бы не сорвал нимбы!.. Если бы Христос и апостолы не превратились, по словам одного рецензента, в «несколько человек евреев», или, по словам другого, в «наших земляков-северян», или, по словам третьего, в «грубых типов» «из народа»… Если бы Иуда изображен был не личностью, а, так сказать, «обыкновенным» иудой (в гороховом плаще?)… Если бы…
Нет, хулители картины не пожелали сопоставлять «Тайную вечерю» с образцами академической живописи, развешенными на соседней стене. Невозможно сравнивать Ге с Брюлловым, с Бруни, с Марковым!.. «С этой свободою стиля могут поспорить только голландские реалисты, вводившие в сюжеты священные свою интимную, родственную обстановку, с очагом, пивом, трубками и закусками». Какой пассаж — отлучили от Бруни и случайно породнили с Рембрандтом!
Рядом со словами «простота», «правда», «реализм» в отзывах пестреют эпитеты: «безобразная простота», «грубая правда», «жесткий реализм». Живописец Худяков, сам того не желая, поставил точки над «и». Писал Павлу Михайловичу Третьякову из Петербурга: «Тайная вечеря» — «верх пошлости»; «сюжет, столь возвышенный и глубоко драматичный, трактован тоже, пожалуй, драматично, но грязно до безобразия» — «одним словом, это тот же Перов с попами на Пасху». И тут же следом про «Неравный брак» Пукирева; «вещь весьма слабая, да от него, впрочем, нельзя было и ожидать ничего более».
Иисус с апостолами — и пьяные перовские попы и публичная продажа женщины с алтаря — вот в какой ряд ставили «Тайную вечерю»! И ругательства — «пошлость», «грязь», «безобразие» — предваряют завтрашние обвинения передвижникам.
В сатирическом журнале «Искра» появилась карикатура:
«Художник. Это картина г-на Ге. Он основал новую школу, ваше превосходительство.
Его превосходительство. Какая же это школа — народная или для благородных?»
Началась самостоятельная жизнь «Тайной вечери». Картина уже не принадлежала Ге. И его суждения о ней были уже не самыми главными.
«Художник связан нитями — более или менее тонкими, узами более или менее тесными, с нарождающимся движением. Он — необходимая часть огромного механизма, независимо от того, защищает ли он какую-нибудь доктрину или делает новый шаг в развитии всего искусства».
Это написал Бальзак в статье «О художниках».
Что же делать с Ге?
Надо было что-то делать с Ге и его беспокойной картиной.
Иные из академических вельмож рассчитали, что худой мир подчас вернее убивает художника, чем добрая ссора. Даже Николай I, пытаясь убить прежнего Пушкина, обласкал его, позволил откровенничать, говорил покровительственно: «Ты — мой!»
«Тайная вечеря» — наша, академическая, утверждали иные профессора. И сам Ге — не кто-нибудь — профессор Академии. Ну, молод, горяч, хочет все по-своему. Дай срок, одумается.
Профессор Марков зазвал Ге к себе домой обедать. Это была такая же политика, как обед в ресторане Верра. Марков благодарил Ге за «Тайную вечерю», за то, что он привез картину в Россию. Проговорился: «Тайная вечеря» очень нужна, «а то они нас уничтожат». Получилось, будто Ге заведомо не с «ними», а с «нами».
Вице-президент Академии князь Гагарин пригласил Ге заседать в совете, льстил: «Там все спят, авось вы их разбудите». Ге взялся за дело с доверчивостью и горячностью новопосвященного. Заигрывали с ним, а он решил, что началось отступление перед молодыми. Ему показалось, будто он сможет что-то изменить, повернуть. Он давно не был в Петербурге, не испытал на себе всей горечи крушения надежд — страсть к реформаторству в нем еще не перегорела. Да и шумная слава часто вселяет в человека не вполне обоснованную веру в свои возможности. Ге пригласили заседать в совете, чтобы со стороны не нападал на совет, а он и вправду принялся кого-то будить, что-то предлагать, за кого-то ходатайствовать. Ге поначалу не понимал, что его сидение в совете опять-таки политика. Там все было — политика, а он искал истину.
Он горячо заступался за обойденного званием Флавицкого, но конференц-секретарь объяснил: Флавицким потому недовольны, что похож на Брюллова. Вчера эти люди сделали из Брюллова бога, а сегодня, едва корабль дал течь, поспешили бога первым принести в жертву. «Я в первый раз узнал, — недоумевал Ге, — что быть похожим на Брюллова не хорошо». Он сам не захотел быть похожим на Брюллова. Он читал статьи, в которых обрушивались на Брюллова сторонники нового направления. Теперь он узнал другое — узнал, как карлики спасают себя, предавая гиганта.
Но академическое начальство еще надеется на Ге. Он сам давал для этого поводы. Никто, конечно, не стенографировал бесконечных тогдашних споров о новом направлении, в которых участвовал Ге. Однако неудержное стремление к разоблачению, к отрицанию, объединявшее многих молодых художников, было ему непонятно, чуждо. Из-за этого — «пристать к новому движению я не мог». Позже Ге говорил, что дело художника «не бороться», а «сохранить идеал», — и боролся за свой идеал по-своему. Решительные сторонники нового направления, видевшие в «Тайной вечере» «новую школу» и «новую живопись», упрекали ее автора в половинчатости. Защитники старого не теряли надежды сделать его «своим». И те и другие не понимали его до конца. Он и сам — хоть умелый был спорщик! — видимо, четких формулировок найти не мог.
Свою позицию Ге несколько разъяснил в разговоре с профессором Тоном. Это была, пожалуй, самая прямолинейная попытка «привлечь» Ге, заставить его свернуть со своего пути. Здесь все средства подкупа — и лесть, и деньги, и угроза.
— Вы необыкновенно чувствуете живописную правду, силу, — говорил Тон. — Напишите в моей церкви, в Москве, святого Александра Невского. Возьмите сколько хотите.
Тон строил в Москве храм Христа Спасителя.
— Да ведь образ уже написан, и хорошо, моим отчасти учителем Завьяловым, — отвечал Ге.
— Нет-нет, у него официально, скучно. Вы не так напишете.
Снова: хорошо, что вы с нами, а не то они нас уничтожат. Тон, между прочим, присутствовал на обеде у Маркова.
— Я не могу теперь писать, — уже прямо отказался Ге и объяснил: — Александр Невский для меня дорогой святой, но я его теперь не вижу. У меня другие задачи.
— Но ведь и Рафаэль и Микеланджело брали заказы.
— Это правда, но ведь заказчики не стесняли свободы художника. Они просили только писать, что художник сам хочет.
Тон перестал заигрывать:
— А я знаю, почему вы не хотите. Вы революционер! Вы антимонархист!
Теперь Ге пришлось дипломатничать:
— Не знаю, откуда вы это выводите. Художник хочет работы высшей цели. Милость царя дает ему право свободно работать на пользу родины, именно — свободно охранять эту милость добросовестным исполнением возложенной на него задачи. Почему в этом вы видите революционный взгляд?
Но Тон уже сменил тон:
— В вас верят юноши, вот почему вы не хотите взять заказ!
И Ге отозвался горячо, не таясь:
— Я не знал, что юноши верят в меня; но если так, я свято сохраню их веру и не поддамся соблазну…
Этим разговором, пожалуй, кончаются попытки Академии «завладеть» Ге. Кончаются и попытки Ге хоть что-нибудь предпринять в стенах Академии. Живописец Бронников писал из Италии, что Ге озлоблен на Академию и хочет, вернувшись в Россию, основать студию для молодых художников[12]. В 1870 году он станет одним из основателей Товарищества передвижных выставок.
Остроту диалога Ге — Тон, его явную политическую окраску, упоминания об «антимонархизме» и «милости царя» современники объясняли тем, что Тон предлагал Ге написать образ святого Александра Невского со здравствующего монарха Александра II. В этом случае отказ Ге и его фактический разрыв с Академией приобретают новые оттенки.
Александру II пришлось лично вмешаться в спор, разгоревшийся вокруг «Тайной вечери». Это подтверждает общественную значимость картины, указывает, насколько далеко зашел спор.
Александр II решил дело с поистине царской парадоксальностью. Картина ему не понравилась, но он купил ее у Ге и подарил… Академии.
Царь все еще хотел слыть либералом. Через четверть века его сын, которого устраивала репутация консерватора, попросту прикажет гнать с выставок картины Ге.
…Шум вокруг «Тайной вечери» в разгаре, за художника, не слушая его самого, борются направления, приспела пора пожинать плоды славы, а Ге уже не чает, как удрать из Петербурга.
Ему уже не хочется объяснять картину поклонникам, слушать многословные похвалы друзей, полемизировать с противниками. Неохота восседать в академическом совете, отвечать на тосты и поучать молодых.
Пройдет четверть века, и кое-кто станет упрекать Ге: ревнив-де к славе, жаждет успеха. Его станут упрекать в тщеславии, когда он добровольно обречет себя на деревенское одиночество, когда будет наезжать в Петербург раз в два-три года, и всякий раз с новой картиной, рожденной в мучительных исканиях, и всякий раз с душащей жаждой быть понятым.
А в пору самой большой своей славы ему так же страстно хотелось бежать без оглядки. Вскоре после триумфальных телеграмм он начал писать во Флоренцию, Анне Петровне, жалобные письма, достойные прежнего смятенного ученика, а не известного профессора, нового светила и основателя новой школы.
Писал, как надоело ему бродить по холодному Петербургу «без угла и без гроша денег»[13]. «Без, угла», когда каждый рад был принять его у себя; «без гроша денег», когда вопрос о покупке картины царем был решен.
Но Ге уже надоела слава, ему интересно — что дальше.
В поисках продолжений
«Из Петербурга, — пишет Ге в своих автобиографических набросках, — я устремился опять в Италию; там я начал писать „Вестники воскресения“».
Он просто не в состоянии писать о себе «поехал», «отправился», «вернулся», нет, — «устремился»! Каждый отъезд — словно бегство, начало каждой новой работы — словно головой в омут! У него и почерк такой же — «устремленный». Он часто не в силах остановиться, отделить одно слово от другого, три-четыре слова подряд пишет слитно. Но, чтобы понять его, нужно замедлять темп, разделять слова.
Он возвратился в Италию и не начал писать «Вестники воскресения». Это ему потом, в старости, казалось, что после торжества «Тайной вечери» все шло легко и быстро. Но Гекуба несговорчива. Она не переезжает в мастерскую на вечное жительство. Ее всякий раз приходится искать заново.
Ге приехал из Петербурга, переполненный замыслами. «Тайная вечеря» дала ему опыт, самостоятельность, смелость. Он жадно записывал холсты… и не находил удовлетворения. Продолжать оказалось так же тяжело, как начать. К «Вестникам воскресения» он шел четыре года.
В эту пору Ге написал одну из самых поэтичных своих работ «Мария, сестра Лазаря, встречает Иисуса Христа, идущего к ним в дом». Репин через тридцать лет восторгался: «Это была необыкновенно очаровательная картинка». Критики любят сопоставлять ее с творениями Иванова. Может быть, отчасти и поэтому сам Ге от нее отказался.
Философ Лесевич, зайдя однажды в мастерскую Ге, наступил на кусок холста, который валялся под ногами. Лесевич его поднял, перевернул — это был эскиз «Христа и Марии».
— Как это, Николай Николаевич, у вас на полу валяются такие чудесные вещи?
— Чему вы удивляетесь, — ответила случившаяся в мастерской Анна Петровна. — То ли еще у нас бывало!
И она рассказала гостю, как безжалостно расправился Николай Николаевич с первым «превосходным» («просто чудо») эскизом «Вестников воскресения». Но тут уж Анна Петровна была неправа. Она радовалась, видя, как найденное в «Тайной вечере» закрепляется в первом эскизе «Вестников воскресения». Но в том-то и дело, что Ге не умел «закреплять». Ему необходимо было двигаться дальше — устремляться.
«Тайная вечеря» навсегда осталась той «печкой», от которой он танцевал. В конце концов большую часть своих мыслей о судьбах человечества, его страданиях, поисках истины Ге вложил в переосмысление одного лишь события евангельской истории — казни Христа. Событие началось в четверг вечером, последней беседой Христа с учениками. В этом смысле все крупные работы Ге на сюжет Евангелия можно считать циклом. Но каждая следующая работа не воспринимается как продолжение предыдущей, каждая поражает первоначальной новизной — неожиданностью замысла и решения.
Принимаясь за «Вестников воскресения», он не послушался Анны Петровны — и хорошо сделал.
Первый эскиз «Вестников воскресения», по воспоминаниям Анны Петровны, представлял тесную комнату. За столом апостолы Петр, Иоанн и мать Иисуса. На столе пища. В распахнутой настежь двери — стремительно вошедшая Мария Магдалина. Она принесла весть о воскресении Христа. Сохранился и другой вариант: то же помещение, но апостолы встречают Магдалину у входа. Не слушая уговоров Анны Петровны, Ге отверг первоначальный замысел:
— Что это я все пишу — вот уже второй раз — все только сцены внутри дома. Пожалуй, и другие заметят. Надо лучше представить событие на чистом воздухе, на самой Голгофе.
Но это конечно, только внешний повод, это слишком наивно, чтобы стать причиной для недовольства собой. Достаточно сопоставить первый эскиз с самой картиной, чтобы тотчас понять, что не в том вовсе дело, где происходит событие, — в помещении или на улице. Идея картины другая, и образы другие, и представлено событие совсем иначе, как бы с противоположной стороны.
Сила лучших полотен Ге в островыраженном, захватывающем зрителя столкновении. Христос и Иуда. Христос и Пилат. Петр и Алексей. Вокруг этих полотен тревожная, предгрозовая атмосфера; они будоражат. В первом эскизе «Вестников» столкновения нет. Он — весь согласие. Радостный, чуть элегический хор единомышленников. И, приступая к окончательному варианту картины, выйдя из тесной комнатенки на обдуваемую ветрами Голгофу, Ге оставляет в низкой хижине Богоматерь, Петр и Иоанн превращаются в крохотные фигурки на горизонте — они ему не нужны.
Голгофа по-древнееврейски, — череп, лобное место. В Малороссии сказали бы — «лысая гора». На «лысой горе», на Голгофе, нет умиротворенности и покоя, все тревожно, все невероятно, все смещено. Лежат кресты на пустынном холме. Раскаляет край неба стремительный рассвет. По голой каменистой земле, почти не касаясь ее, бежит Мария Магдалина, — огромной птицей летит в первых лучах восходящего солнца (один из критиков язвил потом, что она, «не нагнувшись, не прошла бы в иерусалимские ворота»). А в другую сторону уходят, тяжело ступая, три грузных римских воина в полном облачении: двое впереди, третий отстал. Первые два смеются над отставшим, а он идет и подсчитывает, сколько получит за совершенную казнь. «Этот воин мертв, хотя и живой, — объяснял Ге, — мертвые же кресты живы».
Профессор А. Н. Веселовский, который встречался с Ге во Флоренции, увидев «Вестников воскресения», точно подметил: картина продолжает «Тайную вечерю» не по теме (по теме ее продолжал и первый эскиз), а по «антагонизму представлений». Ге объяснял Веселовскому идею «Вестников»: Магдалина и ратники, которые «равно отправляются от Голгофы в разные стороны», — это «победа духа и поражение немеющей плоти», это «старый и новый мир». Вот ведь куда метнул!..
Снова авансы в газетах; снова, не глядя, понаслышке: «На выставку с часу на час ожидают новой и уже, по слухам, приобретшей себе громкую известность картины г. Ге „Воскресение“»…
И снова — борьба. Картина еще во Флоренции, в мастерской, но ее — даже «по слухам» — не хотят пускать в Россию. Ге, заручившись поддержкой великой княгини Марии Николаевны, тогдашнего президента Академии художеств, отправил «Вестников» в Петербург. Вице-президент князь Гагарин поставил картину у себя, тайно показывал духовным чинам. В академические залы «Вестникам воскресения» ходу не было. Ге из Флоренции писал Гагарину, объяснял, доказывал. Надежный поверенный Сырейщиков хлопотал в Петербурге. Дело снова дошло до царя.
Министр императорского двора граф Адлерберг писал Сырейщикову 17 мая 1867 года: «В присланной из Флоренции… картине „Утро по воскресении Христа“ выражение мысли художника, по отзывам опытных духовных лиц, не вполне согласно с евангельским повествованием о событии… и может быть повод к превратным в публике суждениям о предмете священном». А потому «выставить означенную картину для обозрения публики в залах императорской Академии художеств признается неудобным».
Возмущались некоторые газеты — картина «встречает затруднения, не имеющие ничего общего с искусством»; «труд Ге подвергся остракизму не только из зал Академии, но чуть ли не из отчизны»; «первая его картина была встречена недоброжелательными толками святош и педантов; вторая и вовсе не может быть оценена в отечестве»…
Ге брал сюжеты из Евангелия, даже ссылки делал (пометил, например: «Вестники воскресения» — Матфей, XXVIII, 1–15), а власти встречали его картины так, будто он хотел выставить «Сельский крестный ход» или «Чаепитие в Мытищах».
Только не надо объяснять это предвзятостью Ге.
Ему всю жизнь казалось, что именно он правильно читает Евангелие, а его обвиняли в ошибках: не понял «таинства причащения», исказил облик Иисуса, неверно показал размеры комнаты, одного апостола недорисовал — словом, «отчего на голове Христа не сделано сияния?» Ге, оправдываясь, писал, что «для составления пейзажа… пользовался фотографиями, снятыми на месте, в Иерусалиме». Но его устремленная кисть ломала и меняла фотографические пейзажи, как мысль его ломала и меняла повествование евангелистов. Ге читал Евангелие по-своему, «в современном смысле».
Бернард Шоу привел однажды слова глазного врача, который обнаружил у него нормальное зрение: «…Нормальное зрение, то есть способность видеть точно и ясно, величайшая редкость; им обладают всего каких-нибудь десять процентов человечества, тогда как остальные девяносто процентов видят ненормально…» «Тут-то я, наконец, — продолжает Шоу, — и понял причину моих неудач на литературном поприще: мое духовное зрение, так же как телесное, было „нормально“ — я видел все не так, как другие люди, и притом, лучше, чем они».
Ге всю жизнь горячо и искренне проповедовал Евангелие, но у него с этой книгой были свои отношения.
…«Вестников воскресения» удалось выставить только поздней осенью 1867 года, и то не в Академии — в художественном клубе. Публика ринулась к запретному полотну. И в первую же минуту определилось — провал.
«Смеялись злорадно и откровенно рутинеры, смеялись втихомолку и с сожалением друзья», — вспоминал Репин.
Ге, наверно, жалел, что выставил «Вестников»: слава понаслышке — часто самая громкая слава. Должно быть, проклинал себя за горячность — стоило докучать князьям, великим и обыкновенным, чтобы оказаться посмешищем. Должно быть, подумывал — пойди он по проторенной дорожке, напиши он «Вестников» по первому эскизу, их приняли бы не менее восторженно, чем «Тайную вечерю». Слава «Тайной вечери» стократ усиливала удар.
Однако хорошо, что Ге выставил «Вестников». Можно по-разному учиться на неудачах. Не обязательно ломать себя в угоду современникам. Полезно уяснить свои отношения с ними.
Что извлек Ге из провала? Трудно сказать — он молчал. Он как-то удивительно быстро забыл о «Вестниках воскресения». Он спешил. Страшная слава художника одной картины дамокловым мечом нависла над ним. С необычайной торопливостью взялся Ге за следующую работу.
…После Тайной вечери Иисус вышел в Гефсиманский сад и молился там. Он ужасался; скорбел и тосковал. Он усомнился в нужности завтрашнего подвига и хотел собраться силами.
Ге писал Христа в Гефсиманском саду. Он отказался от многозначительной композиции «Тайной вечери» и «Вестников воскресения». Всю нагрузку, которую несли Иуда, Петр, Иоанн, Магдалина, римские воины, он взвалил на плечи одного человека. Все было в нем одном, и все из него выводилось.
Для Христа Ге выбрал натурщиком флорентийского художника Сони (в каталогах его именуют «гарибальдийцем») — «красивого, горячего патриота и энергического юношу, впоследствии за свои политические убеждения принужденного уехать в Австралию». Так его характеризует Стасов.
Сони — натурщик-стимулятор. Как Герцен для «Тайной вечери». Такой натурщик помогает художнику, идя от частного, найти общее. Репин не случайно искал царевича Ивана в писателе Всеволоде Гаршине; не случайно Ярошенко шел к «Заключенному» от Глеба Успенского. У Ге были сложные отношения с натурщиками. Критики это улавливали. Поначалу они упрекали его в том, что он не поднимается выше натурщика («нимбы не приделывает»), позже — что он пренебрегает натурщиком. А Ге до конца жизни не переставал обращаться к натурщикам, только с годами начал все более отделять образ картины от модели. Натурщик становился ему нужным для руки, а не для ума, не для сердца. Стимулятор ему уже не требуется. Все свое он носит в себе.
Христос «Тайной вечери» скорбит об измене ученика и друга, Христос «Гефсиманского сада» скорбит потому, что изменил себе. Он должен преодолеть тоску и ужас, поверить в необходимость подвига. «Сын божий в образе человеческом» для Ге все более человек, — и не оттого ли сочли его люди богом, что он заставил себя совершить этот подвиг, отдавая жизнь за людей.
С мыслями о человечестве брался Ге за Евангелие и о людях читал в «великой книге». В 1886 году он задумал серию рисунков «Отче наш». В плане пометил:
«1) Свадьба Иосифа и Марии. При факелах. Шествия».
И в скобках, для себя — «Мария беременна».
«Христа в Гефсиманском саду» Ге выставил в 1869 году на мюнхенской выставке. То ли боялся после провала показывать новую картину в России, то ли хотел проверить себя глазами европейского зрителя. Но русские корреспонденты ее углядели.
Ге старается сделать Христа «похожим на всякого человека», — возмущался один из критиков. Но, видно, не на всякого. Критик тут же себя выдает — в лице Христа он не усмотрел ни любви, ни страха. Оно «неумолимо», «грозно»: «Христос г. Ге мог бы собрать заговорщиков, мог бы резать и жечь…»
Критик увидел «Христа в Гефсиманском саду» уже после выстрела Каракозова; был канун семидесятых годов — отсюда и терминология.
Критика возмущало именно то, что, в глазах Ге, превращало Христа из простого смертного в бессмертного бога.
«Если это изображение или копия с него будут помещены в храме божием для молитвенного чествования, — писала духовная газета „Московские епархиальные ведомости“, — то трудно, смотря на картину, перенестись к молитвенному настроению».
Самое забавное, что Ге замышлял картину именно для «молитвенного настроения». Он давно обещал священнику отцу Стефану написать образ для сельской церкви в Монастырищах — там Ге венчался с Анной Петровной. Но получился… «заговорщик».
Профессор А. Н. Веселовский видел «главную характеристику таланта Ге» «в этом личном героическом понимании истории, истории религиозной в особенности».
Но, как там ни толковали образ Христа, новую картину Ге в целом не приняли. Почти так же решительно, как «Вестников воскресения». Друзья (огорчаясь), враги (ликуя) сходились во мнении — Ге опять не сумел. «Санкт-Петербургские ведомости» поругивались с «Московскими епархиальными», но настоящего спора не было. Провалы Ге потушили борьбу.
Провалы или победы
Провалы Ге закономерны. Даже многие из тех, кто вчера был за него горой, ныне его не принимали. Когда хотят нового — это еще не значит, что всякого нового. Новизна «Тайной вечери» всех потрясла, новизна «Вестников воскресения» и «Христа в Гефсиманском саду» оказалась преждевременной.
Ге сам сказал в «Тайной вечере», что вместе выйти — еще не значит вместе прийти. Кто-то отстает по дороге.
Отстали многие, кто приветствовал в «Тайной вечере» ниспровержение академической живописи. Шестидесятые годы были на исходе. Перов окончательно утвердил себя «Тройкой», «Утопленницей», «Последним кабаком у заставы». Входил в славу Крамской. Хорошо работали Неврев, Журавлев, Корзухин, Лемох. Начинал Репин. Ниспровергателей академического искусства было вдоволь. Традиционных профессоров уже никто всерьез не воспринимал. Они перестали быть угрозой.
Русская живопись решала человеческие вопросы в мире людей. Решала наглядно. Дети перовской «Тройки» вызывали больше сострадания, чем смятенный Иисус. «Вестники воскресения» рядом с «Утопленницей» казались иероглифом. Стасов укорял Ге за то, что он «в своем прекрасном далеке» отстал от нового русского искусства — «все воображал, что только и есть дела и смысла в одной религиозной живописи», тогда как «вся сила России по части художества всегда лежала в ее национальности, в изображении того, чем Россия жила и живет; в воплощении того, что ей близко, что ей ведомо до последней черточки и фибра…»
Не поспешные и преходящие суждения газетных рецензентов определяют подлинную ценность творений искусства, а судьба этих творений — она-то, в конечном счете, и есть мнение народное.
Славу отличает от успеха протяженность во времени. Ее утверждают новые поколения. Слава «Тайной вечери» не угасла с пламенем первого спора. Через шесть лет, в 1869 году, ее «резкую жизненную правду» высоко оценил Гончаров, — он писал о картине в предисловии к «Обрыву». Еще через пять лет, в статье о картине Крамского «Христос в пустыне», Гончаров снова защищал «художественную правду» «Тайной вечери». И так же, как первые хулители картины, правду Ге через десять лет отвергал, не хотел принимать Достоевский. А через тридцать лет Репин, отрицавший многие искания Ге, говорил о «гениальности» «Тайной вечери» — в искусстве не было равной картины на эту тему. «Вестников воскресения» и «Христа в Гефсиманском саду» забыли быстро.
Но пусть русской живописи эти картины не понадобились, может быть, они самому Ге нужны были — как поиск как движение?
Через двадцать лет Ге увидел на столе у знакомого литератора фотографию с «Христа в Гефсиманском саду»:
— Земной он у меня очень, говорят.
— У каждого художника свой Христос.
— Вот, вот! Я люблю своего!
В это же время примерно ему показали другого «Христа в Гефсиманском саду», невыносимо страдающего, — его написал Врубель. «Талантливый человек, — сказал о нем Ге. — Зачем он только так ортодоксально подходит к изображению Христа».
Ге много раз переписывал свою картину — никак не мог от нее отстать. Значит, нужна была безжалостному автору, который, не задумываясь, резал и замалевывал готовые работы, но, значит, что-то в ней его не удовлетворяло.
Между тем пришла пора: в конце восьмидесятых — начале девяностых годов картина, два десятилетия назад решительно отвергнутая, вдруг стала вызывать интерес. Лесков распространял сделанные с нее фотографии. Чехов, ссылаясь на нее, давал советы Репину, который тоже писал этот сюжет. И Третьяков, не принимавший большинства работ Ге на темы Евангелия, очень захотел купить «Христа в Гефсиманском саду».
Другой бы на месте Ге пришел в восторг — как же, победил, дождался своего часа! Но Ге не победа нужна — ему нужна истина. Он собрался перед отправкой покрыть картину лаком, но, глядя на нее, понял, что мысль не хорошо выражена, — надо переписать. Анна Петровна в страхе уговаривала его не трогать картину и «новую мысль писать заново». К счастью, в мастерской оказался пустой холст. Ге сделал десять эскизов, измучился, однако решения не нашел. «Он писал лихорадочно быстро, но потом слабел, — вспоминает его невестка. — Мы замечали, что он не ест, не пьет, не разговаривает, и это значило, что он опять недоволен выражением своей мысли». И так до тех пор, покуда однажды не стало ясно: не старую картину надо переписывать, а новую писать.
«Начал поправлять Христа, — сообщает Ге в письме к художнику Теплову, — и вдруг понял, что нельзя продавать… и разом мне представилась такая картина, что я скорей взял новый холст и в один день сам и натянул холст и подмалевал. Приезжайте и увидите, что я еще не написал такой картины. Она равна, коли не сильнее „Тайной вечери“. Я сейчас же написал Третьякову что… прошу его подождать немного, пусть увидит, может, эта новая ему больше понравится, и тогда отдам опять не для интереса денежного для себя — ежели уже захочет, то пусть даст моим, что найдет нужным, а мне не нужно. Мне только и радости, что я могу так чувствовать эту истину»[14].
Новая картина называлась «Выход с Тайной вечери». Мясоедов писал Ге, что Третьякову стоило бы заказать эту картину «в размере и в силе „Тайной вечери“, не жалея денег». Восторгался Савицкий: «Вы являетесь все тем же искренним, глубоко и высоко талантливым творцом сюжетов, за которые беретесь. Глядя на вашу картину, отогреваешься душой, веришь в то, что любит и чем дорожит художник».
И, кажется, когда картина написана, и десять раз переписана, и через двадцать лет неожиданно вылилась в другую картину, можно поставить точку? Но ведь это Ге — ему «только и радости» почувствовать истину. В 1891 году он сообщает В. Г. Черткову, что собирается сделать новую композицию «Христа в Гефсиманском саду»[15].
Мысли, которые вдохновляли Ге, когда он писал «Вестников воскресения» и «Христа в Гефсиманском саду», остались с ним навсегда. По замыслу он ставил эти картины в один ряд с самыми высокими созданиями человеческого гения. Он гордился, что показал в «Вестниках» исполненное «глубокого значения» «сопоставление противоположных сторон». Это тема Данте, Шекспира, Гёте и нашего Пушкина, — говорил он. «С любовью ученика следил я за ними, понимая всю важность мысли и способа выражения».
Так, может быть, причина неудачи последних флорентийских картин в «способе выражения»? Ведь упрекали же их за ошибки в рисунке, находили в живописи «что-то неприятное». Репин писал о «неправильности и трепаной небрежности рисунка и форм», называл «Вестников воскресения» «грубо намалеванным эскизом».
Но как ни совершенна «Тайная вечеря», достойная, по мнению того же Репина, сравнения «с самыми великими созданиями живописи», поздние работы Ге ближе к «Вестникам воскресения». С ними, а не с «Тайной вечерей», скорее, сопоставит неискушенный зритель и «Совесть», и «Суд Синедриона», и «Голгофу».
Так в чем же дело? Почему сам Ге не был удовлетворен? Почему десять раз брался за «Христа в Гефсиманском саду» и вздохнул, наконец, с облегчением, когда написал совсем новую картину? Почему годами безучастно смотрел, как тускнеют на стене мастерской деревенского дома «Вестники воскресения»?
Можем только предполагать. Пожалуй, мысль двух последних флорентийских картин, как бы ни была хороша, не вполне сопрягается с чувством — жарким чувством, которым пылали сердца Ромео и Джульетты. Истина не устремляется прямо из сердца в сердце. Тут мало «взглянуть — и все». Тут «разговоров нужно, а искусство этого не требует», — как говаривал впоследствии Ге.
Ни в «Вестниках воскресения», ни в «Христе в Гефсиманском саду» Ге не нашел того «живого содержания», «содержания истинного», которое само подсказывает художнику «живую форму». «Живое содержание» — не только удачный замысел, но вся жизнь художника, сосредоточенная в сегодняшней картине.
Герцен — не только прообраз Христа «Тайной вечери». «Тайная вечеря» целиком рождена Герценом — «Колоколом», «Былым и думами», всей жизнью Герцена, осмысленной художником, и всей собственной жизнью, осмысленной с помощью Герцена. Но после «Тайной вечери» был Петербург, знакомство с «новыми руководителями общества», вынесенное из России горькое чувство, что «Герцен как бы умалился», и наконец — долгожданная встреча с Герценом, которая дала миру непревзойденный его портрет. Но Герцен на портрете Ге — уже не Христос «Тайной вечери». Здесь не только жизненная трагедия, но и трагедия ухода из жизни.
Ге до последнего дня восторженно относился к Герцену, но после свидания с новой Россией — Россией шестидесятых годов, — которую Герцен так и не увидел, Ге остро ощутил, что надо искать какие-то нити, чтобы прочнее связать свое творчество с ее сегодняшним днем. Нет, не угождать современности, но не утерять синхронного пульса, дыхания, настроя. Неудача «Вестников» укрепила в нем это ощущение, неудача «Гефсиманского сада» превратила ощущение в осознание. Тотчас после мюнхенской выставки Ге заявил, не колеблясь: «Пора ехать домой — нечего тут делать». И устремился в Россию.
«Вестники воскресения» до самой смерти художника будут пылиться в мастерской, но мысль показать столкновение нового и старого мира, победу духа над немеющей плотью никогда не покидала его. И когда эпоха подсказывала Ге «содержание истинное», из этой мысли рождались лучшие его полотна — «Петр и Алексей», «Что есть истина?»
Вопреки поспешным суждениям огорченных друзей и ликующих врагов Ге флорентийскими неудачами не «кончился».
Он только начинался.
Портреты. Герцен
Я узнал, что половина жизни моей перейдет в мой портрет, если только он будет сделан искусным живописцем.
Н. В. ГогольГерценовское десятилетие
Герцен приехал во Флоренцию 18 января 1867 года.
Ге десять лет ждал встречи. Иногда, наверно, отчаивался.
В 1863 году они разминулись: Герцен спешил в Италию, Ге — в Петербург с «Тайной вечерей». Зимой 1864 года, когда Ге был в Петербурге, разнесся слух о смерти Герцена. Можем только догадываться, что испытал Ге, — тяжелая личная утрата, крушение надежд. В Петербурге особенно трудно было услышать эту весть: Ге встречался там с новыми людьми, с «молодыми» — для многих Герцен «устарел», «как бы умалился»… Из «старых» иные попросту радовались. Никитенко писал потом в дневнике: «Герцен, говорят, не умер, но здравствует и благоденствует, подобно всем подлецам».
Ге как бы пережил смерть Герцена — такое даром не проходит. Ложный слух, возможно, придал Ге решимости. Когда-то, едва вырвавшись за границу, он «мечтал ехать в Лондон, чтобы его видеть, чтобы его узнать, чтобы написать его портрет для себя». А «воротившись из России во Флоренцию в 1864 году, я задумал непременно написать портрет А. И. Герцена». Сказано не так возвышенно, не так самозабвенно, зато по-деловому, определенно.
Флоренция будоражила мечту, не давала ей истаять. В Петербурге можно было размышлять об «умалении» Герцена, взвешивать оценки. Во Флоренции Ге чувствовал, что Герцен — рядом.
Во Флоренции жил сын Герцена — Александр, жили дочери Наталья и Ольга. К ним Герцен и приехал. Дочери поселились во Флоренции с конца 1862 года. Герцен отправил туда восемнадцатилетнюю Наталью заниматься живописью.
Ге, едва узнав, что в город прибыли дочери Герцена, тотчас отправился к ним с визитом — не может ли быть чем полезен.
Наталью Герцен привлекла мастерская Ге, она хотела бывать у него, брать уроки. Герцен ее предостерегал: «Ателье незнакомого Ге, разумеется, не надобно принимать — gai ou triste — mais il faut le connaître». Герцен шутит, играет словами — фамилия Ге и французское «gai» («веселый») звучат сходно: «веселый он или грустный — но надобно его знать». «Тайная вечеря» еще не была написана.
Однако Наталья — Тата — была девушка самостоятельная: не прошло и недели, она познакомилась со многими «артистами» (то есть художниками) и одним «скулптором». Среди «артистов» был Ге, а «скулптор» — это Пармен Забелло, брат Анны Петровны.
Ге познакомился с физиологом Морицем Шиффом; сын Герцена Александр Александрович — Саша — работал у него ассистентом. В доме Шиффа собирались два кружка. По четвергам — интимный: дети Герцена, Саша, Тата, Ольга, русский революционер-эмигрант Владимир Бакст, еще один эмигрант, но французский, — Жозеф Доманже, учитель детей Герцена. Бывали и другие, теперь трудно установить, кто, но самые близкие. Тата Герцен рассказывает о собраниях кружка: «…всем чужим велено говорить, что нас дома нет». По воскресеньям у Шиффа был вечер «для всех».
Но и по четвергам и по воскресеньям собрания были не семейные, не светские, а ученые — читали статьи, лекции, потом отвечали на вопросы, спорили. «Гениев у нас пока нет в нашем кружке, — писала Тата, — но и пустых светских франтов тоже нет. У каждого свое дело, каждый работает по своей части…».
Ге, надо полагать, бывал у Шиффа, если не по четвергам, то по воскресеньям. Он был человек интересующийся, спорщик, один из самых читающих среди русских художников вообще.
Ге подружился с Доманже. Учитель детей Герцена стал давать уроки сыновьям Ге. Доманже, по словам Герцена, был «многоязычен» и «умноязычен», он был прирожденный собеседник — трудно представить себе, чтобы они с Ге не беседовали подолгу. Доманже знал Герцена давно и близко: когда-то через день бывал у него в доме, участвовал в семейных делах, развлечениях. Герцен называл его другом; как-то, вспоминая былое, сказал про 1854 год — «времена Доманже». Теперь и для Ге настали «времена Доманже».
Ге подружился с Николаем Васильевичем Гербелем, поэтом и переводчиком. Гербель издавал за границей запрещенные в России стихи, был тайным корреспондентом герценовской «Полярной звезды». Ге очень интересовался изданиями Герцена.
У Герцена и Ге оказалось много общих знакомых — Михаил Бакунин, Лев Мечников, Евгений Утин, искусствовед Алексей Фрикен. Ге встречал их во флорентийских кружках — русских, эмигрантских, ученых, художественных; разные кружки посещали одни и те же люди. Он их встречал у себя — в мастерской, в голубой гостиной. Дети Герцена тоже посещали вечера Ге.
Всякую неделю кому-нибудь во Флоренцию приходили письма от Герцена — их читали, пересказывали, комментировали. О нем говорили и восторженно и запросто, как о старом, задушевном товарище. Из таинственного лондонского кумира Герцен все более превращался для Ге в живого человека, с образом жизни, привычками, почерком. Ге узнавал со временем, что в биографии властителя дум и глашатая свободы были не только Россия и Европа, «Колокол» и «Вольная типография», Гарибальди и Кошут, сложные отношения с Чернышевским, молодой русской эмиграцией, с Интернационалом Маркса, — он узнавал, что в биографии Александра Ивановича Герцена были невеселые мысли о себе и разочарование в друзьях, семейная драма, размолвки с детьми, неустроенность. Проницательный анализ событий, постоянное кипение споров, желание всему миру открыть свои думы, — и рядом: «безумный нрав» Наталии Алексеевны, опасное благополучие сына Александра, лихорадки и ангины любимицы Лизы, жизнь на три дома, заботы о горничной, о кухарке… и могилы в Ницце.
Герцен почти неизбежно, раньше или позже, должен был приехать во Флоренцию. Его приезд с каждым годом, с каждым месяцем становился все неизбежнее — Герцен с течением времени как бы приближался к Флоренции. И Ге с каждым годом все более наполнялся Герценом, все лучше и точнее узнавал его — он духовно приближался к Герцену, не собираясь бежать к нему в Лондон. Это был тот случай, когда гора и Магомет идут навстречу друг другу.
Портрет Герцена был начат не 8 февраля 1867 года — 8 февраля состоялся только первый сеанс, портрет был начат много раньше. «Герценовское десятилетие» в жизни Ге открылось мечтой написать портрет Герцена, оно должно было завершиться портретом. Ге не переставал его писать. Он, по существу, уже писал портрет, отыскивая Христа для «Тайной вечери», беседуя с Доманже, жадно читая «Колокол», слушая яростные речи Михаила Бакунина, приглядываясь к Александру и Наталье Герценам. Это были те самые «две трети», которые нужны художнику, чтобы подойти к холсту и начать.
Художник Петр Кончаловский рассказывал: когда он писал портрет Пушкина, поездки на Кавказ и в Крым, прогулки по Летнему саду, созерцание одежды и утвари пушкинской поры — все это было для него изучением натуры. И конечно — внучка Пушкина. Художник целовал от радости «эту милую маленькую старушку».
Ге начал портрет задолго до приезда Герцена во Флоренцию. Когда Ге подошел к холсту, портрет был уже на две трети готов.
3. Мария, сестра Лазаря, встречает Иисуса Христа, идущего к ним в дом. 1864
4. Портрет неизвестной в голубом платье. 1868
Есть что-то неизбежное в появлении этого портрета. Лишь случайность могла помешать ему быть. Все продумано и прочувствовано — остается упасть яблоку.
Для появления портрета Герцена не хватало лишь самого Герцена. И он приехал — 18 января 1867 года.
Встреча
Герцен заявился к Ге без предупреждения, запросто, будто к старому знакомому. Ге опешил от неожиданности, от счастья; выручила Анна Петровна — пригласила гостя сесть, произнесла первые необходимые фразы — о приезде, о здоровье, о детях. Герцен оттолкнулся от обычных фраз и заговорил — сразу горячо.
Ге притаился в углу, помалкивал. Анна Петровна оборачивалась к нему удивленно, взглядом приглашала вступить в беседу. Герцен на него посматривал остро, с интересом (наверно, думал, что живописцы в большинстве все-таки неговорливы).
— Представьте, нынче я был у Муравьевых, — говорил Герцен, — у жены Александра Муравьева, того, что умер в Сибири. Она мне показывала портреты — вам это должно быть интересно, Николай Николаевич! Например, пятилетний Никита Муравьев у матери на коленях. Глава Северного общества и автор конституции. Для меня есть что-то неизменно притягательное во всяком прикосновении к памяти двадцать пятого года. Я точно благословение получаю…
Герцен стал рассказывать, что несколько лет назад в Париже встречался с Сергеем Волконским.
— Величавый старик, лет восьмидесяти, с длинной серебряной бородой…
— Князь Волконский бывал у нас, — сказала Анна Петровна, оборачиваясь к Николаю Николаевичу. Но он молчал: ему и подумать было страшно, что он заговорит — охрипшим от долгого молчания голосом. Он молчал и смотрел на Герцена. И ему было хорошо.
— Когда Волконского привели на очную ставку с Пестелем, — продолжал Герцен, — их допрашивал Голенищев-Кутузов, один из убийц Павла Первого. Он ужасался: «Удивляюсь, господа, как вы могли решиться на цареубийство!» «Удивляюсь удивлению именно вашего превосходительства, — отвечал Пестель, — вы лучше нас знаете, что это не первый случай».
Слова Пестеля Герцен выкрикнул энергично, резко, словно судьи и следователи сидели перед ним, — потом засмеялся. Смех у него был хороший, от души. У него глаза повлажнели от энергичного разговора, от смеха. Он прибавил:
— Эта история пересказана в некрологе князя Волконского. Некролог написал Долгоруков.
Ге хотел сказать, что читал некролог в «Колоколе», но опять промолчал. Ему казалось, что все это снится или снилось когда-то и мешать этому нельзя, чтобы не развеялось, не исчезло.
— Князь Петр Владимирович Долгоруков бывал у нас, — сказала Анна Петровна и сердито глянула на Николая Николаевича.
Но он все еще не мог заговорить — первый раз в жизни, наверно.
— Вы читали «Записки» князя Долгорукова? — спросил Герцен. — Они изданы недавно в Женеве. Это книга о бесстыдной подлости русского барства.
Полное лицо Герцена раскраснелось и в золотистом свете лампы казалось смуглым. Он склонил голову и чуть исподлобья, внимательно смотрел на Николая Николаевича. Ге вдруг пробудился — внутренне: «Тайная вечеря» встала перед ним, он увидел Христа с лицом Герцена, не того Герцена, который был на старой фотографии, до дыр проеденной глазами, а этого, сидящего за столом в золотистом плавающем свете лампы. Потом Герцен сдвинулся вправо и превратился в сердитого, взбудораженного апостола Петра… Ге встал с кресла, из своего сумрачного уголка, пошел к столу, к свету, к Герцену. Он неожиданно почувствовал, что вобрал в себя этого человека, полного, плотного и вместе легкого, его энергичные, выразительные жесты, красивые руки, его великолепно вылепленную голову, высокий крупный лоб, лучистые глаза, живо и умно смотрящие из-под сдавленных век, широкий нос и глубокие черные складки, резко отчеркнувшие щеки.
Ге заговорил одушевленно и голосом вовсе не хриплым, с умением опытного собеседника поддерживая разговор:
— Отец мой, человек умный и дельный, считал себя вольтерьянцем, однако бил по щекам лакеев. Мужиков у нас пороли на конюшне. Однажды отец решил меня побаловать — и что же! — купил мне товарища, крестьянского мальчика Платошку. За двадцать пять рублей. Его привезли в мешке. Много позже, в бытность мою учеником Академии, был еще один мальчик — Петруша. Родственник Анны Петровны прислал мне его в Петербург с наказом отдать в повара. А мальчик добрый, нежный. Все убивался, что отдадут его чужим людям. Я не выдержал, написал хозяину, чтобы вернул ребенка родным. Не то, написал, возьму к себе на иждивение и буду беречь, как брата…
Впрочем, возможно, они совсем о другом говорили. Ге в записках вспоминал общо: «Целый вечер мы переговорили обо всем: заметно было, что ему легко и хорошо; видно было, что он был доволен встретить простых русских людей, которые были ему пара; ему уже недоставало последние годы его жизни этого общества».
Ге пошел провожать дорогого гостя. Они шли не спеша по темным улицам. Говорил опять больше Герцен. Он погрустнел, сник — шел, опустив голову, глубоко засунув руки в карманы пальто.
— Какая сырость, однако. По улицам могут гулять ерши да окуни. Надобно стать мокрицей или ящерицей, чтобы пробираться по этим каменным щелям между дворцами. Итальянские города неудобны. Монументальная архитектура, обилие памятников. Живешь, словно в театре среди декораций… — Герцен помолчал и прибавил: — В России, поди, снегу сейчас — по колено!
Ге сказал, чтобы утешить:
— Десять лет назад мы, радуясь, бежали сюда. Я все твердил: «Там ширь, свобода, туда хочу».
Герцен сказал:
— Я часто читаю русских поэтов — вот где ширь. У вас есть что-нибудь русское почитать?
— Сразу не припомню. Но есть Шевченко в переводах Гербеля.
— Непременно дайте. Вы читаете детям русское? Я своему Саше, кажется, мало читал.
— Александру Александровичу пророчат большую славу…
— Саша будет швейцарским профессором. Я его не переспорю. Помню, в деревне спорили два мальчика, чей двор лучше. Кузьма кричит через улицу: «Наш!» А Ванька: «Нет, врешь, наш лучше!» Саша, кажется, в другом дворе. Я его не переспорю. Поистине — пророк чести не имеет в доме своем.
— Целый мир — ваш дом, Александр Иванович.
— Да, да. Париж — Лондон — Канны — Женева — Вэвэ — Лозанна — Ницца — Флоренция. Ношусь, словно брандскугель… Вы еще помните ватрушки, Николай Николаевич? Мы как-то вспоминали их с одним приятелем. У настоящих русских ватрушек края загнуты и поджарены?..
Впрочем, возможно, они о другом говорили. В записках Ге сказано: «Я взял шляпу и пошел провожать его на ту сторону Арно, где он жил. Мы шли. Он тихо говорил, я слушал. Наконец, дошли до его портона (входная дверь). Он, прощаясь, говорит: „Ну, что же, теперь я пойду вас провожать, так и будем ходить целую ночь“. Я ему тут же сказал: „Александр Иванович, не для вас, не для себя, но для всех тех, кому вы дороги, как человек, как писатель, — дайте сеансы; я напишу ваш портрет“. Он ответил, что готов…»
Но дело было не так. Ге пересказывал события четверть века спустя, кое-что запамятовал. Следом за ним Стасов повторил, что художник просил Герцена позировать для портрета «в первый день свидания». Появилась красивая легенда. Ге менее всего был занят ее созданием. Воспоминания часто компонуются, как художественное произведение: мемуарист укладывает разрозненный и отрывочный материал, придерживаясь плана, заботясь о развитии действия. Может быть, и это сказалось на записках Ге. Во всяком случае, хронологию портрета надежнее восстановить по письмам Герцена. Он писал из Флоренции каждые полтора-два дня, его письма — свежие отчеты о событиях; не воспоминания — хроника, дневник.
Письма Герцена позволяют установить, что первая его встреча с Ге состоялась не позже 29 января. В письме от 29 января Герцен сравнивает флорентийских и швейцарских русских: «Флорентинцы меня опять приняли с такой симпатией и таким вниманием — как в 1863. Странно — они меня меньше знают наших швейцарцев, а сочувствия больше. Впрочем, здесь и русские все лучше…» И перечисляет — Ге, Забелло, Железнов, Фрикен.
Трудно предположить, что Ге ошибся в главном: «Неожиданно для нас пришел к нам А. И. Герцен, приехавший во Флоренцию».
Следовательно, визит Герцена к Ге, их встреча, их знакомство состоялись до 29 января.
А первое упоминание о портрете — в письме Огареву от 7 февраля: «Сегодня же известный живописец Ге приходил с требованием делать мой портрет „для потомства“… Завтра начнем». И назавтра: «Иду к Ге рисоваться».
С утра 8 февраля Ге был встревожен, раздражителен. Он всегда нервничал перед тем, как начать. Он уже был настроен, и все вокруг отвлекало его, сбивало: пронзительные голоса женщин, звяканье посуды, черные бархатные курточки сыновей, яркий яичный желток, пролитый за завтраком на голубовато-белую подкрахмаленную скатерть. Его мучили сомнения; вдруг что-нибудь случится, помешает, вдруг на холсте не получится так, как сложилось в голове.
Герцен пришел оживленный и как будто тоже взволнованный. Ему хотелось этого портрета. С ним пришла дочь Тата — она будет одновременно с Ге писать портрет отца. Ге вышел навстречу гостям, быстрый, сосредоточенный. Не начиная разговора, повел в мастерскую. Долго усаживал Герцена. Потом помог устроиться Тате; она решила писать отца в профиль (она его часто именовала «папашей»). Дверь приотворилась, белый пудель Снежок («милая, умная собака») вбежал в мастерскую и улегся у ног Николая Николаевича. Вроде, можно было начинать.
Начало портретиста
Герцен писал про Ге: «известный живописец», «художник первоклассный», «делает он удивительно». Он это писал до того как Ге начал портрет. В лучшем случае, Герцен видел лишь фотографию с «Тайной вечери». Позже, когда начались сеансы, Ге показал ему повторение картины. В мастерской стояла также неоконченная — «Вестники воскресения»; Герцену она, кажется, понравилась. Эпитеты «известный», «первоклассный», «удивительный» Герцен выдал как бы авансом, понаслышке. О борьбе вокруг «Тайной вечери» Герцен должен был знать из русских газет. Это свидетельство славы Ге: он завоевал неотъемлемый эпитет — «известный» живописец, «первоклассный» художник. Его уже упоминают с эпитетом, даже не видя его работ.
После «Тайной вечери» Ге стал известным художником, но известен как художник он был раньше — еще в пору ученичества. В 1855 году молодая художница Хилкова взялась написать «перспективу» петербургской рисовальной школы «со всеми ученицами и учителями». Она просила Ге сделать один из главных портретов — преподавателя Гоха, академика. Портрет вскоре пропал — его украли у Хилковой. В списках произведений Ге он не указан, а это одна из самых ранних работ художника.
История с портретом Гоха рассказана в дневнике Е. А. Штакеншнейдер — широко признанном документе прошлого столетия. Имя Ге упомянуто в дневнике без объяснений, как бы между прочим. Чувствуется, что и для Хилковой, и для Гоха, и для самой Штакеншнейдер, автора дневника, Ге — человек известный.
Молодой Ге был известен как портретист. Это не удивительно: из его картин до «Тайной вечери» знали только конкурсные академические работы, а портретов за это время Ге написал не меньше тридцати. Некоторые он выставлял. О портретах кисти молодого Ге говорили, даже писали.
Портрет Я. П. Меркулова, петербургского чиновника, знакомого Ге, хвалили «Отечественные записки» — портрет «превосходен по лепке, по полноте натуры и рельефности: многие знатоки ставят его наряду с лучшими произведениями в этом роде». «Художественный листок» обнаруживал в портрете «познание самых тонкостей анатомии, мастерское воспроизведение красок тела. Все это заслуживает всякого уважения и похвалы, и путь к этому чуть ли не указан г. Зарянко».
Имя художника Зарянко произносят теперь примерно с той же интонацией, как имя поэта Бенедиктова. Но, что делать, по словам современника, «и литераторы и чиновники петербургские были в экстазе от Бенедиктова». Его ставили рядом с Пушкиным. И даже «Жуковский… до того был поражен и восхищен книжечкою Бенедиктова, что несколько дней сряду не расставался с нею и, гуляя по Царскосельскому саду, оглашал воздух бенедиктовскими звуками».
А Зарянко сделал в живописи больше, чем Бенедиктов в поэзии. Ге выставил портрет Меркулова в ноябре 1855 года. Зарянко был еще на взлете. Его ценили не только за осязательно выписанные кружева, меха, бархат. Помнили портреты скульптора Ф. Толстого, сановника Танеева. Сравнение с Зарянко, наверно, было лестным. Ге в ту пору не хотел многого. В письме к Анне Петровне (тогда невесте) он сопоставлял работу над картиной «Ахиллес оплакивает смерть Патрокла» и над портретом Меркулова:
«Я сам скажу, что портрет хорош, впрочем, это понятно: сделать портрет гораздо легче. Кроме выполнения ничего не требуется»[16].
Сказано упрощенно, по-молодому заносчиво, без понимания самого себя.
Если бы Ге следовал тому, что сказал, портрет Меркулова стал бы эталоном. Этот портрет — хорошо выделанное изделие. Оно характеризует Ге как умелого ремесленника. Художник должен всегда владеть ремеслом. Зато ремесленник может быть художником лишь до тех пор, пока ищет прием, готовит образец, — потом он переходит к серийному выпуску продукции.
Ге наивно полагал, что всего лишь «выполняет», всего лишь переносит на холст черты оригинала. Он наивно полагал, что так надо, и не думал оправдываться. Но оправдание его в том, что он так и не нашел приема («приемчика»!). Он не умел по одной мерке; хотя и повторяться вроде бы не грех, — он писал портретов много, гораздо больше, чем нам известно.
В наиболее подробном списке портретных работ Ге[17] 1854 годом датируется один портрет; а художник в письме невесте от 29 декабря 1854 года замечает: «Я написал два эскиза по исторической живописи и три портрета — середина между подмалевком и оконченными работами да несколько портретов карандашом»[18].
Разгадывать портреты еще труднее, чем картины. И еще ненужней. Живые черты оригинала, и эти же черты, но уже воспринятые художником, измененные его чувством, его мыслью, его отношением к оригиналу и ко всему миру, внутренняя задача, с которой он, того, быть может, не сознавая, подошел к холсту — все переплавилось в портрете. Но сплав — не спайка: его не раздерешь на составные части.
Ранние портреты Ге часто разносят по группам: «парадные», «домашние», «романтические». Если бы можно было еще расставить эти группы хронологически — сначала писал парадные портреты (подражал Зарянко), потом — романтические (подражал Брюллову), потом… Очень удобно раскладывать художника по периодам. Он может, например, с каждым периодом подниматься на новую ступень. А может достигнуть вершины в предпоследнем периоде, в конце жизни сделав шаг назад (допустим, под влиянием изменившегося мировоззрения).
Ге очень «неудобный» художник, сортировать его творчество — все равно, что переставлять мебель в темной комнате, потом зажигаешь свет и видишь, что все поставил не туда.
Даже ранние портреты не располагаются по системе: «домашний» сменяется «парадным», «парадный» — «романтическим».
Ге говорил — уже в старости:
«Я в своей жизни написал более ста портретов и ни один раз мне не пришлось написать одинаковым способом: каждое лицо особого характера потребовало наново искать способ передать этот характер, а что ежели я еще напомню вам, что эти головы потребовали бы передачу того выражения, которых каждое лицо может иметь неограниченное число и столько же оттенков».
Ге всякий раз наново искал — и не только способ передать характер. Нужно было и себя найти в портретной живописи так же, как в живописи исторической.
В портрете он себя нашел скорее. Когда писал Меркулова, выделывал петельки и пуговки — подражал Зарянко; когда писал женскую голову, изображая Анну Петровну в виде римлянки, взял у Брюллова совершенство пластических форм, но портреты — не зарянковский, не брюлловский: оба портрета — Ге, его, неотъемлемые.
Можно еще не найти свой способ передать характер, но всякий художник истинный, то есть искренний, неизбежно передаст в портрете свое отношение к тому, кого пишет, — иначе у него портрета не выйдет. Портрет всегда в чем-то автопортрет.
Ге маялся, когда пробовал писать «Разрушение Иерусалимского храма»: «Что для меня храм?..» Но когда писал отца, брата, Анну Петровну, друга Меркулова, не спрашивал себя, конечно: «Что для меня он (она)?» Он писал с отношением, тем более, что писал — особенно в молодости — обычно знакомых, близких, дорогих людей. Своих.
Герцен, едва Ге закончил его портрет, тотчас начал добиваться портрета Огарева. Он писал сыну: «Вот ты что еще ему скажи — что он бы меня страшно одолжил, сделавши портрет Огарева, когда будет в Женеве». И через две недели — Огареву: «Ге будет на днях в Женеве. Я интригую, чтоб он сделал твой портрет».
Ге не «одолжил» Герцена, из «интриг» не вышло ничего. Возможно, помешали причины внешние (во всяком случае, ими легче всего объяснить дело), но, возможно, были и другие причины. Десять лет назад Ге хотел бежать в Лондон к Герцену, не к Огареву. И во Флоренции он ждал Герцена. И счастлив был оттого, что живет в эпоху Герцена. Для Огарева места не оставалось. Наверно, это несправедливо. Однако огаревского портрета Ге не написал.
Он сам не осознавал поначалу, что делает, работая над портретами. Ему казалось, что он только «выполняет», он не замечал, как себя переплавляет с тем, кого пишет.
В начале 1856 года Ге писал портреты девочек Ани и Нади Мессинг, дочерей своего петербургского знакомого[19]. Портреты девочек Мессинг — неизбежно приводимый пример влияния Брюллова на Ге. Но, коли приглядеться, влияние Брюллова только внешнее. Праздничная нарядность — брюлловская, лепка форм — брюлловская. Но есть в этих девочках нечто такое, чего у Брюллова не было. Они интимны. Они для Ге свои.
Из писем его к невесте узнаем, что он писал Аню и Надю Мессинг, охваченный думами о любимой женщине, о будущем, о собственном семейном счастье и, наверно, о том, что его омрачает, — о ненужных размолвках, нежелании понять другого. Он писал про Мессингов: «Мне там у них хорошо. Эти люди очень счастливо живут, наслаждаются семейным счастьем, и я, смотря на них, воображаю себя тоже и приятно, и неприятно»[20].
Это перешло в портреты, пока Ге их «выполнял».
Но Ге любит думать широко, объемно, от частных фактов убегает мыслью в общее. Ему мало, что девочки Мессинг — милые, искренние девочки: «Хорошо бы, как бы люди учились у них и перенимали хорошее, эту откровенность и чистоту»[21]. Это тоже перешло в портреты.
Ге всю жизнь не любил заказных портретов. Деньги вообще разрушали для него очарование близости с тем, кого он пишет. Герцен это почуял. Он писал сыну, «интригуя» об огаревском портрете: «Узнай стороной у Железнова или Забеллы, или Fri V[22] если он согласится на деньги, — цену. Но в последнем будь осторожен — он может обидеться».
В молодости Ге был порой даже слишком интимен с этим стремлением писать своих.
Во Флоренции он познакомился с Михаилом Бакуниным, у них, по словам Ге, установились «добрые, даже сердечные отношения». Ге написал портрет Михаила Бакунина; потом — и его небезызвестных братьев, Александра и Николая. Но, по дошедшим скупым сведениям, с неменьшей охотой написал он портрет другого Бакунина, Александра, вовсе не знаменитого. Про этого Александра Бакунина только и говорится, что в справочнике одесского Ришельевского лицея: он преподавал там в течение года историю правоведения. Из скудных воспоминаний современников узнаем, что этот Бакунин, Александр, бросив правоведение, занимался медициной, потом естественными науками вообще, потом живописью, потом и живопись оставил — и выстрелил себе в сердце из пистолета… Он искал истину. С пулей, чудом застрявшей в груди и не извлеченной, он разгуливал по Флоренции, был отчаянный говорун и спорщик. Ге его любил, почитал своим другом и написал его: у Ге было к этому Бакунину свое отношение.
Он все старался писать людей любимых и писал любя.
В Италии он чаще всего писал жену — Анну Петровну. Одна и с детьми, только голову и в рост. Она ему позировала для апостола Иоанна, а позже, в России, даже для Петра Первого.
Впрочем, апостол Иоанн и царь Петр — это уже переосмысление образа, перевоплощение; для нас же интереснее обобщение, когда Анна Петровна Ге, урожденная Забелло, женщина в общем-то некрасивая, с крупноватыми чертами лица, тяжелым подбородком и лучистыми глазами (наверно, чем-то на толстовскую княжну Марью похожая), вдруг заставляет почувствовать то прекрасное, чем богаты самые прекрасные женщины мира. И все же остается, а может, еще больше становится Анной Петровной. Интересно, как Ге, еще наивно полагая, что воссоздает облик, создавал образ.
В первых вариантах тургеневского «Рудина» главный герой был очень конкретен, очень похож на Бакунина. В редакции «Современника» Тургеневу советовали освободиться, уйти подальше от прототипа. Тургенев послушался, и тогда стало совершаться чудо: образ, теряя конкретность, приобретал достоверность.
У Ге «Жена художника с сыном» — добротный семейный портрет, но это всего лишь Анна Петровна с сыном.
В другой раз Ге написал ее в виде римлянки, даже название замаскированное — «Женская голова», но это пока «Бакунин, переодетый Рудиным». Анна Петровна угадывается без труда. Для неподготовленного зрителя на портрете — просто римлянка, нежная и задумчивая, решительная и страстная.
Наверно, лучший из «догерценовских» портретов — Анна Петровна за чтением. Атрибуты (какая условность!) парадного портрета — просторная комната, кресло, ковер, шкура звериная под ногами, одежда нарядная, но ничего от парадного портрета. Работу часто называют портретом-картиной. Женщина, которая, сидя в кресле, задумалась над книгой, конечно, Анна Петровна — тут ее одухотворенность, но про одухотворенность Анны Петровны знал супруг ее, живописец Ге Николай Николаевич; для нас женщина на портрете сродни Беатриче и пушкинской Татьяне. Художник не скрывает, что пишет любимую женщину и любимую героиню. Солнечный свет, врываясь в распахнутую дверь балкона, пронизывает женскую фигуру, но она как бы светится и изнутри, — свет объединяет частное с общим: гармония человека и природы удивительна. Кресло слегка сдвинуто в сторону: перед взглядом зрителя, властно привлекаемым светлой и светящейся женской фигурой, одновременно, за дверью балкона, открывается даль неоглядная (даль — не фон!). Женщина словно вписана в целый мир. Как ветка Иванова: одна-единственная — и вся вселенная.
Портрет Анны Петровны за чтением написан в 1858 году. Ге еще не нашел себя в «Тайной вечере». Портрет не этапен: парадный овал «Жена художника с сыном» написан годом позже (опять-таки по хронологии схему не выстроишь!), однако портрет за чтением среди поисков молодого Ге целен необыкновенно.
Это вообще один из лучших портретов пятидесятых годов. Но — пятидесятых! Портрет весь в своем времени, хоть и обновлен замыслом, обновлен настроением.
Через три с половиной десятилетия, когда Анна Петровна уже навеки покинет его, Ге снова вернется (а может, и не расставался никогда) к портрету читающей женщины. Этот портрет и сегодня живет, звучит, тревожит. Его принимаешь сразу, непосредственно, не приглядываясь и не оценивая. «Содержание истинное» — никаких очевидных задач, только одна — от сердца к сердцу, — да такой полной мерой, что все сердце до дна. Оттого и «живая форма» — Ге о ней всегда мечтал, а тут живая, как жизнь: она не ощутима. Плоскость, покрытая красками, не замечается. Портрет — окно в мир. Или — внутрь себя.
Прозрачный утренний свет не врывается в комнату, как на портрете Анны Петровны. Солнце, густое, вечернее, позолотило листву сада, сделало ее словно бы тяжелее, ощутимее. Женщина с книгой подошла к окну; она не озарена светом, она в тени, но, вглядываясь в нее, мы ни на минуту не теряем из виду густого и зеленого, залитого солнцем сада; вглядываясь в нее, мы вдруг чувствуем, что словно бы растворяемся в ней. Имя той, что на портрете, — Петрункевич, по мужу Конисская. Какая разница! Чужие имена. А женщина на портрете до последней клеточки — своя. Нет, более того: она — это я, ты, он, — каждый из нас, — и мы все в этом зеленом и солнечном мире.
Но и в итальянскую пору Ге выпало счастье достигнуть этой глубины проникновения в образ. Когда человек на портрете становится, по сути своей, всеобщим, оставаясь личностью. Портрет молодой итальянки в голубой блузе — пример тому. До этого в России знали прекрасных итальянок Брюллова — нежных, заласканных солнцем и немного бездумных. Итальянка на портрете Ге не слишком красива, она умна, взгляд ее напряжен, испытующ и горяч. Такую женщину невозможно написать похожей на брюлловских красавиц, с томной нежностью собирающих виноград и готовых к нетрудной любви. Такая женщина, может быть, собирает маслины — для того, чтобы есть. Нежность и затаенная страстность переплавлены в ней с отвагой, волей и умением решать. Женственность с готовностью вторгаться в события. Такие женщины пляшут на карнавалах, но и перевязывают раны гарибальдийцев. Любят, но и рожают детей — рыбаков, погонщиков мулов, каменотесов, раз в столетие — Данте или Гарибальди. Данте и Гарибальди живут в свое Время. Но Время этих женщин не кончается: их дочери продолжают его.
Ге не оставил нам имени молодой итальянки. Наверно, его и не нужно знать. Наверно, Ге, когда писал портрет, много думал о стране, о народе, с которым десять лет прожил.
Имя молодой итальянки не больше сказало бы нам, чем имя Петрункевич-Конисской.
Чужие имена.
Неизвестный молодой человек, написанный Дюрером, больше говорит о себе и о человечестве, чем иные с детства знакомые исторические лица, многократно и похоже изображенные.
Немного хронологии
Ге писал в воспоминаниях, что Герцен «исполнил эти пять сеансов с немецкой аккуратностью».
И дальше:
«Первый сеанс состоялся, и благодаря этому обстоятельству у меня сохранилось единственное письмо его, которое я сохранил, как драгоценность. Вот оно:
„7 декабря. Суббота, вечер.Почтеннейший Николай Николаевич, сегодня искал ваш дом и не нашел. Доманже взялся доставить записку. Дело в том, что Тата нездорова, а ко мне навязался скучный гость завтра. Позвольте прийти в другой день. Я остаюсь еще неделю, а может, и больше. При сем с почтением русская половина „Колокола“.
Весь ваш А. Герцен“»Воспоминания о Герцене Ге заканчивает так:
«Уезжая, он прислал мне с сыном своим А. А. свою книгу, с надписью крепким почерком, карандашом:
„Посылаю вам в знак глубокой благодарности мой экземпляр „Былое и думы“, в знак дружественного сочувствия. 16 февраля 1869 г. Флоренция“».
Автограф, судя по всему, датирован ошибочно: надо не 1869 год, а 1867-й. В феврале 1869 года Герцен во Флоренции не жил. Четвертый том «Былого и дум» вышел как раз в конце 1866 года. В январе 1867 года Герцен просит прислать ему во Флоренцию некоторое количество экземпляров нового тома. 10 февраля он помечает в бумагах, что нужно отправить книгу «Былого и дум» М. К. Рейхель. Тут же пометка: «Книгу Ге». Возможно, в «Северном вестнике», где печатались воспоминания Ге, опечатка. Вряд ли сам Ге ошибся именно в этой дате; тут по его логике должен стоять 1867 год.
Воспоминания о встречах с Герценом, написанные художником через четверть века после самих встреч, воспринимаются, несмотря на их отрывочность, нерасшифрованность, как нечто целое, даже сюжетное. Это — от «обрамления», от начала и конца. В самом деле… Нежданно-негаданно отворяется дверь и является Герцен — кумир, мечта. В первый же вечер, едва оправившись от волнения, Ге умоляет его позировать для портрета. Герцен согласен, но какая-то неувязка с первым сеансом — и в руках художника ценнейший документ, записка Герцена. Затем все идет своим чередом: портрет написан, Герцен покидает Флоренцию — «мы простились, расставшись друзьями», — посылает Ге книгу с дарственной надписью (еще один автограф — завершающий) и… «Больше я его не видел, но не забуду никогда».
Старик Ге ошибался — то ли память подвела, то ли чрезмерно заботился о «литературной форме» своих воспоминаний.
По двум датам, которые он приводит, получается, что портрет написан между 7 декабря 1866 года и 16 февраля 1867 года.
Но мы уже знаем, что 7 декабря 1866 года Герцена еще не было во Флоренции — он приехал 18 января 1867 года. Мы уже знаем, что Ге запамятовал историю первого сеанса, знаем, что первый сеанс состоялся 8 февраля 1867 года. Если Ге не ошибся и сеансов было действительно пять, как он писал (а за ним все, кто изучает историю портрета Герцена), то попробуем их примерно датировать.
Сохранилось двадцать пять писем Герцена, написанных в течение того времени, пока Ге работал над его портретом. Из них более половины, тринадцать, одному лицу — Огареву. Если предположить, что Герцен сообщал Огареву что-либо о портрете после каждого очередного сеанса, то хронология работы над портретом будет выглядеть приблизительно так:
8 февраля 1867 года — первый сеанс. Письмо к Огареву подкрепляется письмом к Н. А. Тучковой-Огаревой от 9 февраля: «Известный живописец Ге просил дозволение снять мой портрет „для потомства“, как он говорит. Это художник первоклассный — я не должен был отказать. Вчера он начал…»
13 февраля Герцен пишет знаменитое: «Портрет идет „rembrandtisch“». Видимо, второй сеанс был в этот день или накануне. В письме к дочери Лизе от 14 февраля Герцен сообщает: «Портрет Дяди[23], такой большой, Ге сделал или делает отлично». «Rembrandtisch», «сделал или делает отлично» — видимо, работа с первых же сеансов продвинулась очень значительно.
17 февраля Герцен пишет о портрете, как о законченном: «Портрет Ге — chef-d’euvre. Тата будет его копировать». Сеанс был, видимо, 15 или 16 февраля. 17 февраля Герцен уезжал в Венецию на десять дней. Перед этим отъездом, прерывая сеансы, Герцен и подарил художнику «Былое и думы» с благодарственной надписью, а вовсе не перед окончательной разлукой.
28 февраля Герцен возвратился из Венеции. Он уже торопится покинуть Флоренцию, его задерживает портрет: «Кончу портрет и буду собираться».
Очередной сеанс состоялся, скорее всего, между 1 и 4 марта. Должно быть, об этом сеансе вспоминает Ге: «Вернулся из Венеции, рассказал, как виделся с Гарибальди, которого осаждают все с 4 часов утра, увидел старых друзей при нем…» Между 4 и 7 марта сеансов не было. «Я три дня не существовал, — пишет Герцен 7 марта Н. А. Тучковой-Огаревой, — жар, сонливость, грудь, кашель… Завтра иду окончить портрет…»
8 марта, через месяц после первого сеанса, состоялся последний: «Портрет кончен. Это — первоклассный chef-d’oeuvre».
Ну, а как же записка Герцена от 7 декабря, в которой он назначает свидание Ге, — ведь не выдумка? Нет, не выдумка, но только написана она годом позже, чем впоследствии казалось Ге, в субботу[24], 7 декабря 1867 года. И оттого, что годом позже, становится для нас куда интереснее. Записка, датированная декабрем 1867 года, означает, что с завершением портрета отношения Герцена и Ге не прекратились. Через восемь месяцев, оказавшись во Флоренции, Герцен хочет встретиться с Ге, ищет его и, что еще важней, посылает ему «русскую половину „Колокола“», а говоря точнее — «Русское прибавление к „Колоколу“», которое, хоть и имело дату «1 января 1868 г.», было на самом деле отпечатано 5–6 декабря 1867 года.
Надо думать, не случайно Герцен передает Ге первый номер «русской половины». Письма Герцена свидетельствуют, что он хотел, чтобы Ге получал его издания. Через год, в ноябре 1868 года, он просит сына, чтобы тот «раздал всем» последний номер «Колокола». И тут же спрашивает: «Кстати, не прислать ли „Полярную звезду“ Забелло, Ге и Железнову? Прежние ли у них адресы?»
Говоря о присылке своих изданий, Герцен почти неизменно упоминает всех троих — Ге, Забелло и Железнова. Видимо, из русских художников он сошелся с этими тремя всего ближе. И надолго. Зимой 1869 года Герцен снова беспокоится, прислана ли «Полярная звезда» для Ге, Железнова, Забеллы.
Близость с Герценом была не безопасной. Ге недаром вспоминает: «Каждый раз я его провожал, когда он уходил от нас. Он был так деликатен, что заметил мне, что я не боюсь ходить с ним. Я его успокоил, тем, что мне нечего бояться: политикой я не занимаюсь, а дорожить тем, что мне дорого, я свободен».
Пармен Забелло тоже как будто не занимался политикой, однако агент Третьего отделения во Флоренции Бутковский донес, что скульптор выходил с Герценом из его квартиры. Было предписано при возвращении Забелло в Россию «произвести у него на границе строгий обыск и по результатам последнего поступить».
На книге «Былого и дум», подаренной Ге в февраля 1867 года, Герцен написал — «в знак дружественного сочувствия».
Слово «сочувствие» сто лет назад означало не столько «сострадание», сколько «сопереживание» и даже «единомыслие». В словаре Даля читаем: «Сочувствовать — чувствовать согласно, сообща, заодно; понимать, мыслить одинаково…»
Вокруг портрета
Стасов говорил про портрет Герцена: «Ге писал его с любовью, преданностью и верою — такие портреты не могут не удаваться». Но сам Герцен лучше определил обстановку, в которой писался портрет, — «дружественное сочувствие».
Любовь, преданность, вера — всего этого не отнимешь, но с ними можно писать Герцена-кумира, а тут «дружественное сочувствие». Ну как не порадоваться, что десять лет назад распаленный слухами академический пенсионер не «устремился» в Лондон, что благодаря интуиции художника и обстоятельствам он приобрел десять лет, чтобы понять и почувствовать Герцена.
Когда Герцен писал, что «портрет идет rembrandtisch», он вряд ли имел в виду особенности колорита. Для Герцена был в искусстве особый «мир Рембрандта» (и Шекспира — он их часто ставил рядом) — это был «мир, воспроизводящий жизнь во всей ее истине, в ее глубине, во всех изгибах света и тьмы».
Известно высказывание К. Маркса и Ф. Энгельса: «Было бы весьма желательно, чтобы люди, стоявшие во главе партии движения, — будь то перед революцией, в тайных обществах или в печати, будь то в период революции, в качестве официальных лиц, — были, наконец, изображены суровыми рембрандтовскими красками во всей своей жизненной правде. Во всех существующих описаниях эти лица никогда не изображаются в их реальном, а лишь в официальном виде, с котурнами на ногах и с ореолом вокруг головы. В этих восторженно преображенных рафаэлевских портретах пропадает вся правдивость изображения»[25].
Если бы десять лет назад Ге бросился в Лондон, Герцену грозили бы ореол и котурны. Когда замышлялась «Тайная вечеря», очеловечивался Христос, осмысляемый через Герцена. Но и сам Герцен осмыслялся с годами — его идеи, стремления, прекрасный и величественный внешний рисунок его жизни и вместе скрытые от многих глаз страдания, ошибки, неудачи, порой бессилие. От этого Герцен становился ближе, яснее, человечнее, то есть много больше, чем обыкновенный кумир.
Когда человек приходит в мастерскую — позировать, его связи с миром как бы обрываются. Человек за пределами мастерской существует сам по себе и еще во мнении десятков, иногда сотен людей. Сидя перед портретистом, человек существует только в представлении художника, только в отношении к нему художника.
Но и художнику нелегко найти человека. Достоевский писал: «Портретист усаживает, например, субъекта, чтобы снять с него портрет, приготовляется, вглядывается. Почему он это делает? А потому, что он знает на практике, что человек не всегда на себя похож…» Хорошо, когда портретист уверен, что сидящий перед ним человек, «субъект», похож на себя. Хорошо, когда сеанс не выхватывает человека из жизни, а как бы естественно вписывается в его жизнь. Так Ге писал Герцена. Сеансы были не самоцелью, а естественной, закономерной частью взаимоотношений.
Стасов, прочитав воспоминания Ге, негодовал: художник не рассказал «самого важного, самого интересного, самого любопытного» — «что именно было высказано Герценом»? «О чем „обо всем“ было у них говорено»?
Мы больше знаем о Герцене, чем Стасов; работы Герцена доступны, издана его переписка; то, в чем Стасов укорял Ге, стало, пожалуй, достоинством воспоминаний художника. Четверть века спустя он не придумывал речей Герцена (теперь, пользуясь сочинениями и письмами Герцена, а также многочисленными мемуарами, можно придумать их весьма достоверно), Ге не пересказывал, что говорил Герцен, только припомнил, о чем он говорил. Этот перечень лучше и точнее свидетельствует о близости Герцена и Ге, чем диалоги, сконструированные по «первоисточникам».
«Политические горизонты сузились», — пишет о Герцене Ге.
«Колокол» на исходе. Русскому «Колоколу» оставалось жизни три месяца. Через полгода Герцен, ссылаясь на сведения, полученные из России, напишет Огареву горькие строки: «…решительно никто не занимается „Колоколом“ и не знает его… Если нас и меня поминают, то по „Полярной звезде“ и по „Былому и думы“. Как я крепко ни держался, а не хочется воду толочь».
Выйдет еще один номер «Полярной звезды». В те дни, когда Ге принялся за портрет, шли переговоры Герцена и Огарева с «молодой эмиграцией» о совместном издании. Из этого ничего не получилось. Отношения с «новым поколением» были сложными и трудными. Они изучены весьма подробно. Для нас важно, что Герцен и об этом делился с Ге. Даже жаловался на «оскорбления со стороны „женевских эмигрантов“». До появления брошюры Александра Серно-Соловьевича против Герцена оставалось два месяца. Живя во Флоренции, Герцен знал, что брошюра печатается.
Герцен рассказал Ге о встрече с Чернышевским, о знаменитой встрече, которая до сих пор привлекает внимание исследователей. Для Герцена это было сокровенное — определение своего места в движении, в развитии, определение границ своим возможностям, подведение точного итога силе своей и своему бессилию. Ге запомнилось: «Он его не полюбил; ему показался он неискренним, „себе на уме“, как он выразился». Ге, наверное, запомнил правильно. Тучкова-Огарева подтверждает: «Герцену думалось, что в Чернышевском недостает откровенности, что он не высказывается вполне; эта мысль помешала их сближению, хотя они понимали обоюдную силу, обоюдное влияние на русское общество»… Расправа над Чернышевским многое изменила в отношениях. Любопытно, что буквально накануне встречи с Ге, Герцен получил портрет Чернышевского, который ему прислали во Флоренцию. Тремя годами раньше, после объявления приговора Чернышевскому, Герцен писал: «Неужели никто из русских художников не нарисует картины, представляющей Чернышевского у позорного столба? Этот обличительный холст будет образ для будущих поколений…» Можно не воссоздавать бесед, но предполагать их…
Доподлинно известно, что возле «Тайной вечери» шел разговор о разрыве Герцена с Грановским. О предательстве Каткова — издатель «Московских ведомостей», «гнусный доносчик» и «обер-шпион» был когда-то либералом, «Белинский вел его, возлагал на него свою надежду». Скорее всего, они говорили и об Иване Сергеевиче Аксакове, том самом человеке «от Герцена», которого десять лет назад встретил Ге. Накануне отъезда из Флоренции Герцен написал «Письмо к И. С. Аксакову» (месяц спустя «Ответ И. С. Аксакову»). Герцен писал, что, если бы не «какая-то неискореняемая память сердца», он отвечал бы Аксакову «жестко». Однако письмо начинается словами: «Мы с вами совершеннейшие противники». В «Ответе И. С. Аксакову» Герцен писал о побивавших его каменьях, «на которых часто оставались следы пальцев, очень недавно жавших с дружбой и сочувствием наши руки», о том, как с изменением «всей атмосферы» изменились (изменили!) те, с которыми он начинал.
Все эти разрывы, предательства, споры, непонимания — факты не личной жизни Герцена. Они принадлежат истории Времени.
Ге упоминает в своих записках и о той стороне жизни Герцена, которая была достоянием лишь людей самых близких… «Семейная жизнь сломилась: дети… дети всегда живут своею жизнью и подтверждают истину: пророк чести не имеет в доме своем… Он страдал от того узкого мещанства, которым жили в круге знакомых и приятелей его детей».
Дневниковые записи шестидесятых годов Герцен назвал однажды «Книгой Стона». Он говорил, что в этих записях только «боль — беда — тревога». Тема записей — семейный разлад. Отношения в семье сложные и тяжкие — мучительные. Еще мучительнее другое: семья, воспитание детей, связь поколений долгое время составляли предмет его дум — теперь идеалы, к которым он приходил, рушились в стенах его дома. Оставалось горькое сознание: «Мы ничего не создали, не воспитали». Он страдал не только оттого, что с детьми жили порознь; больше оттого, что духовно были порознь. Дети не стали наследниками, просто переняли кое-что по наследству.
В «Ответе И. С. Аксакову» Герцен писал, что отдал свою жизнь России, «для нее работал, как умел, всю молодость и двадцать лет на чужбине продолжал ту же работу». Дети жили и мыслили вне России, они знали о ней от других, становились иностранцами. Герцен радовался научным познаниям сына Саши, однако напоминал, что специализации мало, нужен «серьезный философский общий взгляд». Он приводил сыну в пример Пирогова, который, будучи крупным ученым, и на общественном поприще самоотверженно служил России. Саша выступал с лекциями, боролся по-своему в науке, но становился благополучным швейцарским профессором.
В детях связь с Россией обрывалась. Герцен говорил: «Эмиграция для русского человека — вещь ужасная; говорю по собственному опыту: это — не жизнь и не смерть, а это нечто худшее, чем последняя, — какое-то глупое, беспочвенное прозябание».
Семейные дела Герцена тоже выпирали за рамки его личной жизни. Пеняя на себя и на обстоятельства, он, однако, видел в своей личной жизни отражение «среды и времени нашего развития».
Вот какого Герцена знал и видел Ге, когда писал в течение пяти сеансов человека с высоким лбом, широким носом и двумя резкими чертами по бокам рта, скрытого усами и короткой бородой.
Дочь Герцена Тата, присутствовавшая на всех сеансах, первая заглянула в портрет до самого дна, первая сказала то, что повторяли потом историки искусства и рядовые зрители:
— Вот это будет историческая картина!
Десятью годами раньше молодой художник Ге, только что приехавший в Рим, давал о себе сведения для адресной книги. За спиной были конкурсные академические работы, два десятка портретов — «Тайная вечеря» ему еще и не грезилась, — но в графе «специальность» он смело написал: «Историческая живопись»[26]. Портрет Герцена не меньше, чем «Тайная вечеря», подтвердил правоту Ге.
В 1887 году Л. Н. Толстой писал Ге:
«Все последнее время читал и читаю Герцена и о вас часто поминаю. Что за удивительный писатель. И наша жизнь русская за последние 20 лет была бы не та, если бы этот писатель не был скрыт от молодого поколения. А то из организма русского общества вынут насильственно очень важный орган».
Ге помогал новым поколениям обрести Герцена.
Осуществление
Спор о том, что лучше — овал или угол — давний. Иногда спорят открытым текстом, даже стихи об этом пишут, иногда суть спора уходит в подтекст.
В конечном счете противопоставление «рембрандтовского» и «рафаэлевского» в искусстве — тоже своего рода противопоставление угла и овала. Время от времени спорящие сходятся на том, что завершенность овала и резкая тревожная острота угла могут не исключать друг друга, более того — существовать в единстве.
Портрет Герцена внешне овален. Овальная форма требует от художника композиционного мастерства; зрителем овальный портрет воспринимается иначе, нежели прямоугольный.
А Ге, видимо, очень дорожит этой овальностью. Высокий, округло вылепленный лоб. Округлый контур бороды, прически. Округловатая, тающая на темном фоне фигура с плавно льющейся линией плеч. Даже золотая цепочка от часов, ярко выхваченная на темной одежде, — тоже какая-то часть овала. Но в глаза все это не бросается, это уже потом просматривается.
Бывают детали, которые требуют, чтобы их заметили, расшифровали. Вроде раздавленного попом пасхального яичка в перовском «Крестном ходе». Овальные контуры портрета Герцена обычно не замечаются. На них обращают внимание лишь после долгого рассматривания, чаще узнают о них из статей и от экскурсоводов. Многие люди, помнящие портрет Герцена, вообще не помнят, что он овален. Округлые линии бороды, плеч, плавная кривизна цепочки вовсе не рассчитаны на то, чтобы их заметили, тем более расшифровывали. Они не для того нужны, чтобы помочь что-то разгадать в портрете, а для того, чтобы обеспечить восприятие. В том и мастерство Ге, что важное овальное построение он сумел сделать незаметным, естественным. Малейший нажим — и зритель говорил бы не с Герценом, а с овальным портретом Герцена.
Человек, подойдя к портрету, видит только лицо Герцена. Свет брошен на лицо, остальное приглушено, скрадено темным нейтральным фоном. Голова наклонена вперед — и тем как бы приближена к зрителю; положением головы подчеркивается мощный лоб мыслителя. Руки (излюбленное портретистами «второе лицо») не написаны; портрет сосредоточен. Лицо Герцена привносит в овальный портрет резкую и острую «угольность». Эта сосредоточенность, образованная композицией и светом, это словно выхваченное из мрака прекрасное лицо манит, привлекает к себе, не отпускает.
Герцен тяжеловато сидит в кресле, даже развалясь; явно не позирует и смотрит как-то мимо. Очень прост, будничен, естествен. Может быть, интимен: «однажды во Флоренции Герцен зашел к своему доброму знакомому Ге, художнику», — есть и такая интонация.
Простота, естественность, сдержанная интимность будто разрешают и, того более, зовут вступить в общение с портретом: это не «портрет в себе», а «портрет для нас».
Герцен познается постепенно — не от разгадывания деталей, а как в жизни — по мере сближения.
Массивный, слегка выставленный вперед лоб велит задуматься не только о могучем движении мысли, но и о скрытой энергии, силе, непоборимости. Глаза, пожалуй, скорбны, но это не та скорбь, что гасит взор, это страстная скорбь, воля не парализована, мгновение — и вспыхнет пожар. И этот странный взор — не в сторону и не в глаза зрителю, а чуть мимо; в этом взгляде — интерес ко всему вокруг, и углубленность в себя, и особая зоркость: Герцен видит нечто, что для других недоступно.
Почему он так вольно и прочно расположился в кресле — утомлен? Спокоен? Уверен в себе? Или решил, что дело сделано — нечего больше «толочь воду»?
Поначалу Герцен кажется европейцем, европейским интеллектуалом девятнадцатого столетия, национальное в нем не подчеркнуто. Разве только широкий, простоватый нос, который сам Герцен, по словам Ге, называл русским. Природная непокорная клочковатость бороды и прически не сразу угадывается. Но главное опять-таки не во внешних деталях. Национальное в портрете идет из глубины, изнутри, как и в «Тайной вечере», в героях которой критики увидели однажды русских землепашцев и северных мужиков. Наблюдение М. В. Алпатова, обнаружившего сходство между портретом Герцена и перовским «Фомушкой-сычом», поразительно и, по существу, составляет открытие.
Мольер говорил: «Портреты сочинять труднее всего, тут требуется глубокий ум». Требуется еще глубина чувства. У Мольера, по меткому замечанию Пушкина, «скупой только скуп». Ге шел за Шекспиром. Он писал не «главную идею Герцена», подчиняя этой задаче все, что давало ему искусство живописца. Он писал просто Герцена — и писал просто, зато в каждом мазке нес на полотно всего Герцена. Герцен для художника был не «кем-то», но человек был, человек во всем. Такого Герцена нужно было вобрать в себя и в себе удержать. Такого Герцена на пяти сеансах не придумаешь. То, что ощутилось в первое мгновение как овально-гармоническое, вдруг оборачивается остро трагедийным и тревожным, напряженными думами, большими страстями.
Гармония и противоречия могут уживаться в единой личности, как существуют в единстве гармония и противоречия исторического этапа, эпохи, Времени; а Герцен и был не только сам по себе — личностью, но эпохой, этапом, Временем — «важным органом в организме русского общества». И был, к тому же, Герцен сам по себе — мудрый философ и человек живого чувства, всеобъемлющий ум и человек своего сегодня. Белинский все подбирал определения этому единству: «Мысль, глубоко прочувствованная», «задушевная мысль», «мысль, как чувство, как страсть», наконец — «осердеченный ум».
…Рассказывают: чтобы провезти портрет в Россию, Ге подрисовал Герцену анненский крестик на шею. На таможне Герцена приняли за важного чиновника.
Рассказывают также (более достоверно), что Ге заклеил портрет тонким листом бумаги и написал на нем пророка Моисея.
Первый рассказ остроумен, смешон — это анекдот, не более.
Второй остроумен и вместе с тем символичен. Почему, торопясь в путь, Ге наскоро, почти не задумываясь (а может быть, вполне сознательно!) набросал поверх заклеенного портрета Герцена именно пророка Моисея?
Мог бы, кажется, и другое что — Христа в терновом венце, успокоенную богоматерь с младенцем, — а он именно Моисея, пророка, освободителя, обращавшего к людям слово свое и умершего на границе земли обетованной, куда ему не суждено было войти.
Спор, завершенный художником
Некоторые специалисты считают, что портрет физиолога Шиффа по живописи сильнее, чем портрет Герцена. Но портрет Шиффа, как утренняя звезда, меркнет в сиянии солнца.
Ге писал Шиффа сразу следом за Герценом. Но вряд ли что-нибудь изменилось, если бы портреты были написаны в обратном порядке. Ведь портрет Герцена не просто превосходный портрет, но портрет — Герцена. Художник Нестеров говорил, что портрет получается, когда «модель по душе». Такая модель, как Герцен, не только Ге по душе — целому поколению.
Трудно сказать также, каким получился бы портрет Шиффа, будь он написан прежде Герцена. Портрет Герцена в жизни Ге — вторая «Тайная вечеря», водораздел. Работая над ним, Ге впервые понял, как много можно и нужно вложить в портрет. Для того чтобы понять это, надо было писать не кого-нибудь — Герцена.
Зато после он писал других уже с этим пониманием.
Среди людей, близких Герцену во Флоренции, трудно найти более несхожих, чем Шифф и Доманже.
В январе — феврале 1867 года у Шиффа происходила дискуссия о свободе воли. 25 января Герцен сообщал Огареву: «Вчера у Шиффа был rendez-vous для спора о libre arbitre с Доманже. Шифф был сплендиден, да, он большой талант и большой логик. Разумеется, он Доманже победил — и тот (несмотря на французское многоязычие и свое умноязычие) сдался, что в спорах бывает редко». Характерно, что из всего герценовского кружка спорить с Шиффом вызвался именно Доманже.
Точно известно, что говорил Шифф: на основании проведенных вместе с Герценом-сыном исследований по физиологии нервной системы он отрицал свободу воли. Он был представителем того естественно-научного (или, как его любят называть, «вульгарного») материализма, который все проблемы человеческого духа брался решить в химической лаборатории и анатомическом театре. Доманже, судя по всему, стоял за торжество духа. А может быть, и не «стоял» — просто жаждал опровергнуть Шиффа. Герцен иронизировал по его адресу, потому что сразу же не принял его точку зрения. Герцена увлек диспут — он сообщал о нем Огареву, просил и его высказаться. Немного погодя он и сам напишет несколько работ о свободе воли.
Вторая дискуссия у Шиффа состоялась через четыре дня после первой. Герцен остался ею недоволен. Четыре дня перерыва были для него временем серьезных раздумий. Он даже не называет имени победителя: «Я начинаю думать, что спор опять-таки номинальный». «Сплендидный» — то есть великолепный — Шифф убедил Герцена немногим более, чем поверженный Доманже.
Шифф был учен и талантлив, у него под руками было лучшее доказательство — научный материал, он точно прокладывал курс от предпосылок к выводам. Герцен не случайно каламбурил — переводил его фамилию с немецкого: корабль.
Доманже был широко образован, имел критический склад ума, прекрасно спорил. Он не многое утверждал, зато опровергал умело. Шиффа он не опроверг, но и Шифф не убедил Герцена.
Оба спорщика были логики. Герцен был диалектиком. Спор остался без победителей.
В «Письме о свободе воли» Герцен раскрывал свой ход мыслей: «Задача физиологии — исследовать жизнь, от клетки и до мозговой деятельности; кончается она там, где начинается сознание, она останавливается на пороге истории. Общественный человек ускользает от физиологии; социология же, напротив, овладевает им, как только он выходит из состояния животной жизни».
Ге, возможно, присутствовал на диспутах у Шиффа, во всяком случае, знал о них. Неизвестно, кого он поддерживал, имел ли свою точку зрения, но сама проблема его, наверно, интересовала. Да и время такое было — шестидесятые годы: люди искусства отзывчиво следили за естественными науками, естествознание выдвигало проблемы, острые, как политика. Но в споре не только выяснялись научные истины, — раскрывались характеры: Герцен, Шифф, Доманже. Потом Ге писал их, одного за другим. На портретах они продолжают спорить.
Шифф — воля, энергия, деловитость: решительный поворот подчеркнуто большой головы, резко очерченный квадратный лоб многого стоят. Возможно, он оторвался от микроскопа, чтобы высказать свое суждение. Его суждения, конечно, весомы. Лицо Шиффа тоже весомо — материально: крупный нос, тугие щеки, мясистое ухо, проросшее сквозь копну волос. Густая, отливающая медью борода струится на плотный живот. Шифф прочен. Такие «корабли» упрямо прокладывают курс. Его мысль тоже должна быть упрямой и точной. Внешне он быкоподобен, как иные из богов. Старый спорщик Доманже сдался недаром.
Одухотворенность Шиффа как бы реализована материально. Он словно раскален изнутри — лицо, волосы, борода, белая манишка. На всем жаркие отблески внутреннего тигля с кипящим золотом. Один знакомый Шиффа утверждал, что он похож на алхимика.
Но и Доманже — по-своему алхимик. Только Шифф ищет золото, а Доманже рассказывает о нем. Шифф — деятель, он раздувает уголь, соединяет реторты и мешает в тигле. Философский ум и великая образованность Доманже уходили в слова. Вода в одном случае сдвигает глыбы, в другом — уходит в песок. Герцен ценил в нем великолепного собеседника, остроумного оппонента, который возражениями помогает противнику идти к истине, литературного редактора, но ощущал и ограниченность его. Вся деятельность Доманже была связана с «многоязычием» — с произнесением слов. Он даже писать редко себя заставлял. Герцен, любя его, над ним иронизировал, иногда резко. Однажды сказал о нем: «Самый плодовито-бесплодный». Ге написал его начинающим говорить: мысль реализуется в слово.
Шифф «материален», а в Доманже передана какая-то бесплотность. Он будто в лунном свете, будто почву потерял под ногами. У него и не было твердой почвы под ногами, он был смолоду изгнанник. Участник революции 1848 года, вынужденный покинуть Францию, он жил в чужих странах и при чужих людях. Он был собеседником Герцена, правил французские переводы его статей, с ним спорил, но покупал хлеб на деньги Герцена, которые получал, как учитель его сына.
Когда шел спор о свободе воли, Шифф был профессором, а Доманже содержал маленький пансион.
В назначенный день Доманже приходил к Шиффу — они спорили о свободе воли. Потом пили чай с бисквитом и говорили о другом.
Ге не ставил своей целью изобразить диспут, он просто писал Шиффа, Доманже — спорили характеры, биографии, спорили характеры, созданные биографиями. А Ге писал дорогих людей своего круга, людей круга Герцена, которые дружески за одним столом пили чай с бисквитами и согласно беседовали «о другом».
Это люди одного круга, где ум высок и чувства возвышенны. Их роднит общий настрой ума и чувства, хотя об одном они порой мыслят разно. Спор у них без победителя, хотя Шифф использует как доказательство результаты физиологических опытов и анатомических исследований, Доманже строит великолепные словесные схемы, а Герцен диалектикой побивает и того и другого.
Может быть, Ге, когда писал Шиффа и Доманже, невольно продолжал портрет Герцена. Или завершал. Может быть, создавал триптих.
У них у всех затаенная скорбь в глазах. Даже у Шиффа — при всей его «материалистической» определенности и прочности — глаза печальные, усталые. Так победителей не пишут.
Победителем написан академик Павлов на нестеровском портрете. Он, между прочим, опроверг многие выводы Шиффа. Нестеров написал Павлова человеком, которому все ясно. Его жилистые кулаки победны.
В глазах Шиффа какое-то нерешенное главное, вопрос об истине, на который не ответишь, оперируя собак в лаборатории. Скорбь Доманже еще определеннее — доблестный спорщик ничего здесь не опровергнет и не утвердит. Лишь взгляд Герцена — чуть мимо, из-под упорного лба — вселяет надежду…
Уходила в былое эпоха Герцена — все еще блистательная, умная, страстная, но уже ослабевшая, как пуля на излете. «Колокол» был обречен. С неимоверными усилиями рождалась последняя книга «Полярной звезды». В ней осталось всего два автора — Герцен и Огарев. В 1868 году Герцен писал Огареву: «Наш жернов останавливается, ручьи текут в иных местах: отправимся же на поиски других земель и других источников».
Может быть, Ге, когда писал Шиффа и Доманже, прощался с Герценом, с его Временем, в котором хорошо и полно прожил десять лет, из которого многое унес с собой.
Почти одновременно с Доманже Ге писал художника Мясоедова, скульптора Чижова, отставного майора Чиркина, будущего деятеля Товарищества передвижных выставок.
Это он здоровался со своим Завтра, с эпохой, в которую ему предстояло войти.
Русская история
И разве история — не та же мысль и не та же природа, выраженные иным проявлением?
А. И. ГерценПрофессор Костомаров
Каждое утро, в шесть с минутами, из старого дома на 9-й линии Васильевского острова торопливо выходил человек. Улицы были еще пустынны. Человек шагал быстро, уверенно — маршрут был привычен. Маршрут был кольцевой: через полчаса человек возвращался к дому и, спеша, скрывался в подъезде.
Он появлялся снова в пять часов пополудни. Снова обегал квартал. На ходу он жестикулировал, иногда произносил что-то вслух. Жесты его были порывисты и несколько странны.
Зимой, случалось, к крыльцу подавали сани, тогда вместо пешей прогулки (скорее, пробежки) он катил по проспекту до гавани и обратно, нигде не останавливаясь и нетерпеливо понукая кучера. Кучер гнал, как на пожар.
Возвратись, торопливый человек вбегал в подъезд, поднимался единым духом по лестнице. На двери его квартиры — медная дощечка: «Н. И. Костомаров».
Николай Иванович Костомаров быстро сбрасывал в прихожей пальто и, не задерживаясь, пробегал в кабинет — к письменному столу. На столе и возле него, на стульях, на полу, в беспорядке лежали книги. Стопки книг поднимались, как крепостные стены. Николай Иванович, стремительно обрушивая их, пробирался в кресло и тотчас начинал писать.
Почерк у него был очень неразборчивый — он спешил. Особенно плохо ему удавались цифры. Он потом сам не мог отличить «3» от «5» и «4» от «7». У него не было ни терпения, ни времени выводить цифры. Ему вообще постоянно не хватало времени. Дни были до отказа набиты делом.
Делом Николая Ивановича Костомарова была история.
Герцен писал о Грановском: он «думал историей, учился историей». Костомаров был тоже одержим историей. Он ни на минуту не желал расставаться с нею. Когда его навещали друзья, он откладывал рукопись и, не утруждая себя светской беседой, рассказывал о «смутном времени» или о разделе Польши. Друзья называли эти рассказы «историческими разговорами».
В рассказах Костомарова история оживала. Он не любил бесстрастного изложения фактов, делового перечисления дат. Герои его «разговоров», волнуясь, расхаживали вместе с ним от письменного стола до круглого — того, что стоял возле дивана, обитого серым сафьяном.
…Тишайший Алексей Михайлович неслышно ступал мягкими сапожками по тесным и темноватым кремлевским переходам. Стенька Разин гремел крепкими словами, перебирая богатую добычу — примерял цветные кафтаны, отороченные собольим мехом. Богдан Хмельницкий расчетливо и жестко вел переговоры с крымским ханом Ислам-Гиреем; Ислам-Гирей хитрил, щурился, вытирал ладонью пот с желтого лба. Польские паны азартно хватались за сабли, звенели шпорами, делили заранее Русь и Украйну.
Люди прошлого оживали в беседах Костомарова — он знал их наизусть: быт, одежду, походку, речи.
Мать Костомарова, Татьяна Петровна, обожавшая сына и безмерно им обожаемая, готовила под его руководством «исторические блюда» — какую-нибудь солянку из осетрины с визигой и шафраном по старинной росписи царских кушаньев, варила мед.
Женат Николай Иванович не был. В 1847 году, накануне свадьбы, его арестовали по делу Кирилло-Мефодиевского братства. На закате жизни он женится на той, которая была когда-то его невестой. К тому времени она овдовеет. Он ждал двадцать восемь лет. А может быть, не ждал. Просто было некогда. Жизнь ушла на историю.
Над серым диваном висел большой гравированный портрет Тараса Шевченко. Его и Костомарова арестовали в один день. Пока Костомаров, сосланный в Саратов под надзор полиции, занимался историей и этнографией, Шевченко мучился и тосковал в казармах и крепостях. Шевченко и Костомаров были в одном братстве, но шли к разной цели. Шевченко по душе были маршруты не кольцевые, а устремленные в будущее. Вскоре после амнистии он ушел из жизни, стал историей. Грустный Шевченко с портрета задумчиво слушал речи Николая Ивановича.
А Костомаров любил фантазировать на исторические темы: что произошло бы, если бы… Он вдохновенно придумывал историю, сочинял факты подробно и зримо, точно был их очевидцем.
Костомаров был не только историком — еще писателем: беллетристом и драматургом, переводчиком Байрона. Исторические труды его написаны живо и увлекательно. Костомаров часто повторял, что занимается историей, а не «археологией»: для него важно проникнуть в психологию своего героя, а не хладнокровно пристроить на нужное место нужный документ. Труды Костомарова читали нарасхват, как модные романы; его называли «лириком». Эпически строгий и обстоятельный Соловьев относился к нему со сдержанным, усмешливым недружелюбием.
В кругу своих Костомаров говорил много и необыкновенно горячо. Вскакивал с кресла, бегал по комнате, снова присаживался. Он порывисто жестикулировал, беспрестанно поправлял очки в тонкой золотой оправе, резко встряхивал головой, откидывая со лба плохо причесанные волосы. Лицо его подергивалось. Речь Николая Ивановича, под стать его движениям, была порывиста и неразмеренна: он то выстреливал слова, то задумчиво растягивал их, будто отыскивая самые подходящие, то вдруг вовсе умолкал на мгновение и, не меняя позы страстного рассказчика, как бы торопливо собирался с мыслями, чтобы снова броситься в разговор.
Таким написал его Ге в 1870 году.
На портрете Николай Иванович резко сцепил руки, привыкшие к порыву, к движению; плотно сжав губы, напряженно ушел в себя; ответ еще, кажется, не найден, только нащупан, еще не сбежало с лица тревожное облако сомнения, но мгновение кончается — и Николай Иванович, сминая накрахмаленную манишку, уже подался вперед — продолжать. Помятая манишка очень запомнилась первым зрителям портрета — видно, метко была найдена и схвачена.
Былое и думы
При Николае I даже русская история была расписана в должном порядке, как военный парад или придворная церемония. Историческим деятелям, согласно табели о рангах, присвоили чины и звания, события расставили на плацу, как полки. Было указано, о каких фактах прошлого следует говорить и писать и какое давать им толкование. Прошлое оказалось нужным только для того, чтобы подтвердить правильность и законность настоящего. Когда Пушкину для «Истории Петра» понадобились некоторые «секретные бумаги» более чем столетней давности, вопрос о «допущении» его в архивы решался графом Нессельроде, графом Блудовым и самим царем. История диктовалась свыше, как приказ.
После смерти Николая общество, окрыленное надеждой, устремилось мыслями в будущее. Его по-разному видели, избирали разные пути к нему. Понадобилось узнать прошлое, чтобы понять настоящее, найти правильный путь. Но предстояло еще заново открыть прошлое. Шагая по плацу мимо стоящих «смирно» полков, трудно разобраться в чем-нибудь, кроме формы одежды.
Н. Эйдельман, современный исследователь изданий Герцена и Огарева, пишет: «Было две российские истории: явная и тайная. Первая — в газетах, книгах, манифестах, реляциях. Вторая — в анекдотах, эпиграммах, сплетнях и, наконец, в рукописях, расходящихся среди друзей и гибнущих при одном появлении жандарма… Превращение тайного в явное вообще было главным делом Вольной печати с самого ее зарождения… Былое, заимствованное из официальной печати и процеженное сквозь цензуру, — скудный, порою безнадежный источник».
В российской неофициальной печати, хотя и подневольной, тоже старались, как умели: публиковали документы, исследования, полемические статьи и заметки. Ширился плацдарм: с 1858 года начали выходить «Библиографические записки» А. Н. Афанасьева, с 1863 — «Русский архив» П. И. Бартенева, с 1870 — «Русская старина» М. И. Семевского. Заново открывались факты и события прошлого, даже целые исторические периоды. Шли споры о том, как понимать документ или факт, как правильнее воссоздать событие, период. Чернышевский, предвидя поворот, писал еще до ареста, что России нужны не историки-летописцы, а историки-мыслители. Интерес общества к прошлому подтверждал важность этого замечания. История вдруг стала делом каждого.
Костомаров, посмеиваясь, вспоминал, как в свое время жандармский генерал Дубельт говорил ему на следствии: «А ваши лекции, мой добрый друг, — хороши! Вишь, какие завиральные идеи! Читали бы студентам грамматику да арифметику, чем такие премудрости!» Теперь даже жандармские генералы понимали, что без «премудростей» грамматикой да арифметикой не обойдешься.
…Ге приходил к Костомарову, когда хотел; вообще-то Николай Иванович принимал по вторникам. Ге располагался поудобнее на сером диване, слушал Николая Ивановича; иногда, если удавалось того перебить, сам говорил много и горячо. Во время разговора оба курили без передышки. Папиросы у Костомарова были хороши — крепкие и вкусные, — он держал их в черной лукутинской коробке с портретом царя Алексея Михайловича на крышке.
Ге познакомился с Костомаровым еще в середине сороковых годов: Николай Иванович преподавал ему историю в киевской гимназии[27]. Костомаров уже тогда был одержим. «Он заставил чуть не весь город полюбить русскую историю», — писал Ге. По странности случая, Анна Петровна тоже была ученицей Костомарова. В 1857 году они встретились в Париже, на улице. Анну Петровну Костомаров припомнил, а Николая Николаевича — нет. Ге узнал Костомарова в толпе, сзади, по «нервным движениям рук». Когда Ге перебрался из-за границы в Петербург, они окончательно подружились и дружили со свойственной и тому и другому горячностью — с записочками, требующими немедленного свидания («Я к вам приду… Хочется душу отвести», «Я жажду вас видеть…»), с частыми встречами и многословными откровенными разговорами.
Такой человек, как Костомаров, не мог не влиять на Ге. Ге всегда был податлив рядом с людьми увлеченными; а тут рядом оказался Николай Иванович, обожаемый с детства, — «любимейший учитель»; «когда он вбегал в класс, все замирало, как в церкви». Время тоже немало значило: в начале семидесятых годов личная приязнь к Николаю Ивановичу подкреплялась общим интересом к истории, костомаровской популярностью.
Влияние Костомарова — это не мысли и решения картин Ге на темы русской истории. Дело не в совпадении взглядов.
…Ге возвратился в Россию, отчаявшись в поисках. Русские зрители, недавно прославлявшие его, теперь отвергали; друзья, недавно видевшие в нем провидца, теперь говорили, что в «своей» Италии он поотстал от родины. Вот он явился услышать, понять, почувствовать, чем живет общество и чего ждет оно от художника. Явился, чтобы разобраться, где он «сбился с пути». Он не собирался писать «на потребу» обществу, но хотел ему служить. Он еще полагал, что служить обществу — значит выверить свой пульс по биению его сердца, вместе искать идеал. Через пятнадцать-двадцать лет он будет сверять свой пульс с собственным сердцем, будет приносить обществу свои идеалы. Ему покажется, что он свободен, идет сам по себе. Но в этом тоже будет общественная необходимость. Пока он ищет прямых связей.
Еще недавно Ге полагал, что никто «из живших, живущих» не может быть «всем, полным идеалом». Общественные интересы подсказали Ге мысли о жизни и деяниях «живших», об истории. Он, возможно, не рассчитывал найти идеал в той или иной исторической личности, но надеялся в исторической теме высказать свой идеал. Общение с Костомаровым воспламеняло и поддерживало в Ге интерес к отечественной истории.
Он шел к ней очень по-своему, по-художнически. Написал портрет Николая Ивановича. Написал его матушку — Татьяну Петровну — милую старушку (она удивительно вовремя подает охрипшему от разговоров Николаю Николаевичу стакан густого чая, накрытого золотистым ломтиком лимона, а Николаю Ивановичу — его любимый напиток — «теплоту»: красное вино, разбавленное горячей водой).
Годом позже Ге написал Александра Николаевича Пыпина, историка литературы, общественной мысли, этнографии, двоюродного брата Чернышевского.
Костомаров водил Ге в Публичную библиотеку, в рукописное отделение, где нередко работал. Ге будоражили рукописи, плотные страницы старинных книг — четкий штрих гравюр и крепко стоящий на ногах шрифт, сафьян переплетов.
Николай Иванович просил не то в шутку, не то всерьез: «Когда я умру, похороните меня здесь под полом. А что? Библиотека не хуже Успенского собора или Чудова монастыря, а я не хуже московских митрополитов…»
Они обедали в трактире Балабина на Садовой. Николай Иванович торопливо рассказывал про Успенский собор и Чудов монастырь молодым официантам. Он их называл «младенцами».
Ге, глядя на них, думал, что вот такие соломенноволосые и синеглазые «младенцы» уже многие века назад пахали землю и спускали корабли на Ильмень-озере, возводили храмы и кремлевские стены, воевали со шведами, строили согласно государевой воле город на Неве.
«Младенец» нес на плече блюдо — наверно, медвежатину, ставцы со взваром, может быть — кубки с хмельным зельем петровских ассамблей.
— Пожалуйте!
«Младенец» расставлял тарелки:
— Консоме. Фрикассе.
Ге пробуждался…
Его будоражили вещи — сукно старинных кафтанов, меха, темные пищали и тяжелые ботфорты, столетнего возраста кареты с неистребимым запахом дерева, дегтя и кожи.
Его будоражили улицы — строгие ряды зданий, река, прозрачный воздух, холодное небо, пронзенное сверкающим шпилем. Его будоражил Петербург.
Ге признавался в старости, что Киев вызывал в нем, еще не открывшем в себе художника, образы Древней Руси, Рим воскрешал в памяти героев античной истории, Петербург заставил почувствовать живой образ Петра.
Ге устремился в отечественную историю…
Не он первый. В 1869 году завершено печатание «Войны и мира»; Мусоргский окончил первую редакцию «Бориса Годунова». В 1869 году умер молодой, едва перешагнувший за тридцать, Вячеслав Шварц, один из открывателей новой исторической живописи. Тремя годами раньше умер старый товарищ Ге — не очень удачливый Константин Флавицкий. Легенда, взятая для сюжета «Княжны Таракановой», вопреки — назло! — документу (княжна умерла от чахотки за два года до наводнения), пометка, внесенная в каталог по личному приказу царя и доводящая до сведения, что сюжет заимствован из романа, «не имеющего никакой исторической истины», — все это подчеркивало для зрителей-шестидесятников скрытый смысл картины Флавицкого. Но значение ее не исчерпывается скрытым смыслом. Ге говорил, что «Княжна Тараканова» — «первая русская историческая картина, которая имеет особенный характер духовной жизни, драмы, борьбы душевной».
Расчленение творчества Ге на отдельные, как бы законченные периоды соблазняет простотой и внешней стройностью. Но оно обманчиво. Отдельные периоды в творчестве Ге связаны куда более крепкими нитями, чем кажется на первый взгляд.
Переезд художника в Петербург в конце 1869 года как раз привлекает возможностью провести грань в биографии:
1. Флоренция — Герцен — «Тайная вечеря»;
2. Петербург — Товарищество передвижных выставок — исторические полотна Ге семидесятых годов.
Новое место — новая среда — новые идеи — новые работы.
Но Ге перебрался в Петербург не так круто, как утверждается в его биографиях. Он сперва пожил гостем (в гостинице «Москва», в 33-м номере), огляделся.
Перов в письме Третьякову от 3 февраля 1870 года сообщает, что Ге отбыл обратно в Италию. Перов ошибся: Ге еще в Петербурге. 12 февраля он сам пишет Третьякову о скором отъезде, о своих планах: «…будущей весной я переезжаю жить в Россию»[28].
Он, конечно, увлечен, он устремился в Россию, но, как всегда у Ге, «устремился» не отрицает долгих и сложных раздумий.
То, что разрыв с Италией не был моментальным, тоже важно: поездки туда и обратно, дорожное отчуждение способствует раздумьям. Рассказы о Флоренции в Петербурге и о Петербурге во Флоренции помогали найти оценки, осмыслить происходящее.
Порвать с былым невозможно. Оно остается в думах. Ге не мог, «переезжая в новый период», оставить былое во Флоренции, как ненужные игрушки подросших сыновей.
21 января 1870 года в Париже умер Герцен. Перед смертью он все звал куда-то склонившихся над кроватью близких, он не хотел останавливаться, хотел идти дальше.
2 ноября 1870 года был утвержден Устав Товарищества передвижных художественных выставок.
Связь между этими событиями в жизни Ге — не обязательно смена периодов. Скорее — преемственность.
Товарищество
«Около того же времени возвратился из Италии Н. Н. Ге и заговорил о Товариществе, как о деле, ему тоже известном». Так писал Крамской в «Заметке» об истории передвижничества.
Ге во всех случаях приехал бы в Россию, годом раньше, годом позже, — приехал бы: он уже исчерпал заграницу. К тому же вести из России приходили заманчивые, увлекающие, а, явившись в Петербург, в Москву, чтобы оглядеться, «на разведку», Ге застал русское искусство, готовое к новому шагу, подъему, взлету, — тут он не мог остаться в стороне, жаждал быть вместе со всеми (может быть, впереди других), тем более, почувствовал, что нужен, — сам нужен, его увлеченность, его слово.
«Артель» в Петербурге, московские художники — Перов, Прянишников, Маковский Владимир, — уже довольно набралось людей, объединенных общим взглядом на характер и задачи искусства («зараженные тенденцией», — сказал о них недоброжелатель), но не объединенных организационно. Нужен был принцип организации, для всех приемлемый, страстное слово о нем.
«Мясоедов и, вслед за ним, Ге, приехавший в то время назад в Россию… выговорил недостававшее слово, и все тотчас же встало и пошло, колеса завертелись, машина двинулась могучим взмахом вперед», — вспоминал Стасов.
Высказана была идея о необходимости передвигать художественные выставки по стране и таким образом сделать искусство народным достоянием, а народную жизнь предметом искусства, или, как образно выражался Мясоедов, — внести искусство в провинцию, сделать его русским, расширить его аудиторию, раскрыть в нее окна и двери, впустив свежего и свободного воздуха. Перед Крамским встает тот же образ — «расстаться с душной курной избой и построить новый дом, светлый и просторный».
Ге расширяет основание будущей организации, мечтает о полном освобождении художника от зависимости денежной — после провала «Вестников воскресения» и «Христа в Гефсиманском саду» это для него лично важный вопрос. «Во мне запала мысль освободить художника от влияния покупателя на его творчество оплатой за выставку в пользу художников». Но речь идет не о копейке в кармане — речь идет о свободе художника выражать свой идеал, даже если картина томится потом, никому не нужная, в мастерской. Художник должен думать не о заказе — об идеале: Ге вспоминал, как «Иванов с ужасом отзывался о расписывании соборов индифферентными к предмету художниками».
Ге за всю жизнь написал по заказу несколько портретов, не больше, и то, когда что-либо увлекало его, — личные отношения с заказчиком, желание попробовать свои силы, живописная задача. Даже безденежный, но заказ, затруднял его.
Хороший знакомый принес ему крохотный подрамок с натянутым холстом:
— Напишите, Николай Николаевич, что-нибудь для меня. Все равно что. И ждать я готов сколько угодно.
— С удовольствием! — горячо согласился Николай Николаевич.
Двенадцать лет прошло. Умер хороший знакомый, и Николай Николаевич умер, подрамок так и остался — нетронутый.
Он хотел такую свободу положить в основание Товарищества. Чтобы творить не «индифферентно» — горя.
В девяностые годы Ге вспоминал историю Товарищества, говорил об идеале, который ждал выражения в искусстве; о политике он не говорил. Он уже был далек от той политики, без которой двадцать лет назад дело, конечно, не могло обойтись. Не могло в 1869 и 1870 годах создание общества, пусть общества художественного, обойтись без политики. О политических целях не писали в Уставе, но Товарищество не могло быть нейтральным: оно рождалось в политической борьбе. На тех, кто объединялся в Товарищество, доносили публично, в печати, писали о «нравственной тине», о «подонках будничной жизни», о «ложных тенденциях», распространяемых «прогрессистами-фельетонистами». Профессор Тон после «бунта» в Академии сказал Крамскому:
— Случись это прежде, вас бы всех в солдаты!
Случись прежде идея Товарищества, их бы всех в каторгу.
Но времена были не те, что прежде. Россия вступала в семидесятые годы.
Через полвека Поленов писал о Товариществе: «Мы нравственно и идейно сплотились». Он объяснял: «Я с гимназической скамьи возненавидел произвол. У нас в России он назывался самодержавием». «Наше искусство того времени… совпадало с этими стремлениями и мечтаниями…». «Мои старшие товарищи, т. е. художники, шли даже как будто впереди движения…». Крамскому, Мясоедову, Ге и некоторым другим художникам «удалось даже основать свободное общество, выступившее на арену политической борьбы с произволом, угнетением меньших братий и обманом, основанным на религии».
Так восьмидесятидвухлетний Поленов вспоминал о надеждах молодости. Свидетельство необыкновенно ценное.
Вряд ли Ге, хотя тоже с гимназической скамьи ненавидел произвол, ставил перед товарищами политические задачи, о которых писал старик Поленов. Вряд ли так широко и прямо ставили эти задачи Крамской с Мясоедовым. Но, осмысляя событие, стоит, помимо его собственного значения, учитывать все то, что связывали с ним современники. Поленов рассказал, как молодежь конца шестидесятых — начала семидесятых годов восприняла создание Товарищества. А коли так восприняла, то тем более важно, что картины, рожденные в Товариществе, двинулись по стране. «Хождение в народ» передвижников оказалось долгим и успешным.
Идея «передвижения» картин была обдумана и проверена. Летом 1865 года Крамской повез на нижегородскую ярмарку работы петербургских «артельщиков». Заодно прихватил и нашумевшую «Тайную вечерю»: ярмарка есть ярмарка. Во Флоренции Ге с Мясоедовым собирали сведения о передвижных выставках в других странах. Ге для пробы устроил свою платную выставку. За ним — Федор Каменский, скульптор, тоже пенсионер-флорентиец.
Художники рвались к свободе, к сплочению, а поводырям пришлось начинать с бухгалтерского гроссбуха и подсчета выручки. Общества, основанные на мечтаниях, прекрасны, как мыльные пузыри. «Расчет, расчет, приятель!» — чтобы брачный стол не обернулся поминками. Мясоедов писал Крамскому: «В Писании сказано — „будьте мудры, как змеи, и кротки, как голуби“. Вот программа для действий, на мой взгляд».
Единомышленников всегда тянет к общению. В России шестидесятых годов эта тяга была особенно острой. Тридцать лет все только слушали, теперь у многих нашлось, что сказать. Художники хотели заявить, что новое искусство в России родилось, встало на ноги и пошло. Организация была для них необходима.
В сердце Ге жила радостная жажда общения. С Герценом, Салтыковым-Щедриным, Крамским, Львом Толстым его связывают не совместные чаепития, а участие в общем деле. Впрочем, «связан», «участвовал» — слова не для Ге: они предполагают, что «пришел со стороны», в этих словах чувства мало, которое всегда захватывало Ге и несло, как поток. Он не то чтобы «участвовал», он был частицей, необходимым атомом своего Времени. Даже когда он вырывался вперед, оказывался непонятым, он был неизбежен и необходим. Современники вспоминают его, постоянно окруженным людьми, говорящим, действующим. Современники рисуют его человеколюбом, проповедником, общественником. А ведь по внешним приметам он жил одиночкой. Двенадцать лет в Италии, в узком кругу, да на малороссийском хуторе — двадцать; бок о бок с товарищами по искусству — в «гуще жизни» — он провел какие-нибудь пять-шесть лет. Впрочем, можно всю жизнь толкаться в «центре общества» и оставаться анахронизмом. А Ге, старый, непонятный, говорил за месяц до смерти: «Мы выросли: ни школа, ни семья нас не удовлетворяют. У нас есть общественные интересы, художнику интересно знать, что делает художник-ученый в своей области, что делает художник-гражданин в своей области, потому что искусство в конце концов есть достояние всех к совершенству самого человека…»
Он говорил это в Москве, на Первом съезде художников и любителей. Зимой он подчас вырывался из своего добровольного хуторского заточения — в Москву, в Петербург, бывал в мастерских, являлся на собрания, обеды, ужины, засиживался допоздна в частных домах. Его непрестанно подталкивал горячий, похожий на чувство интерес к работе художников-граждан, художников-ученых и просто художников. Он вырывался на месяц, на два — и отчаянно спешил увидеть, услышать, узнать, но более всего поделиться: потребность познания была для него одновременно потребностью общения. Ему тоже было что сказать, что ответить, чем отозваться. Из своего заточения он привозил мысли, замыслы, соображения, догадки, сомнения. Он спорил, читал доклады, толковал картины, свои и чужие, выступал с воспоминаниями, проповедовал — и остался в памяти витией, комментатором, этаким волшебником, который увлекал и водил за собой толпу, а он за последние двадцать лет жизни появился в Петербурге всего раз десять — и то ненадолго. Он был не от ума — от природы общественный человек.
Потому создание Товарищества он воспринял как свое, личное, сердечное дело. Он многое в него вложил.
Приходится слышать, что в середине семидесятых годов Ге, увлеченный идеей нравственного самоусовершенствования, отошел от передвижничества. Но как это «отошел»? Идейно? Общие демократические идеалы его оставались неизменными, а что до политических, философских, религиозных взглядов, так ведь от членов Товарищества не требовалось стандартизированного единства.
«Ваше величество! — в один голос воскликнули четыре приятеля. — Мы дали бы себя изрубить в куски за нашего короля». Это из «Трех мушкетеров». «В один голос» восклицают удалые герои романов. Даже в политических партиях не требовалось, чтобы члены их произносили хором одни и те же слова, а Товарищество — не политическая партия. Вокруг одного стола сидели Владимир Маковский, Суриков, Левитан, Поленов, Нестеров — во всем разные и все-таки единомышленники.
Василий Григорьевич Перов «столп передвижничества», и он писал не одни «Чаепития в Мытищах» — и он изменялся, мучился, искал. Да и как же иначе: художник, который не поворачивает от вчерашнего к завтрашнему, — словно бы пишет всю жизнь одну картину, только с разными фигурами (впрочем, не всегда с разными). Ге умел себя перечеркивать, но это не отступничество.
С Товариществом же, как с организацией, он тем более никогда не порывал. Если не приезжал на годичное собрание передвижников, посылал кому-нибудь из друзей доверенность. Если приезжал, горячо участвовал в делах; выступал, председательствовал, предлагал, не соглашался. Ге был современником двадцати двух передвижных Выставок; его работы были представлены на пятнадцати.
Слова Третьякова: «Ге после первого неуспеха оказывается совсем хладнокровным членом Общества, а уж он ли не пел сладкие песни» — объяснимы лишь неведением. Это написано в 1878 году — Ге бежал из столицы, в нем все ломалось, рушилось, вступало в новые сцепления, а Третьяков думает о нем нехорошо и приземленно.
Послушаем самого Ге. В той же речи на съезде художников, когда до конца жизни оставался воробьиный шажок, он подвел итоги своим мыслям о Товариществе, своим чувствам к нему:
«В это время случилось особое с нашим возлюбленным отечеством… Повеяло жизнью, все бросились на работу по всем отраслям, делали, что могли, для счастья своих собратий и сограждан. В том числе и мы — небольшая группа людей, любивших искусство, — искали друг друга, работали, сплотились, встречали неудачи, даже некоторое горе, но это нам не мешало. Мы продолжали свое дело, работали, разносили это искусство, насколько могли, по всей России, сделали ту перемену во взглядах, в которую далее наши братья в области знания и жизни внесли новые взгляды, именно стали искать новые идеалы… Независимо от искусства мы почувствовали необходимость общества, общности и не столько для себя, хотя это было большое средство развития, но мы почувствовали это для тех младших братьев, которые шли за нами и которым негде было приютиться. Эта работа была сделана с большим самопожертвованием…»
Первая Передвижная…
16 декабря 1870 года Ге (вместе с Мясоедовым, М. К. Клодтом, Перовым, Крамским) был избран членом правления Товарищества. Через две недели — к тому же членом Петербургского правления. Вскоре его сделали еще и кассиром. Он разрабатывал маршруты, следил за отправкой картин, составлял бухгалтерский баланс.
Ему телеграфировали: генерал-губернатор не разрешает выставку. Ге добирался до министерства внутренних дел, просил, убеждал, доказывал. Назавтра новая телеграмма: попечитель учебного округа не дозволяет выставку в залах университета. Приходилось мчаться к министру народного просвещения. Русское техническое общество уведомляло: Россия должна участвовать в художественном отделе Лондонской международной выставки. Ге ездил на заседания общества, списывался с художниками, планировал экспозицию. А тут у Антона Григорьевича Рубинштейна появилась мысль создать в Петербурге артистический клуб. Ге пригласили представлять художников в комиссии по выработке устава. В ней заседали писатели Анненков и Боборыкин, композитор Балакирев, артист Самойлов. Но артистическому клубу повезло меньше, чем Товариществу. Петербургский градоначальник Трепов говорил Рубинштейну:
— Мы следим. О последствиях и наших мерах узнаете. Рубинштейн грустно вспоминал историю с клубом:
— Так и похоронили. Время было ужасное.
А Товарищество в это ужасное время жило и широко шагало. Выставки двигались по России, завоевывали новые города, а ведь ни покровителей, ни помощников не было — дело передвижничества взвалили на свои плечи несколько энтузиастов. «Это был героический период Товарищества», — говорил Мясоедов.
Ге заседал, ездил по присутствиям, отправлял картины (чертыхался, наверно, что нет времени запереться в мастерской, писать), но многотрудные обязанности выполнял радостно, увлеченно, творя. Мясоедов вспоминал, что Ге даже в кассирскую работу вносил «обычную способность увлекаться: он придумывал свои способы ведения книг и свои приемы счетоводства».
Многие позабыли потом, какие труды выпали на долю Ге в пору становления передвижничества. В девяностые годы изголодавшийся по общению художник изредка наезжал в столицу, всюду появлялся, всюду говорил (великолепно говорил!) — сложился образ говоруна, витии, а не деятеля. Но вот Антокольский писал, услышав о смерти Ге: «Что мне в его болтовне? Он был человек дела».
Антокольский это хорошо знал. Ге обнаружил его в холодной мастерской, больного, без гроша в кармане. Молодой скульптор тогда тоже устремился в историю — заканчивал «Ивана Грозного». Ге нашел Третьякова, уговорил его купить статую, а до полного расчета просил дать Антокольскому денег, чтобы ехал за границу. Списался с Шиффом — надо задержать Антокольского во Флоренции: пусть отдыхает и работает. Во всей этой суматохе, в ежедневном общении с Антокольским увлекся, конечно, воспламенился, — написал портрет скульптора. Едва получил деньги, возвратил Третьякову долг Антокольского и еще благодарил: «…искренно благодарю за эту помощь и никогда не забуду Ваше истинно человеческое участие к художнику»[29]. И никогда не забыл: на закате жизни он рассказывал этот эпизод как пример доброго отношения Третьякова к Антокольскому.
Несколько человек из любви к искусству и своим товарищам-художникам взялись передвигать картины по стране.
…Первая Передвижная выставка открылась в Петербурге в конце ноября 1871 года. Со времени подписания Устава прошел всего год. Он пролетел незаметно — слишком много было забот. «Нужны были картины. Нужны были деньги, — рассказывал Мясоедов. — Первых было мало, вторых не было совсем у Товарищества, родившегося без полушки».
Первая выставка нового общества, первый спектакль нового театра — первый результат нового содружества — это не просто премьера, удачная или неудачная, это особое, это как роды — ребенок может родиться живым или мертвым, крепким или хилым, родиться, чтобы умереть завтра или прожить сто лет.
Передвижничество рождалось для долголетия, и плод при появлении на свет был крепок. «Майская ночь» Крамского, «Дедушка русского флота» Мясоедова, «Грачи прилетели» Саврасова, «Привал охотников» и «Рыболов» Перова, «Порожняки» и «Погорелые» Прянишникова, портреты, пейзажи и в первую очередь «Петр I и Алексей» Ге, — наверно, только Московский Художественный театр сможет похвалиться таким дебютом.
День открытия был труден. Это не просто «понравилось — не понравилось»: решалась судьба дела, судьба организации, судьба Товарищества. Ге оценивает событие со своей точки видения: «Многим стало жутко… Каждый, вероятно, чувствовал, что что-то совершается не простое, каждый чувствовал на совести: смогу ли нести. В день открытия выставки несколько членов отказались. Положение оставшихся было рискованное, но барка отошла от берега и нужно было плыть». Потом он считал монеты и бумажки в кассовом ящике. Выставка дала прибыли 2303 рубля 00 копеек. Это позволило двинуть картины по стране.
«Перов и Ге, а особенно Ге, одни суть выставка», — писал в те дни Крамской. И в следующем письме: «Ге царит решительно».
Вблизи сюжета
…Морозным январским утром 1718 года черный ладный возок переехал русскую границу и легко помчал дальше по накатанному пути. Тайный советник Петр Андреевич Толстой счастливо вздохнул и покосился на своего спутника. Всю ночь Петр Андреевич не сомкнул глаз, прислушиваясь, как спутник его, укутанный в тяжелую меховую шубу, посапывает и тонко всхлипывает во сне. Петр Андреевич вез обратно в Россию опасного беглеца — царевича Алексея Петровича, пока еще наследника престола.
От царевича несло винным перегаром. Петр Андреевич время от времени доставал из кармана флакон с душистым маслом, приоткрывал пробку, нюхал. Глаза его поблескивали морозно и радостно. Он был при дворе уже почти полвека, испытал разные превратности судьбы, умел вести рискованную игру, ни во что не верил и ничему не удивлялся. Но на сей раз и он был приятно удивлен: Петру Андреевичу не верилось, что удастся выманить царевича из-за границы. Что ж, недаром, видно, говаривал ему государь: «Голова, голова, кабы не так умна ты была, давно бы я отрубить тебя велел». Тайный советник Толстой весело поглядывал на спутника: «У этого голова, видать, не больно-то умна».
Царевич открыл глаза; сразу, спросонья, заговорил про скорое венчанье с Ефросиньюшкой, про покойную жизнь в деревеньке. Петр Андреевич согласно кивал: раз батюшка обещал, так тому и быть, — государево слово крепкое. Ему было весело.
31 января царевич прибыл в Москву. Царь его ждал.
Толстому «за показанную так великую службу не токмо мне, но паче ко всему отечеству в приведении по рождению сына моего, а по делу злодея и губителя отца и отечества» было пожаловано поместье в Переяславльском уезде.
Царевичу Алексею обещанной деревеньки не дали. Покоя тоже. Его взяли на допрос. Петр сидел, окруженный сановниками:
— Открой все, а не то и пардон в пардон не будет!
Алексей валялся у него в ногах, плакал и выдавал, выдавал. Кикина, Дубровского — всех, кто с ним шел. Но Петру мало было:
— Всех, всех открой. Тогда окажу тебе милость!
Хватали виновных и подозрительных, пытали в застенках, казнили. При пытках узнавали новые имена: одних висящие на дыбе сами называли, других, потому что судьи того хотели. Брали новых людей, волокли в застенок. Постриженную в монахини царицу Евдокию, мать царевича Алексея, Петр приказал сослать подальше, в Ладожский монастырь, близких ей людей — казнить.
Царевича Алексея повели в Успенский собор, заставили подписать отречение от наследства. Петр не отпускал его с глаз; покончив с трудными и жестокими московскими делами, в марте увез с собой в Петербург. Там царевич валялся в ногах у государыни Екатерины Алексеевны, молил, чтобы дозволили ему обвенчаться с возлюбленной его Ефросиньюшкой. При дворе ее называли — брезгливо морщась, — «девкой Ефросиньей». Но ведь и та, которая сидела на месте его матери, тоже была девка — пленная немецкая девка, по рукам прошедшая до российского престола. Царевич валялся у нее в ногах и молил слезно. Она посмеивалась. Была пасха, все вокруг ходили с масляными губами и глазами, веселые.
Ефросиньюшка приехала 20 апреля, с трудом дотянула до Петербурга, ей приспела пора рожать. Ее прямо с дороги завернули в Петропавловскую крепость — там она и родила. Тотчас начался розыск. Девка Ефросинья, «нетвердою рукою» отвечая на вопросы царя Петра, удивительно твердо и точно сообщила все, что он желал узнать. Да, царевич на отца беспрестанно жаловался, говорил, что тот хочет жизни его лишить. Сам же дожидался отцовой смерти. И еще (самое страшное!) говорил, что как станет царем, все будет иначе — «Я-де старых всех переведу, а изберу себе новых по воле», «и тогда будет жить в Москве, а Петербург оставит простой город».
В середине мая австрийский посланник доносил: «Накануне прошедшего воскресения царь отправился в увеселительный дворец Петергоф, в десяти милях отсюда, с царевичем, которого никогда вдали себя не оставляет, и… допросил сам тайно…»
Через полтора столетия в тот же дворец приехал художник Николай Ге, долго и внимательно все разглядывал, чтобы «в голове, в памяти принести домой весь фон картины „Петр I и Алексей“».
Старик сторож говорил, что за долгую службу видал во дворце всего двух «прилежных» посетителей — первый был император Николай Павлович. Николай I надел халат и колпак Петра, постоял у окна, — ему хотелось «хорошенько войти в то время».
Ге не надо было надевать петровский колпак. Воротясь из Италии, он увидел «все в России в новом свете»: «Я чувствовал во всем и везде влияние и след петровской реформы. Чувство это было так сильно, что я невольно увлекся Петром и, под влиянием этого увлечения, задумал свою картину „Петр I и царевич Алексей“».
Не стоило уезжать за границу, отвыкать от России, возвращаться, чтобы понять, продумать, объяснить значение Петра и его реформы. Можно было почитать гимназический учебник истории. Но вдохновение Ге начиналось не с «продумывать» и «объяснять», а с «чувствовать». Он везде и во всем чувствовал влияние петровской реформы (через полтора века после смерти ее творца!), так сильно чувствовал — сердцем, нервами, всем существом своим, что удержаться уже был не в силах. Так Пушкин был полон Петром задолго до того, как начал изучать материалы.
Николай I натягивал на себя халат Петра Великого и мнил, что осчастливит Россию своими указами. Художник должен обладать чувством истории и не видеть Николая в халате Петра.
Теперь трудно, почти невозможно увидеть сцену допроса царевича Алексея в Петергофе не так, как на картине Ге.
Петр. Алексей. Потомки
В 1872 году Россия отмечала двухсотлетие со дня рождения Петра Великого. К торжественной дате начали готовиться задолго. Картину Ге о Петре тоже принято считать навеянной юбилеем.
Может быть, и так. Ге «остро чувствовал» повсюду результаты петровского дела, юбилейная суета могла подтолкнуть его к замыслу.
Но не больше. Если б держал в уме юбилей, и картину бы написал юбилейную. Изобразил бы, к примеру, Петра на коне или в гуще Полтавской баталии, или «на берегу пустынных волн» — это тоже можно написать весьма торжественно.
А Ге из всей истории петровского царствования выбрал эпизод едва ли не самый мрачный и драматический. Царь-убийца, сыноубийца. И ведь не в порыве бешенства убил, как Иван Грозный, написанный вначале (прежде чем Ге взялся за Петра) Шварцем, а после Репиным. Убил — и не пришел в безумство от содеянного, не каялся исступленно и мрачно. Убил волево — расчетливо, если угодно. Неверными посулами вывез из-за границы, сам допрашивал, сам предрешил судьбу, открыто — через особый суд — приговорил к смерти, а после приговора опять пытал и приказал задушить тайком. И не каялся, хотя страдал, наверно, — но не желал никому выказывать тяжкую отцовскую скорбь.
Погодин составил по документам хронологическую канву дела Алексея Петровича. О последнем дне царевича в ней говорится:
«1718. Июня, 26, по полуночи в 8 часу начали собираться в гарнизон: Его Величество, Меншиков, Долгорукий, Головкин, Апраксин, Пушкин, Стрешнев, Толстой, Шафиров, Бутурлин и учинен был застенок, и потом, быв в гарнизоне до 11 часа, разъехались. Всенощную слушали общо у Троицы.
Того же числа пополудни в 6 часу, будучи под караулом, в Трубецком раскате, в гарнизоне царевич Алексей Петрович преставился.
Июня, 27, царь, министры и прочие были у обедни в Троицкой церкви. Поздравление с Полтавской победой. Обед на почтовом дворе. После прибыли в сад его царского величества, где довольно веселились, потом, в 12 часу, разъехались по домам.
Тело царевича положено во гроб и вынесено из Трубецкого раската в 9 часу пополудни; поставлено в хоромах близ комендантского дома.
Июня, 28, в 10 часу пополудни тело вынесено в церковь Св. Троицы…
Июня, 29, в воскресенье, именины царя. Очная ставка Акинфиева с Лопухиным. Обед в летнем дворце. Спуск корабля. Пир до двух часов пополуночи.
Июня, 30, съезд в церковь по 4 часах. В 7 часов прибыли царь и царица. Отпевание в 9 часу. Провожали от Троицы в собор, по церемониалу, где и погребено».
Ге знал эти документы. Их тогда все знали. Интерес к делу царевича Алексея вспыхнул в связи с выходом из печати шестого тома «Истории царствования Петра Великого», которую писал профессор Н. Г. Устрялов. «Историю Петра» собирался писать Пушкин. После его гибели Николай I передал тему Устрялову.
Профессор Устрялов создавал официозную биографию Петра. Достоинство этого труда — обилие архивных документов, переданных Устрялову «по высочайшему дозволению».
До 1859 года, когда вышел шестой том труда Устрялова, дело царевича Алексея, по словам одного из рецензентов, принадлежало «к числу пробелов и недостаточных сказаний» в русской истории.
От рецензентов Устрялову досталось, но дело им было сделано: он дал материал, теперь каждый мог возводить из него свое здание. Авторы отзывов критиковали построения Устрялова как бы для того, чтобы предложить свои.
Вдруг выяснилось, что в деле царевича Алексея много нерешенного, спорного, что спорно и не решено самое главное — а надо ли было царевича убивать? Это теперь, с годами, когда прошла острота, все уложилось в ясную и весьма героическую формулу: ради блага страны не пожалел родного сына.
В дни юбилея Петра повторяли слова его к сыну: «За мое отечество и люди живота своего не жалел и не жалею, то как могу тебя непотребного пожалеть? Лучше будь чужой добрый, чем свой непотребный». Повторяли напыщенно — велик, могуч и доблестен был государь наш император Петр Первый; но и с опаской — не всем, не всем пришелся бы теперь по душе доблестный делатель, Который стал бы с плеча ломать и крушить устои, мучительно упрямо и жестоко поворачивать государство на новый путь.
«Не пора ли остановиться на этой дороге, передышать и одуматься», — призывал Погодин. Ге сильно чувствовал повсюду влияние реформ Петра, а Погодин радовался — кажется, «начинает ощущаться ослабление данного им удара».
Дело царевича Алексея, к которому вдруг открылся доступ, дело не чистое и не гладкое, давало повод для многих толкований, позволяло, соответственно расшаркавшись перед Петром, на него, на Великого, замахнуться, — а всегда ли на благо были его воля, его жертвы, его жестокость, не «перебирал» ли? За десять лет до петровского юбилея историк Погодин, толкуя документы, объявил пороки царевича Алексея достоинствами, осудил вероломство и «огнеупорное сердце» Петра, охвативший его «угар искоренения врагов». Не политический противник пугал-де его в Алексее, а собственное одиночество: видел Петр — вот умрет, и, по словам Погодина, «Египетского его делания как будто и не бывало».
Через три года после юбилея историк Костомаров напечатал большую статью «Царевич Алексей Петрович. По поводу картины Н. Н. Ге». С Погодиным Николай Иванович не соглашался, в пороках Алексея Петровича видел только пороки, убийство же его считал закономерным, хотя и несправедливым. Петр, когда насильно постриг в монахини первую жену свою, мать царевича, — совершил дело, «которого не видала Русь за своими царями уже более столетия» (то есть со времен Ивана Грозного). В это мгновение он сам сделал из малолетнего сына врага и далее на каждом шагу укреплял в нем вражду к себе. Да, Петр убил сына закономерно, спасая государство, великое дело рук своих. Но закономерность началась с неправды, ибо «вся история государств от начала мира преисполнена неправдами: одною хотели исправить другую и через то, невольно спасая самих себя, совершали третью, четвертую и т. д., а совершая их, были уверены в том, что они необходимы, и старались уверить других, что так следует по законам правосудия. Так делалось издавна, всегда, повсюду».
Накануне юбилея, в связи с открытием Передвижной выставки и картиной Ге, по делу царевича Алексея высказался Владимир Васильевич Стасов. И тоже осудил Петра. А заодно и Ге.
«Сцена Петра с сыном могла быть взята сюжетом для картины, но иначе», — писал Стасов. «Ге посмотрел на отношение Петра I к его сыну — только глазами первого, а этого еще мало. Есть еще взгляд истории, есть взгляд потомства, который должен и может быть справедлив и которого не должны подкупать никакие ореолы, никакие славы. Что Петр I был великий, гениальный человек — в этом никто не сомневается; но это еще не резон, чтоб варварски, деспотически поступать с своим собственным сыном…». Стасов не видит в Алексее ни политического противника отца, ни заговорщика — это тихий, несчастный, ограниченный человек, который не хочет «величия и власти», а «была бы только подле меня моя Афросиньюшка». «Это была соломинка, брошенная поперек дороги грозно шагающего льва». Петр же, подстрекаемый Екатериной и Меншиковым, преследовал, вынудил, выманил, задушил. «Как нам тут быть на стороне Петра? — восклицает Стасов. — … Дело с Алексеем — одно из тех дел, от которых история с ужасом отвращает свои глаза».
Ну зачем же так неистово ужасаться от имени истории? Вот рядом с Владимиром Васильевичем жил в Петербурге человек, и даже знакомый Владимира Васильевича, — он, правда, лишь от своего имени, но вовсе не ужасался. И даже не отвращал глаза. Это был Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Он тоже писал о деле царевича Алексея и тоже в связи с картиной Ге.
Салтыков-Щедрин смотрит глубже. Задачу Петра он видит в обновлении России, а это — дело «движущееся и развивающееся». Раз начав его, останавливаться невозможно. Пусть Алексей был «соломинкой, брошенной поперек дороги грозно шагающего льва», — Петр не того боялся, что соломинка свергнет его с престола. Он боялся, что после смерти «шагающего льва» «соломинка» тяжелым бревном ляжет под ноги России. «Задумав преобразование России, — писал Салтыков-Щедрин, — Петр естественно пришел к вопросу: кто будет продолжать и развивать начатое дело — и с мучительной безнадежностью должен был остановиться на царевиче Алексее, который, во имя уз крови, становился между ним и делом всей его жизни». Петр знал, что Алексей не просто плохой продолжатель — противник. Петр документы читал, слышал показания. Его не купишь жалобным — «была бы только подле меня Афросиньюшка»: когда царевич просился в монастырь от «величия и власти», говорил ведь, что монашеский клобук не гвоздями к голове прибит. Стасов тоже читал эти документы, но не принял во внимание. А Петр принял. Дело его жизни решалось. «Поэтому он идет не останавливаясь даже тогда, когда его действия носят явный характер резкости и суровости, — писал Салтыков-Щедрин. — Он суров и даже жесток, но жестокость его осмыслена и не имеет того характера зверства для зверства, который отличает жестокие действия временщиков позднейшего времени».
Через четверть века после смерти Салтыкова-Щедрина вышла в свет книга Стасова о Ге. В ней напечатаны отрывки из записок художника. Как бы отвечая запоздало Салтыкову-Щедрину, Стасов приводит слова самого Ге: «Исторические картины тяжело писать, такие, которые бы не переходили в исторический жанр. Надо делать массу изысканий, потому что люди в своей общественной борьбе далеки от идеала. Во время писания картины „Петр I и царевич Алексей“ я питал симпатии к Петру, но затем, изучив многие документы, увидел, что симпатии не может быть. Я взвинчивал в себе симпатию к Петру, говорил, что у него общественные интересы были выше чувства отца, и это оправдывало жестокость его, но убивало идеал…»
Стасов привел эту запись Ге и объяснил: когда Ге писал «Петра», взгляд его был «совершенно одинакий со взглядом Салтыкова-Щедрина», но после, в девяностых годах, когда Ге заново все продумал, он отказался от идей своей картины, и, не будь у него «авторского, да и всяческого, самолюбия», должен был бы признать, что тридцать лет назад прав был Стасов, а не Салтыков-Щедрин.
Если понимать слова Ге именно так, по-стасовски, то они имеют значение только как довод в споре. Но Ге сказал нечто более сложное. Запись не распадается на две части — взгляд на Петра в семидесятые годы и взгляд в девяностые. Очевидно, что речь целиком идет об истории создания картины. В самом деле, не совсем понятно, зачем «изучать многие документы», проверять свои чувства к Петру, «взвинчивать в себе симпатию», объяснять его поступки, когда картина уже написана. Ге хотел вернуться к теме? Но в биографии художника нет указаний на это. Наоборот, он многократно и охотно повторял свою картину, ничего не меняя в ней.
Ге о другом рассказал в записке — о творческих муках художника, о сложности предмета живописи, о трудной необходимости выбирать свое. Старик Ге, связавший поиски идеала с образом Христа, возвращался в памяти к временам, когда пытался найти идеал в людях «живших или живущих». Он всем сердцем рванулся к Петру, из славной жизни его выбрал не блистательный, подтверждавший идеал эпизод, но мучительную драму, он верил, что и здесь сумеет открыть в Петре великое и прекрасное. А услужливое благоразумие подсказывало: Петр — жестокий обманщик, палач; и нужно было поверить в такого Петра, далекого от придуманного идеала, полюбить его или бросить картину, потому что писать без веры, без любви он не умел, не мог.
Ге шел от порыва, увлечения, устремления к чувству осознанному; история не поддавалась одному только ощущению, требовала проникновенного понимания; понять Евангелие «в современном смысле» было подчас легче, чем отечественную историю. И Ге осознал, проник, понял, его острое, сильное чувство переплавилось в чувство истории. Теперь трудно представить себе допрос в Петергофе не так, как на картине Ге.
Историческая схема и историческая живопись
Перед открытием выставки приехал в Петербург Перов, «папа московский», ходил по мастерским, смотрел, что работают художники. Перова уважали, при нем даже робели, в тридцать восемь лет его почитали старейшим.
В мастерских Перов не стеснялся — сердито делал замечания, строго судил, выносил приговор. Добрались до Ге. «Перов присмирел и от впечатления не говорил… А я только потираю от удовольствия руки. „Что, думаю себе, каково, мол! То-то!“» Это Крамской рассказывает. «Словом, картина, огорошивающая выражением…».
Картина Ге огорошивала не эффектом, не странностью темы или колорита — выражением. То есть проникновением в суть событий, достоверностью. Это не иллюстрация к курсу российской истории, это — История. Чувство художника, нашедшего свой замысел, точнее «Машины Времени»: век, полтора, два назад — значения не имеет — оно безошибочно угадывает характеры и обстоятельства.
Карандашные наброски отмечают путь поисков «живой формы» Петра. Ге помещает его то по одну сторону стола, то по другую, сажает в фас, в профиль, поза его то напряжена, то чрезмерно свободна. Но вот что интересно: на карандашных рисунках голова Петра неизменно наклонена — он смотрит вниз. Алексея нет, поэтому нет отношений отца и сына, Петр взят отдельно, он либо слушает, либо — скорей всего — мучительно ищет решения.
В набросках Ге прожил с Петром момент, предшествовавший тому, что передан на картине. Здесь все уже решено для Петра, для Алексея. Слова сказаны и судьбы определены. В бумагах, брошенных на столе, — наверно, это страшные для Алексея показания «Афросиньюшки», — ощутима ненужность. Один исписанный лист упал на пол, к ногам Петра. Бумаги кончили говорить. Люди кончили говорить. Говорят глаза. Петр поднял голову, вглядывается в сына. Алексей опустил глаза, словно ускользая, жалко и беспомощно. В жалкой беспомощности ускользания таится признание вины и беспричинная надежда слабого. Кроваво-красная скатерть, беспощадным светлым лучом выхваченная из сумрака, стекая на пол, разделяет отца и сына. Четкий до жути узор подчеркивает отдельность этих трагически связанных жизнью людей. Через такую скатерть, через такой узор не переступить. Ге подробно вспоминает, как нашел нужный ему ковер, тщательно перерисовал орнамент.
Вначале Ге собирался поставить Петра силуэтом на светлом фоне окна. Внешне картина, наверно, вышла бы эффектнее, но вместо отца, решившего судьбу сына, и сына, страшившегося прочитать приговор отца, могли получиться «лев» и «соломинка».
Стасов, которому Петр как раз представлялся этим самым «грозным львом», упрекал Ге в том, что он выразил царя некоей «средней нотой», не соответствующей его натуре. Петр, по мнению Стасова, должен быть «либо формален и равнодушен, либо гневен и грозен до бешенства». Стасов как бы отказывается проникнуть в образ, созданный художником, потому что художник создал образ не таким, каким он представлялся Стасову.
Точно проник в замысел художника опять-таки Салтыков-Щедрин. В «Петре и Алексее» он увидел великую «тайну искусства», которая в том и состоит, «чтобы драма была ясна сама по себе, чтобы она сама в себе находила достаточное содержание, независимо от внешних ухищрений художника, от опрокинутых столов, сломанных стульев, разбросанных бумаг и т. д. А г. Ге именно тем и выделяется из массы собратий по исторической живописи, что он очень отчетливо отличает внешние, крикливые выражения драмы от внутреннего ее содержания и, пользуясь первыми лишь с самою строгою умеренностью, сосредоточивает всю свою художественную зоркость на последнем».
Салтыков-Щедрин как раз в том и видел достоинство картины, что Петр не вытянут во весь свой огромный рост, не устремляется, не потрясает руками, не сверкает глазами, что Алексей не стоит на коленях, не ломает рук, не молит о пощаде; оба участника страшной сцены непринужденны, непреднамеренны, они даже довольно спокойны, — но «всякий, кто видел эти две простые, вовсе не эффектно поставленные фигуры… был свидетелем одной из тех потрясающих драм, которые никогда не изглаживаются в памяти».
Салтыков-Щедрин читает в лице и позе Петра не «среднюю ноту» неопределенности, которая действительно не соответствовала его натуре, но именно то, что ей более всего соответствовало: огромность чувств, подчиненных воле и разуму. Нет, не бешенство, не гнев и гроза. Нет, не формальность и равнодушие. Не лед и не пламень. «Не страстный темперамент, а сознательность, доведенная до страстности», — говорит Салтыков-Щедрин.
Художник Павел Чистяков писал про «Петра и Алексея»: «Всякий видит, и смотрит, и понимает по-своему».
Стасов видит во взгляде Петра «гнев, упрек, презрение».
Салтыков-Щедрин не видит «ни ненависти, ни презрения, ни даже гнева». Он видит во взгляде Петра «мучительно-тоскливое чувство», скорбь о «поднятом, но неоконченном подвиге жизни».
А рядом вдруг выскакивает странное и неожиданное мнение рецензента «Дела»: Ге — славянофил, он, конечно же, на стороне этого привлекательно-грустного, усталого царевича, этого высоколобого, замученного «Гамлета», судимого недалеким самодуром из «частных приставов» с ожиревшим и совсем несмыслящим лицом.
Рецензент «Дела» — злоблив или парадоксален, но вот это — «всякий… понимает по-своему» — Чистяковым сформулировано точно. Образы Ге можно толковать по-разному — они многозначны; художник освобождал их от внешней шелухи, признаки уходили вглубь.
Внешние эффекты действуют большей частью не потому, что неожиданны, а потому как раз, что общеизвестны и ожидаемы.
Все и ожидали, что Петр будет стоять во весь рост, безумствовать, громыхать, сверху вниз гневно взирать на царевича, а тот, коленопреклоненный, ползать у ног великана, с мольбой вскидывая на него просящие пощады глаза. Но вышло-то, что Алексей стоит в рост, а Петр снизу вверх на него смотрит; Алексей же и не глядит на отца, и не молит ни о чем, опустил взор, потупил голову; он замкнут в себе, как замкнут в строгой черной своей одежде, которая, несмотря на ее «современность» и «европейкость», как бы отделяет его, изолирует от этой чуждой ему слишком просторной и холодноватой комнаты в голландском стиле. Низкие, сводчатые кремлевские палаты царевичу больше по душе. Жарко натопленные.
Ге избегает противопоставлять внешнее. Он пишет сложную и жуткую психологическую драму. Трагедию пишет. Драмы нет без противопоставления. Но драма — не «живые картины». Зритель не обязательно должен видеть внутреннее, сокровенное. Он должен его чувствовать. «Живая форма» — не привычное, а самое естественное выражение внутреннего через внешнее.
Чехов говорил артистам, игравшим «Дядю Ваню»: «Весь смысл и вся драма человека внутри, а не во внешних проявлениях».
Внешнее противопоставление обычно ведет к передержкам. У Ге их нет. Он идет от проникновенного понимания, от бережного уважения к тому, что пишет.
В конце концов, царевич Алексей Петрович — сын царя Петра Алексеевича. Кто знает, о чем думал Ге, когда писал его, о чем думал Петр, когда за полтора столетия до того остановил взгляд на «непотребном» сыне. Может быть, и о том, что история повторяется в виде фарса. Мы ведь привыкли противопоставлять внешне: коли Петр гневен и жесток, Алексей тих и мягок; коли Петр размашисто-широк и разгулен, Алексей, наоборот, — испуганно-спокоен и склонен к одиночеству. Царевич все видится нам в келейках, при свечечках, благостный. А ведь яблочко-то от яблони недалеко упало, да только яблочко-то было крохотное, сморщенное, червивое, и упало оно в сухой прошлогодний навоз. Оттого, хоть были в него однажды пущены отцовские соки, развилось оно уродцем, ничтожеством, фарсом.
Он был жесток, Алексей Петрович, но мелко жесток: таскал верных себе людей — тех, что, если и обидятся, не обидят, — за бороды, драл за виски, бил палкой. Отцовский разгул обернулся в нем мелкой шкодливой гульливостью. «Когда позовут на обед или при спуске корабля, мне лучше на каторге быть», — жаловался царевич, но и он псалтырь в тиши не читал — у него был свой кружок, своя уродливая, фарсовая «ассамблея», «собор».
«А мы вчера повеселились изрядно: отец мой духовный Чиж чуть жив отошел до дому, такожде и другие поджарились…». «Веселимся духовне и телесне»… «Не по-Немецки повеселихомся, но по-Русски»… Это из писем царевича к сообщникам.
У них у всех и прозвища были (точно в ненавистной отцовой ассамблее), но не «князья-кесари», и не «князья-папы», и не «бомбардиры», а прозвища фарсовые, ничтожные какие-то: «Корова», «Засыпка», «Захлюстка», «Бритый», «Грач»…
Больше всего на свете царевич Алексей боялся отца и больше всего хотел его убедить в своей верности. Он подписывался в письмах к нему: «Всепокорнейший сын твой и слуга», а с 1711 года — «Всепокорнейший сын твой и раб». Но в письмах духовнику своему не называл Петра отцом, но холодно — «Рождший мя».
Возможно, в Петергофе царевич, стеная, валялся в ногах у отца, — Ге не увидел этого. Он увидел, как быстрым движением Алексей опустил глаза: страх, и непреодолимое отчуждение, и упорство, и тайная надежда — все здесь было. Трусливый Алексей, случалось, храбрел — от страха. Он ненавидел солдат, сражения, боялся оружия. Но когда Петр однажды собрался экзаменовать его по черчению, он схватил пистолет и выстрелил себе в руку. Самое смешное, что не попал, — только кожу опалил, а пуля ударилась в стену. Ге это знал, ему Костомаров рассказывал.
Теперь царевич опять промахнулся. Опять кожу опалил. Багровый отсвет застенка упал на спинку царского кресла.
Австрийский посланник доносил:
«Царь отправился в увеселительный дворец Петергоф… с царевичем… и приказал на другой день привезти из крепости в закрытой шлюбке его любовницу, допросил их сам тайно и потом отправил ее опять в крепость».
Ефросиньюшка приехала к Алексею как погибель.
Через месяц с царевича сдерут одежду, растянут его, станут бить кнутом. Пока он одет в черное, замкнут, отчужден. Опустил глаза, склонил узколобую голову дьячка.
Петр смотрел на него тоскливо:
— Непотребный. Я строил, воевал — этот с попами кадил, за штофом смерть на меня накликали. Он за колокола цеплялся, богу угоден. От меня же требует Россия авраамовой жертвы…
Возле картины Ге легко совершить шаг в прошлое, драму историческую ощутить, как личную. Салтыков-Щедрин отмечал, что историческое в героях Ге «на каждом шагу смешивается с общечеловеческим».
Ге не любил схем, он чувствовал многозначность людей. Когда писал Герцена, он в каждом мазке нес на холст всего Герцена. Когда писал «Петра и Алексея», — всего Петра и всего Алексея. Ге никогда не писал «людей-эпитетов» — «умный», «жестокий», «трусливый»; не писал и развернутых эпитетов — «деятель, для которого интересы страны выше личных». Эпитет легче написать, чем человека; эпитет, даже развернутый, односторонен.
Вкус к «Тайной истории»
Снова слава! Толпы поклонников. Бесконечные разговоры, Дебаты, речи. Общественные дела: Николай Николаевич любил ездить по делам, представительствовать. К нему просятся ученики, он и доволен и злится — мешают. Учить он рад — ездит по Петербургу и учит, учит. Но тут надо обучать — показывать, как строить композицию, смешивать краски. Ему некогда — его на руках носят.
Репутация, подмоченная провалом «Вестников воскресения» и «Христа в Гефсиманском саду», спасена. Ге снова «пророк» и «основатель новой школы», теперь уже исторической живописи. Шварц рано умер — не дожил до своего времени. Его взлет не был так замечен. В семидесятые годы возьмутся за историческую живопись Якоби, Неврев, Литовченко, Чистяков, даже Перов и Прянишников, но только Суриков оттеснит Ге и двинет историческую живопись на новые рубежи.
Но это во мнении историков искусства. Взгляд в прошлое как бы скрадывает промежутки во времени. В древней истории мы различаем тысячелетия, в сравнительно недавнем прошлом — века. Месяцы учитываем лишь изредка. Дни и недели обычно не принимаем в расчет. Для современников время идет медленнее. С ними вчерашним днем долго не проживешь. «Ге, Крамской прошлой осенью были знамениты. Нынче Якоби и затмил совсем», — писал Чистяков года через полтора после появления «Петра и Алексея».
Ге еще не научился нести бремя славы, не научился молчать, когда от него ждут слова. Тем более, у него всегда было что сказать. Тогда в Петербурге вообще все говорили, много и красиво. Ге еще не понял, что отверзать уста следует для откровений.
Ему пришло в голову написать клятву юного Алексея Михайловича патриарху Никону. Стасов, Костомаров и Мусоргский его отговаривали. Стасов сердился: «Незачем вам, Николай Николаевич, прославлять это господство духовенства». Ге вскоре говорил Репину: «Да, очень по душе мне этот великолепный сюжет, но не могу я прославлять господство духовенства»…
Потом он начал картину «Царь Борис Годунов допрашивает царицу Марфу о смерти Димитрия». Несколько лет с ней возился — и забросил.
Все это было — лишь бы сказать, не промолчать, когда ждут.
…В 1860 году главное управление цензуры опубликовало весьма занятное распоряжение: «…А как в цензурном уставе нет особенной статьи, которая бы положительно воспрещала распространение известий неосновательных и по существу своему неприличных к разглашению о жизни и правительственных действиях августейших особ царствующего дома, уже скончавшихся и принадлежавших истории, то, с одной стороны, чтобы подобные известия не приносили вреда, а с другой — дабы не стеснять отечественную историю в ее развитии, — периодом, до которого не должны доходить подобные известия, принять конец царствования Петра Великого. После сего времени воспрещать оглашение сведений, могущих быть поводом к распространению неблагоприятных мнений о скончавшихся лицах царствующего дома».
При Александре II, оказывается, умели «делать историю» не хуже, чем при Николае I. Тридцать лет учения не прошли даром. Почти полтора века русской жизни, «дабы не стеснять отечественную историю в ее развитии», власти предполагали отдиктовать как параграфы цензурного устава.
В эти полтора века уложились полные смутных тайн и внезапностей правления первых петровых наследников и наследниц, воцарение Екатерины II, смерть Петра III — от «припадка гемороидического» и «прежестокой колики», смерть Павла I — тоже от «неожиданных болезней», смерть Александра I, породившая упорные слухи, потому что в России уже попривыкли к дворцовым переворотам и цареубийствам, восстание 14 декабря 1825 года, таинственная смерть Николая I — все говорили, что отравился…
Русскому правительству стоило бояться историков.
У Ге был несомненный вкус к тайной истории. Иначе быть не могло: десять лет в кругу Герцена — хорошая школа вкуса. Издания Вольной типографии — добротные учебники истории.
Из полутора веков, отмененных цензурой, три даты были для царствующей династии особенно неприятны: 1762, 1801, 1825. Это даты «воцарения на крови»: убийство Петра III, убийство Павла I, декабрьское восстание. Герцен, как мог, ломал стену тайны вокруг этих дат.
После «Петра и Алексея» Ге завершил две картины на историческую тему: «Екатерина II у гроба императрицы Елизаветы» и «Пушкин в Михайловском». «Алексея Михайловича и Никона» он не стал писать; картина про царя Бориса у него не задавалась. А эти написал с обычным воодушевлением.
Сюжет про патриарха Никона занимал Ге только внешне. Он говорил: «великолепный, с чудесной обстановкою сюжет». Стасов дунул — и сюжет рассыпался. Ге легко от него отказался. Через пятнадцать лет Стасов так же страстно опровергал этот сюжет, когда его выбрал художник Литовченко. Но Литовченко картину написал, а Стасов ему еще и позировал — для самого Никона. Так художник борется за свой сюжет.
Что произошло у Ге с картиной «Царь Борис допрашивает царицу Марфу» нетрудно понять: слишком просто было повториться. По эскизу видно, как он старательно отвергает, то что нашел в «Петре и Алексее». На холсте в итоге появляется то, от чего он отказывался. Борис Годунов похож на Петра, какого ждали от художника иные критики: он эффектен — широко открытые глаза, выпавший из рук посох, могучая фигура в рост под низкими сводами царских палат. Борис Годунов у Ге вышел оперный. Эскиз 1874 года — в этом году состоялась премьера оперы Мусоргского, но еще много раньше композитор познакомил Николая Николаевича с оперой.
Картина «Екатерина II у гроба императрицы Елизаветы» была выставлена тоже в 1874 году на Третьей Передвижной выставке.
Торжественное празднование двухсотлетия со дня рождения Петра Великого возбудило в обществе некоторый патриотический подъем. Теперь выпал случай сей подъем поддержать, воскресив в памяти народной образ государыни-императрицы Екатерины II.
В 1873 году в Петербурге на Невском проспекте открыли памятник Екатерине. Перед этим событием о государыне много писали. Для народа выходили книжки, напечатанные крупным шрифтом с яркими, аляповато раскрашенными картинками. Книжки назывались: «Матушка-царица Екатерина II и ее чудо-богатыри», или «О том, как Екатерина II правила землей русской». Историк Погодин произнес в Московской думе несколько прочувствованных слов перед портретом матушки-царицы. Он сказал:
«Господа! Императрица Екатерина высоко держала русское знамя. Она возвратила России всю западную ее часть, отторгнутую прежде поляками. Она приобрела Крым, откуда татары до позднейших времен нападали и опустошали Русские украины. Она дала учреждение о губерниях и городовое положение, содействовала определению сословий. Она покровительствовала литераторов и сама в свободные часы занималась литературою. Она прежде всех думала о женском образовании и основала институты, из коих ежегодно выходит по тысяче воспитанниц. Она принимала живое и деятельное участие во всяком частном деле, которое доходило до ее сведения. Вот великие деяния и добрые дела императрицы Екатерины, которыми искупаются ее грехи, — их было также много по человеческой слабости, — об отпущении которых мы помолимся теперь, смею надеяться, с горячею любовию. Она должна остаться во веки веков в благодарной русской памяти. Я счел долгом летописателя сказать эти немногие слова, чтоб наше собрание не осталось вовсе безгласным».
Ге не оказался в числе безгласных. Но то, что он сказал о Екатерине, еще труднее отнести к «юбилейным» сочинениям, чем «Петра и Алексея». Если же суета, поднятая вокруг памятника матушке-царице, натолкнула его на мысль, то приходится заметить, что отношение к юбилеям у Ге несколько своеобразное.
Добро бы государыня оживала под ударами его кисти, чтобы принимать покорных послов, венчать лаврами верного поэта или улыбкой поощрять к добродетели воспитанниц женского института. Нет, Ге изобразил завтрашнюю государыню на пороге зала, отделяющем пока живого, сегодняшнего императора Петра III от умершей вчерашней императрицы Елизаветы Петровны. Изобразил на пороге «главного» греха — отмаливать его даже через сто лет призывал Погодин. До решающей, до запрещенной к упоминанию даты — 28 июня 1762 года — оставалось шесть месяцев каких-нибудь.
Но пружина закручивалась. Довольный царек, стоящий на заднем плане, в ярко освещенных покоях, уже обречен. Ритуальная комедия, разыгрываемая у праха Елизаветы Петровны, была частью плана; Екатерина «беспрестанно бывала у ее тела… не пропускала панихид и строго следовала ее примеру в соблюдении благочестивых обычаев Русской жизни, что отчасти и помогло ей расположить в свою пользу сердца тогдашних людей», — сообщает свидетель. Через шесть месяцев бывшая София-Августа-Фредерика, принцесса Ангальт-Цербстская, в замужестве Екатерина Алексеевна, станет просто Екатериной II. Она еще не знает, что это произойдет через шесть месяцев, она еще не знает о маленькой пьяной драке в Ропше, после которой вдруг выяснится, что бывший император Петр III и прежде страдал «припадком гемороидическим», но она знает, что чудесное превращение произойдет, — лейб-кампанец, преданно отдающий ей честь (многие зрители считали его лучшей фигурой в картине Ге), тому порука; через шесть месяцев такие вот бравые воины, измайловцы да семеновцы, будут целовать екатеринино платье, кричать: «Веди! Матушка!»
Ге своей картиной о Екатерине переступил грань российской истории, дозволенную цензурой. «Петр и Алексей» пришелся на самую грань. Герцен, когда узнал про знаменитое цензурное распоряжение, писал: «Устрялов напугал царевичем Алексеем. Пожалуй, эдак и бог знает что расскажут о всех псевдо-Романовых».
«Екатерина II у гроба императрицы Елизаветы» — вещь, крепко связанная с Герценом, с его работой по превращению тайной истории в явную. От нее прямая дорожка к «Запискам Екатерины II». Герцен издал их в 1859 году. Агенты русского правительства скупали экземпляры книги по всей Европе. Но Ге ее, конечно, читал. «Записки» вышли на русском, французском, немецком языках, даже на шведском. Герцен во французском предисловии писал: «Зимний дворец с его административной и военной машиной представлял собой особый мир… За тройною цепью часовых, в этих тяжеловесно украшенных гостиных кипела лихорадочная жизнь, со своими интригами и борьбой, со своими драмами и трагедиями. Именно там ткались судьбы России, во мраке алькова, среди оргий — по ту сторону от доносчиков и полиции».
Молодая принцесса, одаренная умом, хитростью и недюжинным талантом лицедейки, попала в эту машину и не только выдержала, но пробралась, где бегом, а где ползком, между колес и плотно пригнанных шестерен до той самой заветной рукоятки, с помощью которой управляют машиной.
Молодой принцессе не всегда приходилось сладко, но цель перед ней была слишком заманчива. Ее, случалось, обижали, — она шла к Елизавете Петровне и просила прощения: «Виновата, матушка». Когда умер ее отец, ей разрешили плакать восемь дней; на девятый она напудрилась и отправилась веселиться. Ее супруг, наследник российского престола, развел в спальне собак, судил военным судом крыс и вешал их, согласно приговору, — она играла с ним в игрушки, до них он был охотник, и смеялась его рассказам о любовных похождениях. За ней шпионили даже в супружеской постели. Ей предложили от имени Елизаветы Петровны двух любовников для продолжения «династии» — она вытерпела и это (и даже не заставила повторять приказ дважды). Она и не то могла вытерпеть: «Далеко не безразличной была для меня русская корона» — вот что все решало.
«Матушка! Избавительница! Прикажи! Веди!» — кричали семеновцы и измайловцы, припадая к ее подолу. Она приказывала, вела, но не о них пеклась избавительница и матушка. «Спасти самое себя, моих детей и, может быть, все государство от тех гибельных опасностей, в которые несомненно ввергли бы их и меня нравственные и физические качества этого государя…» — определяет она цель, не скрывая ни лицемерия, ни интриг: «Соблюдать свои интересы по отношению к публике так, чтобы сия последняя видела во мне спасительницу общественного блага».
Вот кого писал Ге в те дни, когда перед театром на Невском готовили площадку для памятника, когда из типографских машин вылетали картинки — улыбчивая «матушка» с голубой лентою через плечо и вокруг веселые разноцветные генералы, когда Погодин молитвенно стоял перед портретом в Московской думе и пытался расшевелить безгласных гласных.
Трагедия и «острая тема»
Картина Ге успеха не имела. Не то чтобы «вовсе» не имела, как потом вспоминал Стасов, — о ней говорили, даже спорили.
В письмах знакомых к Поленову читаем: «Говорят, хорошо. Я не понял», «Хвалят эффект, но, право, не хорошо». Значит, кто-то говорил, что «хорошо», кто-то «хвалил эффект». Но Ге на высоте после «Петра и Алексея», как и после «Тайной вечери», неуспех равен для Ге провалу.
В отзывах Ге упрекают за просчеты: фигуры нехороши (разве что лейб-кампанец), Екатерина «похожа на Матрену», «соединение двух светов, огненного и денного», совершенно не удалось, все подмалевано, и подмалевано вяло, декоративно, туманно.
«Идея в картине есть, но… художник, очевидно, с нею не совладал». «Сюжет его всегда интересен, прочувствован и оригинален, но он плохо справляется с техникой. Он лучше мыслит, чем исполняет». Таков был общий глас. Но дело, конечно, не только в технике. Живопись поздних работ Ге часто приводила зрителей в ужас, но вокруг картин кипели страсти, шли баталии. «Екатерину» отвергали вяло, а если за что и хвалили — тоже как-то мимоходом. Она не вызвала интереса — вот в чем дело.
Острота темы не спасала, потому что тема не была решена. Напомнить о 1762 годе еще мало. Письмо к издателю, напечатанное Герценом при русском переводе «Записок Екатерины II», кончалось словами: «Пусть утешатся друзья Истории: истина когда-нибудь да выходит наружу». Сообщить зрителю, что императрица была интриганка и лицемерка — истина чуть выше уровнем, чем «лошади кушают овес». В этой истине нет Истории (с большой буквы). Для «Петра и Алексея» Ге ее нашел — это картина о том, как в стенах дворца сложно и запутанно решались судьбы страны, народа. В новой картине за тройною цепью часовых решаются судьбы Екатерины. Герцен напечатал ее «Записки» не потому, что обнаженно описан грязный дворцовый быт, — за этими описаниями он увидел материал огромной взрывной силы. Не зря правительственные агенты шныряли по Европе, движимые идиотской мыслью скупить тиражи. Ге взялся за тему ради этого материала, но не нашел для него способа выражения, «живой формы» не нашел.
Он писал: «Мне хотелось изобразить здесь рознь между Екатериной II и Петром III». Уже в этом кроется какой-то просчет. Рознь — не драма, не трагедия. Ге — честный человек, он не заставляет себя сказать: «драма». «Рознь» между Екатериной II и Петром III — дворцовая интрига, не более. Петр Великий думал и говорил про «отечество мое и люди», Екатерина, присвоившая себе тот же титул, — о том, как «спасти самое себя» и «соблюдать свои интересы». Здесь Ге не нашел решения.
Картина слишком откровенна, она не зовет к раздумью; в искусстве подчас лучше, когда дважды два — пять, а не четыре. Зритель, прочитав в каталоге название, тотчас припоминает, что Екатерина лицедействовала у гроба Елизаветы Петровны; картина вяло подтверждает это.
Есть карандашный набросок — там композиция острее: Екатерина и ее супруг столкнулись, что называется, на пороге. Ге почему-то от нее отказался — может быть, боялся в поединке взглядов повторить «Петра и Алексея». Но и по наброску видно, что композиция не решила бы задачи. Просчет глубже. Трудясь над «Петром и Алексеем», Ге боялся случайно перескочить из «исторической картины» в «исторический жанр». Его опасения оправдались, когда он писал «Екатерину у гроба Елизаветы». Шагнул вместе с Екатериной через заветный порог, но очутился не в Истории, а в соседнем дворцовом покое.
Дважды два. О хрестоматийности
Картина Ге «Пушкин в Михайловском» очень известна. Ее воспроизводят в школьных хрестоматиях и на обложках тетрадей. Это плохой признак. Слово «доступный» имеет несколько толкований, среди них — «легкий для понимания» и «дешевый».
«Широко доступные» создания искусства воспроизводил на своих страницах рядом с изображениями торжественных церемоний и портретами иноземных принцев журнал «Всемирная иллюстрация». Этот журнал считал полотно «Пушкин в Михайловском» «лучшею картинкою в отделе живописи историко-анекдотической у профессора Ге». Наверно, потому, что эта «картинка» очень мало похожа на живопись Ге и вполне могла принадлежать другому профессору.
«Пушкин в Михайловском» — удивительная картина: другой такой в творчестве Ге не найти. Это благодушная картина. Нет ни драмы, ни столкновения. Ни разлада с самим собой, — от которого мучился Христос, тосковавший в Гефсиманском саду.
Картина ясна уже в каталоге. Она тоже слишком дважды два. Для Ге она уже по замыслу неудачна. Ее могла спасти глубина и сложность характеров. Но характеры незначительны — словно выплеснуты из кувшина на мелкие тарелки. Характеры почти неощутимы. Герои бесхарактерны, внешни, они — лики.
Удивительно, как Ге, снявший нимб с Христа, нашедший своего Христа, потерял Пушкина, Пущина, надел на них нимбы. Трудно поверить, что это Ге писал тревожного, всклокоченного богочеловека, — Пушкин и Пущин благополучны, милы лицом, приглажены. Не будь у Пушкина характерной его внешности, ему грозила бы опасность превратиться в Бенедиктова, в помещика, балующегося стишками, в собственного Ленского. Если Ге суждено было раз в жизни написать икону, то это «Пушкин в Михайловском».
Есть сведения, что вначале Ге намеревался дать на картине настоятеля Святогорского монастыря. Возможно, это все бы переменило. Появление настоятеля поломало бы благодушную обстановку. Пущин вспоминал, как с приходом монаха присмирел Пушкин, как раскрыл Четьи-Минеи, объяснил: «Я поручен его наблюдению». Ге был чуток: он бы почувствовал пушкинское одиночество в глуши лесов сосновых, трагедию поэта под надзором.
Стасов писал про картину: «Никому она не понравилась, никого она не затронула, не восхитила». Ну, положим, многим понравилась и даже восхитила кое-кого. Были и статьи хвалебные. Не следует забывать, что «Пушкин в Михайловском» — чуть ли не первое полотно, посвященное жизни поэта. Картину купил Некрасов. Очевидец вспоминал последние дни Некрасова: «Некрасов лежал спиной к окнам и лицом к стене, с которой смотрел сосланный в деревню Пушкин, читающий Пущину стихи (картина Ге)». Очень нравилась эта картина Суворину, он даже статью о ней написал. Суворин увидел на картине новую Россию — «пробудившуюся, радостную, любящую, исполненную надежд и стремлений, Россию, которая повторяла на всех концах своих вдохновенные речи своего поэта». Суворин говорит правильно, но его слова не имеют отношения к Ге. Всякое изображение Пушкина и Пущина было изображением новой, исполненной надежд России 1825 года, но ведь мало в искусстве что, а важно и как.
Суворин чрезмерно поднял «Пушкина в Михайловском». Надо соотнести картину с творчеством и возможностями Ге. Картина имела даже успех, но не тот, к которому привык Ге. Хвалебные отзывы вялы, безжизненны: «Картина имеет много достоинств, но не чужда и недостатков…» Она понравилась, но «не затронула», — тут Стасов прав. А Ге привык «трогать», даже когда не нравится.
Это теперь «Пушкин в Михайловском» кажется специально созданным для хрестоматий. Ге замышлял картину — с монахом или без, — конечно, острой, трогающей. Он имел основания надеяться — упоминания о 1825 годе по-прежнему будоражили мысль. В 1875 году исполнилось полвека со дня восстания на Сенатской площади. Так что картина вроде бы опять «юбилейная».
В 1859 году журнал «Атеней» напечатал «Записки о Пушкине», написанные «другом бесценным» поэта, декабристом Иваном Ивановичем Пущиным. Цензура их исказила и обкорнала. Вмешался Герцен — и поместил в «Полярной звезде» исключенные цензурой отрывки. Так что и от новой картины Ге тянутся корни к Герцену.
В начале семидесятых годов появились книги П. В. Анненкова — «Материалы для биографии Пушкина» (второе издание) и «Пушкин в александровскую эпоху», работа А. Н. Пыпина «Очерки общественного движения при Александре I». Был объявлен конкурс на проект памятника Пушкину (Ге участвовал в конкурсе). Любовь к Пушкину, к его поэзии как бы воспламенилась с новой силой. Неспроста это. После известной статьи Писарева: «Пушкин и Белинский» — «В так называемом великом поэте я показал моим читателям легкомысленного версификатора… совершенно неспособного анализировать и понимать великие общественные и философские вопросы нашего века», — статьи, которая на годы отвлекла взоры общества от Пушкина, великий поэт вновь оказался современным и нужным. Всеобщее внимание к Пушкину питало замысел картины.
…Январь 1825 года. Пушкин и Пущин. Пушкин и декабристы.
Ге открыл записки И. И. Пущина:
«Я привез Пушкину в подарок Горе от ума; он был очень доволен этой тогда рукописной комедией, до того ему вовсе почти незнакомой. После обеда, за чашкой кофе, он начал читать ее вслух…»
Зритель заметит на картине эту самую чашку кофе.
Ге, когда объяснял картину (он даже ее объяснял!), утверждал, будто Пушкин читает привезенный Пущиным Устав Северного общества.
Неизвестно, много ли открыл Пущин своему другу. В «Записках о Пушкине» говорится, что почти ничего не открыл. «Может быть, ты и прав, что мне не доверяешь», — сказал Пушкин…
Но пусть у Ге были на руках верные, утраченные со временем свидетельства, пусть он знал — Пущин доверил, все рассказал поэту. Устав дал прочитать, — что оттого?..
Что оттого, — если Ге уверял знакомых, будто Пушкин читает Устав (в декламационной позе, при няне с чулком), а знакомые и незнакомые были уверены, что «Горе от ума». От объяснений Ге дух декабризма не ожил в картине.
Герцен, печатая Пущина, иллюстрировал Историю, а Ге всего-навсего иллюстрировал Пущина.
Усердный труд и чувство истории
Он трудился старательно.
Ге вообще старательно трудился над историческим материалом. «Рьяно и усердно», по определению Стасова.
Когда писал «Петра и Алексея», изучал прижизненные портреты — живописные и скульптурные. Пробрался даже в закрытые комнаты Зимнего, чтобы увидеть нужный портрет царевича.
Для «Екатерины II» он снова копировал портреты: лица, составившие на полотне толпу, написаны с изображений екатерининских вельмож; архитектура, мебель, костюмы — все ему было необходимо! Траурное одеяние самой Екатерины Ге взял, видимо, с портрета, рисованного Чемесовым. Рисунок сделан по заказу Потемкина — государыня очень нравилась ему в трауре.
Сохранилось свидетельство самого Ге о работе над историческими источниками. В 1875 году он собирался написать несколько «священных изображений» для Храма Спасителя. Среди них было «Благословение преподобным Сергием Великого князя Дмитрия на брань против татар». Ге не знал, поручат ли ему работу, а потому «должен был, по краткости времени, ограничиться следующими источниками: Житие преподобного и богоносного нашего Сергия Радонежского 1853 из Троицко-Сергиевой Лавры, История Государства Российского Карамзина с полными примечаниями 1842, История России С. Соловьева, История в жизнеописании ее главнейших деятелей Н. Костомарова. Знакомство же с источниками, которыми я мог бы воспользоваться только на месте действия, я отложил до времени исполнения предварительных работ…»[30].
К работе над «Пушкиным в Михайловском» Ге готовился особенно тщательно. Копировал знаменитый, кисти О. Кипренского, портрет поэта, в семье Данзасов изучал гипсовую маску Пушкина. Ге и в Михайловское отправился — смотреть «опальный домик» и Тригорское посетил, где застал в живых пушкинских соседок — они ему рассказали, что и как было, какая обстановка, одежда, все подробно. По дороге он писал пейзажи — Святогорский монастырь, могилу поэта. Но ему мало. У петербургских друзей увидел стол и кресла двадцатых годов — набросал. Заметил подходящую ширму — тоже зацепил. Печку отыскал в квартире Пармена Забелло. Как сорока в гнездо, тащил в картину что под руку попадалось. Словно верить себе перестал — разве не он с одного раза принес в голове из Петергофа целый кабинет петровского времени!
В картине «Пушкин в Михайловском» много всякого и нет главного. Три фигуры разделены вещами, которые существуют сами по себе и не служат людям. Вещи требуют пристального разглядывания; поначалу же кажется, что холст пустоват, не заполнен, что фигуры следовало бы сдвинуть поближе, а то они как-то разбросаны среди вещей по слишком просторной комнате. Картина не сосредоточена, не «собирает ум». Как далеко это от «Тайной вечери», где художник сумел в тесном углу усадить Христа со всеми апостолами.
Историк, возможно, отметит полную достоверность каждого предмета, перенесенного на полотно. Но историческая картина — не выставка предметов той или иной эпохи. Черепки, даже тщательно, по счету, подобранные, — не кувшин. Их надо подогнать один к другому, соединить, замазать щели. У кувшина своя «живая форма», своя цельность; целый кувшин можно наполнить.
Историческая картина начинается с целого: в художнике рождается чувство Истории, захватывает его. Он не таскает из прошлого материал по кусочкам — он уходит в прошлое или прошлое живет в нем, — они сплавлены воедино. Так, Ге в Петербурге семидесятых годов девятнадцатого столетия видел и чувствовал повсюду Петра, его реформы. Когда он отправился в Петергоф за кабинетом, кувшин уже был готов в его воображении. Недоставало одного черепка — он его принес и безошибочно вклеил на место.
Путь от «Петра и Алексея» до «Пушкина в Михайловском» — путь потери себя. В чересчур скрупулезном выискивании малозначащих деталей для последней картины ощущается смятение, насилие художника над собой. Картины о Екатерине II и о Пушкине, видимо, окончательно ему доказали, что «живая форма» рождается для откровений.
Ге еще пишет портреты — хорошие портреты; выставляет — дескать, жив курилка! Но сам-то он знает, что курилка чуть живой. Стоял, стоял на перепутье, выбирал — прямо пойти, налево, направо. Выбрал, тронулся в путь… и пришел опять на перепутье.
Портреты. Русская литература
Да не подумает, однако ж, читатель, что мы требуем от писателя изображения людей идеальных… нет, мы требуем от него совсем не людей идеальных, а требуем идеала.
М. Е. Салтыков-ЩедринПо четвергам на 7-й линии
Николай Николаевич Ге жил в доме № 36 по 7-й линии Васильевского острова. Он занимал небольшой флигель во дворе, выстроенный в русском монастырском стиле. Возможно, флигель был снят не случайно: увлечение русской историей определило выбор квартиры. На Николая Николаевича это похоже. Гости удивлялись лестнице, украшенной толстыми колоннами.
Ге принимал по четвергам.
Репин пишет: «По четвергам собирались у Ге самые выдающиеся литераторы: Тургенев, Некрасов, Салтыков, Костомаров, Кавелин, Пыпин, Потехин; молодые художники: Крамской, Антокольский; певец Кондратьев и многие другие интересные личности».
Список можно дополнить. Во флигеле бывали, конечно, Мясоедов, Перов, М. К. Клодт. Актер и писатель Иван Федорович Горбунов. Адвокат и библиограф Виктор Павлович Гаевский. Известный либеральный деятель, Алексей Михайлович Унковский. Бывал ученый-почвовед Павел Андреевич Костычев. Его жена, Авдотья Николаевна, позировала Ге для Екатерины II. Бывал Александр Николаевич Серов, композитор и музыкальный критик. Бывали тверские дворяне Бакунины, братья Михаила Александровича.
Перечень портретов, написанных Ге в Петербурге, многое говорит о его знакомствах. От каждого портрета тянется тропа — она всякий раз приводит в новый кружок, новое общество или содружество: вырастает та самая «целая толпа», которая, по словам Стасова, постоянно окружала Ге, пока он жил в столице.
Даже портреты, на первый взгляд официальные, расшифровываются, как частные. Ге написал, например, министра финансов, графа Рейтерна — куда официальнее! Но граф был старым знакомым Салтыкова-Щедрина, его лицейским товарищем.
Стасов сообщает, что в Петербурге Ге написал всего один заказной портрет — адмирала Панфилова. Александр Иванович Панфилов был участником обороны Севастополя. Он последний на быстроходной шлюпке под неприятельскими ядрами покинул город. В 1874 году собирались широко отмечать пятидесятилетие морской службы Панфилова. Скорее всего, портрет адмирала был заказан Ге к юбилею. Так что, кроме заказа, художника мог подстегивать интерес к личности Панфилова.
При всей привлекательности имен полезно отделить кратковременные знакомства, пусть увлеченные и пламенные, от прочных дружеских связей. Знакомство с Тургеневым было пылким и недолгим. Но пока Иван Сергеевич был проездом в Петербурге, пока Ге писал его портрет, они появлялись вместе в обществе, в мастерских художников, нежно поддерживали друг друга под руку и говорили, говорили.
Салтыков-Щедрин приезжал к Ге по четвергам. Молча оглядывал гостей суровыми, несколько выпуклыми глазами. Кто-нибудь из новичков неизменно пытался уступить ему место, что Михаила Евграфовича крайне раздражало. На столах в зале были разложены свежие номера журналов. Салтыков-Щедрин небрежно перелистывал один, другой; не меняясь в лице, отпускал иронические замечания. Шутки его были, как хороший выстрел, — неожиданны и точны. Говорят, вот так же, со строгим, неприступным лицом, смеялся Свифт.
Салтыкова-Щедрина после «Истории одного города» часто сравнивали со Свифтом. Ге это сравнение тоже приходило в голову. Во время сеанса он заговорил о городе Глупове с Тургеневым. Иван Сергеевич сказал:
— Удивительная несдержанность, дикая игра воображения и вместе с тем непоколебимый здравый смысл. Это свифтовское.
В мастерской стояли «Вестники воскресения», «Христос в Гефсиманском саду». Ге показал картины Ивану Сергеевичу:
— Критики меня ругали за то, что Магдалина велика ростом, за то, что Христос мрачен и небогоподобен, но если картины не удались, то, наверно, не поэтому. Щедрин пренебрегает канонами во имя высшего смысла…
На просторах Российской империи широко раскинулся, расползся невероятный и привычный город Глупов. Город подступил к самым окнам флигелька на 7-й линии, все вокруг томилось под «игом безумия». Градоначальники — Брудастые, с органчиком в голове, исполняющим всего две «пьесы» — «Раз-зорю!» и «Не потерплю!», Угрюм-Бурчеевы, замыслившие втиснуть весь видимый и невидимый мир в прямую линию, притом с таким непременным расчетом, чтобы нельзя было повернуться ни взад, ни вперед, ни направо, ни налево, — были фантастически невероятны и повседневно привычны. В глуповских градоначальниках и чиновниках узнавали всем известных государственных деятелей и вельмож, узнавали российских государей. Салтыкова-Щедрина то и дело спрашивали о прототипах.
5. Портрет М. Е. Салтыкова-Щедрина. 1872
6. Портрет Н. А. Некрасова. 1872
— А что, Парамоша, инспектор глуповских училищ, — это, наверно, Магницкий, попечитель Казанского учебного округа при Александре I, злобный враг науки?
Щедрин объяснял:
— И Магницкий, и нынешний Дмитрий Толстой, и вообще все люди известной партии.
Граф Дмитрий Андреевич Толстой, обер-прокурор синода и министр народного просвещения, проводил в то время свою реформу учебных заведений, поставив цель «отклонить» среднее и неимущее сословие от высшего образования. Доступ в университеты открывали только гимназии для дворянских детей.
Сыновья Ге учились в гимназии. Из смышленых, востроглазых итальянцев Коко и Пепе они превращались в степенных российских отроков Николая и Петра.
Репин вспоминает, что на дверях детских комнат были прикреплены вывески: «Переплетчик Николай Ге» и «Столяр Петр Ге». Ге как бы добровольно отказывался от привилегий классического образования, которые предоставлял его детям-дворянам министр народного просвещения. Занятия ремеслами граф Дмитрий Толстой предполагал полностью передать низшим классам. Ге объяснял Репину, что «хочет приохотить к ремеслам» сыновей, «чтобы у них в жизни всегда была возможность стоять на реальной почве».
Стасов опровергает Репина. Он ссылается на Николая Николаевича Ге сына, который объяснял, что ремеслами они стали заниматься не по настоянию отца, а по собственному желанию. «В те времена шла везде речь, как в России вообще, так и в Петербурге, в частности, о работе, необходимой для каждого, об обязательности и благородстве труда, об артелях и т. д., и вот они, много наслушавшись всех этих речей, затеяли у себя дома нечто в этом же роде; стали заниматься, как могли, столярством и переплетничаньем и сами же смастерили себе вывески».
Но эти слова вовсе не опровергают рассказа Репина; они свидетельствуют о том, что Ге воспитывал сыновей бережно, без нажима. Где-то ведь наслушались они «всех этих речей» «о работе, необходимой для каждого, об обязательности и благородстве труда, об артелях» — вряд ли в классической гимназии графа Дмитрия Толстого! Вряд ли чопорный латинист в вицмундире с латунными пуговицами советовал ученикам устраивать домашние мастерские. Но по соседству с мастерскими — в зале — были разложены на столах свежие номера «Отечественных записок», «Вестника Европы», «Дела»; здесь, в зале, собирались великолепные ораторы, и одним из лучших был Николай Николаевич Ге — отец. Его речи увлекали не только собственных сыновей. Вот откуда, надо полагать, проникали идеи в детские комнаты. А Репину, взрослому человеку, товарищу, Ге все объяснил деловито, по-взрослому: стараюсь-де приохотить детей к труду, к ремеслам.
В положенный час мальчиков отправляли спать. Они степенно шаркали ножкой. Михаил Евграфович поднимал глаза от карт, смотрел им вслед, ругал дурацкий классицизм Дмитрия Толстого, с которым, кстати сказать, он вместе учился в лицее.
«Устав о свойственном градоправителю добросердечии», действовавший в городе Глупове, требовал: «Просвещение внедрять с умеренностью, по возможности избегая кровопролития».
По пятницам на Надеждинской
Салтыков-Щедрин хотел издать «Историю одного города» с иллюстрациями Ге. Издание не состоялось. Возможно, Ге делал наброски к глуповской летописи, но они его не удовлетворили. А возможно, он просто отказался от иллюстрирования: книжной графикой Ге до этого не занимался — ощущал себя живописцем.
Через пятнадцать лет он объявит картины «клеенкой», ненужными ухищрениями: служи народу простым — бумагой и угольком. Эта теория не помешает ему написать свои лучшие картины. Но, пожалуй, неплохо, что была в его жизни пора безудержного увлечения «угольком». Он захотел сделать рисунки к рассказам Льва Толстого. Множество проб показались ему неудачными. Потом он понял, что художник не вычитывает рисунки в тексте рассказа, а находит их среди мыслей, чувств и образов, которые пробудило чтение. Рисунки должны соответствовать не тексту, а духу рассказа. Над первой иллюстрацией он пробился довольно долго. Вторую сделал за день. Когда Ге приехал к Толстому в Москву, он рисовал прямо за разговорами, в гостиной. Все, что ему нужно было, чтобы творить, в нем жило. Лев Николаевич с удовольствием просматривал лист за листом и весело спрашивал: «Откуда он все это достает?»
Салтыков-Щедрин предполагал засадить Ге за рисунки к «Истории одного города» вскоре после приезда художника из Италии. Это очень важно: Ге уже несколько лет ходил в неудачниках (или в счастливчиках — для тех, кто «Тайную вечерю» считал счастливой случайностью), а вот Салтыков-Щедрин в него верил. Салтыков-Щедрин относился к творчеству Ге с особым пристрастием: по существу, вся его деятельность как критика живописи исчерпывается на редкость доброжелательными статьями о двух картинах Ге.
Ге познакомился с Салтыковым-Щедриным еще до отъезда за границу; появившись с «Тайной вечерей», возобновил знакомство. Когда Ге поселился в Петербурге, он был среди «постоянных или частых посетителей» «пятниц» в доме Алексея Михайловича Унковского, близкого друга Салтыкова-Щедрина. С Унковским и теми, кто непременно являлся на «пятницы», у Салтыкова-Щедрина отношения были домашние, почти родственные, — это одна «компания», в ней все решается запросто, здесь Салтыков-Щедрин, что называется, «в халате и туфлях». Не будем определять меру близости Николая Николаевича Ге к «компании мушкетеров», как называл Салтыков-Щедрин кружок своих домашних друзей. Для нас важно, что Ге постоянно приезжал на Надеждинскую улицу, к Унковским: «пятницы» составились не случайно. Сын Унковского писал: «Салтыков и все прочие считали обстановку клубов крайне для себя стеснительной, потому что они были людьми известного направления, с определенными взглядами, тогда как клубы в то время были полны людьми сборными… Михаил Евграфович не мог побороть своей нелюдимости и боязни встретить там людей не только не сходных, но даже прямо противоположных воззрений».
В воспоминаниях писателя Боборыкина находим Ге рядом с Салтыковым-Щедриным в еще более узком кругу основных сотрудников «Отечественных записок»: «К себе Некрасов приглашал на обеды только некоторых сотрудников… Иногда был приглашаем Плещеев и всегда Салтыков… Обедывал у него и художник Ге, писавший в одну из тех зим портреты его и Салтыкова».
Но, видимо, Ге был приглашаем на обеды не только с практической целью. Портреты готовы, а Некрасов пишет Пыпину:
«Посылаю Вам книгу с моей поэмой и прошу отзыва (т. е. непечатного). Я вставил почти все, что побоялся напечатать.
Мне тоже очень хотелось прочесть Вам мою поэму в рукописи, и я все собирался заехать к Вам или попросить Вас к себе, услыхав от Ге, что Вы ею интересуетесь».
Речь идет о «Княгине Волконской», которую Некрасов посылал Пыпину, восстановив доцензурный текст. Некрасов и Пыпин — люди близкие; Пыпин был сотрудником и некоторое время даже редактором «Современника». Некрасов помогал через Пыпина ссыльному Чернышевскому и его семье деньгами. Теперь Ге сообщает Некрасову желание Пыпина прочитать рукопись «Княгини Волконской» — такая доверительность о многом говорит.
Сохранился карандашный набросок рисунка Ге к «Русским женщинам». Княгиня сидит за столом — это либо чтение приговора, либо семейный обед, когда она произнесла свое «Я еду!».
Ге недавно появился в Петербурге, но у него скоро установились тесные отношения с кружком Салтыкова-Щедрина, Некрасова, с «людьми известного направления», связи между которыми проверены временем. Над этим стоит задуматься.
Репин назвал Салтыкова-Щедрина и Некрасова обычными гостями «четвергов» Ге. Но Михаил Евграфович заезжал в мастерскую Ге и «просто так», «между делом», «средь бела дня». Такими визитами немногие могли похвастать.
Портрет Салтыкова-Щедрина назревал с такой же неизбежностью, как портреты Герцена и впоследствии Льва Толстого.
Жгучая боль борца. Салтыков-Щедрин
Михаил Евграфович сказал однажды:
— Вот умру, будут про меня одни только анекдоты рассказывать. Обидно…
Про Салтыкова-Щедрина рассказывали множество анекдотов — про его прямоту, грубость, раздражительность. Передавали разящие реплики, разносили язвительные клички, которыми он награждал окружающих. Ге замечал: остроты Щедрина даже пересказывают боязливо, однако с какой-то едва приметной снисходительностью. Снисходительной интонацией — чудит, дескать, человек! — как бы отводили меткие, прямо в глаз, удары Щедрина.
Ге знал больше анекдотов, чем многие другие. Он видывал Михаила Евграфовича и за ломберным столом, и возле графинчика, и в кругу друзей, где церемонии неуместны. Но ему случалось видеть молчаливого, задумчивого Щедрина — он сидел в кресле, укутав колени мягким пледом, и словно забывал об окружающих; хмурость в глазах его сменялась страданием.
Щедрин был разный. Ге искал своего Щедрина. Ге знал, что все зависит от точки видения. Свифт отлично доказал это, сделав своего Гулливера сначала великаном среди лилипутов, а после — лилипутом среди великанов. Нужно найти свой взгляд.
Михаил Евграфович заметил на подоконнике отброшенный, позабытый эскиз.
— Мне хотелось написать нашего поэта Кольцова в степи. Гонят скот, а прасол, потупя очи долу, сочиняет стихи, — объяснил Ге.
— Это может быть картина о поэзии обыденного, — поддержал Салтыков-Щедрин. — Кольцов изнутри взглянул на русскую простонародную жизнь. У него был свой взгляд. Бытовые предметы — коса, метла, ковш — стали в его стихах поэзией.
Ге не признался, что уже оставил мысль написать Кольцова. Он снова ненадолго погрузился в замысел.
— Все вокруг светится поэзией Кольцова, а он одинокий, измученный своим прасольством, своей неудавшейся жизнью…
Салтыков-Щедрин сказал:
— Это первая картина из жизни русского писателя.
— Для меня это первая попытка написать историческую фигуру: я набрасывал эскиз еще до «Петра и Алексея».
Щедрин продолжал свое:
— Поэзия и драма в русской литературе непременно рядом…
Если бы в анекдотах про Щедрина рассказывали только о его раздражительности за картами!.. После «Истории одного города» некто А. Б-ов тиснул в «Вестнике Европы» хлесткую статейку — Щедрин-де глумится над народом. И вокруг запричитали: «глумится», «глумится»… Под псевдонимом «А. Б-ов» спрятался Суворин. Суворин защищал народ от Салтыкова-Щедрина.
Салтыков-Щедрин писал Пыпину: «Изображая жизнь, находящуюся под игом безумия, я рассчитывал на возбуждение в читателе горького чувства, а отнюдь не веселонравия».
Он объяснял: градоначальник с фаршированной головой, который управляет судьбами тысяч людей с помощью двух романсов: «Не потерплю!» и «Раззорю!», — это не смех, а трагедия.
Может быть, поэтому Михаилу Евграфовичу хотелось, чтобы рисунки к «Истории одного города» сделал автор «Тайной вечери» и «Христа в Гефсиманском саду», никогда не пробовавший сил в жанре, тем более в карикатуре. Ге не иллюстрировал «Истории одного города», но прочитал Щедрина правильно. Он не стал рисовать градоначальников, фаршированных или порхающих по воздуху. За текстом глуповской летописи Ге прочитал трагедию сатирика, который переплавляет боль в смех.
Ге написал Салтыкова-Щедрина в 1872 году.
В 1871 году, когда шли споры об «Истории одного города», Ге лепил бюст Белинского. Трудно сказать, почему он обратился к скульптуре. Возможно, его привлекла монументальность. Скульптура не была «очередным» увлечением. За свою жизнь Ге брался лепить несколько раз, с большими перерывами. Через двадцать лет после бюста Белинского он сделает скульптурный портрет Льва Толстого. Герцена он не лепил. Но Герцена во Флоренции лепил Пармен Забелло. Он же сделал бюст Шиффа. Забелло вообще часто дублировал в скульптуре живопись Ге: он — автор бюстов Тургенева, Некрасова, Салтыкова-Щедрина.
Может быть, Ге подтолкнуло к скульптуре знакомство с Антокольским. Как раз в это время он обнаружил молодого скульптора и переживал период «острой влюбленности». Антокольский заходил в мастерскую, издали, склонив по-птичьи голову набок, разглядывал работу. Потом быстрым уверенным шагом подходил к станку, показывал, как лучше сделать. Иногда молча брал маленький кусочек глины, слегка разминал в пальцах и прилепливал удивительно точно. Ге чувствовал силу этого худого красивого юноши с черной растрепанной бородкой, слушался его. Когда работа была закончена, Антокольский, поворачивая голову, как петушок, долго ее оглядывал то левым глазом, то правым: ему не очень нравилось, но он ничего не сказал Николаю Николаевичу, только посоветовал: «Вылепите несколько книг стопкой и поставьте на них бюст». Ге не стал переспрашивать, сделал подставку из книг — и охнул: вышло чудо как хорошо!
Бюст скоро сделался известен. Была проведена денежная подписка — подписчикам рассылали гипсовые копии. Тургенев просил прислать копию бюста в Париж. Строгий Стасов даже через три десятилетия вспоминал — есть на свете превосходный бюст Белинского, работы Ге.
В 1877 году в Женеве увидела свет книга «Из-за решетки» — сборник стихотворений русских политзаключенных. Одно из стихотворений называлось «К бюсту Белинского». Похоже, что революционные стихи относятся к бюсту, сделанному Ге.
Голос поэта прорвался из-под каменной толщи каземата.
На первой странице книги стояло: «Посвящается нашим политическим предшественникам». Поэт обращался к Белинскому:
…Зачем не торжество борца, Не мир души в нем отразились, — Черты прекрасного лица Туманом скорби омрачились? Зачем нельзя в них прочитать, Что все сбылись твои желанья? На них глубокая печать Невыразимого страданья.Автор стихотворения, молодой революционер Сергей Синегуб, нашел точные слова: они помогают услышать то, что хотел сказать Ге, когда лепил Белинского, когда писал портреты русских литераторов, своих современников. Стихотворение прокладывает курс от бюста Белинского к портрету Салтыкова-Щедрина.
За три года до смерти Щедрин подводил итоги: «Ах, это писательское ремесло! Это не только мука, но целый душевный ад. Капля по капле сочится писательская кровь, прежде нежели попадет под печатный станок. Чего со мною не делали! И вырезывали, и урезывали, и перетолковывали, и целиком запрещали, и всенародно объявляли, что я — вредный, вредный, вредный».
И все же Щедрин выходил победителем. Иначе не стали бы его «вырезывать» и «урезывать». Щедрин выглядел победителем даже в анекдотах: укладывал остротой, бил наотмашь грубой мужицкой шуткой.
Сложился, стал привычным образ борца, обличителя. После Ге писал Салтыкова-Щедрина и Крамской, — наибольшую известность получил портрет, выставленный в Третьяковской галерее. Щедрин на портрете соответствует общему представлению: проницательно умен, силен духом и победительно-монументален.
Но работа Крамского над портретами Щедрина имеет долгую и сложную историю. В конце января 1877 года Щедрин согласился позировать Крамскому — портрет был заказан Третьяковым для своего собрания. Щедрин писал потом, что Крамского лично «почти не знал»: «Он двукратно снимал с меня портреты по заказам». В последних числах марта художник уже сообщал Третьякову, что портрет окончен, причем в сравнении с первоначальным замыслом претерпел большие изменения. Третьякову непременно хотелось, чтобы Салтыков-Щедрин был написан с руками.
Однако прошло еще два года, пока портрет приобрел известный нам вид, был показан на выставке и попал в галерею. Переделки, доделки — то ли руки Третьякову не нравились, то ли еще что. Есть предположение, что были написаны не два, а три варианта портрета. Для нас важен только один — и не тот, что выставлен в Третьяковке, что стал хрестоматийным.
Был еще — скорее всего первый по порядку — погрудный портрет, теперь полузабытый. Он поражает сходством с портретом работы Ге — тот же поворот головы, те же складки на переносице, даже косая прядь волос, зачесанная на ухо, — та же, но всего замечательнее — выражение лица. Крамской увидел Щедрина таким же, каким семью годами ранее увидел его Ге.
А Ге увидел страдающего Щедрина. И это не противоречило образу. Воля к борьбе, сила обличения рождаются из страдания. «Я взглянул окрест меня — душа моя страданиями человечества уязвленна стала». Нужно страдать вместе с человечеством, с несчастным своим народом, чтобы стать обличителем и борцом.
Михаил Евграфович говорил:
«Я летописец минуты. Мир грустит — и я грущу. Мир вздыхает — и я вздыхаю. Двадцать лет уже тянется моя минута. Двадцать лет перед глазами гнусное зрелище — хищники, предатели, пустосвяты, проституты стараются задушить в обществе признаки порядочности. Двадцать лет я протестую — и несть конца. А во мне — жгучая боль».
Ге написал жгучую боль борца. Боль постоянная не проходит, но человек привык постоянно ее превозмогать, побеждать. Он привык переплавлять боль в смех, ковать мечи из страдания. Лишь иногда он словно забывал об окружающих, обычная суровость исчезала из его взора, в глазах светилась доброта.
Современник писал, что обличье у Щедрина было совершенно русское, схожие лица встречаются в северных губерниях; «только такого прекрасного выражения глаз не скоро найдешь». И добавляет: «Если бы все глаза так смотрели, то истинно человеческой доброты и правды в нашей жизни было бы, вероятно, гораздо больше».
У Ге уже есть опыт. Его «Тайную вечерю» обвиняли в том, что апостолы похожи «на наших земляков-северян». В Петербурге он опять переписывал «Христа в Гефсиманском саду»; прямые аналогии неуместны, но вглядывание в лицо Щедрина ощущается в новых поисках образа Христа, который готовится к подвигу.
Сила и воля борца, готовность к подвигу — в напряженной фигуре Щедрина, в его тяжелых руках, в жесткой неподвижности лица, в строгой складке губ, привыкших к мрачноватой усмешке. И необъятная душевная нежность в глазах — лучистых, добрых, скорбящих. Испытующих. Они заглядывают в вас — в них мелькнула надежда, прорвалась жарким лучом сквозь холодок отчуждения. Глаза неуступчивы. Сделки невозможны. Глаза судии.
С портретом можно общаться бесконечно. Лицо Щедрина непрерывно меняется.
Поэт сказал, обращаясь к своим собратьям:
Любите живопись, поэты! Лишь ей, единственной, дано Души изменчивой приметы Переносить на полотно.Александр Бенуа писал о портретах Ге: «Его портреты так мучительно думают и так зорко смотрят, что становится жутко, глядя на них. Не внешняя личина людей, но точно так же, как в некоторых старых итальянских портретах, самая изнанка — загадочная, мучительная и страшная — вся в них открыта наружу».
Купля-продажа. Штрих к портрету Ге
Павел Михайлович Третьяков просил Крамского написать Салтыкова-Щедрина и Некрасова, хотя знал, что их портреты уже сделаны Ге. В подборе портретов для своего собрания Третьяков был строг и в основном доверял собственному вкусу. Портреты Салтыкова-Щедрина и Некрасова, написанные Ге, ему, видимо, не нравились. Об этом, в частности, можно судить по тому, как требовательно следил Третьяков за работой Крамского над портретом Салтыкова-Щедрина, и по тому, как далеко отошел портрет от первоначального замысла, близкого замыслу Ге.
Даже очень определенно, очень предвзято написанные портреты часто вызывают споры, что же говорить об изменчивых приметах души, перенесенных на полотно Николаем Ге. Один исследователь портретов Некрасова два десятилетия всматривался в работу Ге. Он видел «солидного лысого господина», заменившего «восторг души расчетливым обманом», видел «тревожное выражение лица», видел «правдивое, неприкрашенное изображение облика Некрасова», видел «официальный портрет», видел «одно из лучших портретных произведений Ге», видел «скорее отрицательное (во всяком случае, сдержанное), чем сочувственное отношение» Ге к поэту, не видел «образа поэта, властителя дум». А добрый товарищ Некрасова, известный судебный деятель А. Ф. Кони, называет портрет Ге «превосходным».
Речь идет лишь о разном восприятии портрета. Ге не нуждается в защите. Смешно думать, что Ге написал не того Некрасова. Еще смешнее защищать Некрасова от Ге — он-де был не такой, как на портрете. Про исследователя также не скажешь, что он увидел не то. Сгоряча, наверно, вырвалось только слово «официальный». Ге писал портрет не по заказу — для себя.
В 1870 году Перов сообщал Третьякову — приобрести портрет Герцена, написанный Ге, «было бы для вас очень интересно». Но Ге «писал его для себя и очень им дорожит».
В гостиной сельского дома Ге до самой смерти хозяина висели на стене портреты Герцена, Салтыкова-Щедрина, Некрасова, Тургенева, Пыпина. Проданные портреты Ге заменил копиями. Он не хотел расставаться с теми, кого написал. Это были по-прежнему свои люди. Конечно, из портретов, сделанных в Петербурге, исчезла интимность ранних работ, их семейственность что ли, но вот это личное — портрет «для себя» — осталось. Громадную разницу порой не осознаешь, но чувствуешь, когда читаешь дневник, писанный исключительно для себя, и дневник, который, по предположению автора, могут прочитать другие. Хотя оба дневника искренни и откровенны.
Но Ге — общественный человек; он понимает, что «художник обязан передать образы дорогих людей соотечественников» — в этом смысле он писал «не для себя, а для общества». Он долго не отдавал портретов, они стали частицей его самого, но имел ли он право лишить общество Герцена, Костомарова, Салтыкова-Щедрина, запечатленных его кистью? А тут еще Третьяков. «Вы двадцать лет собираете портреты лучших людей русских, и это собрание, разумеется, желаете передать обществу, которому одному должно принадлежать такое собрание», — пишет Ге Третьякову.
Третьяков просит продать некоторые портреты. Ге наконец решился, но не продать, конечно: «Возьмите в свою коллекцию портреты готовые и все те, которые я надеюсь еще написать, пусть они достанутся обществу согласно общему нашему желанию. — Никаким тут вознаграждениям нет места…»
Ге хотел только оставить за собой право собственности на портреты до тех пор, пока собрание Третьякова не будет подарено городу (либо «для себя», либо «для общества» — и никаких промежуточных звеньев). Но передача портретов Третьякову почему-то не состоялась. А через несколько лет между Ге и Третьяковым начинается переписка о продаже портретов.
Ге в деревне. У него семь тысяч долгу — он должен Третьякову, Сырейщиковым, Костычевым, должен родственникам Анны Петровны, — а денег нет и ждать неоткуда. Третьяков по-прежнему готов купить портреты. В денежных делах Ге человек аккуратный. Он страдает оттого, что не может вернуть долги.
«Несмотря на самое затруднительное время для меня в настоящем, я сделал все, чтобы быть аккуратным», «я немедленно известил, что согласен на всякие уступки, только бы возможно скорее были представлены необходимые деньги — я имел в виду долг мой Вам и другой такой же», «я не извиняю себя, но прошу снисхождения… во всяком случае, я употребляю все старания, не медля ни одной минуты, погасить свой долг»[31]. Это из письма Ге к Третьякову.
Наконец он решается погасить свой долг портретами. Для него это не денежный — моральный вопрос: «Я не говорил фразы или пустые слова, когда говорил, что желаю отдать даром эти вещи…» Но, «несмотря на все мои усилия, я не могу достигнуть того положения, чтобы сделать такой подарок обществу… Что делать — я откажусь от чести подарить обществу, или, лучше сказать, я передам Вам это удовольствие, а Вы за то поможете мне выйти из того положения тяжелого, в каком я нахожусь».
Ге предлагает Третьякову пять портретов — Герцена, Костомарова, Салтыкова-Щедрина, Некрасова, Потехина. Для него это — не «отдельные изображения», а круг близких людей. «Я не могу их дробить!» Но Третьякову нужны только три. В цене они тоже не сразу сходятся. Третьяков предлагает на пятьсот рублей меньше, чем просит Ге, а Ге никак не может уступить — для него вся соль продажи в том, чтобы погасить долг. Ге прибавил к портретам Герцена, Костомарова, Потехина еще и сделанную им копию с портрета Пушкина работы Кипренского. Ге напоминает Третьякову: «Вы меня спрашивали после покупки картины „Петр с Алексеем“, не думаю ли я, что цена была назначена нами ниже настоящей. — Я, как Вы помните, отвечал, что нет, что я считаю ее хорошею для меня. Так как Вы могли думать, что цена несколько мала, то я в свою очередь теперь полагаю, что я спрашиваю более настоящей цены, и утешает Вас в этом случае, что зато при приобретении картины Вы имели утешение, что картина приобретена, во всяком случае, недорого. Насколько Вам приятно приобресть недорого, настолько мне утешительно продать возможно дорого в настоящем моем положении».
Ге не напомнил Третьякову всех подробностей покупки «Петра и Алексея». Третьяков увидел картину еще в мастерской и тут же сказал, что возьмет. А на вернисаже царь просил «оставить за ним» «Петра и Алексея». Ему не посмели доложить, что картина продана, бросились уговаривать Ге. Но Ге — человек слова: государю придется удовлетвориться копией[32]. В письме Крамского, отправленном через несколько месяцев, читаем: «Николай Николаевич делает копию с „Петра“ для его величества».
Наверно, Ге была не очень-то приятна вся эта переписка о продаже портретов. Он не любил и не привык просить, уговаривать, предлагать, торговаться. Ему пришлось за свою жизнь продать несколько картин — это был способ к существованию, но он много думал о том, как избавить художника от такого способа. Он хотел избавить искусство от сделок. Теперь он впервые не просто уступал картину желанному покупателю, а впервые по-настоящему заключал сделку. Все это закончилось очень печально — Ге обвинили в нечестности…
Ге задержал отправку портрета Костомарова, и Третьякову показалось, будто художник прислал не оригинал, выставленный когда-то, а копию. Эта мысль почему-то не давала покоя Репину. А. П. Боткина, рассказывая о подозрении Третьякова, пишет: «Его поддержал в этом Репин или даже навел на это».
Подозрение в нечестности, даже потом отвергнутое, неизбежно должно было привести к разрыву. Если дело касалось честности, Ге был щепетилен до крайности.
Когда, не спросясь у него, его имя назвали в числе сотрудников нового «дешевого журнала» «Пчела», добродушный Ге был просто взбешен. Среди редакторов журнала были Д. В. Григорович и Я. П. Полонский, в объявлении о подписке рядом с именем Ге были названы имена И. Крамского, В. Васнецова, В. Верещагина, В. Маковского, В. Перова, И. Шишкина — пусть! Ведь он и не знал ничего об этом журнале! Он написал резкое письмо: «Я никогда не изъявлял никакого желания быть цветком для этой дешевой „Пчелы“. Дешевизна — вещь хорошая, но я думаю, что достигать ее есть много иных путей». На него многие обиделись — даже Тургенев в Париже. Журнал получился хороший, жаль, что Ге в нем не участвовал, но так он не хотел.
Его упрекали в том, что он подменил портрет, а он порвал отношения с братом, когда узнал, что тот выдал сделанный им перевод польской пьесы за свое оригинальное произведение[33] — этот «подлец» присоединил к фамилии Ге слово «вор»[34].
Ге писал Третьякову: «Просвещенный человек, находящийся в недоумении, имеет тысячу средств рассеять свое недоразумение прежде, чем человека незаподозренного в мошенничестве, прямо обвинять в нем и при этом бросать это обвинение прямо в лицо с цинизмом, неведомым ни в каком порядочном обществе…»
Третьяков отвечал честно и благородно — он понял взрыв Ге: «Ваше письмо хотя и не может быть приятным, но как ответом на вопрос — я им совершенно доволен. Глубоко сожалею, что знакомство наше и добрые отношения так странно оборвались. В том, что своим необъяснимым недоумением я так огорчил Вас, — искренне извиняюсь. Так же точно благодарю Вас и за то удовольствие, какое доставляло мне знакомство с Вами, и за уступленные мне Ваши портреты».
Примирение состоялось через несколько лет. Отношения между Ге и Третьяковым были затем удивительно теплыми, хотя во многих оценках художник и собиратель совершенно расходились. Это не имело значения. Важно, что их честные отношения больше не омрачались подозрениями.
Не к чему век спустя определять меру виновности каждого. Тем более, что и с той и с другой стороны было, наверно, наговорено лишнее. Но долгая и трудная история с продажей портретов интересна для прояснения характера Ге.
О «белом гусе» и преднамеренности в портрете. Тургенев
Репин увидел написанный Ге портрет Тургенева.
— Как-то странно бел. Без теней совсем.
— Да, но ведь это характер Ивана Сергеевича, — сказал Ге. — Знаете, Тургенев — ведь это гусь, белый, большой дородный гусь по внешности. И он все же барин…
Белый характер. Гусь. Барин. Все странно и туго сплелось в клубок. Можно сразу не осознать сказанного Ге, но что-то не позволяет отмахнуться: «Как так? Белый гусь и вдруг — барин!» Ге, конечно, не походя так отговорился. И Репин, конечно, не случайно запомнил слова Ге и привел их как доказательство, независимо от того, сам он с ними согласен или нет. В словах Ге приоткрывается одна из удивительных тайн искусства.
Это, конечно, не внешнее. Ге никогда не писал Тургенева похожим на гуся. И вряд ли зритель, разглядывая портрет, подумает о барственной и белой домашней птице.
Ге писал Тургенева, только Тургенева, — и писал так же увлеченно, так же «для себя», как и другие портреты.
Зимой 1871 года Иван Сергеевич был проездом в Петербурге. 13 февраля он приехал из-за границы, а 18-го уже сообщал Полине Виардо: «Второй (и предпоследний) раз позировал для Ге». Похоже, что Ге буквально «поймал» Тургенева, едва тот появился в столице. Впрочем, удивляться не приходится: за Тургеневым в тот приезд все гонялись. Одновременно с Ге его писал Константин Маковский. «Я дожил до пятидесяти двух лет, и с меня ни разу не писали портрета маслом, а вот теперь их сделали сразу два», — весело свидетельствовал Тургенев.
Третьяков тоже не дремал: он собрался послать в Петербург Перова. Тургенев его отговаривал: приезжать Перову не к чему, портреты Ге и Маковского «оба в разных родах, но, кажется, удались совершенно»[35].
Такую же оценку портретов дает Тургенев в письме к Полине Виардо: «Мои оба портрета подвигаются вперед; они совершенно в разном духе, но, по-моему, оба очень хороши и похожи».
Неизвестно, был ли сеанс 18 февраля предпоследним, но последний состоялся 24-го: «Сегодня утром… я был на последнем своем сеансе у г. Ге… Портрет г. Ге имеет поразительное сходство, так говорят все друзья и так считаю я сам».
Три или четыре сеанса — значения не имеет: то ли дело портрет Герцена, к которому художник шел десять лет! Но даже при недолгом знакомстве Ге не работает, как модный живописец: заказчик пришел — дал сеанс — ушел. Ему общаться надо с тем, кого он пишет; не беседовать, чтобы лицо не вышло скованным, а именно — общаться. Он и с Тургеневым общался.
Знаем, что они многократно говорили о Герцене, и первая встреча, например, у них началась с разговора о Герцене (когда Ге просил Тургенева позволения написать портрет, тот сказал: «Нам далеко до Герцена!»). Знаем, что Тургенев встречался в мастерской у Ге с Салтыковым-Щедриным. Знаем, что Ге привозил Тургенева в мастерскую к Репину смотреть «Бурлаков». Знаем, наконец, что оба были на собрании артистического клуба, созванном А. Г. Рубинштейном. Может, и не знаем чего, но для десяти дней и такого общения, право же, немало.
Ге писал Тургенева-литератора, чьими произведениями смолоду зачитывался, и Тургенева, одного из интереснейших людей эпохи, и Тургенева, старого знакомого Герцена, — он писал Тургенева, одним словом. Но едва брался за кисть, перед ним — нет, не на месте Тургенева, но где-то рядом — появлялся странный образ вот этого самого белого гуся; может быть, и не образ даже, а мысль об образе или ощущение его.
Белый гусь — и внешний облик, и характер, и манеры, скорое — символ и того, и другого, и третьего. Это — толстовское, когда Наташа пытается объяснить, что Борис — узкий, серый, светлый, как часы столовые; «Безухов — тот синий, темно-синий с красным, а он четвероугольный». Объяснить почти невозможно, но мы ее понимаем.
Белый гусь, пришедший в голову Ге, сродни знаменитому образу вороны на снегу, который мерещился Сурикову, когда он приступал к «Боярыне Морозовой».
Лев Толстой «белого гуся» понял и принял. Уже после смерти Ге художник П. И. Нерадовский спросил Льва Николаевича, похож ли Тургенев на портрете Ге. «Поняв из моего вопроса, что я вижу в этом портрете Тургенева не таким благообразным, как представлял его себе по известным портретам и фотографиям, он с поспешностью ответил мне, напирая на каждое слово:
— Да, да! Вот именно такой он и был — белый гусь!»
Ге писал Тургенева — не гуся. Наташа видела и знала Бориса, а не серые столовые часы. Крамской старательно делал портрет своего приятеля Суворина, но сделал такое, что портретом по нечаянности «приятеля Суворина» убил и после совершенно искренне доказывал непреднамеренность убийства: «Считаете ли возможным, что мне входили в голову намерения при работе, и что я занимаюсь какими-либо утилитарными целями, кроме усилий понять и представить сумму характерных признаков?..»
В том-то и дело, что при самом осознанном и детально продуманном замысле в творение искусства врывается нечто непреднамеренное, уследить за процессом появления которого невозможно. Это непреднамеренное может быть почувствовано как какой-нибудь «белый гусь» или может удивить внезапным решением.
Ге нравился портрет Тургенева: он его держал у себя дома, показывал гостям. Тургенев уже через год писал Полонскому, что портрет ему никогда не нравился — «но как было сказать Ге?» При чем здесь Ге! Знаем, что в письмах Полине Виардо и Третьякову он отзывался о портрете одобрительно. Вкусы Ивана Сергеевича в области портретного искусства переменчивы: после того как его писали Ге, Маковский, Перов, Репин, он вдруг объявил «бесспорно первым портретистом мира» Харламова.
Но, может быть, в портрете Ге он постепенно обнаружил, почувствовал непреднамеренное, которое, не желая того, вложил художник?.. Американский живописец и график Сарджент сказал: «Всякий раз, как я пишу портрет, я теряю друга».
Ге был удачливее: ему обычно везло с друзьями.
Хутор Плиски
Было время, когда я должен был держать свою страсть в тайне и прятать ее в шкафу! И вот в один прекрасный день я, наконец, растворил ей двери, и она ушла; но у меня остался целый шкаф, набитый битком.
К. КороБегство
Груженые возы, скрипя и покачиваясь, ползли по дороге. Назойливые слепни со стуком ударялись о потные бока лошадей. Лошади лениво обмахивались длинными хвостами. Тяжелые копыта бесшумно опускались в пыль. На обочине суетливо купались в пыли круглые, сытые воробьи.
От железнодорожной станции до Красиловской дачи шесть верст. Дорога вьется среди полей, дачу с нее видно издалека. Купы старых тополей облаком темнеют на краю неба. Это и есть дача.
Сперва дорога вливается в улочку, образованную несколькими хатами, потом — от придорожного креста — поворачивает влево и выходит к пруду. На другом берегу краснеет в зелени одноэтажный дом, за ним мелькают среди деревьев побеленные хозяйственные постройки.
Ге здесь все с пылом переделает, перестроит, начнет вести хозяйство по-своему. Даже именоваться дача отныне будет по-новому — хутор Плиски, от названия железнодорожной станции.
Обгоняя медлительные возы, Ге торопился к дому. Здесь, на далеком степном хуторе, нашел он последнее пристанище.
География его творчества ограничена тремя точками: Флоренция — Петербург — Плиски.
Наступит время, — он даже умирать, будто зная точно день и час, примчится сюда, на свой хутор: вдруг бросит Петербург, куда привезет новую картину, проедет, словно охраняемый какой-то чудесной силой, Москву, Ясную Поляну, Киев, Нежин — всюду повидает напоследок дорогих людей, — с трудом доберется до Плисок и здесь, буквально на пороге, испустит последний вздох. Но до этого времени, до могилы, спрятавшейся в конце аллеи, на зеленой лужайке, еще двадцать лет почти, двадцать лет поисков, открытий и потерь — мучительных двадцать лет.
Это нам, оглядываясь назад, нетрудно укладывать, как ступенька на ступеньку, год за годом, всю жизнь Ге; это мы видим, что каждая ступенька необходима, чтобы в лестнице не получилось провала, а если и были в жизни Ге остановки, то ведь и между этажами нужны площадки; не всегда ж так бывает — все вверх да вверх. Но самому Ге казалось, что каждая остановка зачеркивает пройденное, на каждой остановке ему казалось, что он снова внизу и что надо снова начинать подъем.
Вот он в 1876 году и перебрался на хутор, чтобы начать все сначала — жить, думать, творить.
Приезд Ге из Италии в Петербург наделал шума, отъезд — того более.
Каждый хотел узнать, понять, отчего это случилось, найти причину, но каждый искал и находил одну причину, — ту, что ему была ближе и понятнее. А причин было много, одна тащила за собой, объясняла другую, — вряд ли сам Ге мог бы назвать главную.
Все сходились в одном — считали, что неудача последних картин Ге подтолкнула его к решению. Наверно, так оно и есть, но это дело сложное; людям же хотелось связать причину и следствие союзом попроще — «потому что», «поскольку», «так как».
Говорили об остром художническом самолюбии Ге. Ему понадобилось восемь лет, чтобы доказать, что «Тайная вечеря» не случайна. Теперь он пять лет не мог «подтвердить» «Петра и Алексея». В нем снова разочаровались. Товарищи поднимались со ступеньки на ступеньку, — «росли», как теперь говорят. Крамской, например, после «Русалок» 1871 года написал портрет Льва Толстого, «Полесовщика», а главное — «Христа в пустыне». Ге слышал от товарищей-художников слова неодобрения. А он был и по возрасту старше других и знаменит стал раньше. Он приехал из Италии патриархом, учителем, поводырем. Теперь его жалели, поучали, давали ему советы. От этого иных друзей можно было принять за врагов.
Многие упрекали Крамского за то, что, достигнув славы, он перестал щадить самолюбие Ге. Вспоминали какие-то реплики, вроде: «Я устал защищать ваши картины, Николай Николаевич». Ге, наверное, очень обижался — было время, Крамской по его указаниям трепетно рисовал черным соусом картон с «Тайной вечери» для фотографических снимков. Некоторые художники даже обвинили Крамского в клевете на Ге. Столкнуть лбами двух талантливых людей всегда найдется немало охотников.
После «Екатерины» и «Пушкина» Крамской действительно говорил про Ге, что он «погиб окончательно» и что школы у него нет. Но и Ге в долгу не оставался: Вы, Иван Николаевич, рисовать хорошо умеете, но не писать. Что это вы делаете, кто же пишет красками в два тона? Разве это живопись!
Это профессиональная дуэль, не будем разжаловать полноценные удары шпагой в мелкие уколы самолюбия. Ге хорошо знал, что в искусстве на всех не угодишь. «Никогда ничто чужое его не сломило и не своротило», — писал Стасов. Многие ли из друзей-художников признали последние картины Ге, а он, знай себе, продолжал по-своему. Крамской до этих картин не дожил; вряд ли он бы их принял. Он всю жизнь любил «Петра и Алексея». Размолвки с Крамским — это разные подходы к живописи, разные принципы, а не мелочная склока.
Говорят, правда, что после этих размолвок из отношений Крамского и Ге навсегда исчезла сердечность. Возможно, что так; они, кстати, почти не виделись после этих размолвок. Но едва ли не самые сердечные слова о Крамском сказаны Ге: «Я, как товарищ, не могу не вспомнить этого высокотрудолюбивого, дорогого человека, готового пожертвовать всем не только для успеха искусства, но и для блага кого бы то ни было из товарищей. Это был человек самопожертвования…»
Ге — не святой, и, конечно, самолюбие было, и, конечно, от реплик Крамского, от сочувственных советов товарищей, даже от их успехов щемило сердце. Но снедало Ге самолюбие другого — высшего порядка: человек знает, что может перевернуть земной шар, но опять потерял точку опоры. Он ее теряет всякий раз, как перевернет, а потом долго ищет место, где бы снова пристроиться с рычагом. Он чувствовал себя сильнее, плодовитее других, а вынужден был слушать упреки и соболезнования, потому что не мог этого доказать. Вот отчего душило его самолюбие.
Тот неуспех исторических картин, который, по мнению иных друзей, больно уязвил самолюбие Ге, — пустое. Потому что тот успех, который этому неуспеху противопоставляли и который должен был зализать кровоточащие язвы, — тоже пустое. «Ге, Крамской прошлой осенью были знамениты. Нынче Якоби и затмил совсем… Теперь Семирадский ошеломил…». Право же, Ге в силах был написать «Бориса и Марфу» и «Патриарха Никона», какого-нибудь эффектного Христа написать не хуже, чем у Семирадского, и какого-нибудь нового Петра темным силуэтом на фоне окна, — хвалили бы не меньше, чем Якоби, и, глядишь, объявили бы, что Ге жив и таланта не растерял. Но Ге бессильно стоял перед холстами: писать-то он был в силах, да все яснее понимал, что надо откровений искать в искусстве, а откровений под фонарем не ищут — надо идти в неведомое…
Некоторые объясняли отъезд Ге на хутор пошатнувшимся материальным положением: когда художник не имеет успеха, ему не на что жить в Петербурге. Странно, однако. Разве многие петербургские художники имели больший успех, чем Ге? Разве они лучше были устроены? Разве купить землю и влезть в долги — лучший способ поправить материальное положение? И разве это обычно для художника — покупать землю?..
Если бы дело было только в деньгах!.. Ему предлагали профессуру в Академии, он предпочел сеять овес. Много лет спустя он говорил Серову, что невозможно «предать свободное товарищество и идти на службу под начальство президента и вице-президента, которые указывать смеют, а рисовать не умеют». Он отказался расписывать храм в Москве, когда один участник конкурса сжулил, заглянул в чужой эскиз. Ге предпочел продать портреты дорогих и любимых людей. Денег не хватало, но не оттого метался Ге, что их негде было достать в столице, а оттого, что «все, что могло бы составить мое материальное благосостояние, шло вразрез с тем, что мною чувствовалось на душе».
Те, кто знал или догадывался о нравственных исканиях Ге, объясняли его отъезд в деревню желанием «опроститься»; князь Кропоткин в «Записках революционера» идет еще дальше. Он пишет: «Движение „в народ“ разрасталось. Пример — Н. Н. Ге. Большой художник в полной силе таланта, окруженный славой за свои картины, бросает Петербург… и едет в Малороссию, говоря, что теперь не время писать картины, а надо жить среди народа, в него внести культуру, в которой он запоздал против Европы на тысячу лет, у него, искать идеалов, словом, делать то, что делали тысячи молодых людей».
Сказано не совсем правильно, акценты расставлены не совсем правильно, однако же были в обществе люди, которые связали отъезд Ге на хутор с хождением «в народ», — вот что важно. От этого разговоры вокруг отъезда Ге приобретали новые оттенки.
Мысли об «опрощении» не были для Ге случайными. За двадцать лет до переселения на хутор он писал невесте, что не надо жить «жизнью, свойственной нашему сословию»[36]. Толстой в то время обдумывал «Казаков», дописывал «Утро помещика».
Приобретая землю, Ге, конечно, размышлял над тем, как на ней хозяйствовать, какие установить отношения с окрестными крестьянами. Он понимал, что жить придется иначе, что под ногами будет не скользкий паркет выставочных залов, а черная земля, что перед Грицком и Параськой вряд ли станешь красноречиво доказывать преимущества Джотто и Чимабуэ, а жить-то придется не в своем кругу — с Грицками и Параськами.
Но до желания жить по-крестьянски еще далеко. До решающей встречи с Львом Николаевичем Толстым еще шесть лет.
Некоторые мемуаристы приближают позднейшие события. Через двенадцать лет, в 1888 году, Лев Николаевич и Николай Николаевич будут строить в Ясной Поляне избу для крестьянки Анисьи Копыловой. Вечерами, умывшись и переодевшись в чистое, они будут долго беседовать об искусстве, о боге.
В 1876 году Ге думал об искусстве, о боге, но ехал на хутор хозяйствовать. Идей и планов у него было хоть отбавляй…
Он не мог дождаться, пока тяжело груженные возы протащатся эти несчастные шесть верст от станции до хутора. На легкой и тряской телеге он обогнал возы и первым примчался к дому. Работники Лука и Немой его дожидались. Он послал их нанять еще мужиков, чтобы помогли разгружать вещи. Пока бегали, подоспели возы. Мужики развязали веревки, сняли пропыленные холстины, которыми были укрыты вещи, стали носить добро в дом. Мешки, стянутые блестящими ремнями. Клетчатые тюки. Кожаные баулы. Неуклюжие сундуки с посудой. Картины, упакованные в ящики. Картины, свернутые в трубку и обшитые тканью. И просто кое-как связанные картинки, не похожие на образа…
Столичный рынок и степная ярмарка
Трудно найти художника, в душе которого не жила бы мечта — от заказов, от неизбежных сюжетов, от суеты, лицемерия, от навязших в зубах разговоров сбежать в леса, в степь, в глушь, писать, что на глаза попадется и согреет сердце — куст, скамейку, лошадь, набрасывать крестьянских ребят, старух у церкви, босоногую девку с ведром или рисовать картинки к Евангелию.
Но еще труднее найти художника, который сбежал бы в эти леса и степи надолго, тем более навсегда — и не захирел бы без товарищей по искусству, без утомительных споров, без сладкой лести и обидной, хотя подчас справедливой, хулы, без срочных заказов, которые доводят до исступления невозможностью остановиться, оглядеться, без мечты, что когда-нибудь удасться стряхнуть с плеч эту жизнь и сбежать в глушь, чтобы писать скамейку, лошадь, куст. Трудно найти художника, который спустя месяц-другой не мчался бы из лесов и степей в шумную столицу, вдруг ощутив ненужность и бесцельность своего существования.
Чего ж удивляться, — когда Ге объявил, что купил землю, что уезжает навсегда, когда он увлеченно развивал перед слушателями уже не мысли об искусстве, а проекты хозяйственного устройства, когда на Ге смотрели, как на художника отжившего, который «погиб окончательно», — чего ж удивляться: едва Ге покинул Петербург, все дружно заявили, что он бросил живопись.
Ге исчеркивал альбомы, исписывал холсты — искал, пробовал себя. В первые же годы хуторской жизни он написал десятки портретов. Четыре года он, правда, не выставлялся; зато потом показывал свои работы на четырех выставках подряд. Но все твердили — «бросил, бросил» — и рассказывали анекдоты: Ге-де сеет табак, разводит скот особенной породы и, конечно же, терпит фиаско. Лишь с 1889 года, когда, что ни выставка, появлялась новая удивительная и неожиданная картина Ге, все, так же дружно, поняли наконец, что Ге от искусства отставить невозможно.
Только один человек с первого дня не верил, что Ге бросит живопись, только один человек, хотя и трудно ему приходилось, верил в возрождение Ге. Этот человек был художник Николай Ге.
Он писал Третьякову: «Я желаю еще работать, т. е. заниматься искусством». И дальше: «Верю, что Бог мне поможет до конца жизни быть художником, каким я был двадцать пять лет»[37].
На хуторе он сразу стал пылким сельским хозяином: перепланировал угодья, изобретал рациональные способы сева, покупал кое-какие машины (не то чтобы много — денег не было — однако следовало быть современным), завел пасеку, интересовался косьбой, бороньбой, удобрениями. Не забыл подать прошение в Черниговское дворянское собрание о внесении его с сыновьями в дворянскую родословную книгу[38]. Ездил в собрание, слушал споры, сам воевал: в собрании 45 правых и 30 левых; он левый[39].
Однако первое, что он сделал, — перестроил старый барский дом и оборудовал себе мастерскую; причем сам сконструировал для нее особенное окно с подвижными рамами на шарнирах и системой зеркал, чтобы «ловить» верхний свет.
Сент-Экзюпери говорил, что величие ремесла в том, что оно объединяет людей. Многим казалось, будто Ге своим бегством на хутор насильственно отлучил себя от такого объединения. Репин, уже почти подводя итоги жизни Ге, писал Татьяне Львовне Толстой: «Вся беда этого горячего таланта в том, что он живет не в художественной среде».
В воспоминаниях Мясоедова, да и других, читаем, будто на отъезде из Петербурга настаивала Анна Петровна, будто тем самым она хотела уберечь мужа от новых огорчений и разочарований. Невозможно поверить! Стоит почитать письма Анны Петровны, чтобы не поверить. Кто ее не знал, мог подумать, что на хуторе она зажила удобно и спокойно: посылала сыновьям в Киев битую птицу и варенье — эдакая «старосветская помещица»! А она страдала в этих самых Плисках. Она была женщина из интеллигентного круга, ей голубая гостиная была нужна, привычные друзья, привычные разговоры. Ее больше бы устроили жалкие пятьсот рублей, которые бы присылал арендатор, чем вся эта возня с пахотой, молотилками, с навозом, к которой ее Николай Николаевич не допускал и которой она, кстати сказать, не хотела заниматься.
Они жили на хуторе бедно, Николаю Николаевичу приходилось считать копейку, скупиться; как все неопытные хозяева, он и скупиться не умел — экономил не на том. Бывали годы, он газет не выписывал; Анна Петровна всю жизнь привыкла быть в курсе всего самого нового, а тут, лишенная общества, оторванная от того, что почитала интересным, коротала со старушкой родственницей вечера за картами. В 1884 году она пишет сыну: «Этот год отец никакой даже газеты не выписывает… Живем в полном уединении… Я перечитываю старые, давно знакомые книги»[40].
Дом оказался холодный. Анна Петровна не любила позднюю осень, зиму. Особенно ноябрь. «Холода нас жестоко преследуют. …Печи не греют. Ждем с нетерпением весны»[41].
К хозяйственному порыву Николая Николаевича у нее отношение ироническое. «Отец получил новую молотилку и, конечно, в восторге…» «На хуторе объявлена война грачам, но вся артиллерия хутора — одно ружье»[42]. Иногда в письмах Анны Петровны сквозь нетерпеливые строки прорывается тяжелый стон: «Не люблю я такой хлопотливой серой жизни. Николай Николаевич находит ее идеальной и благо ему».
Как оживала Анна Петровна в Петербурге и Москве, куда Николай Николаевич брал ее иногда на открытие выставок. Там все ей близко, дорого. Вот с Софьей Андреевной Толстой поговорила, вот беззлобно ругнула Антона Григорьевича Рубинштейна — он любит иногда пообещать и не выполнить. Все свое.
Нет, не случайно те же люди, которые приписывают Анне Петровне инициативу бегства на хутор, в тех же воспоминаниях, через несколько страниц, изображают ее как жертву. Тут дело в тончайшем оттенке: Анна Петровна не была жертвой Николая Николаевича, но, верная принципу — всегда быть с мужем — добровольно приносила ему жертву. «Я за исполнение долга»[43], — писала она невестке в труднейшую минуту своей жизни. Николай Николаевич устремлялся, поворачивал, снова устремлялся; поддавался неудачам, становился капризен, как пишут мемуаристы, однажды дошел до разрыва с женой — Анна Петровна не соглашалась, спорила, даже насмехалась, но оставалась с ним, хотя и не могла понять той жизни, которую он находил идеальной.
Идеальной. Это не значит просто хорошей, удобной. Слова со временем обесцениваются. «Идеальной» — это от «идеал». Особенно в устах Ге — он постоянно говорил об идеале.
Перебравшись на хутор, он стал пылким хозяином. То, что вызывало иронию Анны Петровны (как и Репина, как и Мясоедова, как и многих других), стало для него необыкновенно важным.
Молотилку новую он, оказывается, купил, потому что молотить лучше прямо в поле, чтобы сократить ненужные перевозки[44]. Или вот радость: «бычков продал отлично — скотов, птиц множество». «Ни минуты не было свободной, — пишет он невестке, — хозяйство и две ярмарки, каждая по два дня и две ночи, без перевода духа. Зато сердце мое хозяйское радуется, и продал я хорошо, и купил, что нужно».
«Хозяйство мое идет прекрасно», — восклицает он. А хозяйство шло неважно. Скоро он напишет уже без эпитета: «хозяйство мое идет»[45]. Еще через несколько лет: «Мы бедствуем без дров — собираем всякую всячину на дворе, чтобы топить». И, наконец, — сыну: «Петруша, купи мне материю на штаны»[46]. Это уже за год до кончины. Анна Петровна умерла, Ге снова в славе, знаменитые картины написаны. Почему бы не бросить, наконец, хутор, не завести скромную квартирку в Петербурге; поучал бы молодежь — слушателей у него до последнего дня было хоть отбавляй. Но нет. Кончалась выставка, он спешил к себе в степи.
Анна Петровна (как и Репин, как и Мясоедов, как и многие другие) понимала Ге, соглашаясь с ним или не соглашаясь, пока он стоял у мольберта, пока был в сфере искусства, когда же вырывался, — чудачество. И вместе с тем идеал.
Как радовалась Анна Петровна всякий раз, когда он начинал творить. С каким восторгом сообщала, что Николай Николаевич, слава богу, забросил молотьбу и «затеял картину» — пишет день и ночь. «Всегда это было лучшим временем в нашей жизни, когда Николай Николаевич предавался своей страсти к искусству, всегда тогда такая тишина и спокойствие и точно ясная погода»[47].
Софья Андреевна тоже радовалась: «Лев Николаевич затевает писать драму из крестьянского быта. Дай-то бог, чтоб он взялся опять за такого рода работу».
Да им ли одним неясно было непривычное? Почти все знакомые Ге считали, что молотьба и всякие вокруг нее «чудачества» противостоят искусству. В самом деле, живописец Ге продает на ярмарке бычков и яблоки — к чему? Да он бы на портретах втрое больше заработал! Нет уж, поверим самому Ге, который всю жизнь только одного и хотел — творить, хотел умереть художником.
А для него молотьба и живопись — две вещи совместные. Он про отъезд на хутор рассказывает:
«…Надо мною тяготел вопрос: как жить? Искусство мало дает, искусством нельзя торговать: ежели оно дает — слава богу, не дает — его винить нельзя. Все то, что мне дорого, не здесь, на рынке, а там, в степях. Уйду туда — и ушел…
Я думал, что жизнь там дешевле, проще, я буду хозяйничать и этим жить, а искусство будет свободно…»
Думали, он себя закабаляет, а он освобождался. Для него рынок — Петербург. Он предпочитал на ярмарке бычками и яблоками торговать — не живописью.
«Я и в хуторе могу писать…»
От «Петра и Алексея» до портрета Льва Николаевича Толстого за письменным столом — тринадцать лет. До «Выхода Христа с учениками в Гефсиманский сад» и того больше — восемнадцать. Неудачные картины, некоторые неприметные портреты не грех скинуть со счета. Многие портреты, заказные, в обществе не знали. «Христа и Никодима» не видели. Вот и пошло: Ге бросил искусство. Бросил, а на закате жизни снова к нему вернулся.
Нет уж, будем все считать, ничего не скидывать.
1876 год — портрет прозаика и драматурга Потехина. Это по глубине проникновения то же, что портреты Мусоргского или Писемского у Репина. Это разночинная русская литература шестидесятых годов, с ее устремленностью в народную жизнь, с ее бытописательством, с ее несчастными судьбами Решетниковых, Левитовых, Помяловских, — хоть сам Потехин был счастливее своих собратьев, но все они там, на портрете, — люди, измученные неразрешимыми вопросами, поисками большой философии, которой они по складу своего дарования не могли найти, лишениями, водочкой, страдавшие от беспросветности того единственного, о чем они хотели и могли писать.
А в 1878 году — уже первый хуторской портрет: Валериана Иосифовича Подвысоцкого. Год художник обживался, оглядывался (бросил живопись!) — и первого же гостя усадил, чтобы написать с него портрет. «Разговелся», — как сказал один знакомый.
Гость был не простой — старый товарищ. Было время, Ге даже ревновал к нему Анну Петровну, еще невесту. Юрист Подвысоцкий, уже немолодой человек, оставил чиновничью карьеру, отправился в Дерптский университет и как раз в 1878 году защитил диссертацию на степень доктора медицины. Ге убеждал Валериана Иосифовича, что поиски истины следует вести в сфере жизни духовной, а тот, скептически посмеиваясь, вел речь о неколебимой силе и убедительности мира материального, о рациональной науке, которая его разымает и исследует и одна только права.
— Ах, ах, — приговаривал Николай Николаевич, — надо же! Седина в бороду, бес в ребро.
Он так и написал Подвысоцкого, беседуя с ним, написал широко, свободно, «разговевшись», написал ученого с острым, скептическим взглядом, с поседевшей (соль с перцем!) бородой, с этим самым бесом, который «в ребро». Именно так — раскованно: взял и написал небольшого красного «демона» в правом верхнем углу портрета. Непреднамеренное («белый гусь»), упрятанное в глубины тургеневского портрета, на портрете Подвысоцкого обернулось шаловливым красным чертиком и получил материальное воплощение.
В том же 1878 году был заказной портрет Петрункевича, помещика, соседа, но не просто заказной и не просто помещика, единомышленника по Черниговскому дворянскому собранию. Судя по всему, Петрункевич был симпатичен художнику; Ге сделал его умным, с огоньком в глазах и вместе с тем очень плотским, — Петрункевич на портрете очень сродни репинскому «Протодьякону», которого, кстати сказать, Ге тогда еще не видал.
Потом были еще портреты, знакомых и незнакомых: в малороссийскую глушь приехал знаменитый художник, многим хотелось заказать у него портрет. «Заказы валятся один за другим»[48], — радовалась Анна Петровна.
Но тут придется опять сказать об особенности заказных работ Ге. Он писал не тех, кто предлагал заказы, а тех, кого почему-либо хотел написать.
Некая госпожа Фишман, урожденная Скоропадская, из Киева просила Ге, через товарища его по университету, сделать ее портрет. Он отправился в Киев, познакомился, решил писать. Написал портрет, «очень удачный», возился с ним две недели, затем повторил его для дочери госпожи Фишман. Получил заказ от госпожи Кашперовой — отказался: «работа портретов» требует отлучек с хутора, а у него — хозяйство. Очень обрадовался приглашению сделать какой-то мужской портрет, за который ему заплатили вдвое меньше, чем обычно, трясся в телеге несколько десятков верст, да еще волновался, приедет ли заказчик из Петербурга. Ему предложили за хорошую цену, не покидая мастерской, сделать копию с написанного уже портрета, он ответил, что не может свое творчество вложить в материальные рамки.
Ему надо было «поддерживать детей и уплатить долги», но он относился к себе строже, чем мы к нему. Он брал заказы по вдохновению — и называл это презрительно: «зарабатывать живописью». Он взялся управлять чужим имением за тысячу рублей в год, и эта тысяча была для него дороже той, что дала за один только портрет госпожа Фишман. «Считаю большим благополучием, что этот год меня никто не пригласил на работу живописью. Это такое мученье, которого я уже выносить почти не могу…».
И все-таки надо благодарить заказчиков. Они подстегивали Ге, толкали к творчеству, не давали надолго выпустить кисть из рук. Пусть он не считал эти портреты полноценным творчеством, они помогали ему искать настоящее.
Ге очень любил «Божественную комедию» Данте. Первые годы на хуторе были «Чистилищем». Но в «Чистилище» люди готовятся к «Раю». Здесь надо искать еще одну причину бегства из Петербурга. Называя Петербург рынком, он, наверно, имел в виду не только ярмарку, где продают-покупают, но «ярмарку тщеславия». Там все закручено, заверчено, суета, спешка; там не оглядишься ни после удачи, ни после неудачи, вокруг собратья по искусству, публика — «давай, давай!» — а он не умел «давать-давать». Он проваливался всякий раз, когда пытался «закрепить успех».
Еще учеником Академии он задыхался в Петербурге: «туда, где ширь, хочу!» Теперь он убежал в ширь настоящую — в степи — и начал готовиться к будущему. Но в тишине, но в тайне.
Столичные друзья ахают — «бросил живопись», посмеиваются — «сеет табак». А Ге уже в 1879 году сообщает, что подмалевал картину. Он доволен: «Я и в хуторе могу писать»[49].
В дошедших до нас разрозненных письмах самого Ге и Анны Петровны находим не только о портретах упоминания: то он «обдумывает» картину, то «затевает», то «затеял» уже, то «собирается на новую картину», а то уже и кончает, и эта, последняя, картина непременно его «самая лучшая».
Ну и что ж, что он недописывал, переиначивал, только начинал и оставлял, а чаще всего и не начинал даже, лишь замышлял, — разве это важно? Важно, что он жил искусством. На пасеке или на покосе хотел понять, что ему в искусстве предназначено. Думал непрерывно, что и как он должен людям сказать, открыть, — и не хотел приступать, пока не придумает.
И хотя все-таки приступил (показалось, будто понял, придумал), хотя опять провалился, так это тоже очень хорошо: вечно у этого Ге не как у других — удача тащила за собой неудачи, а неудача оказалась далекой, словно первая зарница, предтечей великих картин.
Не бросил он искусство на хуторе, а пытался найти его.
«Сфера искусства» и «сфера жизни»
Картина Ге «Милосердие», которую называли также «Не Христос ли это?», была публично освистана на Восьмой Передвижной выставке в 1880 году.
Ге уничтожил картину (только фотографии сохранились), однако уничтожил своеобразно и знаменательно, хотя сделал это, наверно, непреднамеренно: поверх нее написал на том же холсте одну из лучших своих работ — «Что есть истина?»
Получилось символически — в «Милосердии» для Ге уже есть истина; если не сама истина, то шажок к ней; «Милосердие» — уже печка, от которой можно танцевать, трамплин для прыжка, хотя до прыжка еще девять лет. «Милосердие» — этап в творчестве Ге; не пойдем за критиками, хотя сам Ге пошел за ними.
В проповеди Иисуса Христа сказано: «А кто напоит нищего, меня напоит». Ге написал девушку, которая напоила нищего, подала ему кружку воды, а потом смотрит вслед — «Не Христос ли это?» Ге написал девушку светскую — наверно, написал такую не зря: художник обращал картину к людям имущим, напоминал им о милосердии. Может быть, он думал о том же, о чем писал в те годы Гаршин, который хотел, чтобы каждая картина заставила содрогнуться господ, пришедших на выставку. Но Гаршин писал о «глухаре» клепальщике, потрясшем художника Рябинина, о «Кочегаре» Ярошенко, а барышня на полотне Ге мила, добродетельна, ее, должно быть, в пансионе научили, что надо подать нищему воды, — публика окрестила барышню «дачницей».
И все-таки стоит задуматься над выбором сюжета, над «ступенькой», что так странно ведет от «Екатерины у гроба Елизаветы», от «Пушкина в Михайловском» к «Что есть истина?», «Суду синедриона» и «Распятию».
Ге осмыслял неудачу картин на темы русской истории, осмыслял, понятно, по-своему; нам, конечно, теперь виднее, но ему дороже. Уже после этих картин он читал исторические труды, сопоставлял то, что находил в них, со своими идеалами, желаниями и возможностями. Он пришел к тому, что не исторические факты, как бы занимательны и многозначительны они ни были, но философия истории соответствует его идеалу в живописи. Он относил это целиком к России, то есть полагал, что именно русскому зрителю необходима философия истории, выраженная средствами живописи, и даже противопоставлял русского зрителя западному.
Вся живопись Ге — это скорбь о человечестве, забывшем про любовь к ближнему, про необходимость жертвовать собой, своим во имя счастья других, скорбь о человечестве, торгующем и предающем. Вся живопись Ге — попытка вернуть человечеству идеал, будь то Иисус Христос или Петр Великий.
Теперь, в трудное время, в канун восьмидесятых годов, когда русская жизнь поставила перед всеми — перед народовольцами и Черниговским дворянским собранием, перед Салтыковым-Щедриным и Глебом Успенским, Львом Толстым и Гаршиным, перед Мусоргским и передвижниками — жгучие, мучительные вопросы и требовала их решения, Ге пришел к мысли, что задача художника не отсылать зрителя к прошлому, к сценам из времен Екатерины, Бориса Годунова и патриарха Никона, а откристаллизовать нечто главное в тысячелетнем развитии человечества, откристаллизовать философию истории и предложить человечеству для его исправления.
И перебирая в уме века и тысячелетия, Ге вернулся к тому, к чему пришел когда-то в Италии, — к Евангелию, истории жизни и смерти Христа, принесшего себя в жертву людям.
Ге не был религиозным в официальном, в общепринятом смысле слова, он не находил в себе силы писать образа, у него случались какие-то неприятности с полицией за неисполнение церковного ритуала — причастий, крещения, — он не был уверен в том, что православная религия «истиннее» католической, но он исповедовал религию любви и доброты к людям, религию общественного равенства, «религию рубашки», той самой, которая «ближе к телу» и которую именно поэтому надо без сожаления отдать ближнему. Он исповедовал «религию горшка», как потом назвал ее Лев Толстой, и объяснил — не заставлять других служить себе в самых первых простых вещах. Одним словом, Ге поил нищих и делал это с увлечением, даже с экстазом: в Петербурге модный художник, глава передвижников, увидел оборванного нищего на Николаевском мосту и бросился обнимать и целовать его, как брата, как Христа в образе униженного и неимущего. И если раньше все это жило в Ге не до конца осознанно, в странном смешении с мыслями политическими и с мыслями о задачах искусства, выплескивалось порывами, то теперь, после долгих раздумий, стало оформляться в религию, в философию, которая должна была подчинить себе и политику и искусство. Ге вычитывал подтверждение своим мыслям в Евангелии, которое он, как и прежде, понимал по-своему, и видел в жизни, смерти, проповеди Христа смысл, философию и путь развития человечества.
Мысль эта была для него не по-церковному абстрактна, а совершенно конкретна, злободневна, вела к решению сегодняшних жгучих вопросов. Не случайно он связывает замысел «Милосердия» со своей болью от нужды окружающих его крестьян, с возрастающей любовью к трудовому люду. Это для него совершенно очевидно: когда он писал картину, ему было «это ясно, дорого, любовно…»
Что же отличает «Милосердие» от «Тайной вечери», «Вестников воскресения», «Христа в Гефсиманском саду»? Что в «Милосердии» этапного для творчества Ге? А то, что раньше художник отсылал зрителя к прошлому, как бы призывал: «Вспомните, как мучился, страдал, жертвовал ради вас когда-то такой же человек, что и вы!»; теперь же, в «Милосердии», Ге говорит: «Вот он, Христос, рядом с вами, самый нищий, самый униженный, самый оскорбленный из вас. Полюбите его, и станете лучше, и жизнь ваша станет лучше!»
Толстой записал через десять лет в дневнике: «Церкви сделали из Христа Бога спасающего, в которого надо верить и которому надо молиться. Очевидно, что пример его стал не нужен. Работа истинных христиан именно в том, чтобы разделать эту божественность (картина Ге). Если он человек, то он важен примером и спасет только так, как себя спас, т. е. если я буду делать то же, что он».
Упоминая Ге, Толстой имеет в виду «Что есть истина?».
А вдруг Ге не случайно написал ее поверх «Милосердия»? Вдруг в его наитии прорвалась преднамеренность?..
В «Милосердии» Ге еще не создал сплава мысли и формы, он прямолинеен, плакатен. Он увлечен, счастлив от того, что открыл, а как — не все ли равно! Отсюда и «дачница» — написал портрет невесты сына Петра, милой, чудесной девушки, которую всей душой полюбил, — чем не героиня? Написал оборванного грязного бродягу — чем не Христос?
Все сходились на том, что картина не получилась из-за самого сочетания Христа с современным человеком. Но не в сочетании дело, а в том, что отношения Христа и барышни-дачницы облегчены, мелки. Скоро Толстой придет к тому же замыслу и напишет рассказ потрясающей силы — «Чем люди живы?» Там тоже человек встретил ангела господня и сделал ему добро. Но у Толстого не барышня, а нищий мужик, и не кружечку воды подал, а последнюю рубаху снял и надел на замерзшего ангела, принявшего человеческий образ. У Толстого голодная баба последнюю краюху хлеба отдала незнакомцу. У Толстого мужик добр и щедр, а барин жесток и скуп. У Толстого речь идет о рождении и смерти, о смысле жизни, а у Ге о глотке воды на берегу реки, о том, что не требует ни сомнений, ни труда, ни жертвы. Вот почему Толстой заставил содрогнуться современников, а «Милосердие» Ге показалось им никчемной и натянутой жанровой картинкой.
Но и в этой освистанной, уничтоженной картинке был уже завтрашний Ге, в ней он уже нащупывал почву.
Вскоре после провала «Милосердия» Репин, странствуя по Малороссии в поисках типов для картины «Запорожцы», посетил хутор Плиски. Он вспоминал потом, что нашел Ге постаревшим и мрачным, что Ге «хандрил и скучал», о Петербурге говорил «со злостью и отвращением», «передвижную выставку презирал, Крамского ненавидел и едко смеялся над ним». Репин вспоминал, что даже от любимого искусства Ге отмахнулся:
— Нам теперь искусство совсем не нужно. Есть более важные и серьезные дела. У нас вся культура еще на такой низкой ступени… Просто невероятно! В Европе она тысячу лет назад уже стояла выше. Какое тут еще искусство! И ведь я же пробовал, жил в Петербурге и убедился, что там это все они только на словах…
Во время разговора Ге без конца отвлекали какие-то мужики, поденщики, приезжавшие насчет покупки земли, насчет уборки сахарной свеклы, и Ге охотно и подолгу беседовал с ними, а потом объяснял Репину, что у крестьянина орудия плохи, мало скота, мало удобрения — и все это, кажется, раздражало заезжего гостя.
Репин написал известный портрет Ге. Написал усталого, холодного, презирающего мир фразера и, кстати, не скрывал, что такого именно Ге он и писал. «В своем портрете я задался целью передать на полотно прежнего, восторженного Ге, но теперь это было почти невозможно. Я изнемогал, горько сознавая свое бессилие, недостаток воображения и творчества. Чем больше я работал, тем ближе подходил к оригиналу, очень мало похожему на прежнего страстного художника: передо мною сидел мрачный, разочарованный, разбитый нравственно пессимист».
Стасов опровергал Репина, тем более что статья Репина о Ге написана была предвзято, написана была для того, чтобы доказать, что «Ге порабощен публицистикой, литературой». Стасов приводил отрывки из дневника Екатерины Ивановны Ге, невестки художника, той самой девушки, с которой написана героиня «Милосердия». Из дневника Екатерины Ивановны, очень близкого художнику человека, явствует, что Ге и на хуторе был «нравственно молод», поражал «добротой, веселостью, искренностью и талантом», не потерял умения «говорить красиво, живописно», что ни на минуту не переставал он если не заниматься, так думать об искусстве.
Но мы поверим Репину. Несмотря на заданность статьи, он, наверно, изложил свои впечатления о встрече с Ге совершенно искренне. Очень может быть, что Ге и ворчал, и брюзжал, и злился в день приезда Репина. Может быть, и позавидовал своему гостю: вот Репину ясно, что надо делать, — замыслам конца нет, творит, и все с успехом, а он, Ге, мучается, сомневается, седой уже, а никак себя не найдет. Замкнулся — ну и творите в своем Петербурге, мне здесь и без живописи хорошо.
Все может быть.
Не в том беда Репина, что он припомнил частности, а в том, что не заметил главного. Он приехал на хутор Плиски, насыщенный мнениями петербургских знакомых. Оттого за разговорами о ненужности искусства позабыл про «Милосердие», про портреты же не спросил. Оттого в реплике позировавшего Ге: «Общее, общее скорей давайте; ведь общее — это бог!» — услышал не раздумья об искусстве (как некогда, когда Ге давал ему советы насчет «Бурлаков»), а только торопливость, желание поскорей закончить. Оттого словам Анны Петровны, что Николай Николаевич задыхается без «сферы искусства», придал решающее значение, а мысли Ге о мужиках, о низкой культуре, о болтовне на петербургской ярмарке принял как чудачество.
Анна Петровна сказала:
— Ему необходимо общество и сфера искусства. Вы не слушайте его; ведь он рвется к художникам. Я так рада, что вы заехали. Ах, если б почаще заезжали к нам художники!.. А то ведь, можете представить, — мужики, поденщики, да он еще любит с ними растабаривать.
Это Репин взял как основное, потому что с этим и приехал: Ге на хуторе — философ без идей, оратор без трибуны, художник без сферы искусства.
А то, что ему Ге сказал, Репин пересказал как бы мимоходом, иронически, вперемежку с анекдотом про еврея-арендатора.
Но Ге ему сказал:
— А почему же я теперь живу здесь?.. И ни на что не променяю я этого уголка. Вот где знакомство с народом! А то они там, сидя в кабинете, и понятия о нем не имеют. Ведь с мужиком надо долго, очень долго говорить и объяснять ему — он поймет все. Я люблю с ними рассуждать…
Спасибо Репину, что он принес нам эти слова Ге. Мы ведь имеем право оценкам Анны Петровны не поверить. Слова произнесены — мы имеем право прямо им поверить. Самому Ге поверить.
Ведь эти слова опять-таки по-новому связывают воедино и мысли Ге об искусстве, и его бегство на хутор, и «Милосердие», и его приход к Толстому, и его позднейшую живопись.
Эти слова — еще один ключик к загадке хуторского затворничества Ге. И князь Кропоткин, со своим настроением прочитавший рассказ Репина, в чем-то важном, должно быть, прав.
Портреты. Лев Толстой
Я просыпаюсь. Я объят
Открывшимся. Я на учете.
Я на земле, где вы живете…
Б. ПастернакК Толстому (заметка Ге)
Ге рассказывает:
«В 1882 году случайно попалось мне слово великого писателя Л. Н. Толстого о „переписи“ в Москве. Я прочел его в одной из газет. Я нашел тут дорогие для меня слова. Толстой, посещая подвалы и видя в них несчастных, пишет: „Наша нелюбовь к низшим — причина их плохого состояния…“.
Как искра воспламеняет горючее, так это слово меня всего зажгло. Я понял, что я прав, что детский мир мой не поблекнул, что он хранил целую жизнь и что ему я обязан лучшим, что у меня в душе осталось свято и цело. Я еду в Москву обнять этого великого человека и работать ему.
Приехал, купил холст, краски — еду: не застал его дома. Хожу три часа по всем переулкам, чтобы встретить, — не встречаю. Слуга (слуги всегдашние мои друзья), видя мое желание, говорит: „Приходите завтра в 11 часов, наверно, он дома“. Прихожу. Увидел, обнял, расцеловал. „Л. Н., приехал работать, что хотите — вот ваша дочь, хотите, напишу портрет?“ — „Нет, уж коли так, то напишите жену“. Я написал. Но с этой минуты я все понял, я безгранично полюбил этого человека, он мне все открыл. Теперь я мог назвать то, что я любил целую жизнь, что я хранил целую жизнь, — он мне это назвал, а главное, он любил то же самое.
Месяц я видел его каждый день. Я видел множество лиц, к нему приходивших…
Я стал его другом. Все стало мне ясно».
7. Портрет Л. Н. Толстого. 1884
8. Христос и Никодим. 1886
Знакомство или встреча?
Стасов особо выделил этот отрывок из автобиографических набросков Ге и озаглавил: «Знакомство с Толстым».
Софья Андреевна Толстая в марте 1882 года писала сестре, Татьяне Андреевне, что «знаменитый художник Ге (Тайная вечеря на полу, говорили про него, что он нигилист)… приехал познакомиться с Левочкой».
Дети Толстого, Татьяна Львовна и Илья Львович, также отмечают в своих воспоминаниях, что первая встреча Ге с отцом произошла в марте 1882 года. А Сергей Львович еще и подчеркивает: «Он раньше с отцом знаком не был».
Но ведь самое-то интересное, что был.
В отрывке, приведенном Стасовым, не сказано — «еду знакомиться»; сказано — еду «обнять», «работать ему».
Они познакомились на двадцать один год раньше, в Италии, в Риме. Толстой сошелся там с русскими художниками, обедал с ними в дешевом ресторане, ходил по мастерским. Свидание с Ге было, видимо, случайным и недолгим. Вряд ли между ними завязался большой разговор. Каждый только начинал свой путь. Дороги встретились, слились через двадцать один год.
В том же 1861 году Толстой ездил в Лондон, к Герцену. Они друг другу понравились, но оценил Герцена по-настоящему Толстой уже позже. Про встречу с Герценом он вспоминал:
«Живой, отзывчивый, умный, интересный Герцен сразу заговорил со мною так, как будто мы давно знакомы, и сразу заинтересовал меня своей личностью. Я ни у кого потом не встречал такого соединения глубины и блеска мыслей. Он сейчас же повел меня почему-то не к себе, а в какой-то соседний ресторан сомнительного достоинства. Помню, меня это даже несколько шокировало. Я был в то время большим франтом, носил цилиндр, пальмерстон и пр. А Герцен был даже не в шляпе, а в какой-то плоской фуражке. К нам тут же подошли какие-то польские деятели…»
Ге якшался в Италии с этими самыми польскими деятелями и с русскими деятелями, близкими Герцену; он мечтал о Герцене. Он никогда не задумывался, в какого достоинства ресторане насыщает свой желудок; никогда не носил цилиндра и пальмерстона, а пальто, приобретенное в Италии, таскал в Петербурге, в расцвете славы, и донашивал через двадцать лет на хуторе.
Встреча в Италии ни у Ге, ни у Толстого не оставила, скорей всего, никакого впечатления. Ну, приехал еще один русский путешественник, интересуется живописью, — как не воспользоваться случаем, не порасспросить, что новенького на родине. Ну, познакомили путешественника еще с одним «подающим надежды» — они тут все «подают», — перебросились обычными фразами о Джотто, о Микеланджело, привычно помянули Иванова — не интересно.
Возможно, оба помнили, что их знакомили однажды, но знакомство не продолжалось, стерлось.
Профессор Веселовский рассказывал впоследствии, будто его уже в 1867 году поражало, что Ге был «толстовцем avant la lettre», то есть — до подписи. Так называют произведения графики, еще не озаглавленные.
Воспоминания часто обрастают материалом, который мемуарист узнал впоследствии. Вряд ли Ге стал «толстовцем» задолго до того, как Толстой пришел к своему учению. Это не парадокс: просто всякому учению — свое время. Но, поторопившись приблизить Ге к цели, Веселовский определил направление движения.
Толстой это направление тоже чувствовал. Почти не сохранилось его высказываний о картинах, написанных Ге до их встречи в 1882 году; придется довольствоваться малым.
13 марта 1870 года Толстой отметил в записной книжке: «Ге пишет прекрасно картину гражданского Христа». Речь идет о «Христе в Гефсиманском саду».
В 1882 году Толстой работал над статьей об искусстве, которую задумал в виде письма к издателю «Художественного журнала» Н. А. Александрову. В одном из вариантов находим: «Образованные люди, большинство из образованных, смотрят на искусство так, что оно не только не имеет ничего общего с богослужением, но даже враждебно ему (картины Ге и Христос Антокольского)».
На повороте
Удивительно, как совпадали искания Толстого и Ге, совпадали по времени и по направлению, хотя у каждого шли по-своему, у каждого в своем масштабе.
Семидесятые годы — не просто новое десятилетие — новая эпоха. И люди новые — семидесятники. Тем, кто в эту новую эпоху входил в искусство, много легче было, чем другим, начавшим раньше. Всякое Время предъявляет свои требования, художник может их не понять, но не может не почувствовать, — это не приспособленчество, а неизбежность.
О требованиях Времени, о том, как идти дальше, думали, вольно или невольно, многие зрелые художники. Толстой и Ге, быть может, глубже и мучительнее других.
Толстой почувствовал опасную крутизну поворота несколько раньше. Ге, когда он принялся за «Петра и Алексея», показалось, что он благополучно проскочил поворот. Он еще увлеченно бьется над фигурой Петра, ищет лицо Алексея, а Толстой уже укрылся на своем «хуторе», говорил, что бросит писать, печататься. Летом 1870 года он сообщал Фету: «Я, благодаря бога, нынешнее лето глуп, как лошадь. Работаю, рублю, копаю, кошу и о противной лит-т-тературе и лит-т-тераторах, слава богу, не думаю».
Если не знать, что Ге не читал писем Толстого тех лет, можно подумать, что его собственные письма о радости трудов по хозяйству и о нежелании заниматься искусством появлялись не без влияния. Но так же как впоследствии Ге не убежал в хозяйство от искусства, а лишь искал и напрягал силы, потому что чувствовал в себе «тяжелый камень, который надо поворачивать», так же и Толстой «много думал и мучительно думал, говорил часто, что у него мозг болит, что в нем происходит страшная работа». И цель этой «страшной работы», конечно, не косьба и не рубка леса, а эта самая «противная лит-т-тература».
«Дерзкие замыслы» манят Толстого. Обдумывается «Азбука». Привлекают темы русской истории. Опять история, о которой столько уже в «Войне и мире»! И что для нас еще интереснее — образ Петра I; с ним Толстой не расстанется целое десятилетие.
Хотя Толстой, «благодаря бога» и «слава богу», рубил и копал, семидесятые годы разрешились для него «Анной Карениной». Раздумья об истории привели его, как и Ге, к выводу о важности философии истории и незначительности истории фактов: «В истории только и интересна философская мысль истории… Что мне за дело, кого завоевал Аннибал или какие у Людовика XIV были любовницы… Мне хочется знать, какие истины доказывает история».
Работая над «Анной Карениной», Толстой однажды взял листок бумаги и написал на нем, что если умный человек вглядится в земную жизнь серьезно, задумается, зачем живет, то сейчас застрелится. Но человек не стреляется. «Чем мы живем?» — записывает на листке Толстой и рядом — ответ: «Религия».
Над вопросом «Чем люди живы?» Толстой размышлял всю жизнь. «Детство», «Казаки», «Два гусара» — произведения о смысле жизни, о том, чем жить и как жить, а не автобиографический роман, не повесть, не военный рассказ. Толстой всегда брал глубже, чем этого требовал жанр.
Толстой не только на отдельном листке записал «Чем мы живем? Религия»; он заставил об этом думать Константина Левина. Понятия «религия» и «бог» раскрывались в мыслях толстовского героя. «Единственное назначение человека» для него — «вера в добро». Между понятиями «бог» и «добро», «религия» и «делание добра» поставлен знак равенства. «Одно очевидное, несомненное проявление божества — это законы добра»…
Но Толстому мало размышлений Левина. На рубеже восьмидесятых годов он сам садится за религиозно-философские сочинения. В марте 1882 года он трудится над «Соединением, переводом и исследованием четырех евангелий». По существу, шла работа над Евангелием «от Толстого». Во введении к этой книге Толстой много и сильно говорит о человеческом разуме, доказывает, что Писание не следует принимать на веру, но, наоборот, нужно тщательно толковать. Чтобы люди согласились с Писанием, толкование должно быть разумно. Если откровение — истина, оно не может бояться света разума, оно должно призывать его. Только с помощью разума можно познать то, «что выносится всем человечеством из скрывающегося в бесконечности начала всего».
Толстой недолюбливал исследователей Евангелия, которые пытались установить фактическую точность событий. Его и здесь не очень волнует, «кого завоевал Аннибал или какие у Людовика XIV были любовницы». Ему нужно вот это «нечто», вынесенное всем человечеством, истина, которая может стать уроком жизни.
Он сказал как-то домашнему учителю Ивакину:
— Какой интерес знать, что Христос ходил на двор? Какое мне дело, что он воскрес? Воскрес — ну и господь с ним! Для меня важен вопрос, что мне делать, как мне жить.
Общественная борьба, которая развернулась во второй половине семидесятых годов и завершилась выстрелом 1 марта 1881 года, потребовала от Толстого поиска еще более крепкой связи между истиной, открываемой в Евангелии, и земной жизнью людей. В письме к новому императору Александру III Толстой говорил, что бороться с революционерами надо духовно, а не убивая их. «Их идеал есть общий достаток, равенство, свобода. Чтобы бороться с ними, надо поставить против них идеал такой, который бы был выше их идеала, включал бы в себя их идеал».
Евангелие становилось книгой жизни.
Ге в эти же годы решил не расставаться с Евангелием; он постоянно носит в кармане исчерканную карандашом, испещренную пометками маленькую книжицу, при всякой необходимости дать совет, во всяком споре то и дело вынимает ее из кармана.
Работая над флорентийскими картинами о жизни Христа, Ге любил повторять, что толкует Евангелие в современном смысле. Теперь он хотел вывести из Евангелия пути для современности.
Осенью 1881 года Толстой переехал с семьей в Москву. Он бродил по кривым московским переулкам, толкался в рыночной толпе, заглядывал под низкие своды темных и душных трактиров, заходил в ночлежные дома. Черной земли, к которой он привык у себя, в Ясной, не было под ногами: она была упрятана под тяжелым булыжником — редкая травка, блеклая и чахлая, пробивалась между камнями. Он ужаснулся. «Прошел месяц — самый мучительный в моей жизни… Вонь, камни, роскошь, нищета. Разврат».
Бедность, нищету он видал и в деревне. Видал, как топили печь, обманывая голодных детей ожиданием обеда, которого в печи не было. Видал бабу, которая обмыла новорожденного похлебкой, — теплой воды в избе не нашлось, а похлебка была пуста и прозрачна. Видел погорельцев, целыми семьями пошедших по миру. Но и после этого городская бедность потрясла его. Московские нищие не носили сумы и не просили христовым именем — они были униженными и опустившимися, дух был в них убит.
Когда в январе 1882 года стали проводить в Москве перепись населения, Толстой решил сам в ней участвовать и привлечь к этому делу побольше состоятельных и образованных людей.
Учение, которое он в эти годы все глубже и шире обдумывал, начало выходить в жизнь. Толстой, ссылаясь на Евангелие, писал, что отношение людей к нищете, к страданиям людским, есть корень, основа всего. Он цитировал: «Кто одел голого, накормил голодного, посетил заключенного, тот меня одел, меня накормил, меня посетил». И объяснял: «…то есть сделал дело для того, что важнее всего в мире». Толстой писал, что безнравственно ходить и спокойно заносить по графам, сколько десятков тысяч умирает с голода и холода: «…надо к переписи присоединить дело любовного общения богатых, досужных и просвещенных — с нищими, задавленными и темными».
Ге до той поры ничего не знал о мучительных духовных поисках Толстого. Первые философские сочинения писателя прошли мимо хуторского затворника. Прозрения Левина он в «Анне Карениной» не вычитал. Романы Толстого ему не очень нравились. Он находил их слишком длинными, слишком обстоятельными и слишком бытовыми. Он всю жизнь искал для себя героя по крупномасштабной карте — от Христа до Петра Великого; романы Толстого казались ему заселенными «серенькими», «вершковыми людьми». Ему сказали, что он похож на Левина, он засмеялся.
Он ничего не знал о поисках Толстого. Он был занят своими.
«Старшими братьями» в литературе, которые от «остроумия бытовых картин» шли к «самому задушевному» и «самому дорогому», «из тесного круга на свободу», — к «своему и всемирному», — этими старшими своими братьями он считал Гоголя и Достоевского.
Потом он будет потрясен тем, что, ничего не зная друг о друге, они с Толстым шли плечо к плечу. Невестка, Катерина Ивановна, будет его поддразнивать:
— Я полюбила Толстого раньше, чем вы.
Это прекрасно, это необыкновенно важно для истории дружбы Толстого и Ге!
Ге примчался в Москву к Толстому — не пророку и учителю, он примчался к единомышленнику. Статья о переписи стала искрой, воспламенившей горючее, но огромные запасы горючего — их хватило до конца жизни — Ге накопил сам. Не случайно среди увлеченных фраз «Толстой открыл», «Толстой назвал» Ге очень точно обмолвился: прочитав статью Толстого, «я понял, что я прав». Учение Толстого не создало нового Ге, а помогло Ге понять себя, организовало его поиски.
Другое дело: «обнять этого великого человека и работать ему». Это в характере Ге: так же он готов был «работать» Герцену, «работать» передвижничеству. Стасов назвал как-то Ге «идеалом художнической честности, непродажности, стойкости и непреклонности». Но в Ге удивительно сочеталась эта непреклонная самостоятельность, стойкая честность собственного поиска и готовность самоотверженно служить тому, идти за тем, кто открывал те же идеалы. Он был по натуре искателем, но умел быть последователем, быть «вторым». Это оттого, наверно, что к поиску его толкали не логические построения, — чаще внутренняя потребность, веление сердца, «живая мысль». И оттого, что он был добр.
Обращение Толстого «О переписи в Москве» появилось в газете «Современные известия» 20 января 1882 года. На него откликнулись десятки студентов, курсисток, учителей, врачей — пошли с переписными листами по тюрьмам, ночлежкам, публичным домам. Ге, появись он тогда в Москве, был бы, конечно, среди счетчиков. Но к нему на хутор газета попала позже. Вот Ге и приехал к Толстому лишь в конце первой декады марта.
К Толстому (попытка реконструкции)
Наверно, приезд в Москву, визит к Толстому, встреча не были так бурны и страстны, как описал их Ге.
Он приехал в Москву не один, с женой, — в «Записках» о ней ни слова, — а Анна Петровна понимала этикет.
Хотя, конечно, Толстого «увидел, обнял, расцеловал». Ге вообще часто бросался целовать людей при первой же встрече: некоторые шарахались от него — принимали непосредственность за фамильярность. Но в доме у Толстых его поняли. Софья Андреевна по горячим следам событий писала сестре про Ге: «Какой он милый, наивный человек, прелесть, ему пятьдесят лет, он плешивый, ясные голубые глаза и добрый взгляд».
В воспоминаниях Ге сцена развивается стремительно:
«Увидел, обнял, расцеловал.
— Лев Николаевич, приехал работать, что хотите — вот ваша дочь, хотите, напишу портрет?»
Опять надо разрядить немного эту густоту страсти. Дочери, Татьяны Львовны, дома не было — она каталась на коньках.
Супруги Ге явились, представились, надо думать. Вышел Лев Николаевич, пригласил их в комнаты, познакомил со своими. Софья Андреевна вспомнила тотчас «Тайную вечерю», «Петра», наверно. Возможно, «Милосердие». Лев Николаевич знал и «Христа в Гефсиманском саду», вообще много думал об искусство в это время.
Татьяна Львовна поступила в Училище живописи, ваяния и зодчества на Мясницкой. Лев Николаевич туда захаживал, беседовал с художниками, спорил. Среди преподавателей было много знакомых Ге: мог возникнуть разговор о нем, о его хуторском сидении. Знакомые, должно быть, его осуждали, но Толстой над внезапным бегством известного художника в деревню, над его молчанием, над темой «Милосердия» мог и призадуматься.
Во всяком случае, что-то заинтересовало Толстого в Ге. Когда художник раскрыл смысл своего приезда, Лев Николаевич «изъял» его из общества и повел в кабинет. Он хотел говорить с ним наедине. У домашних сложилось впечатление, что они с первых же слов поняли друг друга и заговорили на одном языке.
Татьяна Львовна пришла с катка; прямо с коньками в руках направилась к отцу. Кто-то шепнул ей, что там Ге. Она все равно вошла. Лев Николаевич представил ее. Ге предложил:
— Хотите я ее напишу?
Лев Николаевич засмеялся:
— Уж лучше жену.
Татьяна Львовна расстроилась — ей хотелось, чтобы «сам» Ге сделал ее портрет. Она не пошла в гостиную, где мать принимала Анну Петровну. Николай Николаевич заговорил с ней. Татьяна Львовна сразу почувствовала к нему доверие. Утешилась.
Между Львом Николаевичем и Ге возобновилась беседа. Татьяна Львовна удивилась, что за какие-нибудь полчаса-час отец так коротко сошелся с гостем.
Но Ге уже не терпелось начать портрет Софьи Андреевны. Он уже очень ее любил, как любил всех обитателей этого дома, показавшегося ему островком душевного спокойствия и гармонии.
Портрет для Ге часто был как бы материальным воплощением любви к человеку. Стасов вспоминает, как Ге вдруг предлагал полюбившимся ему малознакомым людям: «Давайте напишу ваш портрет». Некоторым это льстило, иные шарахались. Так же как от его неожиданных поцелуев. Стасов говорит, что многие портреты не удались — внезапно вспыхнувшей любви еще мало.
Ге начал писать Софью Андреевну в первые же дни после своего приезда в Москву. Возможно, что и в первый день, но сомнительно. Вообще первый визит с холстом и красками сомнителен. Похоже, тут Ге опять уплотняет события. Так он мог прийти, если бы решил написать самого Толстого.
Писал он Софью Андреевну довольно долго. Это в «Записках» — просто и быстро: «Я написал».
Он работал над портретом не меньше десяти дней. Софья Андреевна сообщает сестре:
«Теперь знаменитый художник Ге… пишет мой портрет масляными красками и очень хорошо… Вот я сижу уже неделю и меня изображают с открытым ртом, в черном бархатном лифе, на лифе кружева мои d’Alençon, просто, в волосах, очень строгий и красивый стиль портрета».
Но портрет шел вовсе не «очень хорошо», а прямо-таки мучительно. Домашние Толстого удивлялись странной манере Ге спрашивать у всех совета. Он то и дело обращался к Анне Петровне:
— А ну-ка, Анечка, поди-ка посмотри, что тут не так.
И безропотно исправлял по ее указаниям.
Старший сын Толстого, Сергей Львович, тоже без конца делал замечания. Ге и его покорно выслушивал. Смешно кричал: «Варвар! Злодей!» — но переделывал.
Много лет спустя, в «Воспоминаниях», Софья Андреевна ругала портрет, ругала за то, за что прежде хвалила. «Вытянутая фигура в бархатном черном лифе, не существующая в натуре очень длинная талия и какие-то вытаращенные глаза. Сходство было так мало, что знакомые не узнавали меня и спрашивали: кто это?» Софья Андреевна, наверно, забыла про давнишнее письмо к сестре.
Но тогда, в марте 1882 года, один только человек знал, что портрет «очень плох», — сам Ге. И спрашивал у всех совета он не случайно. Он хотел сказать на холсте не про черный бархат и не про кружева d’Alençon, но, когда писал то, что видел, не выговаривалось то, что он хотел сказать. Он думал, что чего-то не видит, и хотел увидеть Софью Андреевну чужими глазами. Домашние Толстого удивлялись безропотной покорности художника. Сергей Львович решительно говорил: «Мать точно аршин проглотила», «Слишком молода». Ге переделывал.
Через десять лет человек, которому Ге бесконечно верил, Лев Николаевич, посоветует художнику изменить лицо Христа в картине «Повинен смерти. Суд синедриона». Ге откажется.
Совершенно измучившись, Ге все-таки закончил портрет Софьи Андреевны. А на другое утро еще больше удивил Толстых: пришел и уничтожил готовый портрет.
— Это ни на что не похоже, — объяснил он. — Сидит барыня в бархатном платье, и только и видно, что у нее сорок тысяч в кармане. А надо написать женщину, мать.
Кротко улыбнулся, блеснули добрые глаза.
— Я всю ночь не спал из-за этого портрета. Только и успокоился, когда решил, что уничтожу.
Софье Андреевне жаль было портрета. Если бы он ей не нравился, вряд ли она попросила бы Ге написать портрет Льва Николаевича. Это испытание потруднее. А она попросила[50].
Софья Андреевна очень ждала и нового своего портрета. Ге ее написал, как задумал: мать с годовалой дочкой на руках. Портрет сохранился. Софья Андреевна в «Воспоминаниях» его тоже ругает: «Как раз умер мой маленький Алеша, и я вся в слезах, расстроенная, должна была позировать…»
Значит, очень хотела иметь портрет.
Когда Ге писал портрет матери Костомарова, он часто навещал ее в отсутствии Николая Ивановича, подолгу с ней беседовал. Бегал даже на кухню — смотреть, как старушка бранится с прислугой-чухонкой. «Это не лишний материал для художника».
С Софьей Андреевной он встречался двенадцать лет, но материала на портрет так и не хватило.
В марте 1882 года Ге каждый день приходил к Толстым, и главное было для него, конечно, не работа над портретом. «Я стал его другом», — решительно пишет Ге в своих набросках.
Но сделан лишь первый шаг. Ге и Толстой только радостно нашли друг друга. До следующей встречи еще два года. Они почти не переписываются. От семьи Толстых на хутор пишет Софья Андреевна. Ге живет ожиданием этой следующей встречи. К приятному и сдержанному письму Анны Петровны: «Сердечно радует меня надежда скорого свидания с вами. Наша встреча осталась для меня самым светлым воспоминанием в нашей отшельнической жизни последних лет» — он приписывает страстными каракулями: «Я не сомневался, что получу от Вас письмо и такое — мне даже снилось в этот день, что я видел Вас всех. Не сомневался потому, что искренно Вас всех люблю. Я непременно буду в Москве — Вы сами видите, как было бы мне горько, быть в Москве и не видеть Вас всех, да еще не видеть дорогого Льва Николаевича»[51].
Облик необъятного мира
Он увидел дорогого Льва Николаевича в первых числах января 1884 года. Он приехал в Москву, чтобы «исполнить обет» — написать портрет Толстого. Софья Андреевна тоже об этом просила, но главное был его обет. Он уже не мог обойтись без этого портрета. Софья Андреевна в январе сообщает сестре несколько разочарованно: «Приехал в Москву живописец Ге, пишет сам для себя портрет Левочки…»
В конце февраля Ге отправил портрет на передвижную выставку, но в декабре, когда выставка добралась до Киева, взял обратно, увез на хутор и семь лет с ним не расставался. Правда, сделал несколько повторений для близких Толстому людей.
Ге писал Льва Николаевича в кабинете хамовнического дома. Толстой работал в это время над трактатом «В чем моя вера?».
Ге установил подрамник с натянутым холстом, разложил краски и кисти. Лев Николаевич положил перо, поднял голову от бумаг. Он знал, что, когда позируешь, надо разговаривать с живописцем. С Крамским они много переговорили.
Толстой кивнул на свои рукописи:
— Надо досказать то, что начато в «Исповеди».
— «Исповедь» к нам попала, — сказал Ге, обчищая палитру. — Уж мы ее переписывали, и стар, и млад. Анечка сделала два списка, я, сын Колечка, племянники и племянницы у нас гостили, даже старушка-тетенька что-то списала к себе в альбом.
Толстой засмеялся.
— Может, издавать уже не надо?..
Ге положил палитру, сказал горячо:
— Непременно, непременно надо издавать. Надо открыть людям ложное в их жизни.
— Еще важнее открыть истинное, Николай Николаевич.
— Да. Да. Истинное. Я только этим теперь живу. Ничего другого не могу ни чувствовать, ни понимать. Вы работайте, Лев Николаевич, работайте, пожалуйста. Я не буду мешать.
— Но вам, должно быть, надо, чтобы я что-то делал, а то как же вы будете писать? — спросил Толстой, однако охотно взял перо и обмакнул в чернильницу.
— Говорите людям свою истину, дорогой Лев Николаевич. Это самое главное. А я здесь, в сторонке.
Ге сделал несколько шагов влево, вправо, стараясь ступать как можно тише, потом, не спуская глаз с Толстого, присел на краешек дивана. Диван скрипнул. Лев Николаевич приподнял голову, взгляд у него был странный — отсутствующий и пристальный одновременно. Он посмотрел на Николая Николаевича, точнее сквозь него и вместе с тем куда-то мимо, через плечо Николая Николаевича, и снова склонил голову к столу.
Нерезкий свет как бы обтекал могучий лоб Толстого. Лоб был очень высок; выбранный ракурс и наклон головы еще более подчеркивали его высоту.
У Николая Николаевича тревожно сжалось, похолодело внутри — необъятное было перед ним. Он уже не мог объять это необъятное радостной своей любовью, не мог проникнуть его. Он не то что осознал — он ощутил эту склоненную перед ним голову дорогого друга, ощутил, как вместилище целого мира.
Лев Николаевич пробормотал что-то невнятно, задержал дольше обыкновенного перо в чернильнице, потом резко вынул его, мазнул, не глядя, кончиком о край чернильницы, чтобы снять каплю, и начал быстро писать, шевеля губами.
Ге тихо и счастливо улыбнулся: Толстой о нем забыл.
Ге свободно откинулся на спинку дивана, легко вобрал глазами всю фигуру склонившегося над столом человека и сразу принял ее вот так, как есть; ему понравился строгий, деловой, заваленный бумагами стол, ограниченный, но не отгороженный перильцами на точеных столбиках; взгляд ухватил крупную руку, уверенно ведущую перо. Ге поразился ясной цельности этого вобравшего в себя весь сложный и запутанный мир человека.
Николай Николаевич вспомнил, как накануне, за обедом, Толстой вдруг признался, неловко замявшись:
— Иногда, когда я делаю что-нибудь важное для меня, мне кажется, что сорок веков смотрят на меня с высоты пирамид, что мир погибнет, если я не сделаю…
Кто-то сразу напомнил ему, что в «Войне и мире» он ругал Наполеона за эти слова — «Кутузов никогда не говорил о сорока веках». Лев Николаевич рассеянно выслушал, кивнул головой:
— Ну да, конечно, ругал.
Ге, задохнувшись, подался к нему — такая пропасть лежала между дорогим Львом Николаевичем и небольшим человечком в треугольной шляпе и со скрещенными на груди руками.
Вот огромный, непостижимый и ясный, Лев Николаевич сидит перед ним и, позабыв о присутствии гостя, шевеля губами, открывает людям истину, без которой погибнет мир.
Софья Андреевна, едва Ге начал, стала говорить, что портрет очень хорош, жаль только, что голова опущена и глаз нет:
— Все выражение у Левочки в глазах.
Ге ее не послушал — он вообще на этот раз никого не слушал. К счастью, советчиков было не много: заходить в кабинет не решались. К тому же Лев Николаевич был озабочен, говорил, что занят «пристальной работой».
Портрет подвигался быстро. Ге сам удивлялся, как свободно ему работалось.
Лев Николаевич однажды встал из-за стола, подошел, стал разглядывать портрет.
— Как это трудно и как просто: один серебристый мазок, — и я вижу наклон головы, линию плеча, шеи.
Ге сказал:
— Художники шутят, что хорошо писать очень легко — надо только взять нужный цвет и положить в нужное место.
Толстой засмеялся:
— Редко так получается.
Ге сказал:
— Так получается, когда то, что пишешь, вот здесь. — И обратным концом кисти прикоснулся к груди.
Павел Иванович Бирюков, друг, единомышленник и биограф Толстого, говорил, что портрет написан Ге с той любовью, которая «уловляет самые драгоценные черты оригинала» и делает это изображение особенно дорогим для тех, кому дорог оригинал.
Оттого, наверно, что Ге уловил эти «самые драгоценные черты», зрители не то что детальным сопоставлением, а нутром мгновенно схватывали поразительное сходство портрета с оригиналом, как бы даже слияние с ним. Портрет становится чем-то первичным: «Точно такой, как у Ге», «Передо мной был портрет Ге», — описывают некоторые современники внешность Толстого.
Сергей Львович Толстой считал портрет работы Ге лучшим из всех портретов Льва Николаевича «по сходству и выражению лица, несмотря на опущенные глаза». Сергей Львович как бы спорит с матерью: Софья Андреевна более всего ценила портрет работы Крамского — там, действительно, все выражение в глазах.
Ге объяснял молодым художникам: надо выявлять суть предмета в общем; частное само придет и станет на место.
— Когда вы начинаете нос, вы должны хорошо видеть затылок.
Это сказано, конечно, не только о том, что надо изучать анатомию. Это о том, что живая мысль заполняет единственно возможную, найденную для нее живую форму, как заполняет металл форму для литья, — не оставляя пустот. Ге показал, что значит точно найденная живая форма: все на портрете — от наклона головы до кончика пера, до сверкающей рукоятки пресс-папье, — все порознь и в сумме, нет, не в сумме — в сплаве, «выражает» Льва Николаевича. Хотя, по словам Софьи Андреевны, на портрете «глаз нет».
Детали на портрете Толстого — перо, зажатое в пальцах, рукописи на столе, сам стол — не аксессуары, которые «подчеркивают» труд великого писателя; перо, рукописи, стол — как бы продолжение самого Льва Николаевича. Деталей на портрете много, однако он собран, сфокусирован. Голова Толстого написана очень пристально и сильно. По-микеланджеловски мощная и точная, скульптурная, лепка головы — Ге вообще такую любит: на портретах Герцена и Шиффа, Салтыкова-Щедрина и Потехина лоб написан с подчеркнутым вниманием. Не просто точно схваченная часть головы — от бровей до волос, а нечто неизмеримо большее — лоб, как бы сформированный работой мысли.
Ге за десять лет близкой дружбы с Львом Николаевичем написал всего один его портрет. Есть, правда, несколько набросков карандашом, пером, но очень мало.
Репин оставил десятки изображений Толстого, щедро открыл куски жизни, из которых складывался его мир.
Ге нашел своего Толстого, сразу все свое о нем сказал. Он написал один портрет, на котором Толстой — целый мир.
Ге писал: «Лев Николаевич включает в себя необъятно огромный мир идей и образов…» И в том же письме: «В этом портрете я передал все, что есть самого драгоценного в этом удивительном человеке…»
Он не мог больше писать Толстого. Нелепо издать роман отдельной книгой, а потом печатать отрывки в газетах.
Когда Ге понял, что его чувство к Толстому снова должно разрешиться в творчестве, он стал лепить его бюст. Ге делал скульптурный портрет Толстого осенью 1890 года в Ясной Поляне.
Лев Николаевич недавно закончил «Крейцерову сонату», работал над «Дьяволом», замыслил «Отца Сергия». У него очень тяжелое время: «…ненужная, чуждая мне обстановка лишает меня того, что составляет смысл и красоту жизни». Он борется с жизнью чувственной, тщеславием, похотью, — Софье Андреевне кажется, что Лев Николаевич «очень систематично» выживает ее из своей личной жизни.
Лицо Льва Николаевича в скульптурном изображении Ге получилось аскетически упорным и, как говаривал сам Толстой, «немного осудительным». «Мир с миром» нарушен.
Через полгода Репин и Гинцбург одновременно лепили два скульптурных портрета Толстого. Льву Николаевичу во время сеансов было скучновато, говорил он мало, обычно дети читали ему вслух. Он почему-то не очень ловко себя чувствовал: «Я все забываю, что вы работаете с меня, у меня такое чувство, точно меня стригут». Эта забывчивость не похожа на ту, когда он, шевеля губами, писал на глазах Ге статью.
Однажды, позируя, он попросил у Гиннбурга воску и наскоро вылепил голову скульптора. «Меня поразило, — признался потом Гинцбург, — что он верно и характерно схватил общую форму моей головы». Общее, целое, живую форму Толстой глубоко чувствовал.
Он сообщал Ге: «Бюст сделал большой Гинцбург — не хорош. Репинский не похож. Не для того, чтобы вам сказать приятное, а потому, что так есть, — ваш лучше всех».
«Вы меня так же любите…»
Ге еще и Толстого-то, можно сказать, не видел — прочитал статью о переписи, и готово: спешит в Москву, «работать ему».
Толстому больше времени понадобилось, чтобы ответить на эту страсть.
Портрет Толстого написан. Обо многом Лев Николаевич и Николай Николаевич поговорили, укрепив то общее, что соединяло их; они понимали друг друга с полуслова, но им нужно было еще много слов, чтобы объяснить, что они поняли.
Ге ничего другого не может «ни чувствовать, ни понимать». Он «сочиняет» картины и радуется — Толстой их одобрил бы. «Вот уже месяц, как вас не вижу, но ни одного дня не проходит, не думая с вами».
В начале марта Лев Николаевич сам, наконец, отвечает на письмо Ге. Пишет любезно, доброжелательно, однако сдержанно. Рассказывает о своих делах, сообщает, что о портрете, который написал с него Ге, суждений пока не слыхал, обещает прислать экземпляр книги «В чем моя вера?».
Мысль Ге — написать казнь Христа — Толстой очень поддерживает. Конец письма звучит проповеднически: «Мы переживаем… не период воскресения, а период распинания. Ни за что не поверю, что он воскрес в теле, но никогда не потеряю веры, что он воскреснет в своем учении. Смерть есть рождение, и мы дожили до смерти учения, стало быть, вот-вот рождение — при дверях».
Сказано увлеченно, горячо, но Ге не надо уговаривать. Похоже, что Лев Николаевич написал это для себя.
В конце марта Ге снова в Москве.
Толстой записывает в дневнике: «Приехал Ге… Он ушел еще дальше на добром пути. Прекрасный человек». Сказано тепло. Но, по существу, сдержанно, оценивающе. Ге принят умом, чувство к нему доброе, но сердце еще широко не распахнуто для него. Сдержанность дневниковой заметки особенно чувствуется в сопоставлении с тем, что в это время говорил и писал Ге о Толстом; она чувствуется и в сопоставлении с тем, что заговорит о Ге через месяц-другой сам Лев Николаевич.
В конце мая того же года он начнет письмо к Ге словами: «Мне хочется поскорее видеть вас и вашего сына и если бы вы не поехали — я бы приехал к вам…» В заключении письма снова нетерпеливое — «Ужасно хочется видеться». Не «увидеться» — «видеться»: может быть, одна буква не случайно потеряна?
В 1884 году Толстой и Ге виделись зимой, весной, летом и осенью. 1884 год — очень важный для них: установилась взаимность. С лета 1884 года отношения их больше, чем единомыслие, чем постоянное желание общения, чем дружба. Любовь!
Летом Лев Николаевич записывает в дневнике:
24 июля — «Приехал Ге… Ге очень хорош, ощущение, что слишком уже мы понимаем др[уг] др[уга]»;
25 июля — «С Ге пошел в Тулу к Урусову… Вернулись домой с Ге. Прелестное, чистое существо»;
26 июля — «Целый день с Ге… Проводил Ге и поздно заснул наверху».
Незадолго до этого приезда Ге в Ясную Поляну Толстой пишет ему волнуясь: «Страшно боюсь, что теперь что-нибудь помешает вам исполнить ваше намерение приехать к нам…»
Осень Николай Николаевич проводил у себя на хуторе. Октябрь стоял теплый, ясный. В густых лучах осеннего солнца цвет предметов казался сочнее и сами предметы были выпуклыми, объемными, — тени ложились глубже.
Одиннадцатого октября Николай Николаевич, радуясь погожему дню, заперся с утра в мастерской, писал картину. Боясь упустить время, охоту, свет, писал быстро, решительно, большой кистью. Он редко отходил от холста, только отступал на шаг и, не опуская кисти, резко откидывал голову.
Через час-полтора откладывал кисть, большим желтым платком утирал пот со лба, с лысины, проводил платком по шее под бородой. Закуривал толстую папиросу и садился в кресло на пяток минут. В верхней части раздвижной оконной рамы синел узкий, вытянутый прямоугольник неба; точно посредине неподвижно висело лохматое облачко, похожее на щенка. Ниже, в зеленом прямоугольнике, едва заметно трепетала листва; кое-где в зелени проблескивало осеннее золото. Николай Николаевич перевел взгляд на картину. У него защемило сердце — он физически ощутил, что выходит не то. Стараясь не думать об этом, он поспешно бросил папироску в высокий жестяной коробок из-под дешевых конфет, подошел к мольберту, взял кисть и стал быстро и густо писать фон. Ему хотелось поскорее пройти это, чтобы потом не упрекать себя за то, что оставил работу на полдороге, не испробовал до конца, но перед глазами уже вырастала новая картина; он уже знал, что перевернет исписанный холст, поставит его на бок и сделает композицию вертикальной — тогда получится настоящее. И он писал, писал, торопясь, и уже не отдыхал с папироской в кресле, только стирал рукавом лицо.
Позвали обедать. Николай Николаевич отступил в конец мастерской, быстро обвел взглядом картину, недовольно ткнул кисть щетиной кверху в высокий, заляпанный краской коробок из-под конфет, опять приблизился к мольберту, повернул, кряхтя, подрамник на бок и ушел, не оборачиваясь.
Он замешкался с мытьем рук, Анна Петровна недовольно окликала его. Вдруг он увидел, как отворилась парадная дверь, в передней показалась сначала ключница Александра Федоровна, за нею — невысокий бородатый старик с котомкой на плечах. Николай Николаевич на мгновение остолбенел, потом громко ахнул, широко раскинул руки и бросил обнимать гостя.
Толстой пришел в Плиски повидать любимого человека.
На шум вышла из столовой Анна Петровна. Лев Николаевич, пыльный, потный с дороги, любезно с ней раскланивался, передавал приветы, расспрашивал о здоровье. Николай Николаевич снимал с него котомку. Лев Николаевич, освобождая от лямок руки, говорил: «Ничего, ничего, я сам». Горбатая тетенька побежала распорядиться насчет горячей воды.
Через полчаса Лев Николаевич, румяный и свежий, с влажной еще бородой, пил чай за старинным столом с резными ножками в виде дельфинов, поддерживающих головами тяжелую верхнюю доску. Лев Николаевич снял свою дорожную блузу и был в старенькой вязаной домашней кофте, которую привез с собой.
Анна Петровна подлила ему свежего чаю, подвинула белую с синим ободком миску, наполненную жидким янтарным медом.
— С пасеки Николая Николаевича…
— А что ж! — тотчас запальчиво вскинулся Николай Николаевич. — Я пасеку люблю, пчелок люблю, мед, вообще сладкое люблю. Вот поедете к нам другой раз, Лев Николаевич, привезите мне ваших тульских пряников.
Лев Николаевич кивнул. Он думал: почему человеку, который решил жить добром и любовью, в целом мире легче с чужими людьми, чем в собственных четырех стенах.
Николай Николаевич позвал гостя смотреть мастерскую.
— Темнеет, — сказал Лев Николаевич. — Хорошо ли сейчас смотреть картины?
— Картины всегда хорошо смотреть. Я часто сижу по вечерам в мастерской и наблюдаю, как изменяются картины по мере наступления темноты. Многое видится иначе. Очень интересно. Ночью тоже иногда захожу, со свечой.
Лев Николаевич встал из-за стола:
— Пошли…
Николай Николаевич отворил дверь в мастерскую, пропустил гостя вперед.
— «Христа в Гефсиманском саду» вашего знаю и люблю, — сказал Лев Николаевич, — вот «Вестников воскресения» не пришлось видеть. Задорная вещь.
— А это, — Николай Николаевич показал рукой, — изруганное «Милосердие».
Лев Николаевич подошел, постоял — руки привычно на поясе.
— Вы слишком стараетесь уговорить всех, что Христос здесь, с нами. Хорошо, чтобы зритель поглядел и сам это понял. Не знаю также, нужна ли обыденность обстановки. Мне ваше «Милосердие» напомнило картину одного француза — Христос изображен у него босым, бедным священником среди детей… А это что?
Лев Николаевич, склонив голову к плечу, разглядывал стоящую на мольберте картину.
— Не разберу. Она у вас боком, что ли?
— Это не настоящее. Завтра начну снова. Теперь пойдемте к сыну Колечке. Он, бедный, больной, в постели, — только и мечтает увидеть и услышать дорогого Льва Николаевича.
Пропуская гостя вперед, Николай Николаевич признался:
— Я, когда начинаю картину, боюсь — вдруг помру, не успею свое сказать. Все и пойдет прахом.
Лев Николаевич ожег его взглядом, засмеялся:
— А я так жалею, что не идет все прахом; это б лучше было.
Утром, после кофе, Толстой взял посошок, отправился пешком в недальнее местечко Ивангород. Там три часа просидел в амбулатории, среди больных баб и мужиков, расспрашивал их про жизнь, про болезни. Отвечали ему доверчиво, это радовало его. В конце приема Толстой подошел к врачу, назвал себя. Врач счастливо пожал ему руку, ужаснулся, что сразу не признал его в толпе больных, но Лев Николаевич был как раз этому очень рад.
Врачом в Ивангороде был Ковальский — близкий знакомый Николая Николаевича и Анны Петровны, который пользовал все семейство Ге. Он в эти дни часто бывал в Плисках: Николай Николаевич младший лежал больной — у него сильно распухла нога, началось воспаление. Наверно, доктору Ковальскому говорили, что со дня на день ждут Толстого. Возможно, доктор знал, что Толстой приехал: когда кто-нибудь в доме болел, Анна Петровна без конца посылала Ковальскому записки.
Доктор показал Толстому больницу, Лев Николаевич сказал, что больница ему понравилась и очень понравилось обращение с больными. Они расстались довольные друг другом.
Лев Николаевич возвращался в Плиски и думал, что это очень хорошо, что он приехал погостить к Ге: 1884 год был для Толстого невыносимо тяжел — семейный разлад, вражда, непонимание. Все то, что для Софьи Андреевны, для детей составляло радость — благополучные экзамены, успех в свете, хорошая обстановка, дорогие покупки, — все это он считал несчастьем и злом. Они не желали прислушаться к тому, что он говорит; их раздражало, что он это говорит. Он рад был стать добрым и жить по-ихнему, но это значило отречься от истины — они, ближние, первые бы злорадствовали, узнав об отречении. Он доказывал им счастье простой жизни и простого труда — они смотрели на него едва не как на юродивого. Он ушел от них — и не смог уйти: роды Софьи Андреевны принудили его вернуться…
Толстой шел из Ивангорода в Плиски по мягкой, пыльной дороге. Солнце пекло ему плечи. Встречные ему кланялись, и он снимал шапку в ответ. Он радовался, что о своем разладе, который так мучил его, вспоминает теперь, на пыльной степной дороге, без злобы и раздражения, что он спокоен и умиротворен, словно расстояние, как и время, помогало забывать.
Он припомнил, как кипятился вчера вечером Ге:
— Для меня любимое дело — сложить печь. Я иду — кладу мужику печь. А вот она знает, что я печи класть не должен.
И он в сердцах назвал свою Анечку «прокурором».
Лев Николаевич сказал:
— Про то, как я шью сапоги, тоже рассказывают анекдоты.
Анна Петровна сказала очень уверенно:
— Каждый человек должен заниматься своим делом.
Лев Николаевич улыбнулся уверенности Анны Петровны: она говорила, как тот Хозяин, который, единственный, знает, зачем каждый человек живет на земле.
Толстой опять подумал, что у нравственного человека семейные отношения сложны, а у безнравственного все гладко.
Лев Николаевич прожил в Плисках три дня. Каждое утро он уходил в Ивангород, заглядывал в окрестные села.
В Ивангороде он сидел на занятиях в школе. Учитель догадался, что это Толстой, но поздно, — Толстой вышел из класса, учитель увидел в окно, как он быстро шагает по дороге. Побежали догонять. Но Лев Николаевич исчез, будто сквозь землю провалился. Сельский учитель, оказавшийся в тот день в Ивангороде, рассказывал Ге, что, не догнав Толстого, учитель и ученики вернулись в класс, в восторге целовали стул, на котором сидел Лев Николаевич.
Николай Николаевич очень любил пересказывать эту историю, похожую на легенду, и неизменно заканчивал:
— Вот так любят и чтут гения простые сердца.
В тот день, когда Лев Николаевич уезжал из Плисок, небо затянули черные тучи. Погода переломилась. Анна Петровна мерзла. У нее немели пальцы, часто шла кровь носом. Она боялась ненавистного ноября. Николай Николаевич, счастливый, влез в старенькую вязаную кофту, которую, уезжая, позабыл у него Толстой…
Лев Николаевич хотел поскорее снова видеть Ге. Они переписывались. Николай Николаевич каждый день посылал крестьянского мальчика Филю на станцию за почтой.
«Радость моя еще больше потому, что вижу, что вы меня так же любите, как и я вас», — пишет ему теперь Толстой.
Два сына и племянница
В 1884 году, который начался портретом Толстого, Ге написал также портреты обоих своих сыновей.
Старшего сына Николая, которого в обществе называли Николаем Николаевичем младшим, а сам художник «возлюбленным сыном Колечкой», он писал сразу как возвратился от Толстого.
Николай Николаевич младший был человеком неустроенным в жизни. Он смолоду много и тревожно думал; вопросы «как жить?» и «чем жить?» были для него освобождены от практицизма.
Искания отца не оставили Колечку безучастным. Но отец был художник, его холсты — поле для исканий, а Колечка был студент Киевского университета по юридическому факультету, пока никто.
Некоторые современники говорили, что по закваске он был «народником семидесятых годов»; юность он провел в обществе художников-передвижников и литераторов из «Отечественных записок» — многие его сверстники пошли в «народ». Он тоже хотел идти в народ, но по-своему. Учение Толстого, совпадавшее с исканиями отца, поразило его простотой и ясностью. Пример Христа, принесшего себя в жертву ради других, увлекал и захватывал его.
Собственная греховность тяготила Колечку. Наезжая из университета на хутор, он сошелся со скотницей Агафьей, или, попросту, Гапкой. Киевский студент слушал лекции по философии, спорил с приятелями на вечеринках, говорил, что только любовь и добро могут исправить человечество, а в ста верстах от Киева молодая одинокая баба, мучась, рожала от него ребенка. Прославленный художник Ге привел ее к себе в мастерскую, чтобы родила на его кровати. Колечка увлекся интеллигентной женщиной, помчался за ней в Петербург, в Москву, во время свиданий они тоже говорили, что надо любить не себя, жить для ближнего. На хуторе, по колено в пыли, бегала босоногая девочка Парася, дочь Колечки. Старый художник Ге, дедушка, брал ее к себе в дом, кормил пряничками, рисовал ей черную лохматую собаку Бруно, безымянную кошку, давал большую кисть, подводил к начатому холсту: «Будем вместе картину писать». Она щедро мазала снизу по холсту красной краской. Домашние ужасались: испортит вещь! Дедушка гладил Парасю по головке: «Пиши, пиши, твоя картина важнее моей!» — и смеялся, целовал внучку. Колечка, хоть и с опозданием, окончил курс, ему оставалось написать дипломную работу; потом он должен стать судебным деятелем, должен карать людей за то, что не исполняют неправедных законов Российской империи… Так не могло продолжаться. Нельзя искать одну вечную истину и жить двойной жизнью.
Трудно сказать, сколько длились бы душевные терзания Колечки, если бы не одно неожиданное событие в жизни семейства Ге. Событие это само по себе было не столь уж потрясающим, но на смятенно ищущего юношу оно могло произвести сильное впечатление. Оно могло показать ему все преимущества цельных натур, которые всегда идут своим путем и всегда поступают согласно своим убеждениям. Для молодого человека, тянущегося к толстовству, оно могло стать своеобразным подтверждением реальности и жизненной силы учения.
…Весной 1884 года художник Николай Николаевич Ге отправился в Петербург выручать из тюрьмы племянницу Зою, дочь брата Григория Николаевича.
Сам Григорий Николаевич, по словам Стасова, «и в гусарах побывал (с великим восхищением!), и в художниках, и в писателях», имел чин надворного советника, но считался по картотеке херсонской жандармерии человеком «крайне вредного в политическом отношении направления». Он почему-то выручать дочь не поехал — то ли не надеялся, что сумеет, то ли были другие причины, — так или иначе, с этой поры жизнь Зои оказалась связанной с жизнью Николая Николаевича Ге и его семейства.
Зоя Ге была годом или двумя младше Колечки, воспитывалась она за границей. С декабря 1878 года ее имя появляется в делах жандармского управления. Она участвует в народовольческих кружках, прячет революционеров, перевозит литературу.
Зою арестовали седьмого августа 1883 года в Николаеве; ей предъявили обвинение в принадлежности к военным народовольческим кружкам, в распространении революционных изданий, а так же в укрывательстве Веры Фигнер. Дело было серьезное, Зою отправили в столицу и водворили в Петропавловскую крепость.
Николай Николаевич не имел на руках никаких доказательств невиновности Зои. Не было у него никаких документов или сведений, которые уменьшали бы ее вину. Ни один адвокат не взялся бы при таких обстоятельствах выиграть дело. Но Николай Николаевич и не собирался нанимать адвоката. Он бросился в Петербург с той же искренней непосредственностью, с какой бросился обнимать нищего на Николаевском мосту. Никаких сомнений у него не было, он делает правильно, он должен так сделать — «спасти». Ге не строил планов, в судебных делах он ни на грош не разбирался, он просто, повинуясь чувству, бросился освобождать человека, арестованного за участие в военном заговоре, бросился так, как апостол Петр шел по воде, пока не усомнился, но Ге не усомнился, — он сто очков вперед давал любому специалисту-законнику.
По дороге Николай Николаевич заехал, конечно же, в Москву, к Толстому. Лев Николаевич очень поддержал его намерение. «Кто заключенного посетит, тот меня посетит», а если освободит!.. Лев Николаевич дал Ге письмо к своему родственнику Кузминскому, мужу сестры Софьи Андреевны. Кузминский служил по судебному ведомству. Лев Николаевич написал Кузминскому про Ге: «…ты его знаешь, но все-таки не могу не подтвердить, что это один из лучших моих друзей и святой человек».
Две недели «святой человек» ходил по присутственным местам, пока ему разрешили свидание. Он отправился в дом предварительного заключения, куда временно перевели Зою. Николай Николаевич помнил ее девочкой: последний раз они виделись в Италии — она приезжала из Женевы погостить. Тогда она была очень красивой девочкой — подчеркнуто правильные черты бледного лица и волосы до того пушистые, что вокруг них словно разливалось неяркое сияние. Николая Николаевича она удивила своей замкнутостью — в доме все рассуждали, спорили, исповедовались, а Зоя улыбалась, коротко отвечала на вопросы, говорила сдержанно и точно. Так маленькой загадкой и уехала обратно в Женеву… Теперь Николай Николаевич стоял в толпе пришедших на свидание людей и, напряженно подавшись вперед, разглядывал каждую женщину в сером халате, которая появлялась по ту сторону частой двойной решетки. Все они казались ему одинаковыми, и он боялся, что не узнает племянницы. Но когда привели Зою, он сразу ее узнал. Она была уже не девочкой, конечно, — молодой женщиной, с тем же красивым, правильным лицом. Но мраморная бледность на лице сменилась другой, нездоровой, зеленоватой какой-то, — Николай Николаевич даже огляделся, не зеленые ли стены. Стены были серые, а лицо у Зои — зеленоватое не от стен. Волосы не излучали сияния; голова была повязана нечистым белым платком.
Николай Николаевич прижался лицом к самой решетке, чтобы Зое лучше было слышно, и стал громко говорить, что он приехал ее спасти, что он уже подал прошение и что всюду есть люди добрые — ему не откажут. Зоя устало улыбалась и повторяла: «Да-да». Приблизился дежурный, объявил: «Свидание окончено!» — К Зое подошел унтер с медалями, тронул за плечо.
Николай Николаевич торопливо выбрался на улицу, крикнул извозчика и поспешил в департамент полиции. Вялый чиновник молча и без интереса слушал его, не переставая аккуратно точить карандаш, затем осторожно опустил отточенный карандаш в бронзовый стаканчик, закрыл маленький ножичек с темной черепаховой ручкой, положил его в карман и принялся рыться в ящике стола. Впервые поднял лицо — Николай Николаевич удивился его зеленоватости, сродни той, тюремной.
— На ваше прошение приказано ответить отказом.
Николай Николаевич бросился по начальству — никто не принимает: страстной четверг. Завтра — страстная пятница, тоже день не приемный. Прибежал к Кузминским: «Помогите!» Александр Михайлович Кузминский отправился просить самого Плеве, директора департамента полиции. Тот вдруг согласился: хорошо, примет художника Ге утром, в одиннадцать.
Ровно в одиннадцать Николай Николаевич вошел к нему в кабинет и прямо на пороге заговорил с горячностью:
— Меня не интересует ни степень ее виновности, ни даже в чем дело. Мне нужно спасти ее, бог велит это сделать, и я прошу вас помочь…
Плеве знал, в чем дело, и интересовался степенью виновности Зои Ге. Он знал, что ее ждет, и знал, что он может сделать, если захочет, для этого странного старика с круглыми блестящими глазами, продолговатой лысиной, окруженной, будто ореолом, легкими серебряными волосами. Плеве слушал его горячую речь, в которой не было ни слова дела, а все «бог велит», «любовь», «добро», и никак не мог понять, правда ли перед ним святой старик или хочет казаться таким. Тут Плеве вспомнил чей-то рассказ о том, как знаменитый художник Ге бросил Петербург, искусство, уехал в деревню и кладет там мужикам печи, — он легким жестом прервал речь Николая Николаевича.
— Ваша племянница, — сказал он, — будет освобождена из-под стражи под залог в десять тысяч рублей. Вы можете обратиться с просьбой на высочайшее имя о замене вашей племяннице высылки в Сибирь высылкой по месту вашего жительства. В ожидании высочайшего повеления вам будет разрешено увезти вашу племянницу к себе в деревню.
И он встал из-за стола. Большие часы в углу пробили четверть двенадцатого.
Николаю Николаевичу выдали Зою на следующее утро, он тотчас повез ее домой, даже к Кузминским не успел — поблагодарить. Он их позже поблагодарил: «Пока такие люди — мир будет стоять!» В дороге Николай Николаевич был весел, шутил и умилялся, что Зоино освобождение совпало с пасхой.
В Москве задержались ненадолго. Зоя никуда не выходила, ссылаясь на утомление. Николай Николаевич жалел, что не может вытащить ее к Толстым. Лев Николаевич сам приехал познакомиться с Зоей. Ге смотрел удивленно, как разговорилась его племянница. Она говорила с Толстым просто и прямо, без околичностей. Лев Николаевич попросил Зою написать обо всем, что с ней было в тюрьме и крепости. Она пообещала.
…Николай Николаевич младший, Колечка, был в это время в Москве. Ему оставалось либо написать дипломную работу, либо переломить всю жизнь, начать сызнова.
Он написал письмо к брату Петру. Это только форма — «письмо к брату». Письмо Колечки было рассчитано на то, что его прочтут многие. Он писал, что не в силах больше жить не по убеждениям. Он объявлял себя приверженцем того учения, которое исповедует отец и проповедует Толстой. Он сообщал, что бросает университет, отказывается от государственной службы, порывает с обществом, которое живет за чужой счет, и едет в деревню, чтобы кормиться своим трудом.
Лев Николаевич прочитал письмо один из первых. 30 апреля 1884 года он записал в дневнике:
«Утром барышня от Ге принесла письмо молодого Николая к брату. Письмо удивительное. Это счастье большое для меня».
В. Г. Черткову Лев Николаевич сообщил, что сын Ге, Николай, «человек совершенно той же веры, как мы, — и человек верующий, т. е. исполняющий».
Письмо попало к Толстому в самый острый момент семейного разлада. В эти же дни в дневнике его появилось: «Хорошо — умереть». Для Толстого счастье было узнать, что среди молодых есть у него единомышленники, единоверцы.
Николай Николаевич младший, в самом деле, взялся ломать свою жизнь, как человек «исполняющий». Дипломную работу он, правда, написал, но она не была и не могла быть принята. Работа была написана не для университета, а для себя и для близких. Она называлась: «О бесправии уголовного права». Сама тема близка тому, что много раз говорил и писал Толстой. После письма к брату у Колечки Ге состоялся с Львом Николаевичем долгий и откровенный разговор о своих семейных делах. Лев Николаевич уговаривал Колечку поселиться на хуторе, жениться на Гапке и крестьянствовать. Отец просил его о том же. Колечка знал, что это хорошо, жажда любить и творить добро несла его, как на крыльях. Он пришел к своей Гапке, ей сказал и сам был уверен, что пришел навсегда.
Еще до того как окончательно переселиться на хутор, в один из наездов, Николай Николаевич Ге старший написал портрет Гапки. Красивая девка в малороссийской одежде, крупная и статная, одной рукой держит за рог корову, в другой руке — деревянная бадейка. Брови вразлет, сочные губы, ясные задумчивые глаза. Гапка на портрете здоровая и жизнерадостная.
Но Гапка не была здоровой и жизнерадостной. Этот портрет — идиллия хутора. Та идиллия, к которой рвался Ге, намереваясь покинуть Петербург. Гапка была душевнобольная женщина. Сожительство с Николаем Николаевичем младшим, студентом, баричем, беременность, о которой знала вся округа, внебрачный ребенок — все это дурно на нее подействовало. А женитьба на ней Колечки, его искания и сомнения, ей непонятные, разговоры о Льве Николаевиче (он ей пересказывал учение Толстого) — это уже совсем доконало. С ней стали случаться сильные припадки.
Но тяжелее всего было Гапке чувствовать своим бабьим сердцем, что она для Колечки не любимая женщина, не жена, а тяжелый крест, который он добровольно взвалил на плечи и несет во имя любви и добра.
Вскоре после переселения Николая Николаевича младшего на хутор Гапку отправили в больницу; он не стал один крестьянствовать, взял Парасю, поехал в Москву, в Тверь — искать себе место. Он раскрашивал фотографии, давал уроки, переплетал, переводил, писал портреты (многие советовали ему всерьез заняться живописью), рисовал акварели для «Истории кавалерии» — лошадей и военачальников, по десяти рублей за штуку.
С 1886 года он живет у Толстых: Софья Андреевна предложила ему «заведовать всеми делами» в издательстве «Посредник». Толстые его любят, называют, как и отец, Колечкой. Вместе со Львом Николаевичем он идет пешком из Москвы в Ясную Поляну.
Через несколько лет Колечка все же переберется на хутор, будет жить с Гапкой, ходить в сермяге, пахать, косить; дочка Парася вместо учения в школе будет пасти телят. Лев Николаевич будет умиляться его жизнью, ставить Колечку всем в пример, тосковать, что сам не может жить так же. Отец будет всячески его укреплять и поддерживать. И сам Колечка на какое-то время поверит, что живет хорошо, идеально, что счастлив.
Он искренне устраивал по-новому свою жизнь и так же искренне был счастлив, когда устроил ее. Нельзя сомневаться в его искренности. Он мог стать, говорят, хорошим художником. Но он не понял главного, что говорил о живописи его отец. А отец его говорил, что художник, замыслив картину, должен найти для нее одну-единственную истинную, живую форму. Иначе, как бы прекрасно ни была исполнена картина, все-таки не будет в ней полной истинности, откровенности, непосредственности и простоты, будет в ней фальшь, трещинка, по вине которой раньше или позже обрушится вся скала.
Найти единственный, свой образ жизни потруднее, чем композицию для картины.
Колечка, как и отец, душевный, совестливый, увлекающийся, умом, сердцем искренне рванулся к истине, которая открылась ему, смело (не всякому такое по плечу) переломил ход своей жизни. Но он не понял и еще кое-чего важного из того, что говорил о живописи его отец: картина должна быть на две трети готова, когда художник подходит к холсту. Николай Николаевич старший был готов к новой жизни — так жили в нем картины, которые он только собирался писать. Колечка считал новую жизнь идеальной, мечтал о ней, принял все ее внешние формы, публично от себя отрекся, но готов к ней не был. Толстой часто приговаривал: «Царство божие усилием дается». Но хорошо ли, когда «царство божие» превращается в сплошное усилие, в одно насилие над собой?
Николай Николаевич младший, обретя — ему так казалось — истину, начинал новую жизнь не как отец его, не радостно: он ее, как вериги, надевал. Он так и писал Толстому про вериги, про то, что хочет быть гонимым (но не сейчас), что мечтает о заточении (но сперва хочет сделать что-нибудь на свободе), что подозревает Льва Николаевича в неискренности (но зато сам верит, искренен), что будет жить с женой, которую не любит, и что похоть его мучает.
Но это после — страстная вражда с собой и недолгое ощущение гармонии и счастья. Когда пришло решение, когда солнечным майским днем Колечка Ге увидал издали, с дороги, хутор, окутанный облаком цветущих яблонь, когда услыхал, как истово галдят над головою угольно-черные грачи, будущее казалось ему ясным и радостным, как пчеле, уткнувшейся в душистый и сладкий яблоневый цветок.
Николай Николаевич написал сына накануне решения. Колечка как то странно устроился — в первый момент и не разберешь, то ли верхом на стуле, повернутом спинкой вперед, то ли на какой-то скамеечке, а пустой стул держит перед собой. Колечка смотрит прямо в глаза собеседнику, напряженно испытующе. Ждет главного слова — и не верит, и хочет верить, и надеется, что оно главное. Огромный выпуклый лоб — величина его подчеркивается ракурсом и светом; гладко зачесанные назад блестящие волосы не ограничивают лоб — переход плавен, они как бы продолжают его, делают крупнее, сферичнее. Знакомая по портретам Герцена, Салтыкова-Щедрина, Толстого мучительная складка на переносице. С этого очень объемного и объемистого лба, к которому просится название «чело», с настороженных, ищущих глаз начинается на портрете Николай Николаевич младший.
Другой сын, Петр Николаевич, Петруша, изображенный Ге, сидит на стуле, как полагается, может быть, только чуть вбок.
Петр Николаевич, любимец матери, — она его называла «Малюсенький» — тоже себя искал. Это у всех Ге в породе — нелегкий путь к самому себе. Поиски Петра Николаевича были успешнее Колечкиных: он искал не «как жить?», а «кем быть?»
Молодой человек «вращается» в Петербурге, время от времени сообщает родителям о своих планах. Решил стать архитектором. Отец в восторге: «Архитектура — и искусство, и наука, и ремесло». Он заготавливает рекомендательное письмо на имя конференц-секретаря Академии художеств Исеева. Сыну пишет: «Думай только об одном — рисуй с утра до вечера, а вечером в классе, и ты увидишь, как это пойдет легче, чем ты думаешь»[52].
Но у Петруши уже новая идея: архитектура — долго, сложно; лучше — на сцену! Родители в отчаянии. Анна Петровна обстоятельно разъясняет «Малюсенькому», что сцена не терпит посредственности — нужно дарование. Николай Николаевич высказывается совершенно определенно: «У тебя и признака таланта к этому нет»[53]. А тут еще выясняется, что живет Петруша у дядюшки Ивана Николаевича, который якобы собирается стать директором театра и манит племянника на главные роли. Отец мечет громы и молнии — «этот подлец хочет утопить тебя в гнусной среде». Мать именует дядюшку «преступником». Петруша упорствует — он уже репетирует роль Горацио. Через месяц Анна Петровна начинает письмо обращением: «Здравствуй, друг Горацио!»[54]. Она уже гордится своим «Малюсеньким». Она уже мечтает, чтобы он играл Кассио вместе с Сальвини. Она предупреждает, чтобы он не играл с Чарским, которого ругали за роль Отелло. Только с Сальвини!
Но Сальвини отчего-то не стал играть с Петрушей Ге, Кассио не состоялся. И вообще — Петербург не состоялся. Петр Николаевич перебрался в Москву, служил по какому-то ведомству. В Москве встречался изредка со Львом Николаевичем, но, по словам Толстого, «что-то не вышло общения». Может быть, оттого, что у Петруши с Толстым не выходило общения, брат Николай именно ему адресовал свое письмо с отречением от прежней жизни. Еще через год Петр Николаевич оказался по соседству с Плисками, в городке Борзне. Служил там в земской управе.
На портрете у Петра Николаевича уверенное лицо, глаза, которые сначала кажутся веселыми, а чуть погодя — грустными, сильные руки. Складки на переносице нет, брови срослись. Лоб закрыт волосами.
Стоит иногда взглядывать на судьбу сыновей Ге — жизнь отца становится рельефней.
Оба сына не раз сожалели о своих нераскрывшихся талантах; все их преследовала мысль, что призваны они были сделать нечто большое, важное, да вот так складывалось, помимо них, неудачно, — не сделали.
А Николай Николаевич — отец заклеил эскизами окна, выбитые градом. В мастерской у него долгое время висели на стене двенадцать листов бумаги, слегка измазанных углем.
— Собирался иллюстрировать Евангелие, — объяснял, смеясь, Николай Николаевич. — Как-то жена послала в мастерскую дивчину порядок навести. Та стала везде пыль стирать и вытерла мои рисунки до чистой бумаги.
Эта история очень забавляла Николая Николаевича.
В заветном кабинете
В январе 1886 года Ге поехал к Толстому показывать рисунки к «Чем люди живы?». Рисунки были не все готовы, он прожил у Толстого почти два месяца — продолжал работать.
Лев Николаевич поселил его у себя в кабинете, в том самом, где написан портрет. Ге чувствовал себя в толстовском кабинете свободно, как у себя в мастерской. Поставил мольберт. Листы с иллюстрациями, эскизами, набросками развесил по стенам, разложил на стульях.
В семье Толстых к нему скоро совсем привыкли. К нему всюду, где он ни появлялся, быстро привыкали: очень прост был, не обидчив, не требователен, из тех, кто, где сядет, там поест, где ляжет, поспит; главное же — не требовал к себе особого внимания и сам не навязывался.
Как птица. Он себя часто называл — «воробей».
На хуторе он позабыл про манеры, да они и не нужны ему были в новой жизни, — в нем словно воскрес академический ученик, привыкший к простецкому общежитию и пугавший знакомых невообразимо поношенным пальто.
Вряд ли в доме Толстых еще кто мог так запросто прийти в комнату барышень и — «Устал я нынче» — улечься на кушетку, чтобы соснуть часок-другой. Проснувшись, Николай Николаевич сам шел на кухню, наливал кружку жидкого чаю, улыбчивый, с кружкой в руке, появлялся в зале, радостно направо и налево раскланивался с посетителями, просил Софью Андреевну:
— Мамаша, нет ли у вас чего-нибудь сладенького?
Это не маска, не хорошо разученная роль, такую роль нельзя изо дня в день играть безошибочно: тут малейшая фальшь, одна нотка неверная — и тотчас вылезет наружу неестественность лицедейство, нарочитое юродство.
Вот так: графине Толстой — «Мамаша, нет ли сладенького», старшему сыну Сергею Львовичу, в споре — «А ты, Сережа, ладивот, настоящий ладивот!» (это, чтобы не говорить — «идиот»). И редко у кого из окружающих (у великих лицемеров, должно быть) появлялась въедливая мыслишка: а не играет ли старик Ге (смотрите, дескать, какой я простецкий, все мне можно), — потому что радость, ласка, доброжелательство, которые он щедро излучал, с такой раздражительной мыслишкой не совместны. Могла не нравиться эта простота — другое дело. Но Ге таким был, нравился или не нравился.
Если прибавить к этому, что хозяйство на хуторе не столько давало денег, сколько съедало, что надо было помогать ищущим себя детям, что росли внуки, что, наконец, портреты заказные писать не хотелось, станет ясно — проблема приличных штанов не была для Николая Николаевича надуманной. Впрочем, приличные штаны никогда не были для него проблемой.
Дочери Толстого, Таня и Маша, чинили его одежду, штопали, ставили заплатки. Софья Андреевна собственноручно сшила ему однажды «пару панталон», как она назвала.
По вечерам в зале у Толстых собирались люди.
Софья Андреевна читала вслух Глеба Успенского.
Деревенская жизнь у Глеба Успенского была жестокой и нелепой. Кляузный мужик, герой рассказа, слогом Евангелия писал доносы на собственного сына.
Лев Николаевич начал спорить: Глеб Успенский «сочиняет», мужик не так живет, мужик быстрее поймет, что не в грехе сила, а в добре. Николай Николаевич подтвердил: не так, не так. Рассказал, как минувшим летом ходил с хутора в соседнее село, собрал бедных мужиков, нищих, что просят Христа ради, читал им Евангелие — было хорошо, радостно.
У Николая Николаевича болели зубы. Он сидел в зале, обмотав лицо серым вязаным шарфом. Устроился поближе к свету; на коленях картонная папка. Слушал и рисовал.
Иван Михайлович Ивакин, домашний учитель Толстых, белокурый, тщедушный молодой человек, с тонким голосом и тонкими женскими руками, всегда немытыми, подвел к Николаю Николаевичу нового гостя — знакомить. Владимир Федорович Орлов был когда-то замешан в нечаевском деле, испытал тюрьму, ссылку; теперь он утверждал, что человек, освобождаясь от слабостей, приближается к богу, сливается с ним. Длинноволосый, с нечесаной бородой, Орлов, окая, многословно и путанно старался связать свои рассуждения, очерк Успенского и то, что писал Толстой.
Ге положил начатый рисунок в папку, поднялся со стула, ласково взял Орлова под руку:
— Пойдемте-ка, покажу вам лучше эскизы к «Чем люди живы?»
Лев Николаевич заметил, что они направились к двери.
— Куда вы?
— Вот хочу свои рисунки показать.
— И я с вами…
Ге стал показывать рисунки:
— Над первым я год бился. Хотел уловить главное, свое.
Лев Николаевич сказал:
— Зато теперь он свое нашел. К каждому рисунку у него есть собственный текст. В его рисунках для меня и моя-то работа ожила. Я на них удивляюсь и все заново чувствую…
Лев Николаевич любил показывать рисунка Ге. Их повидали почти все, кто побывал в доме Толстых.
В ту зиму Толстой познакомился с Короленко. Его он тоже водил в кабинет, объяснял эскизы. Потом сказал:
— Хочу вот найти издателя, выпустить рисунки альбомом. Один альбом издадим подешевле, для народа. Другой — подороже, для богатых людей. Николай Николаевич вот без штанов ходит. Надо ему на штаны собрать…
Лев Николаевич, пока гостил Ге, написал текст к картине «Тайная вечеря». Толстой заново обдумал сюжет, в картине Ге он тоже улавливал свое.
Для него было очень важно, что перед трапезой Иисус омыл ноги ученикам, среди них Иуде. Это пример самоотреченной любви и всепрощения: омой ноги предателю, который идет доносить. Иисус показал, как нужно любить всех сущих в мире, любить врага своего.
Николаю Николаевичу этот текст очень понравился. Но это был собственный текст Толстого. С собственным текстом Ге к «Тайной вечере» он не совпадал. Ге это подчеркнул. Он не стал искать нового решения «Тайной вечери», но «сочинил» на текст Толстого эскиз «Омовение ног»: Христос моет ноги Иуде.
Ге в ту пору увлекался графикой.
Лев Николаевич часто повторял, что краски мешают ему смотреть картины. Он любил одноцветные альбомы с репродукциями. Он рассказывал, что «Тайную вечерю» любил давно по фотографиям, а когда увидел ее на выставке, в цвете, впечатление было меньше. Он очень хвалил копию, которую написал Крамской черным соусом, ходил в Румянцевский музей ее смотреть.
Ге, увлекаясь графикой, ссылался на Толстого — вот-де и Лев Николаевич говорит, что живопись мешает понять суть. Скоро увлечение поутихнет, графика займет свое место рядом с живописью, которая всегда была для Ге, конечно же, главной, Николай Николаевич даже назовет Толстого «дальтонистом».
Но мысль, что для народа надо рисовать угольком, что графика нужнее народу, понятнее, не случайна в творчестве Ге, необходима и даже этапна, как необходимы и этапны в творчестве Толстого графически четкие, простые и ясные рассказы «Азбуки», «Кавказский пленник». Лев Николаевич сам их называл: «рисунки карандашом без теней».
Да, это надо было пройти Толстому на пути к народным рассказам, тоже еще графическим, на пути к высокой по своей простоте живописи последних произведений. Ге также надо было это пройти — выразительная ясность его завтрашней живописи тому доказательство. Рядом с собственной толстовской оценкой «Войны и мира» — «дребедень многословная» — очень точно становится кое-кого возмутившая оценка Ге: в этом романе «изобретение обстоятельств играет слишком большую роль».
Лев Николаевич иной раз говаривал:
— Если меня нет в комнате, спросите Николая Николаевича, он вам ответит то же, что я.
То же. И все-таки у каждого был собственный текст. Во всем учении, которое должно было привести их к открытию идеала, у каждого был свой текст.
Так они помогают друг другу понять общее.
Лев Николаевич писал к Ге:
«Мне представляется, что дело наше — уяснение истины; она бывает шершавая ершом — не входит в людей. Прежде выражения истины нужно расположить людей любовию к принятию ее».
В письме к молодому другу и ученику Ге точно пересказывает слова Толстого. Но у него есть вдобавок и собственный текст о том, как располагать людей любовью, как жить и уяснять истину: «Делать нужно то, что нужно окружающим в эту минуту, а затем опять то же, то же, без конца».
Для Толстого это важнейший из текстов Ге, хотя Лев Николаевич узнал его позже и в другой, афористической, редакции.
9. Выход Христа с учениками с Тайной вечери в Гефсиманский сад. 1888
10. «Что есть истина?» Христос и Пилат. 1890
Однажды Ге работал в доме Толстых. Его то и дело отрывали: один с вопросом подойдет, другой за советом, третий просто поговорить. И всякий раз Николай Николаевич безропотно откладывал кисть. Наконец, Татьяна Львовна, она художница была, возмутилась — неужели люди не понимают, что Николай Николаевич работает! Николай Николаевич расстроился:
— Что вы, что вы, Таня! Бог с ней, с работой. Человек дороже полотна.
В семье Толстых, как в большинстве других семей, жили свои излюбленные выражения, понятные всем домашним.
Про картины, изображающие обнаженных женщин, говорили: «Баба моется». Это пошло от крестьянской девочки, которая рассматривала в Ясной Поляне репродукции и приговаривала: «Опять баба моется…». «Архитектор виноват», — говорили про того, кто пытался свалить вину на другого (так утверждал однажды Илья Львович, когда разбил чашку, споткнувшись о порог).
«Человек дороже полотна», оброненное Николаем Николаевичем, прочно вошло в круг этих выражений, стало среди них едва ли не самым значительным. Толстой как-то писал Николаю Николаевичу из Ясной Поляны: «У нас очень много посетителей, и я относительно их всегда стараюсь держаться вашего правила — „человек человеку дороже полотна“».
Дальше Лев Николаевич размышляет о том, что главное в жизни — работа, отвлекаться от нее и идти к посетителям тяжело и скучно. Приятно только сознавать, что нашел время для другого человека. «Крайности всегда сходятся: болтовня самое пустое и самое великое дело». Так у Толстого появляется свое толкование афоризма о «полотне», появляется собственный текст. Толстой вводит элемент усилия. Он обдумывает и объясняет то, что Ге делал, не задумываясь, по зову сердца.
Николай Николаевич всегда подчеркивал, что старается идти след в след за Толстым: «Я за вами поплетусь, хотя бы и расквасить мне нос». Уверял всех, что он только и говорит, когда самого Льва Николаевича «нет в комнате». Но Лев Николаевич за то и любил и ценил Ге, что тот не сзади плелся, а шел рядом.
Толстой — важное обстоятельство! — поселил Николая Николаевича у себя в кабинете, любил с ним бывать, повторял его словечки, но долго не осознавал, насколько прочно поселился Николай Николаевич в его жизни.
2 июня 1894 года Толстой записал в дневнике: «Сейчас получил телеграмму о смерти Ге. Не пишутся слова: смерть Ге. Как все-таки мы слепы и видим только то, что нам кажется. Так, нам кажется, нужен был он с своими проектами и планами. Но нет. Я его очень — не хочу говорить: любил, очень люблю, но все-таки мне казалось, что он, хотя далеко не кончил в смысле художественном, далеко не кончил в смысле христианского развития движения. Страшно писать это. Но это казалось мне. Мне ужасно жалко его. Это был прелестный, гениальный старый ребенок».
Проходят дни, он все не в силах привыкнуть.
Дневник — 13 июня: «Самое важное событие. Смерть Ге. Я никогда не думал, что я так сильно любил его…
За это время думал: …Какая-то связь между смертью и любовью. Любовь есть сущность жизни, и смерть, снимая покров жизни, оголяет ее сущность любовью. Когда человек умер, только тогда узнаешь, насколько любил его…»
Мысль о тесной связи между смертью и любовью, вызванная известием о кончине Ге, с этих пор уже не покинет Толстого: он много раз будет к ней возвращаться, развивать ее.
В письмах к знакомым Лев Николаевич будет сетовать, что Ге умер неоцененным. Современниками. Близкими. Им, Толстым.
«Надеюсь, что его смерть откроет толпе глаза на значение того, что она потеряла в его лице. Мне же он дорог, как любящий всегда милый друг».
В другом письме: «Не могу привыкнуть к смерти Ге старшего… Редкая смерть так поражала меня. Уж очень он был жив и очень был хорош, так что доброта его не замечалась, а принималась как что-то самое естественное».
Некоторым, кто впервые видел их вместе — Толстого и Ге, — казалось какое-то мгновение, что они похожи. Седая борода. Простота обращения. Простота одежды…
Только мгновение. Они были прекрасны вместе, но вовсе не похожи. И не в лице дело, хотя лица очень разные. Дело в том, что и во внешности каждого, во всем поведении чувствовался «собственный текст».
Художник Поленов это подметил: «Ге как человек на меня произвел ужасно сильное впечатление, совершенно противоположное Толстому. Тот ветхозаветный пророк с карающим Еговой, а этот последователь Христа с его всепрощением и добротою».
Люди, близкие Льву Николаевичу, называли Толстого — Стариком, а Ге называли — Дедушкой.
Чем люди живы?
Есть индийская сказка о том, что человек уронил жемчужину в море и, чтобы достать ее, взял ведро и стал черпать и выливать на берег. Он работал так не переставая, и на седьмой день морской дух испугался того, что человек осушит море, и принес ему жемчужину.
Л. Н. ТолстойМысли о Никодиме
В Евангелии от Иоанна рассказывается:
Некто, именем Никодим, один из начальников Иудейских, пришел ночью к Иисусу для беседы. Иисус говорил ему, что нужно родиться свыше, чтобы увидеть царствие божие. Никодим удивился: как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей? Иисус отвечал: рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух. Иисус открыл Никодиму, что послан на Землю не чтобы судить мир, а чтобы мир спасен был через него. Суд же состоит в том, что в мир пришел свет: люди злые ненавидят свет, возлюбили тьму, скрывающую их дела; поступающие же по правде идут к свету, дабы явны были дела их.
Евангельская история про беседу Иисуса с Никодимом утверждает, что человечество отныне разделено надвое — на принявших вероучение Христа и отвергающих его. Отвергнуть учение Христа — значит быть осужденным на пребывание во тьме, не узнать истинно человеческого. Принять и исполнять его — значит открыть для себя путь к обновлению, к духовному возрождению.
В 1886 году Ге написал эскиз «Христос и Никодим».
Работа этапная. В эскизе Ге определил содержание и смысл своей завтрашней живописи.
Лев Николаевич Толстой, уговаривая Третьякова купить одну из самых известных картин Ге — «Что есть истина?», писал, что эта картина составит эпоху в христианском искусстве.
В следующем письме Толстой объяснял: веками художники изображали Христа-бога; затем начались попытки изображать его как лицо историческое («Тайная вечеря» самого Ге, «Христос в пустыне» Крамского); далее Христос был сведен и с пьедестала исторического лица, помещен в гущу сегодняшней обыденной жизни («Милосердие» Ге), — «и все не выходило. И вот Ге взял самый простой и теперь понятный, после того как он его взял, мотив: Христос и его учение не на одних словах, а и на словах, и на деле, в столкновении с учением мира, т. е. тот мотив, который составлял тогда и теперь составляет главное значение явления Христа…».
Композиция предельно проста и прямолинейна. Если бы отсутствие композиции само по себе не было композицией, точнее бы сказать, что ее нет в «Христе и Никодиме».
Два лица в профиль, повернутые одно к другому, — идею столкновения проще не выразить.
Решена труднейшая в искусстве задача — писать просто. Когда не за что спрятаться. Нечем подчеркнуть, подтвердить. Суть, ставшая сюжетом. Когда любая неточность — крушение целого. Все главное — лицо Христа, протянутая вперед рука его, лицо Никодима.
Нет дворцового кабинета, где затянулся узел трагедии Петра и Алексея. Нет таинственных извилистых стволов и взлохмаченной листвы Гефсиманского сада. Нет даже маленького красного демона в уголке холста.
Тут точность и достоверность иного, высшего порядка. Они — от убежденности, что так было.
Ге написал разгневанного Иисуса. Резкий, всклокоченный профиль, обращенный в тень, — силуэтом. Сверкающий белок глаза. Решительно протянутая вперед рука с указующим перстом. Красные, озаренные огненным светом одежды.
Живая форма, находящаяся за тем пределом, когда про нее можно сказать — «найдена». Настолько слилась с мыслью, с сутью, с содержанием. Настолько как бы отсутствует.
Все открыто, обнажено. Любая попытка толкования ничего не разъясняет, — наоборот, осложняет восприятие. Так же, как размышления о мастерстве художника.
Мастерство. Стремительные мазки, которыми написан Иисус, — он не из плоти, словно из пламени; нет — из отблесков и теней пламени, — рожденный от духа. И рожденный от плоти Никодим, тяжеловатый, застывший какой-то; спокойно положенные мазки. Мастерство? Но его не примечаешь. Оно не бросается в глаза и не манит вглядеться. Только ощущение — так было.
Яростные лохмы Христа и тяжелая чалма Никодима. Так было.
Выхваченные из тьмы кровавое пятно Иисусова плаща и мертвенная зелень одежд Никодима. Так было.
Небо, охваченное огнем. Так было.
Так было.
Именно в эти годы Ге осмысляет все, что сделано. Силы в нем бродят. Ге много думает о том, что всегда его занимало, — о восприятии живописи. О том, как превратить встречу зрителя с картиной во встречу Ромео и Джульетты. Он окончательно пришел к мысли о важности первой минуты свидания — «первое впечатление самое важное». Он понял необъяснимую, но такую важную для судьбы искусства связь между убежденностью художника, что так было, и ощущением достоверности, вдруг возникающем в зрителе.
Молодая художница спросила Николая Николаевича:
— Как надо мазки класть?
Он ответил:
— Вы видели, как баба хату мажет, так и пишите. Не о мазках думайте, а о том, что вы хотите передать…
Чтобы не думать, как класть мазки, нужно очень хорошо уметь их класть. Ге говорил молодым художникам:
— Овладевайте техникой так, чтобы о ней не думать, чтобы само выходило. Когда пишешь, важно передавать дух.
Об этом очень точно сказал в те же годы Ван-Гог: надо работать естественно, как дышать, — научиться рисовать так же легко, как застегивать жилет.
На небольшом куске холста Ге написал то, чем жил, написал так, как, по его разумению, надо было писать. Эскиз «Христос и Никодим» вышел таким, будто написался сам по себе.
Ге пробовал силы. Эскиз был нужен ему одному, другим он этот холст не показывал. Картину про Христа и Никодима он не написал, да и, кажется, никогда не писал. «Христос и Никодим» — это то, что составляло для него теперь смысл жизни, и это эскиз ко всему его творческому Завтра.
Писатель Гаршин, сам того не желая, однажды объяснил, почему его рассказы, построенные очень просто и безыскуственно, потрясали современников, «не давали людям покоя». Он сказал, что каждая буква стоит ему капли крови. Ге это мог понять.
Искусство класть печи
Николай Николаевич прославился умением класть печи. Сложенные им печи знали во всем уезде. Даже из Киева писали знакомые, просили советов по печному делу. Он отвечал охотно и подробно, рисовал в письмах чертежи.
В одном письме он размышляет об искусстве, о соотношении творчества и сознания, потом обрывает себя: «Ну а теперь буду отвечать о печке, так как это дело важное». Объяснение сопровождается четырнадцатью чертежами.
Софье Андреевне он сообщает, что сделал для нее копию портрета Льва Николаевича: «…работа была не веселая, не то что писать наново портрет ли или картину. Это лето я как-то особенно завален всякой работой, живопись с пчелами много от меня потребовали времени, и вот теперь в награду за работу бог послал настоящую работу — меня позвали делать печь и завтра я начну радостное дело»[55].
Особенно любил он класть печи беднякам. Это было «дорогое дело», ключ к обновлению:
«Я делал печь бедной семье у себя в хуторе, и это время было для меня самое радостное в жизни. Все дети хутора, а потом и женщины собирались в хату, чтобы побыть со мною, и радовались любовно, глядя на мою искусную работу. Я теперь, всякий раз, когда нужно, хожу в хутор, и все дети бегут ко мне навстречу и кружатся около меня. И кто это выдумал, что мужики и бабы, вообще простой люд, грубы и невежественны? Это не только ложь, но, я подозреваю, злостная ложь. Я не встречал такой деликатности и тонкости никогда и нигде. Это правда, что надо заслужить, чтобы тебя поставили ровно по-человечески, чтоб они сквозь барина увидели человека…»
Вот, в длинной крестьянской рубахе, в стоптанных, пыльных чоботах возвращается под вечер к себе на хутор Николай Николаевич Ге, прославленный печник и мало-помалу забываемый живописец. В руке у него деревянное блюдо с вишнями, покрытое ковригой хлеба. Вишни крупные, спелые, почти черные, одна к одной. За двурогую зеленую веточку Ге вытягивает из-под ковриги две крупные, темные, словно отполированные ягоды.
Закат широкий, степной, на полнеба. Погода стоит ясная и тихая, закат ничуть не красен — ровно золотист, как фон на картинах старых итальянских мастеров четырнадцатого века.
Николай Николаевич вспомнил небольшую картину с изображением распятия, которую видел однажды в Италии. Золото стерлось — Христос висел на кресте посреди черного неба.
Николай Николаевич шел на закат, хутор темнел впереди, — хаты, издали похожие на скирды, черные колонны тополей. За спиной у Николая Николаевича взбиралась на небо лиловая темь.
Николай Николаевич думал о том, что люди судимы светом и тьмою, что он идет к свету, — прожил день хорошо, по правде. Он тут же спохватился: думать об этом не нужно.
Быстро темнело. Когда он пришел домой, в гостиной уже зажгли лампу. Николай Николаевич любил лампы, покупал новые модели. Он любил иногда произнести пламенную речь о вреде цивилизации, нападал на телеграфы, железные дороги, электрическое освещение. Но сам частенько посылал телеграммы — сыновьям, Толстому; железная дорога помогала ему за сутки добраться до любимой Ясной Поляны. Керосиновые лампы — тоже не были признаком косности: электрические фонари можно было тогда увидеть разве что на Литейном мосту в Петербурге и в московском Лубянском пассаже; лампы разных типов были в моде — очень современный прибор. Николай Николаевич купил для гостиной большую лампу с несколькими фитилями. Она давала яркий свет, можно было сидеть со всеми за столом, беседовать — и рисовать в альбоме. По вечерам Николай Николаевич часто копировал Рафаэля, рисовал с репродукций его картин карандашом или углем. «Я вам скажу, — писал он молодому художнику, — это такая польза и удовольствие, точно то же, что Лев Николаевич читает Диккенса, а я читаю Рафаэля, и ежели бы вы знали, как это важно. Даже мне на старости это полезно. Это так просто, так умно и совершенно, что, только рисуя, постигаешь эту высоту…».
Николай Николаевич вошел в дом. В темной прихожей споткнулся, громыхнул сложенными у двери железными листами — когда его звали класть печь, он брал с собой такой лист, чтобы постелить перед топкой. Анна Петровна читала у стола в гостиной. Тут же с краю братец Осип Николаевич пыхтел трубкой и раскладывал бесконечный пасьянс, который никогда у него не выходил; карты были желтые, засаленные. Николай Николаевич появился в дверях — глаза сияющие; чуть конфузясь, протянул блюдо поднявшейся навстречу Анне Петровне:
— Вот. Благодарность.
Анна Петровна взяла блюдо из его исцарапанных рук, с присохшей на ногтях глиной, сердито поставила на стол. Одна вишня упала, покатилась по полу.
— Прекрасно. В доме нет ни хлеба, ни вишен. Нечего есть.
Начинались насмешки.
У Николая Николаевича глаза померкли.
— Люди дали, что могли.
Анна Петровна заговорила про юродство.
Он крикнул раздраженно:
— Мудрые имеют вид безумных.
— Еще бы не мудрец. Из профессоров живописи переседлал в печники.
Осип Николаевич быстро смешал ладонью карты на столе, отложил трубочку и, то и дело мокро прокашливаясь, стал визгливо ругать братца Николая Николаевича, который никогда ничего не понимал, Анну Петровну, которая всегда считала, что все понимает, а всего пуще стал ругать дураком и подлецом своего бывшего приятеля, казачьего полковника, который прежде приглашал его жить у себя, а с некоторых пор перестал.
Николай Николаевич махнул рукой, схватил блюдо со стола, бросился вон из комнаты. Наступил на упавшую вишенку, поскользнулся. Выругался. Громко хлопнул дверью.
В мастерской долго не мог отдышаться.
Утром поднялся чуть свет, позавтракал хлебом и вишнями, спрятал остаток ковриги в котомку и отправился пешком в Борзну: читать нищим Евангелие.
Человек дороже полотна
Если удавалось, он ехал к Толстому, в Москву или в Ясную. Толстой его поддерживал, разрешал сомнения.
Несколько раз Ге брал с собой Анну Петровну. На людях они тоже спорили. Лев Николаевич отметил в дневнике: «Что за необыкновенная вещь это раздражение — потребность противоречить жене». Через несколько дней снова: «Это тяжело и поучительно. Необыкновенно типично».
Думал Лев Николаевич, конечно, о своем. Он писал Николаю Николаевичу сыну: «Я был очень рад видеть Анну Петровну, но поразительно то военное положение, в котором она находится всегда относительно отца. Многое я узнал из того, что я знаю… Мужчина может понять, хотя сам не носил и не рожал, что носить и рожать и тяжело, и больно, и что это дело важное, но женщина редкая, едва ли какая-нибудь, может понять, что носить и рожать духовно новое жизнепонимание и тяжело и дело важное…»
Николай Николаевич младший тоже страдает за отца, с хутора сообщает Толстому: «Единственно, что есть тяжелого, это положение отца, я один не могу все сделать, так как около находится мать, которая употребляет все средства, чтобы отравлять ему жизнь. Противно вспоминать и рассказывать все те мерзости, какие ему делают».
Но Николай Николаевич отец весело приписывает: «Не огорчайтесь за меня — Коля немного преувеличивает, — а на плохие минуты у меня есть Гоголь и Паскаль, эти два великие учителя. Не говорю уже о дорогом Христе. — Вот вы и видите, что я скорее счастлив, чем противоположное»[56].
С того времени как Ге бросился в Москву «обнять» Толстого, родные и домашние без конца говорят, что он сделался капризен, нетерпим, упрям, невыносим, что он «злостно утверждает раздражающие вещи».
Ге всю жизнь чем-нибудь увлекался. Анна Петровна к этому привыкла, привыкла к зажигательным речам, к спорам в гостиной, к неожиданным поступкам, вроде лобызания нищего посреди улицы, появления на выставке в старом пальто или уничтожения почти готовой картины. Николай Николаевич делал это от души, не задумавшись, или потому, что не мог иначе; в обществе такие поступки расценивали как экстравагантность.
Анна Петровна рассказывала, что вот однажды Николай Николаевич собрался с ней в театр, но по дороге увидел красивый закат, — оставил жену, театр, пошел закат писать. Рассказ предполагает, что на другой день, когда закат будет не так красив, Николай Николаевич все же дойдет до театра.
После переезда на хутор, особенно после встречи с Толстым, становилось все яснее, что Николай Николаевич в театр не попадет. Что он вообще пошел по другой улице: театр, куда покупала билеты Анна Петровна, на этой улице не находится.
Хорошо, и даже красиво, гуляя с собратьями-художниками по Петербургу, в радостном порыве обнять нищего. Но нельзя целый день читать с нищими Евангелие и полагать это важным делом. Хорошо, и даже полезно, пойти с мужиками косить или повозиться на пасеке (на то деревенская жизнь), но нельзя убеждать собственного сына, что только мужицкая работа на земле принесет ему счастье. Можно, и даже благородно, сложить для бедных людей печь, но нельзя видеть в делании печей чуть ли не смысл жизни. Люди, близкие Ге, хорошие люди, тоже хотели делать добро, помогать другим, но нельзя же при этом забывать себя, семью.
Анна Петровна хотела спорить с Николаем Николаевичем, потому что доказательства были, конечно же, на ее стороне, — он мог в ответ лишь трясти Евангелием или ссылаться на Льва Николаевича, который имел дом в Москве, имение, приносившее доход. Но Николай Николаевич не спорил так, как принято было в обществе: опровергая аргументы или признавая себя побежденным. Он «злостно утверждал раздражающие вещи», оставался при своем, когда девяносто девять человек из ста признали бы правоту Анны Петровны или сына Петра Николаевича. Убеждения, к которым пришел Ге, были для него бесспорны, неопровержимы.
Публицисту, спорившему с учением Толстого, он сказал:
— Что ты написал! Что ты написал! Иди сейчас и отрекись, напечатай, что от своих слов отрекаешься. А то я пойду к твоей жене и дочерям и объясню, что ты написал такое, и тебе перед ними стыдно будет.
Люди, которые хотели опровергнуть то, в чем он был убежден, говорили с ним на разных языках.
Он огорчался, когда старушка няня или кто-нибудь из крестьян, завидя тучу, просили: «Пронеси господи!» Он говорил:
— Вот и «возлюби ближнего своего»! Нам або мимо нас пронесло. А соседское поле пусть градом бьет.
Сам Ге готов был, чтобы не пронесло. Он даже хотел, чтобы не пронесло, чтобы вместо соседского град бил его поле. Здесь-то и начинались его разногласия с домашними.
Один из текстов, который он хотел выразить в картине о казни Христа: «Других спасает, а себя не может спасти…»[57] Тема самопожертвования, самоотречения, которую он вычитывает во всех заключительных сценах Евангелия, от Тайной вечери и до Распятия, его глубоко волнует.
Вот так он хочет теперь построить, обновить свою жизнь. «Человек дороже полотна» — надо бросить кисть: пришел мужик, зовет чинить печку, тяга в дымоходе пропала. «Религия горшка» — нечего сидеть за столом, покрытым хрустящей накрахмаленной скатертью, и ждать, поигрывая тяжелой серебряной ложкой, пока слуга принесет тебе суп: надо взять тарелку, самому пойти на кухню; еще лучше — устроиться там за одним столом с работниками, хлебать с ними суп из одной миски; так всего правильнее, коли не можешь посадить всех у накрахмаленной скатерти.
Ге просил свою приятельницу, пейзажистку Екатерину Федоровну Юнге, очень хорошую, добрую женщину, дочь графа Федора Толстого, известного художника и скульптора:
— Голубушка, дорогая, ну сделайте это хоть один раз, ну сделайте для меня, — подите и вымойте бедному человеку пол.
Катерина Федоровна смеялась — она очень любила Николая Николаевича со всеми его чудачествами.
А ведь говорили о бедняках, об их тяжелой жизни, о том, что надо им помогать. Но пол помыть — чудачество.
Ге думал: вот если бы каждый помыл другому пол, сложил печь, стряпал обед, сшил штаны… Еще лучше: если сложил печь, отложив работу над картиной; состряпал обед из последних запасом; не сшил — отдал свои штаны. Вот, если бы люди жили любовно, для других…
Здесь начинались непримиримые разногласия Ге с близкими.
Из Москвы, из Ясной Поляны присылали на хутор новые сочинения Толстого. В описках. На хуторе собирались родные, знакомые, жадно читали, переписывали. Но для них это было прекрасное чтение (Лев Толстой!) — не руководство к действию.
Невозможно судить Анну Петровну, сына Петрушу или еще кого-нибудь. Они были хорошие люди, хотели добра ближнему. Они были умные люди. И благоразумные. Они понимали, что учение Толстого неисполнимо. Отказаться от себя для другого — наверняка себе во вред и редко другому на пользу. О силах общественных, которые взялись бы перестроить жизнь, они не думали. Но они точно знали, что одному человеку перестроить жизнь не под силу.
Толстой отвечал: да, не под силу, но ради борьбы со злом в мире и в себе стóит отдать одну свою жизнь.
Это означало посадить в землю семячко и ухаживать за ростком, зная, что не доживешь до первых плодов, а может быть, и до первых листьев, — и делать это в уверенности, что когда-нибудь все поступят так же и превратят землю в цветущий сад.
Не всякому такое под силу. Да и какой смысл?.. Помытый пол затопчут. В новую печь по-прежнему ставят пустой чугунок.
Летом 1888 года Лев Николаевич Толстой, Мария Львовна, Николай Николаевич Ге, Павел Иванович Бирюков и Мария Александровна Шмидт, женщина той же веры, построили яснополянской вдове Анисье Копыловой новую избу, взамен сгоревшей. Это было дело дорогое, радостное. Строили надолго. Лев Николаевич придумал несгораемую крышу из соломенных щитов, вымоченных в глине. Через несколько лет изба опять сгорела.
За год в России сгорали тысячи изб. Надо было решить — строить ли в одиночку или с двумя-тремя единоверцами избу для каждой Анисьи или ждать счастливого завтра, когда общество построит избы сразу тысячам погорельцев.
Николай Николаевич считал, что должен строить избу Анисье.
Человек верующий — для него человек исполняющий.
— Раз теория хороша, — говорил он, — как же она может быть неприменима на практике? Как же это так: по теории надо помогать людям, а на практике не надо? По теории дважды два — четыре, а на практике — пять?
Люди, с которыми он спорил, говорили, что надо помогать другим, но неразумно отрекаться от себя, от своего. Есть такая хитрая формула: «Чтобы всем было хорошо…» Помогая, нужно точно определять необходимую меру добра. Николай Николаевич хотел так построить свою жизнь, чтобы постоянно и самоотреченно творить добро. Это было практически невыполнимо, а значит, неразумно. И не благоразумно. Николай Николаевич хотел построить свою жизнь из цепи неблагоразумных поступков. Ему надо было помешать, его надо было удержать. Люди всегда уверены, что любить ближнего — значит заставлять его жить по-своему.
Николай Николаевич удивлялся и огорчался: ему мешали жить по убеждениям и делать добро.
Он приезжал к дорогому Льву Николаевичу за поддержкой. Они читали вдвоем Евангелие от Матфея, главу 24-ю. В ней говорится, что царствие божие придет неожиданно, — надо каждую минуту жить праведно, быть готовым к нему.
Лев Николаевич рассказывал легенду про морского духа, который сам вынес упорному человеку драгоценную жемчужину.
О неумении петь тонким голосом
Но морской дух не спешил возвращать жемчужину…
До царствия божия на Земле было далеко, а царствие человеческое становилось все страшнее. Николай Николаевич, как человек общественный, понимал это не хуже других. Особенно остро понимал и чувствовал бесчеловечность царствия человеческого.
В. И. Ленин писал:
«Толстой с огромной силой и искренностью бичевал господствующие классы, с великой наглядностью разоблачал внутреннюю ложь всех тех учреждений, при помощи которых держится современное общество: церковь, суд, милитаризм, „законный“ брак, буржуазную науку»[58].
Вряд ли с Ге, задушевным другом, Толстой только читал Евангелие от Матфея. Темы общественные неизбежно поднимались в их беседах. Они и Евангелие читали, пытаясь осознать темы общественные, решить сегодняшние вопросы.
В 1891 году Толстой после многих сомнений отправился помогать голодающим крестьянам. Голод был страшный. В. И. Ленин писал, что именно с 1891 года голодовки стали гигантскими по количеству жертв.
Толстой сомневался, потому что общественная деятельность противоречила букве учения. Надо было заниматься освобождением и обновлением своей души, отбросить суетность, то есть деятельность, терпеливо переносить зло жизни.
В рассказе «Свечка» Толстой писал: «Покорись беде, и беда покорится». Победил покорный мужик Петр Михеев, который не изводил зло злом, не ругал жестокого приказчика, а безропотно выполнял его волю и еще пел «тонким голосом»; на распорке сохи у Петра горела свечка и на ветру не гасла.
Составляя правила жизни, Толстой подавлял в себе деятеля, но жить, не действуя, так и не научился. Петь «тонким голосом» при встрече со злом так и не научился — с огромной силой и искренностью бичевал его, с великой наглядностью разоблачал.
В работу на голоде Толстой ушел с головой. Собирал пожертвования, покупал хлеб, устраивал столовые. Он чувствовал себя снова в осажденном Севастополе. Он говорил, что спокоен только тогда, когда что-нибудь делает для борьбы с бедой.
В письме к Ге он рассказывал о своих сомнениях:
«Не помню, написал ли вам, чтобы вы узнали, почем в ваших странах горох и почем можно купить сотни пудов. Мы живем здесь и устраиваем столовые, в которых кормятся голодные. Не упрекайте меня вдруг. Тут много не того, что должно быть, тут деньги от С. А. и жертвованные, тут отношения кормящих к кормимым, тут греха конца нет, но не могу жить дома, писать. Чувствую потребность участвовать, что-то делать. И знаю, что делаю не то, но не могу делать то, а не могу ничего не делать. Славы людской боюсь, и каждый час спрашиваю себя, не грешу ли этим, и стараюсь строго судить себя и делать перед богом и для бога».
Перед Ге оправдываться незачем. Он понял Толстого и тотчас поддержал.
Николай Николаевич младший взялся закупать для Толстого в Черниговской губернии хлеб и горох; за короткий срок отправил в голодные районы десятки вагонов. Лев Николаевич восхищался дорогим Колечкой, которого сам же учил ковырять клочок земли и терпеливо нести свой крест.
Николай Николаевич старший, давно сбежавший со столичного художественного «рынка», вдруг оказался среди участников аукциона в пользу голодающих. Он послал на аукцион портрет Некрасова[59]. Так Некрасов и после смерти вступился за голодных.
Колечка мотался по железнодорожным станциям, арендовал вагоны, нанимал грузчиков, следил за вороватыми весовщиками, совал взятки сторожам, усталый и грязный являлся раз в три дня на хутор. Николай Николаевич старший вынимал из кармана Евангелие — они сидели и беседовали любовно: нужно было объяснить себе, что делает Колечка перед богом и для бога.
В. И. Ленин писал:
«Пессимизм, непротивленство, апелляция к „Духу“ есть идеология, неизбежно появляющаяся в такую эпоху, когда весь старый строй „переворотился“ и когда масса, воспитанная в этом старом строе, с молоком матери впитавшая в себя начала, привычки, традиции, верования этого строя, не видит и не может видеть, каков „укладывающийся“ новый строй, какие общественные силы и как именно его „укладывают“, какие общественные силы способны принести избавление от неисчислимых, особенно острых бедствий, свойственных эпохам „ломки“»[60].
В статье «О голоде» Лев Толстой писал, что только любовь спасает людей от всяких бедствий. «Любовь же не может ограничиваться словами, а всегда выражается делами». Сводя концы, Толстой вычитывал в Евангелии, как сделать народ счастливым — «отдать из двух кусков и из двух одежд голодному». Он предлагал угнетателю поделиться с угнетенным. Но он не умел петь «тонким голосом». Рассказывая об угнетателях, которые роскошествуют за счет угнетенных, он говорил без обиняков, очень громко.
«Московские ведомости» писали про эту статью, что она является «открытою пропагандой к ниспровержению всего существующего во всем мире социального и экономического строя… Пропаганда графа есть пропаганда самого крайнего, самого разнузданного социализма, пред которым бледнеет даже наша подпольная пропаганда».
Перед тем как отправиться работать на голоде, Толстой послал к Ге паломника-гимназиста, искателя истины. Николай Николаевич произнес перед гимназистом зажигательную проповедь о всеобщей любви. Гимназист задал обычный вопрос:
— Как полюбить злого человека?
Ге воскликнул:
— Юноша, нет злых людей, а есть только глупые!
И объяснил:
— Вот палачу внушили, что он казнит худых людей, он и не знает, что хороших тоже казнит. А ведь в нем есть добро. Он любит свою мать, жену, детей. Головы же рубит не по злобе, а по глупости. Судью тоже так воспитали, вбили ему в голову, что революционеры, посягающие на жизнь царя и на низвержение существующего строя, самые ужасные, злые, вредные люди, и он не по злобе на них, а по уважению к «законам», которые считает правильными, выносит смертные приговоры.
Гимназист спросил, замирая:
— А царь?
Ге отвечал радостно:
— И царь так же воспитан. Да ему еще вбили в глупую голову, что он должен заботиться о благе народа, а крамольники делают только вред государству и народу. Вот он и считает себя обязанным казнить их.
Гимназист обозлился.
Он не знал, что несколькими годами раньше, когда вспыхнули крестьянские волнения, Ге горячо защищал крестьян. В ответ на вопросы знакомых и соседей-помещиков, как это он заступается за бунтовщиков, Ге опять-таки толковал про любовь:
— Я люблю их, вот и заступаюсь. Мы любим друг друга…
О том, что он любит «глупого» исправника, «глупых» приставов, урядников, городовых, «глупых» офицеров Костромского полка, вызванного для подавления волнений, Ге не говорил.
В пору крестьянских волнений на Черниговщине Ге написал портреты-этюды двух мужиков — крестьян. Мужики с портретов Ге смотрят остро, тревожно. Особенно один, седобородый, прямо впивается глазами в зрителя. В глазах, на лицах мужиков страдание долгое, но не смирение. Терпеливое ожидание не согрело сердце, а раскалило.
Нет оснований прямо выводить крестьянские портреты Ге из крестьянских волнений. Однако по времени они совпадают точно. Хорошо было известно про вооруженный бунт в селе Некрасове, Глуховского уезда, подавленный воинской силой. Восемь человек арестовали, тринадцать пороли розгами. Дали по триста ударов.
Ге соглашался, когда его картины объясняли, как своеобразное отражение революционных и даже социалистических идей. Иногда он и сам их так объяснял. Но сохранились скупые сведения о спорах художника с молодыми революционерами, которых он пытался обратить в свою веру. Блестящий спорщик, Ге терпел поражения и сильно это переживал.
Нельзя упрекать Ге в том, что решение «проклятых» вопросов он искал не там, где следовало.
В. И. Ленин подчеркивал:
«Противоречия во взглядах Толстого — не противоречия его только личной мысли, а отражение тех в высшей степени сложных, противоречивых условий, социальных влияний, исторических традиций, которые определяли психологию различных классов и различных слоев русского общества в пореформенную, но дореволюционную эпоху»[61].
Николаю Николаевичу Ге ясно было, что нужно ломать существующие формы общественной жизни. Но он, верный старой притче, полагал, что ломать метлу надо только по прутику, что надо проповедью и личным примером переламывать к лучшему жизнь каждого человека, который оказался рядом, и заложить, таким образом, фундамент духовного объединения людей.
Он неустанно проповедовал. Его страсть к ораторству, умение спорить и искренняя вера в правоту учения сделали из него блистательного проповедника. Толстой ценил его и за это. Людям, приходившим в Ясную Поляну, Толстой намечал маршрут паломничества: конечным пунктом нередко оказывался хутор Плиски. Ге радовался (не без греховной гордости!), что обратил в толстовскую веру больше людей, чем сам Толстой[62].
Опережая Толстого, он в 1886 году принял решение отказаться от собственности. Он мечтал отдать землю крестьянам, «уйти куда-нибудь за Волгу» и там образовать толстовскую общину, начать новую жизнь[63]. Но была семья — жена, сын Петр, невестка, внуки, — они не хотели за Волгу, не хотели жить в общине, обедать из общей миски, а на ужин читать вслух Евангелие.
И хотя «человек дороже полотна», но было полотно — главное дело жизни. Можно было мужественно его отставить на время, но вовсе отставить полотно было невозможно. Когда Толстой навсегда ушел из Ясной Поляны, он и в Оптиной пустыни, за несколько дней до смерти, продолжал работать.
В марте 1886 года Ге писал сыну Петру: «Теперь, когда всякие сомнения устранены, — я понял, что человек только сам волен в том, что он понимает или не понимает, и что ни один человек в мире не может заставить другого понимать по-своему. Раз я это понял, я уже не могу строить свою жизнь, не принимая в основание этой истины. И вот, желая добра, мира, я пришел к такому решению, которое для меня стало обязательным. Когда я устраивал это материальное благосостояние, я всегда имел в виду прежде всего мать и вас, детей, а вместе с тем и себя. Теперь я понял и убедился, что мне лично этого не нужно. Следовательно, интересы матери по всей справедливости и разумности должны выступить и стать главным. Поэтому я делаю так — я сдаю непременно имение в аренду…»[64]
11. Голгофа. 1892
12. Портрет Н. И. Петрункевич, в замужестве Конисской. 1893
Тут же Николай Николаевич предупреждает, что жить будет в Плисках и оставляет за собой мастерскую и свою комнату.
В эти же дни он сдает дела по управлению соседским имением и — «теперь, как воробей, — свободен и счастлив».
Толстой в восторге: «Последнее письмо ваше доставило мне большую радость. Помогай вам бог, дорогой и милый друг, хорошенько отряхнуть весь прах с ног своих, выйдя из этого столь властного, пока в нем сидишь, и столь ничтожного, смешного, когда из него выйдешь, соблазна собственности. Впрочем, напрасно я и говорю это: я по себе знаю, что вернуться к этому нельзя, а только удивляешься, как мог я так портить свою жизнь. Никакой соблазн не нарушает так любви к людям, как этот. — И как хорошо и счастливо у вас сложилось: и Анна Петровна довольна, и Петруша, и дорогой Колечка — ужасно доволен, и вы довольнее всех. Главное, не вмешивайтесь, а вообразите себе, что это не ваше было хозяйство, а мое. Я очень рад…»
Личная жертва ровным счетом ничего не изменила. Правда, Николай Николаевич говорил с этих пор, что ничего своего не имеет, близкие его из милости кормят и одевают. Жили по-прежнему одной семьей, любились, ссорились и мирились; жили на доход с имения, управление которым, хотя и не очень охотно, взял на себя Петр Николаевич. Николай Николаевич объяснял окрестным крестьянам, что он теперь имеет меньше, чем они, но для крестьян ничего не изменилось. Он остался для них тем же чудаковатым и добрым барином, как и прежде. Анна Петровна смеялась, что вот Николай Николаевич опростился донельзя, чтобы от крестьян не отличаться, а крестьяне его все равно отличают. Тем более что сын, Петр Николаевич, на хуторе не поселился и наезжал редко, — возиться с навозом и молотилками все равно продолжал отец. Он только писал теперь отчеты сыну и если ездил в Петербург, в Киев или Ясную Поляну, то считалось, что не на свои деньги ездит, а на сыновьи.
Нужно быть нечутким человеком, чтобы не понять фальшь такого положения. Но Ге был чуток. Через несколько лет, когда он в последний раз (и навсегда) найдет себя в искусстве, в живописи, он признается: «Прошлые два года мне стоили так дорого, что теперь приходится и отдуваться, — и то слава богу, что работой могу закрыть образовавшуюся дыру»[65].
Лев Николаевич говорил: чтобы вырезать и наложить заплату, надо знать размер дыры. Ге не знал размера дыры. После смерти Ге сыновья его будут враждовать. Петруша захочет продать имение, Колечка не пожелает покинуть свою хату; они будут зло и раздраженно упрекать друг друга, — братья.
Николаю Николаевичу и при жизни придется убедиться, что дыра больше, чем казалась, что заплату к ней не подобрать. До грустных дней, когда люди, близкие по духу, разочаровались в том, что он проповедовал, решили «расстричься», он дожил.
Но не дожил — и не дожил бы, наверное, протяни он лишний десяток лет, — до новых мыслей о переустройстве общества: метлу надо не по прутикам ломать — рубить. Впрочем, Ге был человек увлекающийся…
Ленин писал про учение Толстого:
«Его устами говорила вся та многомиллионная масса русского народа, которая уже ненавидит хозяев современной жизни, но которая еще не дошла до сознательной, последовательной, идущей до конца, непримиримой борьбы с ними»[66].
У семейного стола
…Морской дух не спешил возвращать жемчужину. «Уход» Ге не состоялся. Любви и добра не хватало в стенах собственного дома.
Писатели, которых Ге называл «учителями жизни» — Толстой, Достоевский, — любили рассказывать про жизнь семьи. Наблюдая одну, две ячейки, они открывали жизнь во всем улье.
Обитатели хутора Плиски за стол садились так: на одном конце — Николаи Николаевичи, старший и младший, племянница Зоя с мужем; на другом Анна Петровна с невесткой, Екатериной Ивановной, и Петр Николаевич, когда приезжал в имение.
Считалось, что рассаживаются по принципу — вегетарианцы и «мясоеды». Старший Николай Николаевич убежденным вегетарианцем не был, но, когда ел мясо, все равно оставался на своем конце стола.
Николай Николаевич младший, кажется, успокоился, пашет и косит, старается быть добрым. «Семейная моя жизнь очень хорошая. И жена хорошая, послушная и добрая женщина…»[67]. Он хочет быть довольным тем, что имеет. Лев Николаевич и отец в этом ему помогают. Колечка гостит у Толстых, отец посылает ему записку о том, что делается на хуторе: теленок весел и здоров, «овечка еще не окотилась»[68]. Колечка пишет в том же духе: он навестил князя Хилкова, последователя Толстого, но об этом расскажет по приезде, «пока же прошу только насчет теленка и овечки». Просит настоятельно, чтобы Гапка брала их на ночь в хату.
Колечка, кажется, пристроен наконец.
Несколько раньше, в пору отказа от собственности, Ге спешил обрадовать Толстых, писал Софье Андреевне: «Скажите милому Старику, что Колечку считают юным Иоанном около него. Это мне передала тетка — она от кого-то из глуши… это узнала. Меня это порадовало»[69].
Анна Петровна сетовала, что вот Николая Николаевича крестьяне отличают, а сына Колечку и вправду принимают за своего.
Про отказ Николая Николаевича от собственности она писала Софье Андреевне: «Так тяжело для человека, у которого ничего нет, кроме семьи, не иметь и того скромного счастья, на которое имеет право самый обыденный и скромный человек. Что-то в вашей семье, да я знаю, как вы умеете все примирять и сглаживать, счастливица! У меня нет этого таланта»[70].
Муж племянницы Зои, местный фельдшер Григорий Семенович Рубан-Щуровский, тоже был последователем Толстого. Он был, видимо, вполне образованный человек — известны его споры с Ге и переписка с Толстым на тему об отношении искусства и жизни. Он и на гитаре играл очень хорошо.
Кто знает, почему Зоя после народовольческих кружков и Петропавловской крепости приняла, хоть и на время, толстовское учение. Ведь могло очень интересно получиться, очень типично: толстовец Ге, против него революционерка Зоя — тоже из породы Ге, искательница истины: в революцию, должно быть, далеко уйти не успела, а на хуторе поиски истины вели к разным концам одного стола.
Трудно сказать также, почему она вышла за Григория Семеновича. Не хочется сомневаться в ее искренности, но будущее показало, что он был своего рода «Гапкой».
Николай Николаевич был очень доволен. Сам купил Рубанам хату, печь сложил. Наверное, мечтал: он, Колечка с Гапкой, Рубаны — складывается своя маленькая колония.
Приезжали на хутор молодые художники — учиться.
Появился Михаил Васильевич Теплов, артиллерийский командир. Правила стрельбы его мало интересовали: он увлекался живописью, главное же, хотел знать — как жить счастливо. Однажды он был арестован, когда пропагандировал среди крестьян… с Евангелием в руках. Теплов сел обедать на тот конец стола, где был сам Ге. Николай Николаевич заставил его копировать Рафаэля, научил класть печи. Теплов познакомился с Толстым, принял его учение. Он вышел в отставку, но у последователей Толстого получил прозвище «Офицер».
Появился Александр Аввакумович Куренной. Ге посадил его на свой конец стола. Анна Петровна сказала:
— Что ты юношу травой кормишь!
Николай Николаевич рассердился:
— Это мой гость. Кормлю, чем имею. А вы трупоеды!
Николай Николаевич стал обращать Куренного в толстовство. Анна Петровна уговаривала его не поддаваться. Куренной долго спорил с Николаем Николаевичем, потом сказал:
— Я приехал к вам, как к художнику, который мне нравится и у которого мне хотелось бы поучиться. И вы звали меня рисовать. Если можно у вас поучиться живописи, я с удовольствием останусь, если нет, то уеду.
Николай Николаевич подумал и сказал:
— Оставайтесь.
Куренной копировал карандашом «Сикстинскую мадонну», а Николай Николаевич поправлял рисунок. Однажды Ге сказал:
— Когда кто-нибудь будет ругать Рафаэля, скажите ему, чтобы он нарисовал голову Екатерины[71].
Однажды забрел на хутор Вениамин Павлович Позен. Он был молод, но уже успел отведать каторги. Позен прослышал, что у Ге живут «какой-то особенной жизнью» — явился посмотреть. Николай Николаевич начал его обращать в свою веру. Позен был человек крайних взглядов, он Николая Николаевича расстроил — сказал, что от такой жизни покончил бы с собой. Анна Петровна, сообщая в письме к невестке о визите Позена, прибавляет: «Я вполне с ним согласна, так как на себе испытала, насколько тяжело это идеальное житье»[72]. Между Анной Петровной и Позеном большая разница: Анна Петровна мучилась оттого, что Николай Николаевич живет не как все, а Позен хотел, чтобы все жили иначе.
За семейным столом в Плисках восседал еще один Ге — Осип Николаевич, брат хозяина. Ну, этот, вроде бы, не принадлежал ни к «вегетарианцам», ни к «мясоедам» — сидел посреди стола и одинаково ссорился с теми и с другими.
Анна Петровна его не любила за неуживчивый характер, за постоянное ворчанье, за «брехни». Николай Николаевич с братцем тоже не очень ладил — вечно они царапались. Иногда, впрочем, они, к ужасу Анны Петровны, оба увлекались какой-то идеей, и между ними воцарялся мир. Однажды они вдвоем изобрели новый способ топки печей — все в доме едва не задохнулись.
Осип Николаевич оказался человеком без семьи. До переезда к брату он долго гостил у знакомого полковника. Но отсутствие семьи — еще не резон для совместного житья. Николай Николаевич с братом Григорием по десять лет не виделся, с братом Иваном и вовсе старался не встречаться, а вот неуживчивого Осипа терпел. Поговаривали, будто Осип Николаевич — участник польского восстания, отбывший наказание. Не похоже. Но любопытно заглянуть в жандармские архивы. Узнаем, что дочь дворянина Подольской губернии, акцизного чиновника Осипа Николаевича Ге, Мария, принадлежала к революционному кружку для пропаганды среди рабочих в Варшаве, дважды была арестована, сидела в Варшавской цитадели и в 1880 году была выслана в Сибирь, где и умерла двадцати четырех лет от роду. Узнаем, что жена Осипа Николаевича, Юзефа, также привлекалась к дознанию по обвинению в пропаганде, при обыске у нее нашли запрещенные сочинения… Ге поселил у себя Осипа Николаевича, наверно, не просто от жалости к одинокому братцу.
Осип Ге так бы и остался для нас несносным брюзгой и придирой, раздражавшим Анну Петровну своими «брехнями», если бы не одно письмо Николая Николаевича младшего. Уже в тридцатые годы нашего столетия, когда многое из прошлого быльем поросло, Колечка, сам на восьмом десятке, вдруг вспомнил дядюшку Осипа Николаевича: «Он тоже водил пчел и по вечерам делал вычисления математические в ольшаннике. Я вечером ходил к нему, и он мне рассказывал, что все эти вычисления математические вели его к изобретению аэроплана. Он был очень способный человек и уверял, что летать можно будет тогда, когда изобретут машину, которая была бы тяжелее воздуха, а не легче, как воздушный шар, который может подниматься благодаря своей легкости, но управлять им нельзя. Он летит туда, куда его несет ветер…»
До чего ж они беспокойны — эти Ге! Все как один меняют профессии, придумывают проекты, увлекаются, ищут, ищут.
Один брат, Иван, мечтает обновить сценическое искусство. Другой, Осип, отставной чиновник, оказывается, изобретает самолет. Третий, Григорий, «и в гусарах побывал, и в художниках, и в писателях», а может, тоже наедине конструировал батисферу или придумывал перпетуум-мобиле. Все постоянно ищут себя. Колечка и Зоя, которые не кончили толстовством. Петруша, который не кончил земством: он еще станет художественным критиком. Максим Горький похвалит его статью.
У этих Ге до самой смерти все впереди!
«Я под вашим деревом стою…»
Толстой написал однажды Ге:
«Радуюсь, что у вас все хорошо и вы за своей работой. Хорошо и косить, и пахать, но нет лучше, как в своем ремесле привычном удается работать на пользу людям».
Толстой был против искусства, возникшего «на рабстве народных масс», утверждал, что искусство должно быть доступно «тем, во имя которых оно делается», что надо сделать рабов «потребителями искусства». Он был против «господского» искусства — некоторые из современников навязчиво доказывали, что против искусства вообще, что-де сам пишет, а других учит сапоги тачать. Это сродни разговорам, что сам-де живет с женой, плодит детей, другим же проповедует воздержание.
Поговаривали: вот и Ге картины не пишет, потому что Толстой «не велел». Но Толстой «велел». Ге не мог. До поры.
Он ударился в графику, в портреты, писал эскизы, которым никогда не суждено было превратиться в картины, так и этак переворачивал холст на мольберте, пробуя композицию, и, не покладая кисти, уговаривал других, что сейчас не время заниматься живописью — «надо накормить Грицка и Параську», — все это не потому, что не хотел вообще писать картины, а потому, что на собственном опыте убедился — писать «просто так», не согласуя руку с мыслью и сердцем, он не может.
Лессинг говорил: «Жаль, что мы не рисуем прямо глазами. Как много пропадает на длинном пути от глаз через руку и кисти». Для Ге не в том суть, чтобы точно воспроизвести увиденное. Для него как раз то самое главное, что парабола, соединяющая глаз и руку, проходит через голову и сердце.
Толстой зашел однажды на выставку — «затащили». «Там ведь ничего похожего на картины как произведения человеческой души, а не рук, — нету», — сообщил он Николаю Николаевичу Ге.
Домашние, знакомые чуть не юродивым объявляли Николая Николаевича за то, что он вместо работы над картинами возится с молотилкой, кладет печи, размышляет, как накормить и осчастливить Грицка и Параську. Но это не пустые дела и разговоры — Ге опять искал, открывал новые и свои собственные отношения своего искусства с жизнью.
В письме к Толстому он перечисляет, чем занят был в последнее время, — заменял по хозяйству сына Колечку, сложил бедной семье печь, — и заключает: «Не смущайтесь, что я на время оставил работу. Я опять принимаюсь, я не могу жизнь, свое сознание отделять от работы. Я столько пережил в это время, столько переродился, что от этой работы только выиграл, ежели бог это позволит, я действительно вас порадую работой художественной. Искренно только и можно работать, по-моему, но еще нужно жить тем, что хочешь сказать…»
Толстой не тормозом был для Ге — главным двигателем. И не только учением своим, трудами направлял Ге к цели. Нет, он сам, Лев Николаевич, любил искусство Ге, верил в него, ждал от него многого. И очно и в письмах тормошил дорогого друга, ободрял, поторапливал:
«Главное — ваша работа».
Однажды он написал Ге: главное для человека искусства, чтобы вызревающие на нем плоды при тишине и солнце падали мягко один за другим на землю.
«И вот я под вашим деревом стою дожидаюсь».
«Крик краски»
В 1883 году Ге начал писать «Распятие». На картину ушло десять лет. Он ее множество раз сочинял заново. Картина, задуманная первой, стала завершающей из его последних картин на темы Евангелия.
Замысел картины родился в Москве, возле Толстого, когда Ге впервые к нему примчался. Анна Петровна свидетельствует: «Это Толстой его подбил писать»[73]. Она только беспокоится, «надолго ли хватит увлечения» у Николая Николаевича.
«Увлечения» хватило ненадолго. Ге, оказывается, надо было еще пять лет жить по-новому, потом за пять лет пройти в своих картинах все круги земного ада.
Толстой однажды беседовал с Бирюковым о творчестве Ге.
— Все художники настоящие только потому художники, что им есть что писать, что они умеют писать и что у них есть способность писать и в то же время читать или смотреть и самым строгим судом судить себя. Вот этой способности, боюсь, у Николая Николаевича слишком много, она мешает ему делать для людей то, что им нужно.
Толстой сообщил Ге про эту беседу и добавил:
«Я говорю про евангельские картины. Кроме вас, никто не знает того содержания этих картин, которое у вас в сердце, кроме вас, никто не может их так выразить и никто не может их так написать. Пускай некоторые из них будут ниже того уровня, на котором стоят лучшие, пускай они будут недоделаны, но самые низкие по уровню будут все-таки большое и важное приобретение в настоящем искусстве и в настоящем единственном деле жизни».
Толстой знал в то время, что Ге бьется над «Распятием», что он, как график, иллюстрирует Евангелие. Про «Христа и Никодима» Толстой не знал.
В сердце у Ге и впрямь жило содержание его завтрашних картин — рисунки к Евангелию в этом убеждают. В «Христе и Никодиме» он попробовал новую, «живую форму». Получилось.
Нетрудно найти общее в поздней живописи Ге и его флорентийских «неудачах» — «Вестниках воскресения», «Христе в Гефсиманском саду». Но там — робкие попытки, там — надуманность, оттого что рука убегала вперед, оттого что мысль и сердце еще не созрели. Теперь содержание точно ложилось в форму. Но Ге не сразу приступил, выжидал. Он сам себя на несколько лет обогнал.
А современники… Сколько ему доставалось, и за трепаные формы, и за мазню, и за грубо намалеванные холсты. Сколько вынесено приговоров за несоответствие исполнения замыслу. Самые верные друзья из художников, и просто друзья, и Толстые, кроме Льва Николаевича, — все наперебой вспоминают, какие прекрасные замыслы были у Ге и как он не сумел их исполнить. Из мемуаров вырос даже эдакий призрачный двойник Ге — художник, который рассказывает свои картины лучше, чем их пишет.
Возражал Блок. Для него Ге — «совсем реалист». Живопись Ге «это — желание сразу передать впечатление криком краски».
Толстой в «Войне и мире», когда Наташа плясала у дядюшки после охоты, воскликнул: где, как, когда всосала в себя эта графинечка, воспитанная эмигранткой-француженкой, этот дух!
Где, как, когда живописец Ге, сидевший в глуши, вне «сферы искусства», занятый кладкой печей и разведением пчел, — где, как, когда всосал он в себя этот дух современного искусства, более прочувствованный завтрашним Блоком, чем сегодняшними друзьями-художниками, — дух современного искусства, который через десять и через пятнадцать лет заставлял обращаться к творчеству Ге художников и искусствоведов и который еще сегодня удивляет, волнует, будит мысль, вызывает споры.
Не в том ли секрет непременной «сегодняшности» живописи Ге, что он, сознательно или несознательно, пришел к тем же выводам, как и Треплев из чеховской «Чайки»: «Да, я все больше и больше прихожу к убеждению, что дело не в старых и не в новых формах, а в том, что человек пишет, не думая ни о каких формах, пишет, потому что это свободно льется из его души».
Но и эта мысль, поныне сегодняшняя, могла родиться в свое Время и на определенном этапе русского искусства. Ге раньше многих других ее принял, как и Чехов, — два художника, проверенных Завтрашним днем.
Пульс Времени не переставал биться в Ге.
В начале восьмидесятых годов он увидел на полтавском вокзале буфетчицу у большого шкафа, украшенного бутылками, вазами, склянками, закусками.
— Посмотрите, — воскликнул он. — Ведь это современная мадонна!
Вот как он видел!..
Незадолго перед тем Мане написал «Бар в Фоли-Бержер».
Фуга об одиночестве
Трудно сказать заранее, что послужит художнику импульсом для начала работы, толчком, который организует накопленный материал в замысел, искрой, которая воспламенит горючее.
Римский-Корсаков увидел в саду ярко-красные маки… Репин услышал музыку Римского-Корсакова… Композитора подтолкнул к творчеству цвет, живописца — звуки.
Толстого то дуга привлекла, брошенная на дороге, то знаменитый репейник, с которого начинается «Хаджи-Мурат».
…В конце 1887 года в Плиски приехал Павел Михайлович Третьяков. Осмотрел картины, которые оставались в мастерской художника. Купил для галереи «Христа в Гефсиманском саду».
Уже знаем, как Ге собрался перед отправкой покрыть картину лаком, потом захотел переписать ее, в конце концов написал новую картину — «Выход с Тайной вечери».
Нельзя недооценивать визита Третьякова. Наверно, это и была та самая искра. Значит, не все потеряли веру в возрождение Ге. Третьяков взял старую отвергнутую картину в свою галерею. Что ж, Ге покажет то новое, на что он способен!..
Трудно поверить, что, если б не приезд Третьякова на хутор, Ге не написал бы последних своих картин. Невозможно в это поверить. Толстой не зря встал под дерево, ожидая пока упадут плоды. Но, похоже, визит собирателя встряхнул плодоносное дерево.
Поблагодарим Павла Михайловича Третьякова.
В каталоге картина называется: «Выход Христа с учениками с Тайной вечери в Гефсиманский сад».
Но это тот случай, когда исчерпывающее, казалось бы, название ничего о картине не говорит. Ее надо смотреть.
В каталоге поставлена даже ссылка на стих Евангелия: «Инн., XVIII, 1». Ссылка тоже ничего не объясняет: «Сказав сие, Иисус вышел с учениками своими за поток Кедрон, где был сад, в который вошел сам и ученики его».
Если уж искать объяснений в Евангелии, лучше процитировать другой стих. Перед тем как выйти в сад, Иисус печально сказал ученикам: «Вот наступает час, и настал уже, что вы рассеетесь каждый в свою сторону и меня оставите одного…»
Картина о том, как ученики покидают Иисуса, оставляют его одного перед страданиями и подвигом. Точнее ее назвать: «Уход учеников от Христа после Тайной вечери».
Если полотна Ге расположить по Хронологии событий в последнюю ночь Иисуса, — эта картина окажется между «Тайной вечерей» и «Христом в Гефсиманском саду».
Человек окружен учениками, единомышленниками; с ужасом и гневом взирают они на того, кто уходит первым. А через час этот человек в одиночестве вопрошает, нельзя ли, чтобы миновала его чаша страданий. И поняв, что чаша сия его не минует, встает с колен, готовый к подвигу, к смерти во имя людей.
В Евангелии говорится, что во время ареста Христа ученики, «оставивши его, все бежали». Ге написал картину не о том, как бежали ученики от Христа, а о том, как оставили его еще прежде, чем бежать. Не только Иуда не пошел до конца за учителем. Пошел один учитель.
На миру, говорят, и смерть красна. Но зерно подвига не в том, «на миру» ли он, а в убеждениях. Убеждения дают человеку силу взойти на Голгофу, даже если «мир» его оставил.
С высокой, залитой лунным светом площадки медленно спускаются в темноту ученики. Грядущее уже открыто им. Думы их тяжелы. Лиц учеников почти не видно. Силуэты фигур не резки — люди на картине закутаны в хитоны. И лишь бесшумная медлительность чересчур сосредоточенной походки выдает глубину их печали, тяжкий груз мыслей. Но они уходят, уходят… Только Иоанн остановился на мгновение. Сейчас и он уйдет…
Какая-то чарующая гармония передана Ге в этом горестном уходе. Закругленность озаренной луной голубоватой дороги делает ее бесконечной. Несколько фигур уже скрылось во тьме, за поворотом, за границей холста, другим всего шаг остался, но, кажется, не будет конца медлительному шествию. Кажется, вот так вечно будут они уходить от учителя, страдать, мучительно думать… и уходить. И так же вечно будет он стоять, напряженно выпрямившийся, сказавший им последнее слово и погруженный в себя — уже не с ними.
Это — как музыка. Это — фуга: раз, другой и десятый повторяется тема, волнует, не дает покоя, пробуждает ощущение бесконечности — и вдруг обрывается, оставляя в сердце, словно острие обломившейся шпаги, нечто главное, остротревожное, что как бы пронзало все эти повторы, служило стержнем, скрепляло воедино, но не было отчетливо различимо за ними.
Ге рассказывал своему приятелю, молодому художнику:
— Я нахожу ужасно много общего между краской и музыкой. Я, когда смотрю на синий цвет, чувствую какую-то тихую меланхолическую музыку, тогда как желтые и красные цвета настраивают меня совсем иначе.
В сине-голубом написан «Выход с Тайной вечери».
Красный и желтый — цвета «Что есть истина?» и «Повинен смерти».
Ге рассказывал:
— Один композитор хочет написать музыку к моему Иуде[74] — он мне говорил, что когда смотрит на картину, он слышит лязг оружия, крик воинов и стон души с потерянной совестью.
Есть сведения, что Антон Рубинштейн собирался писать музыку к «Петру и Алексею».
Но, право же, ни одна из картин Ге не превзойдет по музыкальности «Выхода с Тайной вечери».
«Забвение божества»
Ге закончил картину в 1889 году и отправил ее на Семнадцатую Передвижную выставку.
Мясоедов писал ему с выставки: «Перед вашей картиной нет толпы, но есть всегда сосредоточенная группа; стало быть, она впечатление делает сильное». Савицкий писал, что «картина делает на всех впечатление неотразимое».
Художники Товарищества послали Ге коллективное приветствие:
«Нас бесконечно порадовало ваше появление на нашей выставке после долгого отсутствия, которое нас очень огорчало».
Газеты промолчали.
Странно однако: «после долгого отсутствия» появилась картина Ге, необычная картина, не похожая на другие работы, представленные на выставке, не похожая на то, что делал прежде сам Ге, что делали другие художники, — газеты промолчали.
Нет, не оттого, должно быть, что нечего сказать, а оттого, что не знали что сказать.
И очень хорошо, что промолчали, — видно, впечатление и впрямь было сильное. Слишком часто новое в искусстве встречают обмакнутыми в чернила штыками. Едва ли не каждому следующему поколению приходится в равной мере низвергать прошлое и реабилитировать то, что в прошлом было несправедливо низвергнуто.
Сам Ге говорил:
«В этой картине у меня новое отношение к Христу…» В этой картине он сказал то, чего не думал в «Тайной вечере» и не сумел в «Милосердии».
Он уже не осознавал «в современном смысле» то, что согласно преданию происходило восемнадцать с половиной веков назад. И не внедрял нарочито это происходившее в сегодняшнее (Христос и «дачница»). То, что происходило восемнадцать с половиной столетий назад, он передает теперь как сущее, сегодняшнее, непрерывное. Восемнадцать с половиной столетий не прекращается борьба между идеалом и «учением мира». Между любовью, добром, готовностью к жертве и подвигу — и себялюбием, ненавистью к другим, трусостью, ложью. В этой борьбе увидел Ге суть жизни, философию истории.
Толстой высоко ценил искусство Ге не за проповедь учения того Христа, который ему и Ге был дорог, а за изображение столкновения этого учения с «учением мира».
Недаром официальные власти и официальная церковь не признавали, подвергали гонениям картины Ге на темы Евангелия.
Недаром содержания этих картин не принимали критики, которые в живописи на религиозную тему искали «идею бога», «проявление Божества в видимой форме». Александр Бенуа находит в полотнах Ге очень узкую и земную идею Христа — упрямого проповедника человеческой нравственности, погибающего от рук дурных людей и подающего пример, как страдать и умирать. Это не вера, пишет Бенуа: «царство божие внутри нас» есть забвение реального существования божества вне нас, сверхчеловеческих законов и судеб.
Бенуа как бы услышал толстовское:
— Воскрес или нет Христос, господь с ним! Я хочу знать, как мне жить…
15 апреля 1889 года Толстой побывал на Семнадцатой Передвижной и записал в дневнике: «Картина Репина невозможна — все выдумано. Ге хорош очень».
Репин выставил картину «Николай Чудотворец избавляет от смерти трех невинно осужденных в городе Мирах Ликийских».
Толстой в письме к Ге сопоставил обе картины:
«У Р[епина] представлено то, что человек во имя Христа останавливает казнь, то есть делает одно из самых поразительных и важных дел. У вас представлено, для меня и для одного из 1 000 000, то, что в душе Христа происходит внутренняя работа, а для всех то, что Христос с учениками, кроме того, что преображался, въезжал в Иерусалим, распинался, воскресал, — еще жил, жил, как мы живем, думал, чувствовал, страдал, и ночью, и утром, и днем».
Репин представил святого чудотворца. Ге — Христа-человека, который не творит чудес.
Даже момент, выбранный Ге из жизни Христа, поражает внешней непримечательностью, человеческой обыденностью. Не хождение по воде, не исцеление, не спор, не проповедь. Не последняя беседа с учениками и не моление о чаше.
Толстому это очень понравилось: «Картина делает то, что нужно, — раскрывает целый мир той жизни Христа вне знакомых моментов и показывает его нам таким, каким каждый может его себе представить по своей духовной силе».
Нужна была духовная сила, чтобы в обыденном моменте раскрыть целый мир жизни.
Поиски «живой формы», о которых так часто говорил Ге и о которых, поэтому, и нам часто приходится говорить, — это, по существу, поиски наиболее точного, наиболее соответствующего внутреннему стремлению художника осуществлению замысла.
Материал не укладывается в замысел непосредственно. Материал трансформируется — и происходит это подчас незаметно для автора, словно помимо его воли.
Так пушкинская Татьяна «выкинула штуку» — вышла замуж. Так дорожный эпизод с калмычкой — Пушкин приставал: «Поцелуй меня», но степная красавица ударила его балалайкой, — обернулся удивительным лирическим стихотворением.
Так Ге писал картину о том, как Христос с верными учениками, которые остались при нем, выходит в сад, а написал про то, как ученики уходят от Иисуса.
Ге мог восторгаться учением, которое они с Толстым исповедовали, служить ему, не уступать его никому. Но разве мог он, чуткий художник, не ощущать пустоту вокруг — даже близкие не шли следом или шли не до конца.
В письмах его слышится тот же мучительный мотив, что и в дневниках Толстого. «Одиночество среди своих».
Толстой это понял в картине: «Единственный упрек — это зачем Иоанн, отыскивая в темноте что-то, стоит так близко от Христа. Удаленная от других фигура Христа мне лучше нравилась…»
Материал трансформировался. Один стих Евангелия незаметно оборачивался другим.
Суметь не поддаться, суметь остаться одиноким среди своих — в этом уже заложено зерно столкновения, зерно борьбы.
«Столкновение двух начал»
Считают, что художник Михайлов появился на страницах «Анны Карениной» благодаря знакомству Толстого с Крамским.
О Михайлове вспоминают, чтобы пояснить взгляды Толстого на истинный талант, на творчество. Реже вспоминают картину, которую писал Михайлов и показывал Анне и Вронскому.
Но для нас именно эта картина очень знаменательна: Михайлов писал разговор Христа с Пилатом.
Не станем утверждать, что Толстой, тем более чтение «Анны Карениной», привело Ге к идее картины «Что есть истина?» Но вряд ли следует полностью это исключать.
Беседа Христа с Пилатом — тема, не часто привлекавшая живописцев. Однако предшественники у Ге были. Из русских художников встречу Христа с Пилатом писал Шебуев; в пятидесятые годы Александр Иванов обратился к той же теме — это еще важнее.
Но, как и в «Тайной вечере», Ге сумел «знакомый момент» превратить в незнакомый, раскрыть по-новому.
Михайлов в «Анне Карениной», показывая картину, поясняет — «Матфея глава XXVII». Далее у Толстого идет описание картины: «на первом плане досадовавшее лицо Пилата и спокойное лицо Христа и на втором плане фигуры прислужников Пилата и вглядывавшееся в то, что происходило, лицо Иоанна».
Ге тоже помечает картину ссылкой на Евангелие — «Иоанна глава XVIII, 38».
Это надо знать, потому что замена одной ссылки на другую важнее, чем кажется на первый взгляд.
В Евангелии от Матфея рассказывается, что Иисус подтвердил, что считает себя Царем Иудейским, на остальные же вопросы Пилата не отвечал, «так что правитель весьма дивился».
В Евангелии от Иоанна эпизод рассказан иначе. Иисус говорит с Пилатом, объясняет, что пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Пилат сказал: «Что есть истина?» — и вышел.
Поиски истины, проповедь ее, борьба во имя истины, жертва, принесенная ради нее, — для Толстого и Ге важнейшее назначение человека на Земле.
Толстой писал к Ге: «…дело наше — уяснение истины».
Он пронес это до последней минуты. Умирая, Толстой шептал:
— Истина… люблю много… все они…
В «Ответе на определение синода» об отлучении от церкви Толстой писал:
«Я начал с того, что полюбил свою православную веру более своего спокойствия, потом полюбил христианство более своей церкви, теперь же люблю истину более всего на свете».
Толстой со многими беседовал о картине Ге «Что есть истина?», в письмах объяснял ее смысл и значение. И всегда подчеркивал: самое важное в картине — «столкновение двух начал».
Именно столкновение делает картину на редкость убедительной:
«Таково было положение тогда, таково положение тысячи, миллионы раз повторяется везде, всегда между учением истины и представителями сего мира. И это верно исторически, и верно современно, и потому хватает за сердце всякого, того, у кого есть сердце».
Не случайно Бирюков в «Биографии Л. Н. Толстого» утверждал, что название картины следует писать без вопросительного знака. То есть: вот она истина — в непримиримом столкновении, в этом измученном, готовом на смерть идти за убеждения, непокоренном человеке, в этом довольном собой, бездушном властителе, которому до истины дела нет.
Даже свет на картине служит этой главной мысли. Световое решение, найденное Ге, удивляет необычностью. Ге сделал нечто, вопреки привычному, принятому. В его собственной «Тайной вечере» освещен Христос, Иуда же скрывается в тени. Но это обычно — символика весьма проста. В картине «Что есть истина?» солнце светит для Пилата.
У оборванца, прижавшегося к холодной стене, — лишь его истина, бесконечная уверенность в будущем ее торжестве.
Сегодня и Завтра сошлись, столкнулись на картине.
Современность истины
«Что есть истина?» была написана очень быстро.
В конце октября 1889 года Ге ездил в Киев, привез оттуда «принадлежности для костюма Пилата и Христа»[75], невестка Екатерина Ивановна сшила «тогу» для Пилата, шестого ноября Ге сообщил Толстому, что начал работу, а семнадцатого января следующего, 1890 года, что окончил ее.
В последних числах января Николай Николаевич уже в Ясной Поляне. «Что есть истина?» отправлена в Петербург. Но для Толстого художник привез рисунок с картины. Лев Николаевич отметил в дневнике: «Очень хорошо». Само полотно Толстой увидел через полгода и не разочаровался, как с ним случалось при встрече с цветом; в дневнике отметил: «Картина Ге прекрасна».
В феврале 1890 года «Что есть истина?» появилась на Восемнадцатой Передвижной выставке…
Седьмого марта Анна Петровна писала сыну Петруше: «Наконец вчера воротился отец из Петербурга. Привез много новостей. Картина его произвела такой фурор и взрыв похвал и ругани, что делались вещи небывалые: публика, стоящая перед картиной, делилась тут же на партии и между собой начинали ругаться люди, до того никогда не знавшие друг друга»[76].
Снова спорили о том, имел ли право Ге написать такого Христа. Привыкли все-таки к Христу дебелому и красивому — его мучают, но он стоит крепко, возведя очи к небу.
Ге однажды выпалил даме, которая сетовала, что на его последних картинах Христос некрасивый:
— Христос, сударыня, не лошадь и не корова, чтобы ему быть красивым. Я до сих пор не знаю ничего лучше человеческого лица, если оно не урод, разумеется. Да притом человек, которого били целую ночь, не мог походить на розу…
Но дело не в том, чтоб как «роза». Был ведь до Ге и «Христос в пустыне» Крамского. У Крамского Христос — усталый человек, но возвышенный, хоть и сомневающийся. У Ге — униженный, избитый, оплеванный Христос, но непоколебимый.
Такой Христос оказался нужен Лескову: «Всю мою жизнь я искал такого лица», «это первый Христос, которого я понимаю». Такой Христос оказался дорог многим сотням зрителей.
Репин преувеличивает, говоря, что «никто не желал узнать Христа в этом тощем облике с бледным лицом, укоряющим взглядом и особенно с трепаными волосами». Все зависело от того в первую очередь, был ли способен зритель позабыть, что перед ним изображение события, случившегося восемнадцать с половиной столетий назад. Принять Христа картины «Что есть истина?» мог тот, кто почувствовал современный смысл полотна.
Этого смысла не понял Н. К. Михайловский: «Если Ге ссылается на Евангелие… то я, естественно, хочу видеть в Христе Христа, то есть те черты, которые ему усваивает Евангелие. За Христом шли ученики, толпы народа, а в Христе Ге нет ничего от вождя. Христос был проповедником любви, кротости, всепрощения — я не вижу этих черт на картине Ге. Может быть, в лице Иисуса надо читать презрение к этому веселому и легкомысленному Пилату, и тогда мы имеем столкновение двух презрений, но я отнюдь в этом не убежден. Может быть, в остром, я бы сказал, колючем, сосредоточенном почти до отсутствия мысли взгляде Христа, в его сжатых губах, в его спокойной позе выражается готовность страдать и умереть за правое дело, такая готовность, что не о чем и думать. Я не знаю».
То, чего не знал и не понял народник Михайловский, понял «всепрощенец» и «непротивленец» Толстой: когда Пилат, «в руках которого было решение жизни и смерти его, с легкомыслием изверившегося во всякую истину человека, спросил: что есть истина? — что оставалось отвечать на этот праздный вопрос тому, кто шел на смерть за эту истину, как взглянуть лишь на вопрошающего таким взглядом, какой вы встречаете на поражающем вас своею страшною реальностью лице замечательного полотна Н. Н. Ге!»
Толстой объяснял, что богом сделали Христа люди — он же, «когда действовал, не был не только важен, но даже незаметен». Маленький нищий человек из народа стоял против правителя порабощенной страны. «Пропасть их разделяет»: какое тут столкновение презрений — тут борьба миров.
Понять это способен был тот, для кого истина дороже христианства, кому не застилает глаза Евангелие. А Ге, который не расстается с Евангелием, пусть себе ставит ссылки возле названия каждой картины — он всю жизнь читал Евангелие по-своему.
Когда, замышляя картину, отправился в Киев, он встречался там, по обыкновению, с молодыми художниками, студентами, курсистками, — и в ужас пришел от того, что «хорошие молодые люди… идут ради искусства на эту полную лжи жизнь». Он в ужас пришел от жизни, где все так построено, что «хочешь не хочешь, а отдавайся лжи» — и «выхода в этом омуте нет». Вот откуда начинал Ге читать евангельский стих «Иоанн, XVIII, 38».
Того, кто почувствует в картине Ге ее внутренний, уходящий от предания смысл, конечно же, перестанет занимать, похож или не похож Христос. Взгляд остановится и на Пилате. Встревожит мысль об отношениях этих двух людей. Ге не зря отмел композицию, найденную в «Анне Карениной» художником Михайловым, — изгнал с холста и прислужников Пилата и Иоанна. Все собрано, очищено от лишнего, подчеркнуто — как некогда в «Петре и Алексее», — лишь эти двое лицом к лицу, лишь они все решают.
Сохранился карандашный набросок головы Пилата. На рисунке он худощав, лицо острее, ироничнее. На рисунке он больше воин. Пилат на картине приобрел черты отупения, важности и самодовольной снисходительности. Он знает, что есть власть, богатство, слава, есть высшие, которым он служит, и низшие, чья жизнь и смерть зависят от него, но он знает также, что истины нет. Пилат на картине совсем не воин — правитель.
Сохранился карандашный набросок руки Пилата. На рисунке пальцы согнуты, рука не так решительна, она вопросительнее, в ней словно бы раздумья больше. Рука на картине полностью раскрыта, и — как ни понимай этот жест — одно ясно: нет истины. Пилат подносит к лицу Христа пустую ладонь.
Толстой называет Пилата «важным римским чиновником» и «добродушным губернатором». Губернатор он, возможно, и впрямь добродушный, не грозный и не жестокий, но «важный римский чиновник» — не более. Правитель. Человек «другого мира».
Ге в картине подчеркивает этот «другой мир» Пилата. Нищий, умирающий во имя убеждений, и правитель, убежденный, что убеждений нет.
Обновление человека, борьба за новую нравственность начиналась столкновением, разоблачением нравственности существующей. Какую бы цель Толстой-художник перед собой ни ставил, он от этого разоблачения никогда не ушел. Этим и силен. Едва он брался за перо, «непротивление» отказывалось ему служить.
Один исследователь верно подметил: произведения Ге ближе к личности Толстого, нежели к его учению[77].
К. П. Победоносцев, обер-прокурор синода и наставник царя, в письме к Александру III характеризовал Ге: «Он поселился у гр. Толстого и пользуется его симпатиями». Этого было довольно.
Обер-прокурор синода понял картину «Что есть истина?». Он писал царю, что картина не только оскорбляет религиозное чувство (хотя и такого обвинения достаточно!), но к тому же «несомненно тенденциозна». Он доносил: «люди всякого звания» негодуют не только на картину, но и на художника, удивляются бездействию правительства. Он удивлялся: как случилось, что чиновник, которому поручена цензура картин и который несколько лет назад снял с выставки «менее возмутительную картину Репина „Иоанн Грозный“», не заметил «соблазнительное» полотно Ге. Победоносцев предлагал: убрать с глаз публики картину «Что есть истина?», главное же — не допустить ее передвижения по России, «так как наш народ до сих пор еще думает, что все разрешаемое правительством им одобрено».
Александр III не покупал картин, чтобы пресечь споры. На письме Победоносцева он начертал: «Картина отвратительная, напишите об этом И. Н. Дурново, я полагаю, что он может запретить возить ее по России и снять теперь с выставки».
Картину сняли в первой декаде марта.
Но нет худа без добра. В жизни Ге неожиданно появился некий присяжный поверенный Н. Д. Ильин. Он объявил себя толстовцем, плакал от восторга, вызванного картиной, называл Ге «дедушкой» и просил разрешить ему увезти полотно «Что есть истина?» за границу, чтобы показать зарубежному зрителю.
Ге отдал присяжному поверенному деньги, полученные за картину, взяли еще в долг, и восторженный Ильин отправился в путешествие. Он выставлял картину в Германии и в Америке. Турне обошлось дороже, чем предполагал Ильин, выручкой оно не окупалось, Ильин понял, что затея прибыли не даст, даже деньги, выпрошенные у Ге на поездку, он вернуть не сумеет.
Ильин, наверно, искренне восторгался творением Ге, искренне поверил в толстовство, искренне увлекся идеей показать картину всему миру и увлек легковоспламеняющегося живописца. Ильину действительно довелось испытать немало тягот, путешествуя без средств по чужим землям. Но Ильин не был так силен духом, как Христос на картине, которую он показывал. Испытания не укрепили его убеждений — развеяли в прах. В Россию он возвратился озлобленный, предварительно заколотив в ящик и не очень заботливо отправив наложенным платежом опостылевшую и уже нелюбимую картину. О своих новых убеждениях он почему-то решил рассказать еще более шумно, чем о прежних, — то ли оправдаться хотел, то ли нажить скандальный успех (по мнению Стасова, принимал меры, чтобы Ге не попросил его вернуть долг). Как бы там ни было, в 1892 году Ильин выпустил книжку, озаглавленную «Дневник толстовца», в которой пытался опорочить и Толстого и Ге. Странный «Дневник», выдуманный задним числом, обвинял Толстого и Ге в лицемерии, обвинял пошло, мелочно — все в нем из арсенала обывателей.
Успеха Ильин не приобрел, хотя шума наделал, — можно добиться славы хулой, отступничеством — трудно. Репин называл Ильина «шулером или психопатом», «наивным мазуриком», «мразью». Правда, в те же дни он писал об «искренности» автора «Дневника»; если он имел в виду, что Ильин искренне порочит Толстого и Ге, — с этим нельзя не согласиться.
Толстой и Ге перед Ильиным не оправдывались и ему не отвечали. Ге отнесся ко всей этой истории весьма добродушно, волновался лишь, чтобы картина пришла в целости. Он даже советовал кому-то прочитать «Дневник толстовца».
И все-таки Ильин сделал хорошее дело. Его дешевая ложь и пошлые смешки ни Толстого, ни Ге не опорочат, зато «Что есть истина?» в Европе и в Америке побывала. Репин пишет о «громадном (нравственном, но не материальном) успехе ее, особенно в массах рабочего люда», о восторженных отзывах газет[78].
Но не восторженность отзывов важна — важно, что в них говорилось о современном смысле картины «Что есть истина?». Русские газеты и журналы о снятой с выставки картине принуждены были помалкивать.
Читая иностранную прессу (Ге присылали вырезки), художник узнавал, что повсюду понят. Сопоставления с современностью в рецензиях совершенно (иногда излишне) откровенные.
Христос на картине Ге «не воплощение полнейшей любви и справедливости», но «апостол бедных, борющийся во время земной жизни»; «сын бедного столяра… защитник прав бедного, приниженного народа»; «мессия трудящихся и угнетенных»; «человек, только что испытавший полицейскую трепку».
Суть картины: «не кроткая, верующая преданность», но «гнев, презрение, и воинственное одушевление»; «вопль против тиранов»; «страх и трепет власть имущих».
Впечатление от картины «могущественно», в ней «высказаны такие мысли и ощущения, которые мгновенно нагоняют дрожь на весь наш современный мир»…
Кстати, от весьма откровенных сопоставлений и Толстой не удержался. В одном письме объясняет: Пилат — «вроде наших сибирских губернаторов».
Перед отправкой за границу Ге привез картину в Ясную Поляну — показать Льву Николаевичу.
Толстой, домашние и гости долго сидели перед полотном, делились впечатлениями, объясняли друг другу главную мысль художника. Неожиданно сам Ге сказал:
— А дело просто — социалист и Бисмарк.
В Германии доживал последние месяцы введенный Бисмарком «Исключительный закон против социалистов». По этому закону были брошены в тюрьмы сотни борцов. Но Время работало на Будущее. В 1890 году социалисты при выборах в рейхстаг получили полтора миллиона голосов. И в том же году «железный канцлер» вышел в отставку.
Вот о чем вдруг вспомнил Ге, глядя на свою картину.
Он подумал, должно быть, что у борцов за убеждения есть Будущее, у правителей его нет.
Два суда
Последние годы жизни Ге работал без передышки.
Трудные раздумья — что дальше? — больше не терзали его.
Многочисленные рисунки — свидетельство одолевавших его тем, свидетельство свободы, раскованности, пришедшей к художнику, который полностью обрел себя.
Иллюстрации к Евангелию, сделанные углем, интересны бесстрашным сочетанием на одном листе, в одной композиции, религиозного сюжета и его «мирского», «светского» истолкования.
Человек, приносящий жертву, вспомнил, что есть некто, гневающийся на него. Человек отставил в сторону кувшин и поднос с жертвой и на коленях просит прощения у своего врага. Но тот отвернулся гордо. На заднем плане ступени храма, однако самого храма нет, стены нет, как у кинодекорации, — перед зрителем открывается низкая комната, в которой Христос на коленях моет ноги Иуде. Заповедь — «Не гневайся». Когда художник творит такое, про него говорят: «Что хочет — делает!»
Картина «Совесть» — следующая после «Что есть истина?» — тяжело Ге давалась. Он долго не мог ее «устроить». Без конца переписывал, два раза совсем бросал. Трижды мыл весь холст мылом на полу. Когда нашел свое — объяснил:
— Это все оттого, что много в нас хламу, который залеживается по углам и, глядишь, вылезает своими старыми формами. Во мне этого хлама особенно много — за сорок лет накопил! Но вот бросишь все и примешься, как дитя, тогда и выйдет хорошо.
Современников поразил этот безлицый Иуда, неподвижный, на призрачной лунной дороге. Михайловский не мог понять, как человек, повернутый спиной к зрителю, способен рассказать о муках совести. Поленов очень любил Ге-человека и не принимал Ге-художника. Про «Совесть» он написал: «Очень и очень слабая вещь. На черно-синем фоне стоит длинная и мягкая тумба…»
С Поленовым трудно спорить. Здесь дело в творческой позиции художника. Михайловский, по мнению его противника-рецензента, хотел «драматических жестов и воплей». Знаем, что Ге от них отказался еще в «Петре и Алексее». Знаем также о набросках, сделанных в поисках образа Иуды, — то сидит, скорчившись, то лежит, поверженный ниц, то бьется об стену. Это старый хлам, который вылезал из углов. Повернуть Иуду спиной к зрителю Ге тоже долго не решался: «Все держится на одном выражении лица Иуды — есть оно, и есть картина, — нет, и нет картины…»[79]. Вот как он замышлял! Но в те же дни, очередной раз смывая с холста написанное, открыл: «Я хотел все выразить его душу; понятно, что внешность не может представить никакого интереса».
Ге крепко держался за свое, ему открывшееся. Лицо Иуды неважно, твердил он, любая попытка его изобразить ложна. Черный, рыжий, красивый, отвратительный — всегда неточно: у каждого свой символ, свое представление о лице отступничества и предательства. Вон рабочий на выставке, который открывал ящик и вешал картину, тот не ужаснулся, а пожалел отверженное одиночество Иуды — «Бедный!» Нет, не символы надо изображать, надо передавать простое неподдельное чувство. Дело «не в выражении лица Иуды, а в том положении, которое неизбежно вытекает из его духовной деятельности, и это положение непременно будет и его, Иуды, и всякого, который встанет в его положение».
Ге и устно и письменно разъяснял образ Иуды, даже лекцию о нем прочитал в Петербурге. Сейчас не столь важны слова, — важен тон, которым он говорил, стиль его речей и писем. А говорил он об Иуде как-то удивительно запросто, словно о хорошем знакомом, о своем современнике. Отступничество, совершившееся столетия назад, не было для Ге делом давно минувших дней — всякий и сейчас способен встать в положение Иуды.
«Общее давайте, общее!» — реплика Ге, наверно, не к одной форме относится — к содержанию тоже.
Как ни странно, следующая картина Ге «Повинен смерти. Суд синедриона» связана с «Совестью» самым тесным образом. Странно потому, что, кроме «хронологии» (за предательством следовало осуждение Христа), все, казалось бы, противоположно в этих картинах: и содержание, и композиция, и цвет.
Одинокий Иуда на дороге — и Христос у стены храма, в толпе священнослужителей. Почти пустой холст с одной фигурой, поставленной спиной к зрителю, и людное шествие, движущееся на зрителя; фигуры на переднем плане, на заднем, даже у верхнего края картины фигуры бородачей, взобравшихся на какие-то высокие ступени, лица, лица, лица… Серебристая синева лунной ночи — и красное, рыжее, золотое полыханье светильников.
Все не просто разное. Все — наоборот.
Но…
Два суда написал Ге: судит совесть и судит власть.
Иуда свободен — он сделал, что хотел, своего добился. Он победил — Иуда.
Христос оплеван, унижен, приговорен. Лицо его страшно.
Близкие вспоминают, что в последние годы жизни Ге был особенно добродушен, светел и умилен.
Его Христос от картины к картине становился все страшнее — острее, злее, воинственнее.
Увидев «Суд синедриона», даже Толстой не выдержал — «необходимо переписать Христа: сделать его с простым, добрым лицом и с выражением сострадания». Ге переписывал лицо Христа, но одного взгляда на картину довольно, чтобы понять, что переписывал не так, как хотелось Толстому.
Прекрасного Христа писал Крамской в неоконченной картине «Хохот». Христос Крамского стоит на возвышении посреди хохочущей толпы. Крамской хотел показать, как над хорошим смеются. Он писал «Хохот» пятнадцать лет и не переставал чувствовать, что картина «не задалась». Картина надумана, холодна и, что всего ужаснее для Крамского, традиционно академична.
Ге писал свой «Суд синедриона» не о том, как над хорошим смеются, писал о том, как убивают самого лучшего. Оплевывают и приговаривают к лютой смерти. Не на помосте стоит этот «самый лучший» с высоким белым челом и в красивой одежде, — стоит, прижатый в угол, щуплый, оборванный, всклокоченный.
«Общее давайте, общее», не частное выражение, а неизбежное положение. Неизбежное же в том-то и состоит, что маленький человек, сегодня презираемый, оплеванный, казненный, но не сдавшийся, — завтра победит.
Победит, — потому что казнен человек, а не его убеждения, не его учение. Суд не проверял — «Что есть истина?» Человек приговорен за то, что его истина не есть истина его судей. Неправедный суд выигрывает приговоренный. Ибо неправедный суд — свидетельство страха судей.
Ге жизнь прожил в пору таких неправедных судов. За убеждения выносили приговоры в судебных заседаниях, и гнали с должности, и опорочивали в печати — и разве не самого Ге картину выносили с выставки за «тенденциозность» (так говорили, когда тенденция была не та). «Суд в синедрионе — одна формальность, — объяснял Ге, — приговор был постановлен уже вперед, суда настоящего не было».
В кровавом мерцающем свете шествуют на холсте судьи — торжественные и мрачные, самодовольные и разъяренные, коварные и радостные. Пилаты, сбросившие маску! И они когда-то снисходительно беседовали с тем, кого считали юродивым проповедником, и они спрашивали весело: «Ну, так что у тебя там за истина?» — недослушивали и уходили прочь («повернувшись на каблуке», — любил говорить Толстой). Сперва они не слушали ее, но потом уже не в силах были не слышать, она била им в уши на каждом перекрестке, на каждой площади — они решили убить ее так, как испокон веков убивали истину, они казнили того, кто говорил о ней людям.
Шествуют судьи. Но в их торжественном и злобном шествии, в мелькании их лиц, в богатстве их одежд, в складках струящихся с их плеч ритуальных тканей, в роскошно изукрашенном свитке торы, в изгибах арф и синагогальных семисвечников — есть во всем этом что-то маскарадное, невсамделишнее, преходящее. Кажется: пройдут они с шумом, гомоном, бряцанием, криками, исчезнут, растают, и останется только тот один — у левого края картины поставленный к стенке маленький яростный человек. Ему не с ними. Ему в Завтра.
И так же навсегда останется посреди дороги одинокий Иуда. Суд совести страшнее суда властей. Нет ему пути ни вперед, ни назад, ни вбок. Ни одного шага не дано человеку после шага отступничества, предательства. «Кругом пустота» — сказал Ге.
Портреты. Последние
Портрет с пятого сеанса поразил всех… не только сходством, но и особенною красотою. Странно было, как мог Михайлов найти ту ее особенную красоту. «Надо было знать и любить ее, как я любил, чтобы найти это самое милое ее душевное выражение», — думал Вронский, хотя он по этому портрету только узнал это самое милое ее душевное выражение. Но выражение это было так правдиво, что ему и другим казалось, что они давно знали его.
Л. Н. ТолстойМаша Толстая и мечты старика Ге
Татьяна Львовна Толстая начала портрет сестры Маши. Ге как раз гостил в Ясной Поляне. Подошел, глянул — и огорченно:
— Ах, Таня, разве можно так писать!
— Как же надо?
Николай Николаевич решительно взял из ее рук палитру и несколько больших кистей:
— А вот как надо!
И переписал весь подмалевок.
Разговор очень интересен, потому что Ге отлично умел объяснять, «как надо». Он часто беседовал с молодыми художниками, отвечал на их вопросы. Известно его письмо к ученикам Киевской рисовальной школы, в котором он изложил свои взгляды на искусство, рассказал, как работает. Некоторые письма Ге к Татьяне Львовне — также небольшие трактаты о живописи. Порывистое движение, которым Ге выхватил палитру у Татьяны Львовны, стремительно переписанный подмалевок, — в этом чувствуется нечто большее, нежели желание показать, «как надо».
Ге любил повторять брюлловское «Искусство начинается с чуть-чуть», он умел поправлять работы учеников, вносить в них «чуть-чуть». Но, «поправляя» портрет Маши, он не посчитался с тем, чего добивалась Татьяна Львовна, — все по-своему переиначил. В порыве Ге чувствуется желание сказать свое о Маше Толстой, то, что накапливалось, таилось — и вот прорвалось.
Татьяна Львовна это сразу ощутила, палитры обратно не приняла и упросила Ге самого закончить портрет.
Портрет Маши получился необычно светлым и по колориту и по чувству. Существо удивительно чистое и открытое смотрит с холста. Ни напряженных дум, ни пытливого поиска во взгляде. Маша — ясный человек. В позе, в выражении некрасивого лица, в лучистых светло-голубых глазах — ясность, открытость, простота.
Маша «была худенькая, довольно высокая и гибкая блондинка, фигурой напоминавшая мою мать, а по лицу скорее похожая на отца с теми же ясно очерченными скулами и с светло-голубыми глубоко сидящими глазами, — вспоминает ее брат Илья Толстой. — Тихая и скромная по природе, она всегда производила впечатление как будто немножко загнанной».
Ге передал в портрете тихость и скромность Маши, но не загнанность, — скорее, незащищенность. Не ту, которая от слабости, а ту, которая от ясной и открытой простоты человека, никогда не ждущего нападения.
У Маши был характер, который хотел бы иметь сам Толстой. Она не столько разумом, сколько сердцем приняла учение отца; не много, кажется, размышляя, поступала согласно учению.
«Она сердцем почувствовала одиночество отца, — пишет Илья Толстой, — и она первая из всех нас отшатнулась от общества своих сверстников и незаметно, но твердо и определенно перешла на его сторону. Вечная заступница за всех обиженных и несчастных, Маша всей душой ушла в интересы деревенских бедняков и, где могла, помогала своими слабыми физическими силенками и, главное, — своим большим, отзывчивым сердцем».
В сложных и трудных семейных отношениях Лев Николаевич противопоставлял Машу остальным своим детям: «Из детей моих близка мне по духу одна Маша». Маша — «самая большая моя радость». Отказ Маши от собственности скрасил Толстому необыкновенно тяжелые дни имущественного раздела: «Как мне тяготиться жизнью, когда у меня есть Маша». «Я с радостью чувствую, что люблю ее хорошей, божеской, спокойной и радостной любовью».
С хорошей, спокойной и радостной любовью написал портрет Маши художник Николай Николаевич Ге. Не Льва Николаевича любовь, свою собственную, вложил он от щедрого сердца в этот портрет. Об этой любви читаем в его письмах к Маше. «Милая, дорогая, золотая Маша, опять ты со мной, я это чувствую своим сердцем — опять я слышу этот голос из души. Ах ты, моя прелесть — девочка ты дорогая…» Или в другом письме: «Ты, Маша, не думай, что я мог бы забыть тебя или разлюбить, это невозможно, река назад не потечет. Я могу умереть, тогда не знаю, что будет, а пока жив никого не люблю так, кроме отца…» При всем умении увлекаться и писать увлеченно Николай Николаевич таких послании никому не писал. Разве что Анне Петровне, когда была невестой.
Но его письма к Маше — не один лишь голос сердца. Ге рассказывает, «что делает и что думает», и Машу просит о том же. Просит безбоязненно: ответит она именно то, что он ждет.
Портрет Маши — это мечта Ге о ясном, добром и любящем человеке, мечта о доброй и любовной жизни.
Он бы рад был, наверно, написать так портрет любимого Колечки, однако Колечка в светлой и радостной жизни дошел, кажется, до своего предела. Последние годы Николая Николаевича были омрачены: Колечка и Зоя полюбили друг друга, стали близки. Любовь поколебала, нарушила непрочное равновесие. Жизнь, которой учили молодых людей Лев Николаевич и Николай Николаевич, требовала самоотречения. Но отречься от себя и остаться при этом самим собой не всякий в силах. Тех же, кто насильно придумывает нового себя, жизнь рано или поздно заставляет раскрыться.
Люди на многих портретах, написанных Ге, подобны действующим вулканам: за несколько напряженной, но, на первый взгляд, спокойной внешностью угадывается гул и движение подземных сил, глубокие толчки, кипение магмы. Маша на портрете — тихое, прозрачное озеро. Открытость Машиного портрета — это радость открытия человека, прозрачного до самого дна.
Но Колечка — не Маша. Колечка — вулкан, лишь на время превратившийся в безобидную вершину. Николай Николаевич старший тоже был вулкан. Но разные силы вызывали в отце и в сыне бурное движение.
Колечка сам испугался, когда почувствовал прежнее кипение страстей. Он бросился за помощью ко Льву Николаевичу. Лев Николаевич просил и Колечку, и Зою, и ее мужа, фельдшера Рубана-Щуровского, дорожить своим крестом и терпеливо нести его. В дневнике Лев Николаевич писал: «Научи меня, как нести этот крест».
Терпеливо и умело несла крест Гапка. Что ей еще оставалось — время от времени сходить с ума?
Колечка говорил, что десять лет прожиты даром, он в ловушке, в петле, петля затягивается — надо ее рвать.
Николай Николаевич страдал, видя, как сын, которого он устроил в жизни хорошо и любовно, разрушает свою жизнь, уходит от него. Он страдал оттого, что сплетни о близости Колечки и Зои звучали в устах окружающих насмешкой над учением. Но он не предполагал, как близко до извержения. Через десять дней после смерти отца Колечка написал Толстому о своем отречении: «Действительно, у меня горе, как вы пишете, дорогой Лев Николаевич, и горе непоправимое — это вся моя нелепая, ошибочная жизнь». Напишет о ловушке, о петле — «все, что я делал за эти десять лет, не было ни делом, ни любовью, это была мелочная, грязная и жестокая жизнь внутри и исполнение какого-то выдуманного долга снаружи». В другом письме он скажет, что жил «по заказу».
Лев Николаевич ответит ему добрым письмом: «Человек десять лет перестал красть и вдруг на одиннадцатый год говорит, что он ошибся. Да ведь в нашей и вашей жизни только та и разница, что всякая чистая рубаха, которую я надеваю, всякий кусок, который я кладу в рот, — краденные, и мне больно и стыдно так жить, а у вас были некраденные и вам не было стыдно…»
Но для Колечки разница не только «та». Он приходил в опустевшую отцовскую мастерскую: здесь, подле картин Николая Николаевича Ге, он думал о том, что бессмертие — это творчество. Колечка тосковал и сердился, размышляя о своем загубленном таланте и о своей смертности полной. Отца нет — и он рядом, в холстах остается с людьми. Колечке же придется навсегда уйти в землю, которую он, по совету Льва Николаевича, пахал и унавоживал.
У Колечки еще долгие годы впереди: метания, приезды к Толстому, иногда возвращение к его учению, сожаления о прошлом и бесконечные попытки жить по-новому. Он уедет с Зоей в Швейцарию, будет интересоваться различными сектами, одно время захочет приобщить к толстовству кружок протестантов, которые борются за уничтожение рабства в Африке, и перед смертью сравнит себя с неустроеннейшим из Ге, с дядюшкой Осипом Николаевичем: «Я стал похож на Осипа Николаевича и занятия наши подобны».
Маша Толстая в 1897 году вышла замуж. Льву Николаевичу и терять ее жаль, и жаль, что жить она иначе станет, чем прежде. Но он любит ее по-прежнему и хочет ей счастья, и даже радуется, что ей «жить будет легче, спустив свои идеалы». Через десять лет Маша умерла, еще молодой.
Толстой писал как-то Колечке Ге о своих детях:
«Мои растут, портясь жизнью, приготавливаемые к тому, чтобы стараться не понять меня и не только не передать, но передать превратно».
Дети Толстого и Ге наследниками отцов не стали.
Портрет Маши — это мечта Ге о новом молодом поколении, нашедшем истину и нашедшем себя, поколении ясном и светлом, добром и любящем, которое он жаждал увидеть.
Единомышленники
…Рассказывают: в Киеве, в Одессе, в Петербурге, в Москве — в рисовальной школе, в училище живописи, в коммуне-общежитии молодых художников — появлялся неожиданно седобородый, бедно одетый старик; пробирался между мольбертами, рассматривал работы; потом брал у кого-нибудь кисть, уголь или карандаш, начинал поправлять; собиралась толпа, все приходили в восхищение от того, что делал старик; и вдруг оказывалось — да ведь это художник Ге!
Известно: Ге действительно заходил, поначалу оставаясь неузнанным, в рисовальные и живописные классы в Киеве, Одессе, Москве, поправлял работы молодых, а затем, «разоблаченный», долго беседовал с учениками. Наверно, в воспоминаниях количество таких встреч преувеличено: сюжет о неузнанном великом человеке всегда манил сочинителей. Для нас статистическая точность не обязательна: важно, что о встречах Ге с молодежью точно известно, а если кто из мемуаристов лишний раз и прибавил для интереса «бедного старика», обернувшегося знаменитым художником, то ведь легенды создаются не только вопреки действительности — для ее подтверждения тоже.
Неудержимая тяга Николая Николаевича Ге к молодежи отражена в рассказах, подлинных и приукрашенных.
Разделяя общество на «стариков» и «молодых», Ге объяснял: пропасть лежит не «меж двух поколений», а «меж двух направлений». Но, конечно, в молодом направлении больше было по-настоящему молодых. Ге называл молодых «единомышленниками» — это увлеченное слово; он спорил с молодежью о взгляде на жизнь, на искусство, спорил о толстовстве и о предмете живописи. Но и авторы воспоминаний увлекаются: прежде чем взяться за перо, они прожили жизнь, прожили не по рецептам Николая Николаевича, не в соответствии с его проповедью — остался в памяти искренний старик, горячо любивший жизнь, людей, искусство, горячо устремленный навстречу молодежи.
Нет, не все было безоблачно. Известно, например, что Ге не принимал религиозной живописи молодого Нестерова, как Нестеров не принимал его картин. Нестеров потом, не очень-то справедливо, объяснил их расхождение личными счетами, писал, что Ге играл всегда «житейскую комедию», избрал роль «архиерея», — молодежь бережно снимает с него в прихожей засыпанный снегом армяк, а он протягивает руки, повертывает голову и говорит, говорит, говорит. Говорил Ге много, не всегда удачно, но всегда искренне. Нестеров со своими упреками, пожалуй, одинок.
Не все молодые были одного направления, и не все молодые принимали направление Ге, и он не всех их принимал, но жила в нем мудрая и оттого, должно быть, детская радость, рождавшаяся при мысли о постоянном движении жизни. Он сравнивал жизнь с рекой и был счастлив, что нет ей покоя, течет, — не всегда, как ему хочется, но вперед течет и вспять не повернет. Он порой говорил о себе: не «живу», а «плыву». Не бояться стремительного движения Времени, радоваться: главное — плыть, не искать глазами берега, не нащупывать ногами дна, плыть. Утонуть, раствориться в потоке не страшно, оказаться на мели страшно. Вот почему все по-настоящему молодые — «единомышленники».
Художник Ульянов, юношей встречавший Ге в коммуне Московского Училища живописи, вспоминает: среди молодежи старик был «общим другом, способным входить в чужие интересы и даже разделять увлечения каждого». Не от всеядности — от желания понять. От желания быть рядом, плыть вместе.
Беседы Ге были страстны и зажигательны. Это — общее мнение. Репин, слишком часто и слишком во многом несогласный с Ге, по горячим следам сообщал Татьяне Львовне Толстой: «Третьего дня Ге у Корсаковых на частной квартире читал публичную лекцию об искусстве и идеалах… Я слушал с удовольствием — он талантливый оратор. А когда, по окончании, мы попросили его пополнить заключение, он говорил еще около часу — все больше о себе, о своей борьбе, своих идеалах, исканиях, жизни, это было так трогательно, что некоторые слушатели в конце прослезились, дошли до экстаза. Да, он человек необыкновенный, и талант и душа еще горят в нем и бросают яркие лучи другим».
Если Ге словом своим Репина своротил, надо ли удивляться молодым, которые к тому же всегда знали и чувствовали, что самое страстное слово художника о борьбе, идеалах, исканиях, жизни обращено к ним, что для них — самые яркие лучи.
Как раз в ту пору, когда Ге перебирался на хутор, украинский живописец Николай Иванович Мурашко основал в Киеве рисовальную школу. Это было демократическое учебное заведение, которое завоевало известность не только на Украине — во всей России. Многие художники, приезжая в Киев, обязательно навещали школу, беседовали с учениками. Частым гостем школы был Репин.
Для Ге Киевская рисовальная школа стала той неофициальной студией, о которой он мечтал еще в Италии. Его появления здесь всегда с нетерпением ждали. Он приезжал из Плисок в Киев, слонялся по магазинам, встречался со знакомыми, вечером — приходил в школу.
После классов ученики собирались в зале — читали журналы, рассматривали репродукции и фотографии картин, пели, декламировали. На столе появлялись стаканы с жидким студенческим чаем, поднос со свежими белыми булками; мелко наколотый сахар сверкал в фаянсовой миске.
Ге приходил улыбчивый, радостный; загорелое лицо, голубовато серебрилась добрая, «дедушкина» борода, легкие седые волосы сияли вокруг лысины. На нем было старое штопаное пальто, серый вязаный шарф, глубокие деревенские боты.
Ему помогали раздеться, вели в залу, усаживали во главе стола, подавали стакан горячего чая. Несколько минут он сидел молча, грея о стакан ладони, осыпаемый градом приветствий и вопросов. Потом сам начинал расспрашивать и, пока ученики отвечали наперебой, пил чай вприкуску, окуная в стакан кусочки сахара.
Но это были не главные вопросы. Главные хранились в запечатанном ящике, который придумал Николай Иванович Мурашко. Ящик вскрывали, когда приезжал кто-нибудь из знаменитых гостей.
Молодежь любила слушать Ге, потому что для него не было профессиональных вопросов. Его спрашивали о технике — о том, как строить композицию или класть мазки, — он и тут говорил о жизни, о борьбе, об идеалах. Связь профессионального с общим делом была для него очевидна.
Художник Куренной вспоминает: однажды Ге вытащил билетик с вопросом: «Что такое сухо?» — и говорил пять часов.
Он рассказал о деревенском мальчике, который ни рисовать, ни писать красками не умеет, но его тянет к этому, у него много разных картин в голове. Ему удается попасть в город — учиться. В школе он рисует гипсовые фигуры и пишет натюрморты. Через пять-шесть лет мальчик становится художником. Он научился владеть карандашом и кистью, но позабыл за эти годы картины, которые когда-то были в его голове и ради которых он рвался в школу. Хорошо, если молодой художник входит в жизнь со своими идеалами, но ведь такое редко бывает, — учили его технике, не идеалам. Начинаются поиски — что писать? Это вопрос и о том — для кого писать? Картины покупают богатые люди; они хотят, чтобы картины украшали их дом, стали фоном, обоями. Они с удовольствием купят натюрморт с фруктами или голую женщину, стоящую рядом с гладкой красивой коровой. А в юном художнике запылало подлинное чувство — он мечтает написать Яна Гуса на костре.
— Ну, подумайте, разве такая картина в столовой прибавит аппетиту или в спальне даст спать богачу!
Ге рассказывал молодым друзьям, что общество, в котором они живут, и идеалы настоящего художника — вещи несовместные.
Ге учил молодежь приходить в искусство со своими идеалами, потому что верил ей, верил в неизбежность и правоту будущего.
В начале девяностых годов в Товариществе передвижников шел большой и резкий спор о приеме и правах молодых членов. Даже заслуженные художники старшего поколения стояли за то, чтобы ограничить права молодежи. Ге поддерживал ее самоотверженно и безоговорочно. Когда страсти несколько улеглись, состоялся традиционный обед Товарищества. Ге и Маковский произнесли речи. Поленов сообщает: «Ге сказал, что он радуется, что наше общество благодаря молодежи идет вперед и чувствуется свежая в нем струя. А Маковский выразил убеждение, что общество наше, не смотря на новые молодые и свежие силы, вошедшие в него, осталось… сплоченным товариществом».
До чего же много заложено в два эти словечка — «благодаря» и «несмотря на»!..
Удивлялись, что Ге с его высокими и очень личными требованиями к искусству смело принимал начинающих художников — тех, чьи первые шаги вызывали критику и просто неприязнь его именитых современников. Удивлялись даже, как это Константина Коровина вдруг Ге больше всех понял и оценил.
А удивляться-то, собственно, нечего. Чего другого ждать от художника, который после сорока лет работы назвал хламом все, что накопил. Не будь этих сорока лет, он не смог бы прийти в искусстве к тому, чем закончил жизнь. Но сам он не желал об этом думать. «Другие по живому следу пройдут твой путь за пядью пядь», — писал поэт. Сам Ге остро вглядывался в каждую новую картину на выставках, в каждый собственный мазок — искал сегодняшнее, ради которого он обязан и счастлив был отказаться от хлама. Для него эти сорок лет не база, не итог, не гордость — помеха. Ему не надо прошлого, чтобы за него держаться, — он всегда готов начать сызнова. «Как дитя».
Он всю жизнь — начинающий.
Молодой художник Николай Ге.
Мудрец и дитя
Чьей рукой написан портрет старухи Марии Павловны Свет, написан, по преданию, за несколько часов до ее кончины?
Рукой мудреца, постигшего неизбежность смерти? Или рукой юноши, для которого смерть далека и почти невероятна, — он присматривается к ней с безжалостным интересом и тревожным трепетом первого узнавания? Может быть, рукою мудреца, начавшего, как дитя?..
Кто, как не мудрец, много размышлявший и скорбевший о смерти, мог заметить эту невыразимую муку в успокоенных и наполовину ослепших глазах, прочитать эту последнюю думу, застывшую, словно забытую в скорбно поднятых бровях, передать эту неумолимость угасания.
Кто, как не дитя, как не юноша-художник, мог, волнуясь, ухватить удивленным, свежим взглядом эту землистость лица, со лба и у скул уже подернутого серым, этот слишком заметный нос, эту неподвижную тяжесть морщин, остановившихся, как останавливаются волны и круги на воде, снятые на фотографию, эту сверкающе-чистую белизну кружевного чепчика и шейной косынки, белизну, уже отдающую саваном.
Ге полчаса какие-нибудь писал лицо Марии Павловны Свет. Сколько же надо было пережить и в себе нести, какой открытый, свободный, не застланный хламом взгляд иметь, чтобы за полчаса на торопливо схваченном небольшом куске холста запечатлеть огромное и таинственное, страшное и неизбежное событие в жизни — смерть.
Портрет Марии Павловны Свет написан в 1891 году. В этом году умерла Анна Петровна. Умерла в ноябре — месяце, который она не любила и которого боялась. Она постоянно болела в ноябре: простужалась, у ней шла кровь носом.
Последний год Анна Петровна была необычно тихой, смиренной даже; не смеялась над мужем и не сердилась на него. Объяснила: когда Николай Николаевич занят картинами, дома мир и покой. А его мучили предчувствия. Ему было страшно, как перед грозой.
После смерти Анны Петровны ему уже казалось, будто и рознь их «в некоторых вещах» была внешняя — «хотелось быть еще ближе»…[80]. Тут есть истина: всякий спор в конечном счете ведется для того, чтобы прийти к общему. Но споры оборвала не жизнь Анны Петровны — смерть. Горе списало обиды. Ге не злопамятен. Теперь спорить не с кем, а забот Анечкиных, ее замечаний в мастерской, ее «прокурорских» суждений, даже насмешек ее не хватает. Ге после смерти Анны Петровны (как Толстой после смерти самого Ге) пришел к мысли о связи любви и смерти — смерть открывает подлинную меру любви. Николай Николаевич говорил об этом Софье Андреевне, но та понимала его по-своему; в письме к Льву Николаевичу она пересказывала его слова, как вариации на тему — «имеем, не храним, а потерявши, плачем».
Ге тяжело пережил смерть Анны Петровны; родные, однако, вспоминают: он был жалок, но не убит. Речь не о кратковременности горя. Ге до последнего дня тосковал без Анны Петровны, выполнял какие-то ее заветы, которые, будь она жива, возможно, и не выполнял бы. Но он не был убит, духовно не был уничтожен, страх смерти его, старика, не парализовал.
Конечность жизни ему открылась, открылась неизбежность собственного конца; но он не испугался, он даже просветлел еще больше: он еще лучше понял — не во имя короткого и случайного плотского существования человек живет на Земле.
После похорон Анны Петровны он тяжело переболел инфлюэнцой, три дня лежал, а еще через три дня, едва волоча ноги от слабости, приполз в свою мастерскую. Написал, «по завету Анны Петровны», копию с «Что есть истина?» и вскоре с головой ушел в «Суд синедриона». В эти дни Ге в одном и том же письме сообщил старому другу о смерти Анны Петровны и поздравил друга с рождением сына: «…пусть растет на служение человеку, свободе и добру…» И в следующем письме как бы объяснил: «Человек, пораженный горем, узнает смысл своей жизни».
Как и многие старики, живущие среди природы, Ге любил сажать деревья. Наверно, думал: вот он умрет и картины его, быть может, умрут, а деревья останутся, вырастут; внук услышит их приветный шум и о нем вспомянет. Внуку своему (сыну Петруши), Николаю, которого дома звали Кикой, он подарил старинный стакан. Когда-то самому Ге этот стакан подарила его бабушка, и он пил из него полвека. В этом естественном подарке, принятом во многих семьях, также угадывается мысль о смене поколений.
Ге похоронил Анну Петровну не на кладбище — в глубине сада, под деревьями. Скоро и его там положат. В нетрадиционном выборе места похорон чувствуется нечто важное, знаменательное для Ге. Он и раньше поговаривал о том, что человек не умирает, — просто частицы, из которых он состоит, образуют новую комбинацию. После смерти жены Ге подолгу бродил по саду, думал: скоро и он станет деревом, птицей, травой…
Трудно сказать, как рождался замысел портрета Наталии Петрункевич, соседки Ге по имению. Легче всего, конечно, предположить, что художник, не мудрствуя лукаво, поставил молодую женщину у окна, да и написал. Но уж как-то все это значительно, не случайно — женщина с книгой, распахнутое окно, сад. Давний портрет Анны Петровны невольно будоражит память. Не верится, что сам Ге не вспоминал о нем, когда «сочинял» и «устраивал» портрет Петрункевич.
По холстам Ге мы знаем только молодую Анну Петровну. Последние тридцать лет жизни Ге ее не писал. И, может быть, в том-то и самое важное, что он не стал ее писать, как старуху Свет, угасающую, неумолимо оставляющую мир; после смерти жены он написал другую молодую женщину, с другой книгой в руках, у другого окна, отворенного в тот же мир.
Но за окном — не прозрачные утренние дали, за окном — густые краски озаренного заходящим солнцем сада. В саду покоится прах Анны Петровны — впрочем, нет, не покоится: он возвращен природе, он превратился в дерево, любовно обласканное солнечным лучом, в темную траву на краю аллеи, в этот лохматый куст, вспышкой зеленого пламени встрепенувшийся под окном.
Потому, должно быть, каким-то непривычным для портретов Ге покоем светится лицо молодей женщины; потому, должно быть, золото и зелень бесконечного сада так властно подавляют первый план портрета — сумрак вечерней комнаты; потому, должно быть, силуэт женщины не выделяется, а слит воедино, как бы даже поглощен этим буйным и сочным фоном.
Ге сопрягал понятия. Жизнь человеческая — лишь частица природы, частица единой великой жизни. Оттуда, из-за окна, приходим мы в нашу сумрачную комнату и уходим туда, за окно, идем по бесконечной солнечной аллее, чтобы раствориться в зелени, зазвенеть тополиной листвой, зашелестеть густой травой под ногами внука.
«Мой портрет»
Но лично у него, у Николая Николаевича Ге, времени, чтобы ходить по саду, оставалось немного.
В старости он посвежел лицом, как будто даже помолодел. Некоторые объясняли это долгими годами жизни в деревне и пристрастием к вегетарианской пище. Другие — тем, что он окреп духом, внутренне себя нашел.
В молодости Ге многим знакомым казался почему-то стариком. «Красивый старик», «Старик с апостольской внешностью», «Старик с круглыми глазами» — так пишут люди, которые умели точно видеть. Скульптор Гинцбург вспоминает, как остроумием и открытой душой обворожил его, юношу, «красивый старик». Ге, когда он встретился с Ильей Гинцбургом, было тридцать девять лет. Сам Ге тоже смолоду именовал себя «стариком».
Может быть, зоркий глаз художника улавливал и в молодом лице черты будущей старости — бывают лица, на которых эти черты рано угадываются. Недаром Ге в Петре из «Тайной вечери» сумел написать себя таким, каким он стал через тридцать лет.
Может быть, впрочем, сказывалось и несколько странное возрастное положение Ге среди товарищей по искусству. Даже художники, начавшие новый период в русской живописи, — Перов, Крамской, Шварц — были младше его несколькими годами. С теми же, кто плечо к плечу прошел с ним всю творческую жизнь, разница в летах была и вовсе значительна.
Но вот ведь странность: молодого Ге воспринимали как старика, а когда он впрямь постарел, все вдруг заговорили о его молодости. «Молодой старик», «живой», «горячий». Начинающим художникам он казался «самым юным» в кругу своих сотоварищей.
В чем тут дело? Неужели только в свежем воздухе и растительной пище? Или это молодежь, его окружавшая, заставляла старого художника светиться отраженным светом?
В поиске — скорей всего, в поиске, живом и горячем, — секрет его непреходящей молодости. Юношам с каштановыми усиками казался стариком молодой Ге с большой и рано поседевшей бородою; но потом юноши стали мужами, сами завели седые бороды, все в искусстве им открылось ясно и определенно, они себя узнали и цену себе узнали, а этот Ге по-прежнему искал, сомневался, мучился, как сорок лет назад, увлекался и устремлялся, по-прежнему не мог остановиться, успокоиться.
Последние его картины по теме без труда укладываются в цикл, но, наверно, еще больше их объединяет нечто, подобное первооткрытию, при котором мы как бы присутствуем. Каждое новое полотно неожиданно, словно только что горячечно найдено; тревожная эскизность — лишь бы донести главное, не расплескать, но следующее полотно опять эскизно и тревожно, обстоятельная степенность уяснившего свои достоинства мэтра к Ге так и не пришла.
Когда художник на частной квартире в Петербурге показывал свое «Распятие», он не в силах был ждать пока зритель соберется с мыслями, выскажется, — убегал, как начинающий, как дитя, в прихожую и прятался у вешалки за цветастой ситцевой занавеской.
Тот же безостановочный поиск, та же немеркнущая новизна и в последних портретах, написанных Ге.
Их еще труднее, чем ранние, — да и надо ли! — разбивать на группы, систематизировать. В каждом новом портрете все по-новому. Гегель писал: «Не иметь никакой манеры — вот в чем состояла во все времена единственно великая манера». Это сказано в «Лекциях по эстетике», в главе «Прекрасное в искусстве как идеал».
Портрет Елены Осиповны Лихачевой: женщина за столом, заваленным бумагами. Аналогия с портретом Толстого тотчас приходит на ум. Но чем больше всматриваешься, тем беспокойнее чувствуешь — первое впечатление аналогии вытесняется ясной мыслью о контрасте. В портрете Толстого могучая голова писателя господствует на холсте. Размеры холста как бы не вмещают Толстого — локоть выехал за край, плечам тесновато. Елена Осиповна, маленькая пожилая женщина, свободно умещается в высоком кресле, а кресло — на холсте; еще место остается. Столик не рабочий, круглый: впрочем, Елена Осиповна и не работает, задумалась о чем-то, руки покойно сложены. Бумаг на столе побольше, чем у Толстого, но они не «продолжают» Елену Осиповну, наоборот, как бы скрадывают ее. Бумаги суетные — газеты; они отдаляют Елену Осиповну, владычествуют на столе. Лихачева — энергичный человек, поборница женского равноправия, в прошлом сотрудница «Отечественных записок». Ге ее хорошо знал. Салтыков Щедрин, который был с ней дружен, называл Лихачеву «начальницей женского вопроса». Елена Осиповна на портрете Ге — серьезный, умный и милый человек, но вопросы решать ей вряд ли дано.
Вопросы решают такие женщины, как Мария Николаевна Ермолова, — в ее портрете как бы слился в единое целое страстный порыв великой актрисы и художника, ее запечатлевшего. У Серова, который писал артистку через полтора десятилетия, Ермолова величественна, у Ге она — в полете. Она такая же устремленная, как он сам. В те годы она играла Федру, Дездемону, Офелию, Клерхен в «Эгмонте». Портрет стремителен — прекрасное мгновение, не остановленное живописцем. Портрет словно не окончен или вправду не окончен, но он завершен, — ни одного мазка не нужно больше.
Ге любил рассказывать молодым художникам истории о Карле Павловиче Брюллове, на которых когда-то сам вырос.
Однажды Брюллов сказал приятелю:
— На что тебе, чтобы я кончил этот портрет? Все, что есть самого важного, самого лучшего, — все уже там есть. Остальное же, весь «обман», я, пожалуй, кончу скоро, если время будет когда…
К счастью, у Ге «время нашлось когда»: в разгар работы над «Распятием» он вдруг отвлекся и написал автопортрет.
Ге называл его — «Мой портрет». Это не одно и то же — «Автопортрет» и «Мой портрет». «Мой портрет» — значительнее, глубже, интимнее. Есть же разница в словах «Автобиография» и «Моя жизнь».
Именно — «Моя жизнь». Знаем художников, неоднократно себя писавших; чтобы прочитать их жизнь, надо переходить от одного автопортрета к другому. У Ге задача потруднее. Он меньше чем за год до смерти запечатлел себя на холсте — он итог жизни подводил, он должен был сразу все сказать.
Правда, апостола Петра из «Тайной вечери» тоже не следует сбрасывать со счетов: хоть и трансформированный, но Ге. Голова апостола и «Мой портрет» сопоставляются без труда. Но апостол Петр — только дитя, седое дитя, на глазах которого впервые совершается предательство. Для него вся жизнь сосредоточилась в этой страшной минуте. Его наивное недоумение, ужас, гнев — все открыто до самого дна.
Ге с «Моего портрета» тридцатью годами старше апостола. Ге был свидетелем множества измен, на его глазах люди теряли убеждения, отказывались служить любви и добру. После ухода Иуды Христос сказал ученикам, что предстоят им суровые испытания. Этих испытаний, предсказанных учителем, Петр из «Тайной вечери» еще не прошел. У Ге с «Моего портрета» они позади. Он не разочаровался и не озлобился, он остался ребенком, «дитем», но это дитя проговорило накануне смерти: «Меня столько раз били, что я мог бы к этому привыкнуть. А все-таки больно, когда секут…» Учитель рисования Киевской гимназии, который помнил Николая Ге «всамделишним» ребенком, сказал ему, уже взрослому: «Друг мой, я знал, что ты будешь художником, но я боялся тебе это сказать, потому что это — путь страшный и тяжелый для человека…»
Апостол Петр из «Тайной вечери» еще не вышел с учителем в Гефсиманский сад. Ге с «Моего портрета» каждый день бродил по старому саду, подходил к одинокой могилке в тени тополей, потом возвращался в дом, где его собственные ученики, заезжие молодые художники, копировали Рафаэля или Микеланджело, которые умерли три с половиной века назад и не превратились в ничто; Ге с «Моего портрета», для которого любимая книга, Евангелие, завершалась распятием и который в воскресение не верил, постиг тайну бессмертия. Он постиг и судьбой своей доказал, что тот лишь, кто смел и терпеливо несет свои убеждения, приобретает жизнь вечную — у отступника «вокруг пустота», для него прошлое уже сегодня. Ге с «Моего портрета» постиг, что Сегодня жить для людей — это значит жить Завтра. Он бродил по старому саду, молча стоял у могилки, потом возвращался в дом и говорил шумливым и старательным молодым художникам, корпевшим над Рафаэлем:
— Мы сюда посланы, чтобы делать дело, мямлить некогда, нужно спешить, чтобы побольше сделать.
Ни в какую минуту, даже самую страшную, даже в минуту собственной кончины, уже не может уложиться для этого нового Ге вся жизнь. Потому что жизнь смертью не кончается. Ге постиг, что Будущее у него впереди.
Вот он и всматривается в Будущее — старик, чем-то подобный античным старцам и дедам с хутора Плиски, одновременно мудрец и дитя, «гениальный старый ребенок», как назвал его Толстой. Всматривается тревожно и уверенно, ласково и строго, пристально и со светлой надеждой всматривается — что-то будет?..
Что есть истина
Я люблю людей, верю, что они хорошие, и никакие промахи меня не излечат. Я лучше человека ничего не знаю и буду всегда верить: все, что моя радость, мое счастье, мое знание, — все от людей…
Н. Н. ГеДесять лет и одно мгновение
Старые часы пробили двенадцать раз.
Наступил тысяча восемьсот девяносто четвертый год.
В доме никого не было.
Николай Николаевич надел поверх вязаной фуфайки поношенный темно-красный халат, прошел в мастерскую.
В мастерской было холодно. Прямо над головой, в верхнем окне, висел месяц. Лунный свет, голубовато-белый, как разбавленное молоко, струился в комнату, длинным прямоугольником растекся на полу. Николай Николаевич задрал голову: в морозном густо-синем небе месяц сиял ясно и радостно. Должно быть, и нынче какой-нибудь франтоватый черт, пролетая сквозь трубу Солохиной хаты, зацепился ладункой и упустил обратно на небо украденный месяц. Николай Николаевич вспомнил Гоголя и засмеялся.
Ему было весело. Он не знал, что с первым ударом старых часов начался последний год его жизни. Впрочем, знай он это, ему, наверно, все равно было бы весело: сегодня, хотя нет, уже вчера, он закончил картину, которая десять лет жила в нем, не давала покоя, — и получилась сильнее, чем он сам ожидал.
Николай Николаевич зажег лампу «молнию», недавно приобретенную. Лампа загорелась ярко и тотчас вытеснила из мастерской призрачный свет месяца. Николай Николаевич хотел было затопить железную печку, но под руками — ни полена дров; он запахнул поплотнее халат, снял с гвоздя старую летнюю фуражку — прикрыть лысину — и уселся в кресло смотреть свою картину.
Картина была «Распятие».
Ге приступил к ней еще в 1883 году. Но тогда картина не была, видно, «сочинена», «устроена». По-настоящему Ге за нее взялся в следующем году, в 1884-м, сразу после портрета Толстого. В письме Анны Петровны к невестке от 20 февраля читаем: «Он затеял превосходную картину и пишет ее день и ночь буквально»[81]. Николай Николаевич сообщает Толстому, что «сочинил» страшную картину — «казнь Христа на кресте», Толстой, он уверен, ее одобрит.
Тогда Ге все было понятно, картина виделась, он даже срок себе поставил — решил окончить ее к передвижной выставке 1885 года. Анна Петровна, правда, тревожилась: «отец» картину «все еще меняет каждый день, не знаю, когда установится»[82].
Полгода прошло, — не «установилась». 6 сентября 1884 года Ге пишет сыну Петру: «Работаю по целым дням, — работа идет хотя и медленно, но я уже знаю по опыту, что нужно терпение. Еще вчера ночью переделал важную часть картины и хорошо переделал… Спасибо добрым людям, Коле и Григорию Семеновичу, они мне помогают, стоят добросовестно на натуре. Без них бы мне плохо было»[83].
«Добрые люди» заслуживали благодарности. Посреди мастерской был установлен грубый деревянный крест с перекладиной для ног и петлями для рук. На этом кресте Ге «распинал» Колечку или Рубана. Висеть на нем было тяжело, а Ге, как назло, долго ходил вокруг, примеривался. Рубан, изогнувшись, кричал:
— Плечи сводит! Не могу больше!..
Ге смеялся азартно:
— Такой ты мне и нужен!
Быстро водил карандашом — и, уже не глядя на Рубана:
— Слезай, слезай. Что нужно, я схватил…
В октябре он еще полагал, что поспеет с картиной к сроку. «Я работаю без устали и хотя еще много остается сделать, но многое сделано. Еще 2½ месяца мне остается времени, и я надеюсь окончить. Картина уже теперь такая, что делает хорошее впечатление…». Лишь в ноябре он понял: «Жаль мне, что я не успею окончить картину… Нужно сделать настоящее. Я и не ленился, да много нужно было сделать такого, что только дает время»[84].
Чтобы сделать настоящее, потребовалось десять лет.
За эти годы он переписал «Распятие» девятнадцать раз.
Скудные записи мемуаристов, наброски, эскизы подсказывают, как, изменяясь, прояснялся замысел. Первые варианты «Распития» зрелищны. Ужасная казнь: потрясти зрителя должна была не идея — сам факт.
Крест, поставленный на высокой скале. В невыносимых муках умирает Христос. Разбойников нет, только концы перекладин их крестов видны по краям холста. Внизу, под скалой, народ, расходящийся после казни. Мария Магдалина уцепилась за выступ скалы и как бы приподнимается на руках, не в силах оторвать взора от страшного зрелища. У подножия креста группа воинов делит одежду казненных. Главное на картине — голова Христа, запрокинутая в предсмертной судороге. Глаза, вылезающие из орбит. Открытый рот — черным провалом на пол-лица. Жуткий крик.
Этого крика сам Ге, наверно, испугался. Он вдруг перенес кресты куда-то на задний план. Зритель должен был увидеть казнь из-за разорванной занавеси храма. Стасов справедливо сопоставляет новый замысел с рисунком Иванова «Знавшие Иисуса и женщины, следовавшие за ним, смотрели издали на распятие». Ге отверг этот вариант. Признался: смысла распятия он пока не понял.
На уяснение смысла уходили годы. И вот что знаменательно: с каждым шагом художника к своему, настоящему, рядом с Христом, главным и, можно сказать, неизменным героем Ге, вырастал и укреплялся в картине новый герой, бесконечно далекий от идеала, неожиданный, — Разбойник.
Поначалу сюжет недалеко ушел от привычной евангельской истории. Холст как бы раздается вширь: разбойники оказываются теперь на картине. Образы этих несчастных товарищей Христа по Голгофе толкуются сперва традиционно. «Я пишу Распятие так. Три креста, один разбойник в бесчувствии, это тот, который ругался, затем Христос в последние минуты жизни, умирающий, и третья фигура разбойника, который пожалел Христа. Он сделал большое усилие, чтобы видеть Христа, и, видя его страдания, забыл свое и плачет, смотря на умирающего…»[85].
С каждым новым вариантом картины Разбойник, «который ругался», все меньше интересует Ге, в конце концов он поймет, что и вовсе без него обойдется, срежет его с полотна вместе с полоской холста, чтобы не мешал, не отвлекал зрителя от главного.
Идея противопоставления уступает место куда более важной идее — прозрения.
Меняются ракурсы, положения тел, формы крестов. Действие происходит то днем, то ночью. Вся композиция меняется множество раз. Распятые висят высоко, почти в небе… Но вот наброски — они уже сняты с крестов, лежат на земле, у их подножия…
Есть известное полотно Ге «Голгофа», по каталогу — «Неоконченная картина». Но это тоже вариант «Распятия» или, скорее, поиски его. Татьяна Львовна Толстая вспоминает: Ге долго бился над крестами и вдруг решил написать картину без них. Осужденных привели на Голгофу. Они стоят в ожидании лютой казни. Христос в отчаянии и ужасе сжимает руками виски. Слева — «нераскаявшийся разбойник»; он обнажен, подчеркнуто телесен, на лице ужас — но это физический страх перед будущими муками. Справа — «разбойник раскаявшийся», юный и печальный; он убит горем, оттого что жизнь прожита дурно. «Голгофа» написана с огромной силой, но противопоставление в ней слишком ощутимо. Принимаясь за «Распятие», Ге говорил, что заставит зрителей «рыдать, а не умиляться». Зарыдать можно и от «Голгофы». Но Ге дальше пошел; ему мало «заставить рыдать», он высказаться хочет.
Он ищет не композицию — ему нужно живое и полное выражение идеи.
На нескольких эскизах дух уже умершего Христа целует разбойника, тело Иисуса висит на кресте. Здесь идея выпирала, ломала реальную форму. Эскизы оказались нужны лишь для уяснения смысла будущей картины, но писать по ним картину Ге не стал. Ге сказал, что вариант «легендарен» и оттого «не хорош».
Однажды Ге почти окончил картину. На фоне совершенно темного неба высокие Т-образные кресты. Изломанный страданиями Христос. Остро согнутые и сведенные в агонии колени. Застывшая маска искаженного последним криком лица. И рядом — невероятным усилием выпрямившийся, словно вставший на весу Разбойник скорбно смотрит на умершего. В этом варианте Ге выполнил задачу. Но он большего хотел, а тут еще будоражащее письмо от Толстого: «У меня есть картинка шведского художника, где Христос и разбойники распяты так, что ноги стоят на земле».
Ге встрепенулся: у него давно была мысль так сделать, но «искал оправдания» — вопреки всем традициям, поставить Христа ногами на землю даже для него чересчур смело. В ожидании «картинки шведа» Ге роется в словарях, в исторических пособиях, находит какие-то туманные сведения, уже оправдывает себя — ну конечно, надо поставить казненных на землю; «картинка» от Толстого не пришла еще, а у Ге готов новый вариант: Христос и разбойники не висят, они стоят, привязанные к низким крестам.
«Картинку» Ге получил в ноябре 1892 года, но поиски не кончились, куда там! В мае следующего 1893 года он пишет, что до сих пор, оказывается, лишь «примеривался к своей работе», зато теперь «кажется, я нашел наконец»[86]. Но это только «кажется» — он еще полгода будет мучиться, он-то ведь знает, что значит найти: это когда «и радостно, и страшно — все, что встречает, ново, неведомо, а вместе с тем этого-то и ищешь»[87].
Пройдет еще несколько томительных месяцев, пока всколыхнет его счастливое «вот именно это и есть». За последние шесть недель 1893 года Ге написал наконец свое «Распятие». «Довел до точки, далее которой уже идти нельзя».
…Кутаясь в халат, он сидит в холодной мастерской и при ярком свете лампы «молнии» рассматривает картину.
Несколько лет искал он в заученном наизусть Евангелии нужный стих, от которого хотел оттолкнуться. Нужного стиха он, кажется, не нашел.
Он смотрит на картину и чувствует, что не Христос — Разбойник все прочнее приковывает его взгляд. Разбойник стал неожиданно центром картины, как бы оттеснил в сторону стоящего в центре Христа. Разбойники же в Евангелии не говорят стихами.
Он смотрит на уродливую с набухшим животом и узкими вывернутыми плечами фигуру Разбойника, уродливо, пятками врозь, стоящего у креста, на его бритую голову, оттопоренные уши, вытаращенные глаза, широко разинутый рот, испускающий звериный рев, — смотрит и вспоминает последние минуты Анны Петровны.
…Он вышел из комнаты и вдруг каждой клеточкой ощутил, что Анечка умирает, что он должен успеть сказать ей нечто, самое главное, быть может, — сказать, что он с ней. Он бросился обратно в комнату. Анечка лежала недвижимо. Он схватил ее руку и тотчас понял, что не успел. Это было самое страшное тогда. И он начал орать, дико и бессмысленно.
…Скоро сотни зрителей увидят «Распятие», увидят Разбойника, который заорал дико и бессмысленно оттого, что рядом умер на кресте невзрачный, тщедушный и, в общем-то, тоже безобразный внешне человек, который не сумел спасти от мучений ни себя, ни его. И если раньше образ Христа на картинах Ге вызывал бесконечные нападки, то теперь некоторые начнут заступаться за Разбойника: почему духовное возрождение художник раскрыл во внешнем безобразии?.. Они захотят красивого и благостного Разбойника, как хотели прежде красивого и благостного Христа.
Но Ге непреклонен, как и прежде. Беседуя со зрителем, он расскажет им жизнь человека, который родился прекрасным — все рождаются прекрасными, — но вырос в мире зла и несправедливости. Его сызмальства учили, что надо грабить, мстить, ненавидеть, и самого его грабили и ненавидели, мстили ему… Он все человечество рад бы распять за то, что вывернули его на кресте. Он всех людей ненавидел, как все они ненавидели его. И вдруг за минуту до смерти он слышит слова любви. И от кого? От такого же, как он отверженного и распятого, который должен был бы вместе с ним весь белый свет проклинать в это мгновение. Эти слова все в Разбойнике перевернули. Он жаждет их снова слышать. Он тянется со своего креста к тому, кто их произнес. Он в ужасе кричит, зовет его. Не успел.
Кое-кому хочется, чтобы Разбойник прозрел красиво. Но разве к тому, кто воспитан в мире зла и насилия, прозрение приходит легко и красиво?
Ге под влиянием Толстого увлекался в те годы Мопассаном. Он напомнит своим слушателям рассказ Мопассана «Порт». Когда матрос Селестен узнал родную сестру в проститутке, с которой проводил время в кабаке, разве лил он тихие слезы, умиленно перерождаясь? Нет, обновление пришло к нему в диком припадке бешенства — он ругался, стучал кулаками, катался по полу, орал, хрипел. Товарищи хохотали — до чего же нализался Селестен! — а в грубом матросе новый человек просыпался в эти минуты.
Ге расскажет слушателям, как в деревне, по соседству с Плисками, случилось убийство: брат убил брата…
— Я побежал туда, куда шли все. У входа в избу мне показали труп убитого. Убийца был в избе, и народ не решался туда входить. Когда пришли понятые, я вошел вместе с ними. Убийца стоял в углу. Почему-то совершенно голый, вытянувшись, он топтался на месте и ноги держал как-то странно — пятками врозь. При этом он всхлипывал и твердил одно и то же слово: «водыци… водыци…». В этом безобразном человеке просыпалась совесть. Он мне запомнился. Он мне пригодился для моего Разбойника…
Ге не сумел подобрать в Евангелии стиха для своего Разбойника. Но когда Разбойник выдвинулся в центр картины и закричал, Ге сам высказался, без Евангелия. Христос окончательно превратился в земной идеал. Ге говорил о том, что нужно успеть с прозрением раньше, чем за минуту до смерти. В душе он надеялся, что «сотрясет все их мозги страданием Христа», что сотни «разбойников» подвинутся к прозрению, увидя его картину.
…Через полтора месяца художник Ге, красивый, помолодевший старик, появится на выставке и в петербургских салонах, будет, окруженный толпой, без устали говорить о жизни, об искусстве, произносить речи, читать воспоминания… А пока он сидит один, в холодной мастерской, перед своей последней картиной. Вообще последней. Больше картин не будет.
Надо было прожить всю жизнь, чтобы ее написать.
И стоило прожить.
Отношения со временем
В начале февраля Ге повез картину в Петербург.
Морозы в ту зиму стояли сильные — за двадцать градусов. Санный путь до станции был накатан. Отъехали версты две, у Николая Николаевича начали мерзнуть ноги. Он соскочил с саней, пошел рядом. В санях лежала упакованная в ящик картина, потертый дорожный баул. В поле Ге обернулся: хутор уже скрылся из виду, только черные верхушки тополей на неподвижном белом небе.
Ге не знал, что с хутором у него теперь все покончено. Через четыре месяца он возвратится сюда — умереть. Тополем после смерти ему не обернуться: землю вокруг могил его и Анны Петровны распашут под огороды. Последняя картина из жизни Христа написана. Христос умер. Про воскресение Ге писать не собирается. В воскресение он не верит. Он верит, что надо хорошо жить для людей, тогда после смерти его продолжат другие.
«Распятием» Ге естественно и закономерно увенчал свою жизнь. Не всякому это удается, умереть так, чтобы жизнь оказалась цельной и завершенной, не оборвалась внезапно и не тянулась без надобности, когда человек уже пережил себя.
Что стал бы делать Ге после «Распятия»? Трудно гадать, удалось бы ему добавить что-либо к тому, что он сказал. Похоже, что он, помучившись, нашел бы в искусстве новую дорогу.
Поздней осенью, когда Ге работал над «Распятием», Толстой писал ему: «Я не перестаю жалеть о том, что вы оставили тот план — ряд картин евангельских». Ге незадолго перед тем составил план, в котором были «Вечер у Лазаря», «Несение креста». В его письмах встречаем и другие замыслы. Толстому казалось, будто Ге боится, что не успеет довести эти замыслы «до известной нужной степени технического совершенства»; он уговаривал художника ограничиться эскизами, лишь бы сказать свое. Он сравнивал работу Ге с выпечкой белого хлеба «из первого сорта муки», который любят господа, тогда как отруби, «в которых самое вкусное и питательное», выбрасываются. Толстой уговаривал Ге выпекать хлеб из отрубей. Но для Ге дело, наверно, было не в технике.
Может быть, объясняя Толстому, почему он оставил свой план, он и впрямь верил, что не успеет.
Но он не мог не чувствовать, хотя бы смутно, что после всего написанного от «Тайной вечери» до «Распятия» нового, настоящего, на старой дороге ему уже не отыскать.
Незадолго до смерти он говорил молодым художникам:
— Я теперь хочу поближе к лаптю, к низам, к людям труда. Сейчас я заканчиваю давно начатый цикл из жизни Иисуса, потом перейду на другое… Довольно!
Что «другое» открыл бы для себя Ге, сказать невозможно. Связи его творчества с современностью были прочны, но сложны, не прямолинейны. В пору бурного наступления реалистического искусства самой злободневной оказалась его академическая по сюжету «Тайная вечеря». Когда перед художником открылось широкое поле изображения сегодняшней действительности, он стал искать идеалов в истории. Участвуя вместе с передовыми своими современниками в «срывании всех и всяческих масок», он обратился к легенде о страданиях и смерти Иисуса Христа. Всю жизнь он честно защищал Брюллова от нападок, называл его в числе любимых своих художников, и критики, отвергавшие Брюллова, находили в картинах Ге следы «брюлловщины». Однако после смерти Ге выяснилось, что он не умер, как умер для следующего поколения Брюллов, — в начале нынешнего века некоторые критики даже провозгласили Ге предтечей новой русской живописи. Говоря о современности, мы часто имеем в виду целый отрезок Времени, иногда весьма значительный, измеряемый годами и даже десятилетиями. Сложность мировосприятия Ге в том, что он не измерял время отрезками, а ощущал его, как непрерывное движение. «В одну реку нельзя войти дважды».
Поэтому, вовсе не отрицая Иванова, он сказал, что «Явление Мессии» на несколько лет запоздало, и вызвал этим многолетние нарекания. Поэтому, любя Шекспира, он принимал критику Толстого: того, что нужно Толстому, у Шекспира нет, да и быть не может. Поэтому, будучи проповедником толстовского учения, Ге удивлял молодежь податливостью к новым веяниям, горячим желанием их понять. Поэтому он каждую картину начинал по-новому, стараясь вытряхнуть из головы «сорокалетний хлам».
Многие художники, пришедшие в искусство позже Ге, найдя себя, не то что не могли, но считали своей обязанностью не изменяться. Ге не остался «человеком времени Белинского», которому поклонялся, не остался «человеком времени Герцена», который был его кумиром, не остался и «человеком круга Некрасова и Салтыкова-Щедрина», которых глубоко уважал. Он пришел к Толстому, потому что настало время, когда это учение Толстого оказалось для него ближе и нужнее, чем всякое другое. Мы можем, не принимая во внимание склад ума и характера Ге, считать это его слабостью. Мы обязаны, однако, учитывать, что само толстовское учение — не случайная игра ума, а «идеология, неизбежно появляющаяся» в определенную эпоху, в свое Время. Мы обязаны, наконец, учитывать, что искусство Ге питали не столько идеи непротивленчества и пассивизма, сколько мысли и творения «горячего протестанта, страстного обличителя, великого критика»[88].
Репин, увидев «Суд синедриона», написал Толстым, что первосвященник Каиафа на картине — портрет Льва Николаевича («интересно, случайно или нарочно»). Каиафа, шествующий в центре толпы мимо оплеванного Христа, в самом деле портретно похож на Толстого. Репин пишет иронически, но, случайно или нарочно, получилось такое у Ге — получилось великолепно. Это свидетельствует не об измене Толстому, а о том, что и его учение было для Ге лишь учением своего Времени, далеким от идеала. Ужасно было бы, если бы Ге изобразил в виде Толстого самого Христа.
Вот эта подвижность Ге, беспрестанно и безостановочно ищущего, и в творчестве и в жизни, привела к тому, что на всех путях хула и хвала были его неизменными спутниками. Случалось, они раздавались из одних и тех же уст. Немудрено! Горячие приверженцы, идеологи и защитники своего отрезка Времени принимали Ге, когда в своих исканиях он приближался к найденному ими идеалу и страстно обрушивались на художника, едва он отходил в сторону, чтобы найти иной, свой.
Владимир Васильевич Стасов рассказывает в своей книге о Ге, что у него с художником никогда не прекращались «самые симпатичные личные отношения». Личная симпатия не помешала известному критику после «Тайной вечери», после «Петра и Алексея», после «Что есть истина?» и «Суда синедриона» писать Репину: «…младенец и идиотик, сама ограниченность, Ге…» Через два года Стасов писал Толстому, что, хотя идеал Ге «вовсе не мой идеал», это ничуть не мешает ему «глубоко любоваться» художником: «Ге был один из „малых сих“, незлобливый и чистый душой, как ребенок, не знавший ни сердцов, ни озлобления, ни мщения, ни преследования других, ни чванства, ни жала самолюбия, ни всего того, что нас мучит и тиранит с утра до вечера». Стасов написал книгу, в которой, при всех оговорках, высоко оценил Ге — «сложную натуру, полную совершенств, но и недочетов, блестящих качеств, но и достойных всякого сожаления несовершенств, всегда полную жара душевного, стремления к истине и глубоким источникам жизни». Собирая материалы для книги, Стасов писал Толстому, что прежде не считал Ге «особенно большим художником, хотя, знавши давно, чувствовал его чудную душу и светлое сердце», но что в последнее время Ге «затянул такую ноту, которая обещала в близком времени превратиться, пожалуй, в ноту великую». В своей книге, уже в предисловии, Стасов защищает Ге от критики Репина. Но вскоре после того как книга увидела свет, он опять пишет тому же Репину, от которого защищал художника, что Ге «ничего не смел, ничего не умел и только всего пробовал, всего понемножку лизал, и только все рассказывал про себя и свои великие предприятия и затеи…».
Вряд ли кто-нибудь упрекнет Стасова в неискренности. Отношение Стасова к Ге в полной мере раскрывает его книга о художнике. Противоречивость Стасова — от противоречивости Ге. У Стасова был свой идеал, которому он страстно служил всю жизнь. Поиски Ге и тот идеал, которому он хотел служить, слишком часто были чужды Стасову.
Впрочем, «Распятие» Стасов принял: «…решительно высшее и значительнейшее „Распятие“ из всех, какие только до сих пор появлялись…» Последняя картина Ге вообще была принята с единодушием, какого он не помнил со времени «Тайной вечери» и «Петра и Алексея». Ге мало осталось жить, но торжество «Распятия» ему суждено пережить.
…С помощью Колечки и возницы Николай Николаевич втащил ящик с картиной в широкую дверь багажного вагона. Горячо расцеловался с провожающими, смахнул варежкой радостные слезы. Взял из рук Колечки старенький баул и, путаясь в полах пальто, полез в вагон третьего класса. Резко прозвонил заиндевевший вокзальный колокол. Поезд тронулся.
«Для вас я это делал»
По дороге в Петербург Ге, как обычно, заехал в Ясную Поляну. Толстой давно хотел видеть «Распятие», картина ему даже снилась однажды. Собрался, отправился вместе с Ге в Москву.
Картина была распакована, стояла в частной мастерской. Толстой вошел. Ге испугался — остался за дверями. Примостился на старом стуле с продранным сиденьем, закрыл лицо руками. Толстой долго не выходил.
Двери раскрылись медленно, тяжело, как в судилище. Толстой стоял на пороге, маленький старик, — плакал. Ге бросился к нему. Обнялись. Оба седобородые, старые. Стояли, не разнимая рук. Толстой твердил: «Так оно и было. Так оно все и было…» Потом, толкаясь в дверях, вместе протиснулись в мастерскую.
Толстой сказал:
— Этого дрожащего разбойника я давно знаю и жду.
Ге вынул из кармана большой желтый платок, утер слезы со щек, с бороды. Начал объяснять, как нашел своего Разбойника. Сперва сбивчиво, волнуясь, но скоро одушевился и заговорил гладко и красиво, как всегда.
Через несколько месяцев Толстой снова увидел «Распятие», когда Ге в мастерской Касаткина показывал картину молодым художникам. Ге по-прежнему волновался, прятался в передней. Кто-то из молодых громко спросил:
— А «Воскресение» будет?
Ге крикнул из передней:
— Это же и есть «Воскресение». «Распятие» или «Воскресение». Только вы ждете, что воскреснет Христос, но он умер. Воскрес в последнюю свою минуту Разбойник. Стал Человеком!..
Тот же художник спросил:
— Да так ли оно было?
— Вот, вот, именно так. Так оно все и было, — убежденно отвечал Толстой.
До отъезда в Петербург Ге с Толстым успели побывать в Третьяковской галерее. Там висело «Распятие» другого художника, написанное в традиционной манере. Ге остановился перед картиной в недоумении. Особенно удивили его ангелы с большими крыльями. Он все повторял растерянно и даже как-то испуганно: «Нет, вы мне скажите, зачем тут птицы-то, птицы-то эти!..»
26 февраля Ге двинулся с «Распятием» дальше, в столицу. Толстой провожал его. В тот же день он писал детям: «В 4 часа проводил Н. Н. Ге на железную дорогу. Они едут вместе весело, Касаткин, Пастернак, Левитан».
Выставки передвижников открывались в воскресенье первой недели поста. На первой неделе поста царь говел, в субботу причащался и после завтрака с семьей ехал на выставку, чтобы накануне открытия осмотреть ее и приобрести картины, которые ему понравятся. Главным советником царя по делам изобразительных искусств был его брат, великий князь Владимир Александрович, занимавший должность президента Академии художеств, а заодно главнокомандующего войсками гвардии и Петербургского военного округа. Мясоедов называл высочайшего «покровителя искусств» жандармом — и словно провидел: 9 января 1905 года Владимир Александрович был один из главных «героев» расстрела рабочих у Зимнего дворца.
Сейчас трудно установить, кто первый сказал про «Распятие» Ге — «Это бойня!». Царь ли произнес гневные слова, а Владимир Александрович повторил, или принадлежали они великому князю, но были подхвачены Александром III. В обществе их разнесли, как «царские слова»; картину запретили до открытия выставки.
«Это бойня!» — сказано крепко, со страстью. Картина, похоже, и в самом деле произвела впечатление, «потрясла». Но потрясенные «разбойники» не захотели раскаяться, они попросту убрали картину с глаз людских.
Но, быть может, именно это и оказалось наиболее знаменательным, — что «разбойники» не раскаялись? Толстой писал Ге: «То, что картину сняли, и то, что про нее говорили, — очень хорошо и поучительно. В особенности слова „Это — бойня“. Слова эти все говорят: надо чтобы была представлена казнь, та самая казнь, которая теперь производится, так, чтобы на нее также было приятно смотреть, как на цветочки. Удивительна и судьба христианства! Его сделали домашним, карманным, обезвредили его и в таком виде люди приняли его и мало того, что приняли его, привыкли к нему, на нем устроились и успокоились. И вдруг оно начинает развертываться во всем своем громадном, ужасающем для них, разрушающем все их устройство значении. Не только учение (об этом и говорить нечего), но самая история жизни, смерти вдруг получает свое настоящее обличающее людей значение, и они ужасаются и чураются. Снятие с выставки — ваше торжество».
Слова Толстого, что настоящее значение евангельской истории в обличении, — ключ к последним работам Ге.
А то ведь удивительно: в искусстве господствует обличительный жанр, а с выставок изгоняют «религиозные» полотна Ге: «Что есть истина?», «Суд синедриона», «Распятие».
Люди увидели «Распятие». Много меньше людей, чем могло увидеть, — но увидели. Известный математик и педагог Александр Николаевич Страннолюбский и жена его, Елена Ивановна, предоставили художнику для показа картины свою квартиру. «Моя выставка на Гороховой», — говорил Ге.
Шли люди разных чинов и сословий. Их пускали в квартиру по запискам самого Ге; он называл эти записки «именными билетами». Выдавал он билеты без особого разбору — иначе чем объяснить появление на Гороховой и царских прокуроров и рабочих из революционных кружков. Репрессий Ге не страшился. Искусство, человеческая мысль и самодержавная цензура были для него вещами несовместными. Он писал своим друзьям Костычевым, что любит в них людей «нецензурных», людей, не пользующихся «пищей, которая давно сложена», а ищущих и делающих новые запасы. Он говорил, что «художник всех родов», творя, «не может иметь в виду цензуру, потому что он может пропустить именно то, на что он родился со своим даром», и приводил в пример Чаадаева, Грибоедова, Белинского, Герцена, Толстого. «Распятие» было для Ге «именно то, на что он родился со своим даром». Ни политические условности, ни художественные традиции Времени не могли его остановить. «Искусство имеет жизнь свободную, независимую, и старалось, и старается теперь везде освободиться от зависимости, но освобождение будет не в понижении идеала, а, напротив, в росте идеала! Вот эта задача выпала и мне, и я считаю себя обязанным это сделать, потому что я это люблю больше всего. Не делать это — было бы для меня горесть…».
Шесть недель стояла картина на Гороховой. На первой неделе ее видело 73 человека, на второй — 91, на третьей — 165, на четвертой — 228, на пятой — 610, на шестой — 235; всего же 1402 зрителя познакомились с «Распятием». Этот подсчет сделан согласно выданным запискам, но он, скорее всего, неточен. Есть основания предполагать, что в квартире побывало немалое число «безбилетников». Елена Ивановна насчитала лишь восемнадцать человек, которые резко осудили «Распятие» за «антирелигиозное направление».
Сам Ге находился при картине почти неотлучно — рассказывал посетителям, как писал ее, разъяснял ее смысл. Многие подходили к Ге со словами благодарности, обнимали его. «Для вас, для вас я это делал», — взволнованно говорил он в ответ.
Трижды побывала на Гороховой молодая учительница вечерней воскресной Смоленской школы Надежда Константиновна Крупская. Она познакомилась с Ге, слушала его объяснения к «Распятию», его импровизированные лекции об искусстве, в которые, как правило, перерастали эти объяснения. Крупская вспоминает: Ге чаще говорил не «как толстовец», а «как художник».
Крупской понравилась простота Ге, его доброжелательность (он и о чужих картинах «хорошо говорил»).
Публика собиралась пестрая — студенты, врачи, педагоги, военные, чиновники, заглядывали дворники, швейцар, прислуга.
Надежда Константиновна решила привести своих учеников, рабочих, посмотреть «Распятие». Некоторые ее отговаривали:
— Что даст рабочим эта картина?
Картина рабочим понравилась; «произвела впечатление» — пишет Крупская. Один из них, Фунтиков, стал рассказывать Ге, как он понял «Распятие». «Какими-то судьбами выплыли на сцену капиталист и рабочий, рабочее движение, социализм. Внешне это было нелепо, но внутренне, логически — осмысленно. И то, что хотел сказать Фунтиков, поняли и его товарищи, сочувственно поддержавшие его. У Н. Ге заблестели слезы на глазах, он взволнованно обнял Фунтикова и говорил, что он именно это-то и хотел сказать картиной. Ученикам он подарил снимки с картины и надписал на каждом: „От любящего Ге“. И позднее, когда учеников арестовывали по разным поводам, жандармы удивлялись, находя у них эти снимки с надписью. Потом Ге говорил, что он хотел бы, чтобы его картина стала народным достоянием и была выставлена в какой-нибудь галерее, которая будет посещаться массами».
Завершая рассказ о «Распятии», Крупская добавляет:
«Я видела эту картину потом в Женеве[89]. Одиноко и никчемно стояла она в зале, и недоуменно смотрели на нее проходящие в шляпах и перчатках. А я вспомнила ту обстановку, в которой видела эту картину, вспомнила своих учеников»[90].
Добавление очень важно. Оно, впрочем, как и весь рассказ, остро свидетельствует, что писал Ге для своего Времени и для своего народа.
Часы бьют новый век
Последний месяц жизни начался для Ге речью на Первом съезде художников и любителей в Москве.
Он приехал в Москву из Петербурга утомленным и не вполне здоровым. Шесть недель, проведенные возле картины, публичные беседы, вечера, насыщенные встречами, давали себя знать. «Распятие» он привез с собой и сразу начал подыскивать помещение, чтобы показать картину москвичам.
Татьяна Львовна Толстая уговаривала его появиться на съезде, выступить.
— Нет, Таня, мне там нечего делать. Там председательствует великий князь.
Татьяна Львовна не отставала:
— А по-моему, вам следует там быть. Вы один из учредителей передвижных выставок, вашего брата мало уж осталось, вы могли бы молодежи сказать что-нибудь полезное.
Утром тридцатого апреля, в день последнего заседания съезда, Ге согласился выступить. Льву Николаевичу он объяснил:
— Таня мне велела говорить на съезде художников, и я сегодня ночью решил, что я это сделаю.
После обеда они поехали в Исторический музей, где шло последнее заседание. Великого князя не было. Ге поначалу еще не воодушевился, вяло ответил на несколько поклонов; они незаметно вошли в зал и пристроились в гуще публики, поодаль от сцены. Кто-то уже выступал, Ге уселся поудобнее, стал слушать. Татьяна Львовна, боясь, чтобы он не раздумал, послала к председателю сказать, что Ге здесь и что он хочет говорить. Подошел распорядитель, чтобы проводить Ге на кафедру.
Художника встретили громом оваций, шумными возгласами. Краска волнения и радости прилила у него к лицу, молодо заблестели глаза, легкие серебряные волосы, точно наэлектризованные, приподнялись вокруг лысины. В сильном несмолкаемом шуме он произнес первые слова. Все стихло.
Ге по-домашнему положил оба локтя на кафедру:
— Все мы любим искусство…
И снова взрыв, как будто он бомбу бросил в зал, а не простые человеческие слова, — так неожиданно было это «Все мы любим искусство» после раздававшихся несколько дней официальных «Милостивых государынь и государей», так неожидан был после парадных фраков и крахмальных манишек сам старый художник в поношенном пиджаке и деревенской холщовой рубахе.
— Мы все любим искусство, — говорил Ге, — мы все его ищем, мы все его открываем и остаемся ненасытными. Все нам хочется верить, что оно еще многое и многое, может быть, откроет…
Вечная ненасытность — открывать новое там, где, казалось, все исчерпано, — вот в чем смысл духовной работы художника. Ге вспоминал тех, кто творил до него — Иванова, Федотова, тех, кто шел с ним рядом, — Перова, Крамского, Флавицкого, Васильева, Прянишникова. У каждого по-своему, и у всех одно: бесконечный поиск, недовольство тем, что найдено, и снова — поиск.
Ге говорил о том, что чувствовал всю жизнь, но до конца понял только в последние годы.
О том, что идеал, к которому стремится всякий настоящий художник, — не есть застывшее, неподвижное: найди и будешь счастлив! Идеал слит воедино с Временем, движется, изменяется и развивается вместе с Временем. Нельзя воскликнуть: мгновенье, ты прекрасно, остановись! Не мгновенье остановится — ты сам остановишься, окажешься позади. Узнать, что есть Истина, способен только тот, кто, не останавливаясь ни на мгновенье, ищет ее, стремится приблизиться к ней — и заведомо убежден при этом, что не откроет всего Идеала, всей Истины, что он только пролагает путь для идущих следом.
— …Ни картины, ни мрамор, ни холст, никакие внешние стороны искусства не дороги, а дорога та разница, которая показана между тем, чем мы должны быть, и тем, что мы есть.
С кафедры Первого съезда художников говорил человек, который через месяц уйдет из жизни. Он говорил в нелегкое, непростое для русского искусства время. 1894 год. Новый век с его новыми требованиями на пороге.
Толстой незадолго до съезда писал Ге, что близится «конец века сего» и наступает новый. Толстой, как и Ге, не боялся этого нового века, который и его, Толстого, опередит, обгонит, оставит в прошлом: «И мой век здесь кончается и наступает новый. Все хочется торопить это наступление, сделать по крайней мере все от себя зависящее для этого наступления. И всем нам, всем людям на земле только это и есть настоящее дело… И себе никто ничего приписывать не может, и всякий может думать, что от его-то усилий и движется все…»
С кафедры съезда Ге благословлял наступление нового века и радовался движению Времени.
Не все уловили новое, поняли новые пути. Некоторые цеплялись за старое, некоторые приняли новые веяния за новые требования, спешили разделаться с тем прошлым, с которого начиналось будущее. Началось брожение в передвижничестве вообще, в умах и душах многих передвижников.
Стасов безуспешно пытался удержать Репина в Товариществе, развенчивал лозунг «искусство для искусства», который Репин сделал теперь своим и о приверженности которому заявлял публично. Через три недели после съезда Репин напишет резкое письмо Стасову — бурно назревавший разрыв состоится.
В тот же день Ге напишет и не отправит менее известное, но, пожалуй, не менее значительное для русского искусства письмо Павлу Михайловичу Третьякову.
На съезде Ге сказал добрые слова о Павле Михайловиче — такие люди учат общество, как нужно относиться к художнику[91].
Ге произнес добрые слова о Третьякове, уже зная отзыв собирателя о «Распятии». Третьяков «Распятия» не понял. Ге хотел встретиться с Павлом Михайловичем, поговорить подробно, но не получилось. В те дни Москва широко праздновала передачу Третьяковской галереи городу, собирателя одолевали приветствиями.
Нелицеприятный разговор был бы неуместен.
Но не сказать, тем более после похвальной речи, Ге тоже не мог — он, по меткому слову Лескова, способен был говорить всякому правду, не ощипывая ее кому-либо в угоду.
Двадцать первого мая, находясь уже в Киеве, Ге написал Третьякову горячее письмо, но… не отправил. Наверно, не хотел омрачать праздника Павлу Михайловичу. Наверно, думал, что еще успеет… Не успел.
Прочитаем письмо, которое так и не получил адресат. Это вообще последнее письмо Ге, это его завещание.
«…Хотел я еще вас видеть, чтобы разъяснить отдельное слово, которое вы мне вскользь сказали по поводу моей последней картины „Распятие“… Сказали, что она не художественна. Это слово старое, но его не было среди нас все время широкого могучего роста русского искусства. Оно и не могло быть, так как его нельзя сказать о художестве живом. Оно является как протест против живого движения искусства. Ежели бы Идеал Искусства был бы постоянен, не изменяем, тогда бы по сравнению с ним можно было бы сказать, что такое-то произведение не художественно, а так как идеал движется, открывается и все становится новым, новыми открытиями и усилиями художников, то такое слово является протестом отброшенного устаревшего бывшего идеала. Что это так, то стоит вспомнить, что такое понятие „не художественно“ было приложено к Иванову, Федотову, Перову, Прянишникову, Флавицкому, ко мне, Крамскому („Христос“), Шварцу, Репину („Иван Грозный“) и почти ко всем, которые делали что-нибудь новое, живое. Это же было и есть по отношению других искусств. Литература (Гоголь, Достоевский, теперь Толстой). Музыка (почти вся). Я хотел лично с вами об этом побеседовать, но не удалось — все равно пишу. Если бы это сказал другой, я пропустил бы, но от вас, которого люблю, мне было больно услыхать это слово, — от вас, сделавшего так много для живого искусства. Это слово не наше, а наших врагов. Оно противоречит всей, и вашей, и нашей деятельности. Я уверен, что вы это сообщение с моей стороны примете тем, что оно есть и для меня, как беседу искренно вас любящего и уважающего Николая Ге».
После письма у Ге осталось всего десять дней.
По дороге из Москвы в Киев он заехал в Ясную Поляну. Последний раз. Через десять дней в Ясной Поляне получат печальную телеграмму. Татьяна Львовна и Маша не найдут в себе сил сообщить о ней отцу, попросят Софью Андреевну. Когда Лев Николаевич войдет в комнату, она скажет: «Вот они, как всегда, поручили мне неприятную обязанность…» Лев Николаевич только через несколько дней составит ответ: «Не могу привыкнуть к нашему несчастью, потеря огромная для всех, особенно для тех, которые, как мы, избалованы были его любовью. Как, отчего? Толстой». Потом, подумав, исправит «не могу» на «не можем» и подпись на — «Толстые»…
В Киеве Ге провел несколько дней, встретился с молодежью.
Он заехал в Нежин, к сыну Петруше, погостил недолго. Первого июня, после обеда, позвали извозчика. Николай Николаевич погрузил в фаэтон бережно увязанный рогожный мешок — он купил для хуторского дома новые часы с боем. Расцеловал сына, невестку Екатерину Ивановну, внуков. По дороге на вокзал весело шутил с извозчиком Поляковым.
В Плиски поезд прибыл поздно вечером. На станции Николай Николаевич нашел подводу знакомого крестьянина — Трофима Лютого. Поехали вместе. Говорили про урожай, про погоду: прошел сильный дождь и примял к земле молодые колосья. Дорога была тряская. Трофиму было холодно, а Николай Николаевич расстегнул ворот, вязаным шарфом утирал лицо.
На хутор явились около полуночи.
Николай Николаевич постучал в окно и весело крикнул:
— Не стыдно уже спать? Вставайте!
Ге любил, чтобы его весь дом встречал. Должно быть, думал, что сейчас усядутся вокруг стола, он будет за чаем рассказывать до утра про Петербург, про Москву, про картину, про съезд.
Колечка выбежал на крыльцо, взял из рук отца мешок.
Вошли в дом. Николай Николаевич шел впереди, Колечка нес за ним вещи и светил лампой. У себя в комнате Николай Николаевич сел к столу, на котором накопилось много писем. Колечка хотел зажечь лампу «молнию», стоявшую на столе, но отец остановил его:
— Не надо. Мне дурно.
Колечка помог ему лечь, крикнул Зою, чтобы растворила окно и принесла воды. Ему намочили голову холодной водой, стали растирать руки и ноги. Николай Николаевич молчал, не говорил ничего, только стонал и пристально смотрел в одну точку, словно увидел что-то, не открывшееся другим.
Колечка побежал на конюшню — послать верхового за доктором. Николай Николаевич крикнул — никто не понял что. Когда сын вернулся, он метался, задыхаясь.
Прошло минут десять всего как он приехал.
Ге даже умирал устремленно.
Неожиданно стали бить новые часы, которые он привез с собою.
Они били двенадцать.
Новые часы били полночь и одновременно начало завтрашнего дня.
Ге этот день уже не увидит. Но он останется в этом дне.
За распахнутым окном было бесконечное темно-синее небо. На старых тополях, сверкающих в лунном свете, весело шумела молодая листва.
Список иллюстраций
На фронтисписе
Н. Ге. Автопортрет («Мой портрет»), 1893. Киевский музей русского искусства.
Цветные в тексте
1. Тайная вечеря. 1863. ГРМ.
2. Закат на море в Ливорно. 1862. ГТГ.
3. Мария, сестра Лазаря, встречает Иисуса Христа, идущего к ним в дом. 1864. ГТГ.
4. Портрет неизвестной в голубом платье. 1868. ГТГ.
5. Портрет М. Е. Салтыкова-Щедрина. 1872. ГРМ.
6. Портрет Н. А. Некрасова. 1872. ГРМ.
7. Портрет Л. Н. Толстого. 1884. ГТГ.
8. Христос и Никодим. 1886. ГТГ.
9. Выход Христа с учениками с Тайной вечери в Гефсиманский сад. 1888. ГТГ. Эскиз картины 1889 года, находящейся в ГРМ.
10. «Что есть истина?». Христос и Пилат. 1890. ГТГ.
11. Голгофа. 1892. ГТГ.
12. Портрет Н. И. Петрункевич, в замужестве Конисской. 1893. ГТГ.
Иллюстрации в альбоме
1. Портрет Н. О. Ге, отца художника. Около 1855. Киевский музей русского искусства.
2. Саул у Аэндорской волшебницы. 1856. ГРМ.
3. Разрушение Иерусалимского храма. Эскиз. 1859. ГТГ.
4. Флоренция. 1864. Киевский музей русского искусства.
5. Портрет А. П. Ге (за чтением). 1858. Киевский музей русского искусства.
6. Похороны ребенка в Каменец-Подольской губернии. Рисунок. 1866. Киевский музей русского искусства.
7. Голова апостола Иоанна. Этюд для картины «Тайная вечеря». 1862. ГРМ.
8, 9, 10. Леди Макбет, Дездемона, Руссо. Рисунки. 1860–1865.
11. Оливковая роща в Сан-Теренцо. 1867. Киевский музей русского искусства.
12. В Гефсиманском саду. 1869. ГТГ.
13. Портрет А. И. Герцена. 1867. ГТГ.
14. Портрет И. Доманже. 1868. ГТГ.
15. Портрет доктора Шиффа. 1867. ГТГ.
16. Портрет историка Н. И. Костомарова. 1870. ГТГ.
17. Набросок проекта памятника А. С. Пушкину. 1872.
18. Рисунок из альбома к картине «Петр I допрашивает царевича Алексея». 1870.
19. Рисунок к поэме Н. А. Некрасова «Русские женщины». 1871–1872.
20. Портрет писателя А. Н. Пыпина. 1871. ГТГ.
21. А. С. Пушкин в селе Михайловском. 1875. Харьковский музей изобразительного искусства.
22. Портрет писателя А. А. Потехина. 1876. ГТГ.
23. Екатерина II у гроба императрицы Елизаветы. 1874. ГТГ.
24. Портрет В. Г. Белинского. Гипс. тон. 1871.
25. Портрет Л. Н. Толстого. Гипс тон. 1890.
26. Старик крестьянин (фрагмент). Конец 1880-х гг. Киевский музей русского искусства.
27. Портрет И. Я. Петрункевича. 1878. Киевский музей русского искусства.
28, 29, 30. Рисунки к рассказу Л. Н. Толстого «Чем люди живы».
31. Портрет Н. Н. Ге, сына художника. 1884.
32. Портрет П. Н. Ге, сына художника. 1884. Киевский музей русского искусства.
33. Портрет С. А. Толстой с дочерью. 1886. Ясная Поляна.
34. Портрет М. Л. Толстой. 1890–1891. Ясная Поляна.
35. Совесть. Иуда. 1891. ГТГ.
36. Голова и рука Пилата. Рисунки к картине «Что есть истина?». 1889. ГТГ.
37. Суд Синедриона. «Повинен смерти» (фрагмент — оплевание Христа). 1892. ГТГ.
38. Суд Синедриона. «Повинен смерти» (фрагмент — шествие Каиафы). 1892. ГТГ.
39, 40, 41, 42. Рисунки к Евангелию.
43. Портрет Ольги Костычевой. 1890–1891. ГРМ.
44. Портрет П. А. Костычева. 1892. ГРМ.
45. Портрет Е. О. Лихачевой. 1892. ГРМ.
46. Портрет Н. П. Ге (Кики), внука художника. 1889. Киевский музей русского искусства.
47, 48. Рисунки для картины «Распятие».
49. Распятие. 1892.
50. Распятие. 1894.
Иллюстрации
1. Портрет Н. О. Ге, отца художника. Около 1855
2. Саул у Аэндорской волшебницы. 1856
3. Разрушение Иерусалимского храма. Эскиз. 1859
4. Флоренция. 1864
5. Портрет А. П. Ге (за чтением). 1858
6. Похороны ребенка в Каменец-Подольской губернии. Рисунок. 1866
7. Голова апостола Иоанна. Этюд для картины «Тайная вечеря». 1862
8, 9, 10. Леди Макбет, Дездемона. Руссо. Рисунки. 1860–1865
11. Оливковая роща в Сан-Теренцо. 1867
12. В Гефсиманском саду. 1869
13. Портрет А. И. Герцена. 1867
14. Портрет И. Доманже. 1868
15. Портрет доктора Шиффа. 1867
16. Портрет историка Н. И. Костомарова. 1870
17. Набросок проекта памятника А. С. Пушкину
18. Из альбома к картине «Петр I допрашивает царевича Алексея». 1870
19. Рисунки к поэме Н. А. Некрасова «Русские женщины». 1871–1872
20. Портрет писателя А. Н. Пыпина. 1871
21. А. С. Пушкин в селе Михайловском. 1875
22. Портрет писателя О. А. Потехина. 1876
23. Екатерина II у гроба императрицы Елизаветы. 1874
24. Портрет В. Г. Белинского. Гипс тон. 1871
25. Портрет Л. Н. Толстого. Гипс тон. 1890
26. Старик крестьянин (фрагмент). Конец 1880-х гг.
27. Портрет И. Я. Петрункевича. 1878
28, 29, 30. Рисунки к рассказу Л. Н. Толстого «Чем люди живы»
31. Портрет Н. Н. Ге, сына художника. 1884
32. Портрет П. Н. Ге, сына художника. 1884
33. Портрет С. А. Толстой с дочерью. 1886
34. Портрет М. Л. Толстой. 1890–1891
35. Совесть. Иуда. 1891
36. Голова и рука Пилата. Рисунки к картине «Что есть истина?». 1889
37. Суд Синедриона. «Повинен смерти» (фрагмент — оплевание Христа). 1892
38. Суд Синедриона. «Повинен смерти» (фрагмент — шествие Каиафы). 1892
39. Рисунок к Евангелию
40. Рисунок к Евангелию
41. Рисунок к Евангелию
42. Рисунок к Евангелию
43. Портрет Ольги Костычевой. 1890–1891
44. Портрет П. А. Костычева. 1892
45. Портрет Е. О. Лихачевой. 1892
46. Портрет Н. П. Ге (Кики), внука художника. 1889
47. Рисунок для картины «Распятие»
48. Рисунок для картины «Распятие»
49. «Распятие». 1892
50. «Распятие». 1894
Содержание
Освобождение … 5
Бремя славы … 38
Портреты. Герцен … 62
Русская история … 90
Портреты. Русская литература … 127
Хутор Плиски … 144
Портреты. Лев Толстой … 161
Чем люди живы … 195
Портреты. Последние … 234
Что есть истина … 249
Примечания … 268
Список иллюстраций … 269
Примечания
1
Архив Киевского музея русского искусства, ф. Н. Н. Ге, письмо от 25 апреля 1856 г. В сносках отмечаются только неопубликованные материалы.
(обратно)2
Там же, письмо от 25 августа 1856 г.
(обратно)3
Архив Киевского музея русского искусства, ф. Н. Н. Ге, письма от 28 марта, 15 мая и 10 июля 1856 г.
(обратно)4
См. письма Н. Н. Ге к жене. Архив Киевского музея русского искусства.
(обратно)5
ЦГАЛИ, ф. 179, оп. 1, ед. хр. 34.
(обратно)6
ЦГАЛИ, ф. 191, оп. 1, ед. хр. 133.
(обратно)7
ЦГАЛИ, ф. 212, оп. 1, ед. хр. 132.
(обратно)8
Там же, ф. 600, оп. 1, ед. хр. 1.
(обратно)9
ЦГАЛИ, ф. 731, оп. 1, ед. хр. 6.
(обратно)10
Обширные цитаты из основных отзывов о «Тайной вечере» приводит В. В. Стасов в своей книге «Николай Николаевич Ге. Его жизнь, произведения и переписка», М., 1904.
(обратно)11
Картину Пукирева тогда именовали «Неровный брак». Ср. у Даля: «Ровня — чета, дружка, пара, под стать». И пословица: «Не хочу за старого, не хочу за малого, а хочу я за ровнюшку (замуж)».
(обратно)12
Отдел рукописей Государственной Третьяковской галереи, ф. Н. Н. Ге, ед. хр. 58/91.
(обратно)13
Архив Киевского музея русского искусства, ф. Н. Н. Ге, письмо от 13 декабря 1863 г.
(обратно)14
ЦГАЛИ, ф. 731, оп. 1, ед. хр. 30.
(обратно)15
ЦГАЛИ, ф. 552, оп. 1, ед. хр. 774.
(обратно)16
Архив Киевского музея русского искусства, ф. Н. Н. Ге, письмо от 27 ноября 1855 г.
(обратно)17
«Очерки по истории русского портрета второй половины XIX века», М., 1963, стр. 403.
(обратно)18
Архив Киевского музея русского искусства, ф. Н. Н. Ге.
(обратно)19
Точно датировать портреты позволяет письмо Н. Н. Ге к Анне Петровне от 28 марта 1856 года: «Я вам, кажется, говорил о семействе Мессинг, что их очень люблю и уважаю. — Я им давно обещал написать портреты детей, что теперь и делаю» (Архив Киевского музея русского искусства, ф. Н. Н. Ге).
(обратно)20
Архив Киевского музея русского искусства, ф. Н. Н. Ге, письмо от 28 марта 1856 г.
(обратно)21
Архив Киевского музея русского искусства, ф. Н. Н. Ге, письмо от июня 1856 г.
(обратно)22
Фрикен. Игра слов: по-французски «пятый», V — quint, произносится «кен».
(обратно)23
Так маленькая Лиза называла Герцена. Ей говорили, что ее отец — Огарев.
(обратно)24
7 декабря 1866 года приходилось на пятницу.
(обратно)25
К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 7, стр. 280.
(обратно)26
ЦГАЛИ, ф. 731, оп. 1, ед. хр. 1.
(обратно)27
В «Автобиографии» Н. И. Костомарова сообщается любопытный факт: мальчиком будущий историк учился в московском пансионе, «который содержал лектор французского языка при университете Ге» (М., 1922, стр. 125).
(обратно)28
Отдел рукописей Государственной Третьяковской галереи, № 1/1076.
(обратно)29
Отдел рукописей Государственной Третьяковской галереи, № 1/1078.
(обратно)30
Письмо в Комиссию построения Храма Спасителя в Москве. Отдел рукописей Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина, ф. 90, п. № 9, ед. хр. 26.
(обратно)31
История продажи портретов прослеживается по письмам Ге. Отдел рукописей Государственной Третьяковской галереи, № 1085–1093.
(обратно)32
«Воспоминания М. В. Теплова». — ЦГАЛИ, ф. 731, оп. 1, ед. хр. 30.
(обратно)33
О брате Н. Н. Ге — Иване Николаевиче — в «Книге жизни» П. П. Гнедича (М., 1929) сказано: «Появился в репертуаре автор третьестепенного разряда, Иван Николаевич Ге… который громко протестовал против условностей сцены, игры в публику, диванов и мебели, поставленных вдоль рампы, самоотворяющихся дверей и пр.».
(обратно)34
ЦГАЛИ, ф. 731, оп. 1, ед. хр. 6 и 7.
(обратно)35
Письмо И. С. Тургенева к П. М. Третьякову. Отдел рукописей Государственной Третьяковской галереи, № 2651. В девятом томе писем Полного собрания сочинений и писем И. С. Тургенева (М.—Л., 1965) отсутствует. В именном указателе к тому (стр. 641) говорится, что переписка Тургенева с Третьяковым относится к 1876–1881 годам.
(обратно)36
Архив Киевского музея русского искусства, письмо от 10 июля 1856 г.
(обратно)37
Отдел рукописей Государственной Третьяковской галереи, № 1/1086.
(обратно)38
ЦГАЛИ, ф. 731, оп. 1, ед. хр. 23.
(обратно)39
Архив Киевского музея русского искусства, письмо от 16 января 1878 г.
(обратно)40
ЦГАЛИ, ф. 731, оп. 1, ед. хр. 8.
(обратно)41
Там же, ед. хр. 3.
(обратно)42
Там же, ед. хр. 7.
(обратно)43
ЦГАЛИ, ф. 731, оп. 1, ед. хр. 32.
(обратно)44
Там же, ед. хр. 6.
(обратно)45
Там же, ед. хр. 3.
(обратно)46
Там же, ед. хр. 6.
(обратно)47
ЦГАЛИ, ф. 731, оп. 1, ед. хр. 32.
(обратно)48
ЦГЛЛИ, ф. 731, оп. 1, ед. хр. 32.
(обратно)49
ЦГАЛИ, ф. 731, оп. 1, ед. хр. 3.
(обратно)50
См. письмо Н. Н. Ге к С. А. Толстой от 24 декабря 1883 года. — Архив Государственного музея Л. Н. Толстого, № 5137.
(обратно)51
См. письмо Н. Н. Ге к С. А. Толстой от 24 декабря 1883 года, — Архив Государственного музея Л. Н. Толстого, № 5137.
(обратно)52
ЦГАЛИ, ф. 731, оп. 1, ед. хр. 6.
(обратно)53
Там же.
(обратно)54
Там же, ед. хр. 31.
(обратно)55
Архив Государственного музея Л. Н. Толстого, № 5140.
(обратно)56
Архив Государственного музея Л. Н. Толстого, 89/3, № 14.
(обратно)57
См. письмо к В. Г. Черткову от 12 марта 1886 года. — ЦГАЛИ, ф. 552, оп. 1, ед. хр. 774.
(обратно)58
В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 20, стр. 70.
(обратно)59
Отдел рукописей Государственной Третьяковской галереи, № 9/560.
(обратно)60
В. И. Ленин. Полное собрание сочинений. т. 20, стр. 102.
(обратно)61
В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 20, стр. 22.
(обратно)62
См. «Воспоминания художника А. А. Куренного». Отдел рукописей Государственной Третьяковской галереи, № 30/41.
(обратно)63
См. «Воспоминания М. В. Теплова». — ЦГАЛИ, ф. 731, оп. 1, ед. хр. 30.
(обратно)64
ЦГАЛИ, ф. 731, оп. 1, ед. хр. 6.
(обратно)65
ЦГАЛИ, ф. 731, оп. 1, ед. хр. 6.
(обратно)66
В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 20, стр. 70.
(обратно)67
Письмо Н. Н. Ге-сына к Л. Н. Толстому. — Архив Государственного музея Л. Н. Толстого, 89/3, № 14.
(обратно)68
Там же, № 5144.
(обратно)69
Там же, № 5140.
(обратно)70
Там же, письмо от 20 марта 1886 года.
(обратно)71
См. «Воспоминания художника А. А. Куренного». — Отдел рукописей Государственной Третьяковской галереи, № 30/41.
(обратно)72
ЦГАЛИ, ф. 731, оп. 1, ед. хр. 32.
(обратно)73
ЦГАЛИ, ф. 731, оп. 1, ед. хр. 32.
(обратно)74
То есть к картине «Совесть». — В. П.
(обратно)75
ЦГАЛИ, ф. 731, оп. 1, ед. хр. 32.
(обратно)76
ЦГАЛИ, ф. 731, оп. 1, ед. хр. 7.
(обратно)77
В. Дмитриев. Николай Николаевич Ге. — «Аполлон», 1913, № 10.
(обратно)78
Обширные цитаты из этих отзывов приведены в книге В. В. Стасова «Николай Николаевич Ге. Его жизнь, произведения и переписка», М., 1904.
(обратно)79
Письмо к С. А. Толстой от 7 января 1891 года. — Архив Государственного музея Л. Н. Толстого, № 5144.
(обратно)80
См. письмо Н. Н. Ге к С. А. Толстой от 19 ноября 1891 года. — Архив Государственного музея Л. Н. Толстого, № 5148.
(обратно)81
ЦГАЛИ, ф. 731, оп. 1, ед. хр. 32.
(обратно)82
Там же, ед. хр. 8.
(обратно)83
Там же, ед. хр. 6.
(обратно)84
Там же, ед. хр. 3.
(обратно)85
Письмо к В. Г. Черткову, ЦГАЛИ, ф. 552, оп. 1, ед. хр. 774.
(обратно)86
Письмо Н. Н. Ге к С. А. Толстой от 30 мая 1893 года. — Архив Государственного музея Л. Н. Толстого, № 5149.
(обратно)87
Там же.
(обратно)88
В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 20, стр. 21.
(обратно)89
Картину, запрещенную в России, после смерти художника увезли за границу. — В. П.
(обратно)90
Н. К. Крупская. Ленинские установки в области культуры, М., 1934, стр. 234–235.
(обратно)91
Несколько раньше, прослышав о передаче галереи городу Москве, Ге написал Третьякову: «Вы самый дорогой наш товарищ, когда Искусство наше реальное, современное родилось с нами, Вы нас поддержали своей чистой, благородной, любящей критикой, Вы первый все сказали без слов, а делом, что Вы цените и любите наше Искусство» (Рукописный отдел Государственной Третьяковской галереи, № 1/1118).
(обратно)
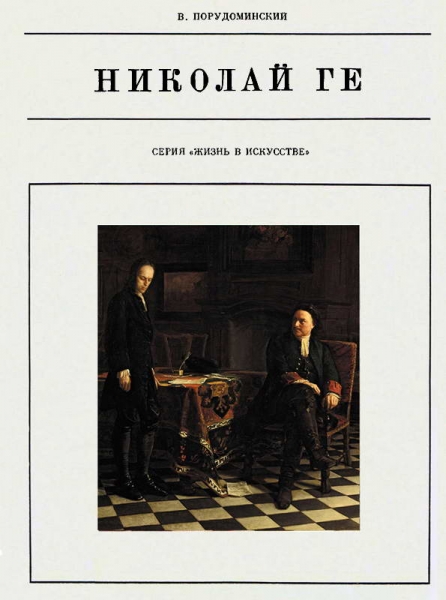

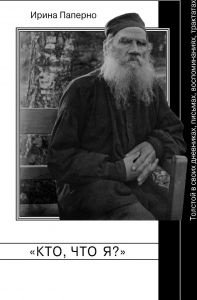



Комментарии к книге «Николай Ге», Владимир Ильич Порудоминский
Всего 0 комментариев