М. И. Стеблин-Каменский Культура Исландии
Предисловие[1]
Хотя исландский народ — один из самых малых народов мира, его роль в истории мировой культуры очень велика. Для народов, говорящих на германских языках, и особенно для скандинавских народов, древнеисландская культура сыграла не меньшую роль, чем та, которую античная культура сыграла для европейских народов вообще. Особенно велико значение древней литературы Исландии. Именно благодаря ей скандинавские народы могут претендовать на выдающееся место в истории мировой литературы. Мировое значение древнеисландской литературы — в ее исключительной самобытности, в ее глубоко народном характере, а также в том, что в ней отражены этапы литературного развития, нигде в мире с такой полнотой не представленные. Культура и особенно литература исландского народа — этого «самого литературного народа мира», как его иногда называют, — были очень своеобразны и на всем протяжении его позднейшей истории. Они остаются самобытными и в наши дни, несмотря на то, что в стране расположены американские военные базы и делаются попытки американизации Исландии.
Эта книга — попытка выделить и охарактеризовать то, что наиболее самобытно в исландском культурном наследии. Поэтому в ней нет систематического обзора истории исландской культуры во всех ее проявлениях. Такой обзор потребовал бы книгу во много раз большего объема и совсем другого типа. По этой же причине некоторые области культуры не представлены в книге совсем или представлены очень скудно, и даже литература — область культуры, в которой исландский народ проявил себя всего больше, освещена в ней только выборочно и обобщенно. Особенность книги также в том, что она рассчитана на всех, кто интересуется историей культуры и литературы, а не только на ученых специалистов. Но популярная форма изложения принята в книге не потому, что она дает право обходить трудные проблемы или упрощать их, а, наоборот, потому, что она позволяет сосредоточиться на сущности рассматриваемых проблем, не загромождая изложение пересказом чужих работ, перечислением имен, дат и фактов, ссылками сносками и прочим балластом, неизбежном во всяком изложении, рассчитанном на ученых специалистов. Впрочем, некоторые библиографические сведения все же есть в книге (в примечаниях в ее конце).
Эпиграфы к отдельным главам книги взяты из работ ученых исландистов нового времени или древности (эпиграф к главе о поэзии).
Благодарю всех, кто так или иначе помог мне написать эту книгу, в частности — исландского министра культуры Гильви Гиласона и многих других исландцев, с которыми я имел удовольствие встречаться в Исландии осенью 1958 г. и весной 1965 г.
Действительность
«История исландского народа — довольно странное явление. У нас нет ни одного национального героя в военных доспехах, но большое количество героев с пером в руке, причем многие из них — безымянные гении; мы оборонялись и победили с пером в качестве оружия».
Бьёрн ТорстейнссонКогда путешествуешь по Исландии, то обычно едешь либо по долине, окруженной горами, либо по пустынному плоскогорью, разделяющему долины. По-исландски такое плоскогорье называется «хейди». Долины обычно обитаемы. В них виден вдали какой-нибудь одинокий хутор — белый домик с красной крышей и рядом зеленый квадратик «туна» — возделываемого луга. Хейди всегда необитаемо. На нем не увидишь ничего, кроме камней, мха, вереска. Земля здесь так же «пуста и безвидна», как она, по библейскому преданию, была в первый день творенья. И это чередование мира, где живут люди, и мира, где люди не живут, подчеркивается тем, что, когда въезжаешь из долины на хейди, небо обычно скрывается в серой пелене, и клочья тумана, ползущие отовсюду, застилают даль. Сквозь туман камни начинают казаться недобрыми обитателями пустынного и безмолвного царства. Иногда посредине хейди, у перевала, стоит необитаемый домик, где путники могут найти убежище в непогоду или ночью. Правда, по поверьям, в таком домике живут привидения. По-исландски он называется «сайлухус» — буквально «дом, построенный для спасения души». Такие домики строили в Исландии уже лет восемьсот тому назад. Тогда путешествие через хейди было трудным предприятием, а постройка такого домика — благотворительным делом. Что касается хейди, оно было тогда, как и за много тысяч лет до заселения Исландии, совершенно таким же, как сейчас.
Но чередование обитаемого и необитаемого мира характерно только для прибрежной полосы Исландии. Если заехать за «последний хутор» — один из хуторов, расположенных на границе заселенной прибрежной полосы, то попадаешь в мир, целиком необитаемый. В глубине Исландии люди не живут и никогда не жили. Правда, в исландских народных сказках часто рассказывается о том, как люди, бежавшие из своих родных мест в глубь страны, живут там богато и счастливо в каких-то блаженных долинах. Действительность далека от этих созданных народной фантазией блаженных долин. Большая часть Исландии — это совершенно пустынное плоскогорье. Полное или почти полное отсутствие растительности и обнаженный рельеф — скалы, обрывы, трещины, кратеры вулканов, ледники, пески, лавовые поля, — все это похоже на лунный пейзаж или на землю, как она выглядела много миллионов лет тому назад, до появления на ней жизни.
Но что всего больше делает Исландию непохожей на другие страны — это лавовые поля. Они бывают и гладкие, как плиты, и похожие на море, внезапно застывшее во время бурного волнения; и голые, и густо поросшие мхом или лишайником; и черные, и рыжие, и ярко-зеленые, и отливающие всеми цветами радуги. Они занимают огромные пространства в стране. Оудаудахрёйн — самое большое лавовое поле в мире — занимает свыше трех с половиной тысяч квадратных километров. Но ледники еще огромнее в Исландии. Вахтнаёкутль — самый большой ледник в Европе — занимает свыше восьми тысяч квадратных километров к югу от Оудаудахрёйна. На нем находится и самая высокая точка Исландии — вулкан Эрайваёкутль. Недаром страна была названа «ледяной страной» (Ísland), а до этого «снежной страной» (Snæland). Снежная вершина в середине неба — первое, что видишь, когда подлетаешь к Исландии на самолете, и последнее, что видишь, когда улетаешь из нее.
Исландия — большая и разнообразная страна. Пески ее южного побережья, раскинувшиеся у подножья снежных гор и прорезанные бесчисленными протоками, непохожи на скалистые фьорды ее северного или восточного побережья, а широкие болота юго-западной низменности — на узкие горные долины севера и востока страны. Каждая долина Исландии имеет свою физиономию, которую определяют горы, окружающие долину, протекающая по ней река и т. д. Все же, когда путешествуешь по Исландии и стремишься не столько увидеть туристские объекты — знаменитее водопады с играющей в них радугой, гейзеры, кратеры вулканов, наиболее причудливые нагромождения лавы, — сколько понять, что характерно для среднего исландского пейзажа, то три черты бросаются в глаза: всюду в Исландии очень далеко видно, всюду видны горы и почти нигде не видно следов воздействия человека на природу.
Всюду далеко видно потому, что воздух в Исландии очень прозрачный и нет леса, да и вообще деревьев почти нет, только кое-где рябинки да березки около домов, ничто не заслоняет даль. А даль в Исландии — это всегда горы, черные, бурые, серые, а в ясные дни — розовые, лиловые, голубые. Даже в Рейкьявике, самом большом городе и столице Исландии, отовсюду видны горы, окружающие его с севера, востока и юга. А из верхних этажей домов обычно виден и океан. Он подступает к городу с запада и охватывает его заливами с юга и севера. А на фоне океана видна снежная вершина Снайфелльсёкутль. Она кажется совсем близкой, хотя до нее от Рейкьявика по прямой линии около ста двадцати километров! Лава еще хрустит под ногами кое-где в Рейкьявике, а в озерке, расположенном в центре города, плавает уйма диких уток и лебедей, которые прилетают сюда совершенно так же, как они прилетают в озерки и лагуны, разбросанные по исландскому побережью и кишащие дикими водяными птицами.
Геологи утверждают, что Исландия сравнительно очень молодая страна: ее самые старые горные породы возникли не больше шестидесяти миллионов лет тому назад, значительная часть ее поверхности возникла в течение последнего миллиона лет, а одна десятая ее поверхности покрыта застывшими потоками лавы, которым меньше десяти тысяч лет. Силы, создававшие Исландию, продолжают действовать. В ноябре 1963 г. началось извержение подводного вулкана у южного побережья Исландии и образовался остров Суртсей. В июне 1965 г. рядом с ним образовался второй островок — Сиртлингур, который потом исчез. Полноводные и стремительные реки Исландии выносят с гор массу песку и, протекая по образовывающимся таким образом песчаным равнинам, растекаются на множество протоков, постоянно меняющих свое русло. То, что было раньше мысом, выдающимся в океан, или прибрежным островком, превращается в гору, возвышающуюся среди песчаной равнины. Но поразительно не столько то, что Исландия продолжает образовываться, сколько то, что вся она выглядит так, как будто люди еще не появились на ней. Единственный след воздействия человека на природу в Исландии — это туны, огороженные участки возделываемого луга около хуторов. Но туны — это ничтожные крапинки на поверхности страны: хутора встречаются лишь в прибрежной полосе и обычно очень далеко отстоят друг от друга, а на южном побережье тянутся вдоль подножья гор ниточкой, которая местами совсем прерывается. Сам берег океана на юге, где пески занимают огромные пространства, совершенно пустынен. Только на крайнем юге горы вплотную подходят к берегу, образуя скалистый мыс, на котором гнездится такое множество птиц, что они своим криком заглушают прибой океана. Бухт, удобных для судоходства, на южном побережье Исландии нет совсем. В прошлом тут постоянно происходили кораблекрушения, и рассказы об утопленниках с погибших кораблей до сих пор ходят среди местного населения…
Природа Исландии первозданна и грандиозна[2]. Ледники, водопады, извержения вулканов, гейзеры, лавовые поля, все — самое большое в мире или по меньшей мере, в Европе. Исландия в два с лишком раза больше своей бывшей метрополии — Дании, в три раза больше Голландии, значительно больше Ирландии или Венгрии. Резкий контраст к масштабам страны образуют размеры исландского народа. В Исландии живет всего около ста девяноста тысяч человек, из них почти половина — в Рейкьявике. Исландское общество так мало, что в нем не только все намного меньше, чем в других странах, но и все иначе, чем в других странах: количество переходит в качество.
Исландцев настолько мало, что они до сих пор обходятся без фамилий и даже в самом официальном обращении называют друг друга по имени, в третьем лице — для точности также с прибавлением имени отца, вроде как бы по имени-отчеству. Фамилии есть только у очень немногих исландцев: в 1925 г. брать себе фамилии было запрещено специальным законом. То, что иностранцы принимают за исландские фамилии (Эйнарссон, Ауртнасон или Эйнарсдоухтир, Ауртнадоухтир и т. д.), на самом деле отчества, и поэтому они разные у отца и сына или отца и дочери («сон» значит «сын», «доухтир» — «дочь»). Таким образом, сын знатного или знаменитого отца не наследует его знатности или славы. Кичиться своей фамилией — вещь невозможная в Исландии. Все принадлежат как бы к одной большой семье, члены которой различаются только по имени или имени и отчеству.
В малочисленном народе одному человеку приходится выполнять несколько дел, которые в большом народе обычно выполняют разные люди. Исландскому эстрадному автору нередко приходится не только выступать на концерте в качестве конферансье, но и самому расставлять стулья для исполнителей. В Исландии ученый — часто также и поэт, а политический деятель — часто также и ученый. Йоун Сигурдссон, самый знаменитый из исландских политических деятелей, в течение многих лет руководивший борьбой исландцев за национальное освобождение, был выдающимся историком. Ханнес Хафстейн, первым возглавивший исландское самоуправление в качестве министра Исландии, был выдающимся поэтом. В. маленьком народе ответственность отдельного человека за общенародное дело и его участие в нем особенно ощутима. В исландских газетах принято печатать обстоятельные некрологи о людях, оставивших по себе добрую память, — моряках, фермерах, печатниках, агрономах, врачах, учителях и т. д., — хотя бы они не занимали никакого видного положения. В маленьком народе отдельный человек не теряется в массе. Даже события его частной жизни имеют известный резонанс: в исландских газетах публикуются, например, сообщения о всех заключенных в стране браках, и тут же помещается фотография жениха с цветком в петлице и невесты с букетом цветов в руках. Расстояние между людьми разного положения в маленьком народе короче, чем в большом. В Исландии знаменитый писатель ничем не выделяется из простых смертных: все его постоянно видят и поэтому не обращают на него особого внимания. Рядовой исландец и знаменитость сплошь и рядом между собой на ты — они, возможно, товарищи по школе или соседи. Иногда даже лидер политической партии, обвиняя своего парламентского противника, обращается к нему на ты — может быть, они еще в детстве сражались и притом отнюдь не по парламентскому кодексу.
В стране, где все друг друга знают, можно не бояться воров. Если хочешь зайти в кафе на центральной улице Рейкьявика, можно оставить свой портфель на улице, прислонив его к стене: его никто не возьмет. К любому хутору в Исландии можно подходить, не боясь собаки: исландские собаки не кусаются, их лай — только приветствие пришельцу. Патриархальность нравов, характерная для маленького народа, сказывается и в том, что Исландия — это, наверно, единственная в мире страна, где совсем не приняты чаевые. Само собой разумеется, что в стране, где нет и двухсот тысяч людей, нет почвы для бюрократизма. О размерах государственного аппарата в Исландии можно судить по тому, что правительство и министерство иностранных дел помещаются в маленьком одноэтажном доме с мезонином. В стране всего несколько десятков полицейских. Нигде нет никакой вооруженной охраны: ни в важнейших учреждениях иди на электростанциях, ни в порту. Нигде не нужны никакие пропуска. Иностранцы принимают исландских полицейских — они в черной форме с серебряными пуговицами и в фуражке с белым верхом — за морских офицеров, а шоферов автобусов — они в форме цвета хаки и такого же цвета фуражках — за сухопутных офицеров. Но офицеров в Исландии вообще нет, так как нет армии и никогда не было. И это, пожалуй, самое странное в Исландии.
В продолжение почти одиннадцати веков — с тех пор, как в Исландии появились первопоселенцы, — жители ее только понаслышке знают, что такое войско и война. Правда, исландские первопоселенцы были детьми воинственной эпохи викингов. Применять оружие они считали делом законным и почетным. Многие из них сами принимали участие в викингских походах. Но переселение в Исландию не сопровождалось завоеванием: страна была тогда совершенно необитаема, если не считать нескольких ирландских монахов отшельников — они искали уединения на затерявшемся среди океана необитаемом острове. Никакие нападения извне не угрожали исландскому обществу и в первые века его самостоятельного существования. Поэтому в Исландии с самого ее заселения не было нужды ни в военном вожде, ни в войске.
После трех с половиной веков самостоятельного существования, в продолжение которых воинственность населения находила выход только в родовых распрях, исландское общество не могло противопоставить норвежскому королю никакой военной силы, и страна была присоединена к Норвегии, а еще через полтора века она вместе с Норвегией стала датским владением. В XVI в. у исландцев было отнято право носить оружие. Через семь веков после заселения страны некогда воинственный народ стал настолько беззащитным, что, когда в 1627 г. к исландским берегам пристало несколько кораблей алжирских пиратов, пораженное ужасом население не могло оказать пришельцам никакого сопротивления: пираты грабили сколько хотели и убивали или уводили в рабство кого хотели. Борьбу с датским государством за национальную независимость исландцы вели упорно и мужественно, но никогда не применяли оружия. И вот, как раз когда после семи веков иноземного гнета Исландия наконец снова стала независимой и полностью освободилась от своей метрополии — Дании, в Исландии впервые в ее истории появилось иноземное войско. Кончились времена, когда отдаленное положение среди океана могло спасти страну от вторжения иноземного войска.
Исландия была провозглашена независимой республикой 17 июня 1944 г., но еще в 1940 г. на ее территории расположились британские войска, а в 1941 г. их сменили американские войска и вопреки торжественному обещанию не ушли после окончания второй мировой войны. Демонстрации, забастовки, митинги протеста, кампании в прессе, продолжающиеся до сих пор, не подействовали на тех, кто осуществляет эту военную оккупацию или способствует ей.[3]
Исландцы ни с каким народом никогда не воевали и не соперничали. Отсюда, конечно, характерное для исландцев одинаково доброжелательное отношение ко всем иноземцам и отсутствие и тени какого бы то ни было предубеждения против них, а возможно и вообще исландское простодушие, гостеприимство и дружелюбное отношение к людям. Но отсюда же, конечно, и характерное для исландцев отвращение к войне и всему, что в их представлении с ней связано, в частности — к военным. Отвращение это настолько сильно, что американские военные вынуждены с ним считаться и, как правило, не показываются в военной форме на улицах Рейкьявика.
Семь веков, в продолжение которых Исландия принадлежала сначала Норвегии, а потом Дании, были эпохой застоя и упадка. Население не только не увеличивалось, но одно время даже уменьшалось. В хозяйственной жизни страны не происходило существенных изменений. Основой исландского хозяйства издавна было овцеводство, и в силу этого селились не деревнями, а на хуторах, далеко отстоящих друг от друга. Городов вообще не было. Первый город — Рейкьявик — возник только в конце XVIII в., но и он до начала XX в. походил скорее на поселок, чем на город. Стихийные бедствия много раз разоряли страну. Чума и другие эпидемии свирепствовали, превращая в пустыни целые районы. Сильные извержения вулканов, сопровождаемые дождем пепла и землетрясениями, уничтожали пастбища и вызывали падеж скота и голод. Полярные льды блокировали побережье, в результате чего летом не росла трава. Ледники наступали на заселенные районы. Особенно суровыми были климатические условия в XVII–XVIII вв. В эти века страна стала фактически непригодна для крестьянского хозяйства. В довершение всех бед датские купцы, обладая монополией торговли, продавали втридорога насущные для народа товары и покупали за бесценок продукцию и без того нищего крестьянского хозяйства, а если исландский крестьянин осмеливался торговать не с датским купцом, а, например, с голландским, то его сажали в тюрьму как преступника.
На своих хуторах, затерявшихся среди пустынной страны, исландцы влачили нищенское существование, голодали и вымирали. Старый исландский хутор — ряд домиков со стенами из дерновых кирпичиков, дерновыми крышами и дощатыми фасадами — можно еще увидеть кое-где в Исландии. Но в них уже не живут. Такой хутор похож скорее на кучку землянок, чем на усадьбу. В тесном жилом помещении — так называемой «бадстове» — потолок был в форме двускатной крыши. По обе стороны от срединного прохода стояли нары. Тут проводили зимние дни и вечера обитатели хутора за работой при тусклом свете фитиля, обмакнутого в ворвань. Сидя на нарах, чесали шерсть, пряли или вязали. Закоптелые покатые потолки протекали, и приходилось подставлять корыта под течи. Древесного топлива не было. Приходилось топить рыбьими костями, обмакнутыми в ворвань, трупами чаек и тому подобным. Чтобы сохранить тепло, окошко не открывалось. В помещении было всегда сыро и холодно. Удушливо пахло ворванью и мочой — в старой моче стирали белье и мылись, так как мыло было неизвестно. В этом же помещении находились овцы и собаки, а часто и больные, например, прокаженные — проказа была обычным явлением.
Старые исландские народные песни — это, как правило, либо колыбельные, либо детские песни. По-видимому, пели только тогда, когда надо было успокоить ребенка, заставить его забыть нужду и голод, убаюкать его. В старом крестьянском костюме господствует черный цвет: черные куртки у мужчин, черные платья и головные уборы у женщин. По-видимому, было не до ярких нарядов. В патриотических произведениях, которые исполняются в Исландии во время официальных церемоний, господствующее настроение — торжественная печаль. Как будто, думая о родине, исландец вспоминает бедствия и лишения, которые испытывал в продолжение многих веков его народ. Такие произведения исполняет обычно мужской хор — излюбленная форма исполнительского мастерства в современной Исландии. Нет в исландском патриотизме никакой бравурности. И, конечно, то, что все исландцы — в прошлом крестьяне глухой и нищей страны, объясняет такие черты исландского национального характера, как привычка к труду, готовность помочь другому и простота в обращении.
Только во второй половине XIX в. в Исландии наметился экономический подъем. Однако еще в начале XX в. страна оставалась в основном крестьянской и в экономическом отношении очень отсталой. В стране не было ни мостов через реки, ни даже дорог. Больше половины торговли находилось в руках иностранцев. Рейкьявик, единственный город, был тогда еще небольшим поселком из деревянных домишек, и жило в нем всего около шести тысяч человек. Никаких портовых сооружений, никакой промышленности в нем не было.
И вдруг экономический подъем стал стремительным. Население стало быстро расти, и в первую очередь население Рейкьявика, в котором сейчас уже около восьмидесяти тысяч жителей — почти половина всего населения Исландии. За каких-нибудь несколько десятилетии Исландия превратилась в страну с очень высоким уровнем жизни при полном отсутствии безработицы. Больше 75% исландцев живет в собственных квартирах, и средний объем новых квартир доходит до четырехсот кубических метров. Все новые дома строятся из бетона, и многие из них — одноквартирные. Господствует конструктивная архитектура, сверкающая стеклом и металлом. Даже церкви строятся в конструктивном стиле. Крыши домов, как правило, ярко-красные или ярко-зеленые. Все старые деревянные дома обшиты рифленым железом и покрашены в яркие цвета. На асфальтированных улицах города блестят легковые машины, которых больше, чем прохожих. Яркие краски господствуют и в одежде детей, которых очень много на улицах Рейкьявика, особенно около озерка, расположенного в его центре. Город стал ярким и красочным. Горы, синеющие вдали, и океан, окружающий город с трех сторон, оттеняют его красочность.
На хуторах сейчас тоже всюду построены новые бетонные дома. Старые постройки сохраняются на хуторах только как музейные объекты или используются как склады. Резкий контраст между первозданной природой и современной цивилизацией поражает сейчас всюду в Исландии. Как только выедешь из Рейкьявика и скроются из глаз сооружения из бетона, стекла и металла, попадаешь в местность, где все — как тысячи лет тому назад. Нигде ни клочка возделанной земли, всюду только застывшая лава. И вдруг среди этой пустыни видишь хутор с современными постройками, машинами, сверкающими эмалью, и узнаешь, что тут есть и электричество, и телефон, и водопровод, и даже плавательный бассейн с горячей водой из ближайшего гейзера.
Современная Исландия — страна высокой культуры. С 1911 г. в Рейкьявике есть университет с пятью факультетами — философским, медицинским, юридическим, техническим и богословским — и научно-исследовательский институт с разными лабораториями. Многие исландские ученые, особенно филологи, пользуются мировой известностью. Есть в Рейкьявике музеи, библиотеки, различные специальные школы и курсы, издательства и большие книжные магазины, редакции газет и журналов, различные зрелищные предприятия, концертные и выставочные залы, клубы и т. д. Неграмотных в стране нет. Книг на душу населения издается больше, чем в какой-либо другой стране.
Но странным образом в современной Исландии сочетается то, что обычно не встречается на одной и той же ступени развития. Разновременные плоскости скрещиваются и совмещаются. С одной стороны, для современной Исландии характерны популярность последних достижений современной техники, широкое распространение идей социализма, самый высокий в мире процент печатной продукции на душу населения, с другой стороны — поразительная живучесть древних суеверий, огромная популярность сказок о привидениях, страсть к генеалогиям, как у людей бесписьменного общества.
Стремительный экономический подъем, который произошел в Исландии в течение последнего полустолетия, — один из парадоксов исландской истории. Причину его, казалось бы, нетрудно выяснить: ведь он произошел на глазах людей, которые и сейчас живут в Исландии. Однако именно на то, что происходит на глазах, всего соблазнительней смотреть со своей колокольни. Поэтому исландский экспортер склонен видеть причину, о которой идет речь, в выходе Исландии на внешний рынок, исландский профсоюзный деятель — в возникновении профсоюзов в Исландии, и так далее. Все же всего вероятнее, что причиной стремительного экономического подъема было сочетание во времени по меньшей мере трех событий, благодаря которым то, что существовало и раньше, вдруг оказалось мощным фактором экономического развития. Одно из этих событий — техническая революция в методах рыболовства и, в частности, появление моторной лодки, второе — появление первых банков и возникновение исландского капитала, третье — самоуправление, которое Исландия получила в 1904 г. и благодаря которому она стала и политически независимой. В силу этих событий колоссальные рыбные богатства исландских вод могли быть реализованы в масштабах, до этого невозможных. Но важным фактором экономического развития оказалось и то, что, будучи нищей крестьянской страной, Исландия, как это ни странно, в то же время издавна была страной почти всеобщей грамотности, — страной, в которой литературная традиция непрерывно жила в народе, поддерживая в нем сознание того, что он — носитель великой и древней культуры. Поэтому нельзя понять современную Исландию, не зная ее древней истории.
Происхождение народа, история заселения страны, вообще — начало истории обычно скрыты в густой мгле веков. То, что было тысячу лет тому назад и отделено от современности крупнейшими историческими сдвигами, как правило — далекое прошлое, память о котором живет в лучшем случае в какой-нибудь легенде, заведомо лишенной историчности. Не так у исландского народа. Начало его истории освещено настолько ярким светом, что известны по именам чуть ли не поголовно все первые исландцы. Между тем одиннадцать веков отделяют начало истории исландского народа от современности.[4]
В «Книге о заселении страны» перечисляются около четырехсот исландских первопоселенцев, сообщается множество фактов из их жизни, иногда совсем мелких, и даже приводятся слова, сказанные ими, или строфы стихов, сочиненные ими по тому или иному поводу. Но и того, что рассказывается в «Книге о заселении страны» об Ингольве Арнарсоне, самом первом поселенце в Исландии, достаточно, чтобы дать представление об исландских первопоселенцах.
Ингольв Арнарсон был родом из Далсфьорда в западной Норвегии. Его дед переселился туда из Телемарка из-за какой-то распри. У Ингольва был двоюродный брат и побратим Лейв, или Хьёрлейв, который потом женился на его сестре. Ингольв и Хьёрлейв ходили в викингский поход вместе с тремя сыновьями ярла Атли Худощавого из Гаулара и были вынуждены оставить свои владения в Норвегии в результате распри, в которой двое из трех сыновей ярла были ими убиты. Ингольв и Хьёрлейв слышали о стране, которую незадолго до этого открыл их соотечественник Флоки Вильгердарсон и назвал Исландией, т. е. «ледяной страной». Они отправились туда на разведку, перезимовали в одном фьорде на востоке Исландии и вернулись в Норвегию. Затем Хьёрлейв ходил в викингский поход в Ирландию и добыл там много добра и десять рабов, а Ингольв пока охранял собранное для переселения в Исландию. Перед самым отъездом Ингольв совершил большое жертвоприношение, и оно предсказало ему удачу, а Хьёрлейв вообще пренебрегал жертвоприношениями. Они отправились на двух ладьях, захватив все свое добро. Подплывая к Исландии, Ингольв бросил в море священные столбы, которые стояли в его доме у почетного сиденья, и дал обет поселиться там, где их прибьет к берегу. По всей вероятности, на этих столбах были вырезаны какие-то изображения, возможно — бога Тора. Побратимы высадились на южном побережье Исландии, но Хьёрлейв — значительно западнее Ингольва. Местности, где они высадились, и сейчас называются по их именам: Мыс Ингольва (Íngólfshöfði) и Мыс Хьёрлейва (Hjörleifshöfði), и они остались такими же неприютными и пустынными, какими они были тогда. Но мыс, где высадился Хьёрлейв, уже не мыс, а гора километрах в трех от берега посреди песков. На следующую весну Хьёрлейв стал заставлять своих ирландских рабов пахать, но они взбунтовались, убили его и уплыли на лодке. Вивиль и Карли, рабы Ингольва, которых он послал на запад искать священные столбы, брошенные им в море, нашли труп Хьёрлейва и, вернувшись, рассказали Ингольву о случившемся. Тот был в гневе и поспешил к месту преступления. «Печальная судьба — герой, а погиб от руки рабов! Так бывает с теми, кто пренебрегает жертвоприношениями…», — сказал он, увидев труп Хьёрлейва, и отправился мстить за своего побратима, настиг его рабов на островах у юго-западного побережья Исландии и убил их всех. С тех пор эти острова называются Острова Ирландцев (Vestmannaeyjar).
Только на третий год Вивиль и Карли нашли священные столбы Ингольва далеко за юго-западной оконечностью Исландии. Ингольв отправился туда, занял там землю, построил жилище и поставил в нем свои священные столбы. Обычно считается, что это было в 874 г. С тех пор место, где обосновался Ингольв, называется Залив Дымов (Reykjavík). Впрочем, Ингольв имел в виду, конечно, не дым, а пар от гейзеров. Место не понравилось Карли. «Зря мы оставили хорошие земли, чтобы поселиться на этом удаленном мысу», — сказал он и бежал, и с ним — рабыня. А Вивиля Ингольв отпустил на свободу и поселил его в местности, которая с тех пор называется Горой Вивиля (Vífilsfell).
«Книга о заселении страны» сообщает еще ряд имен и подробностей, которые здесь опущены. Так, там приводятся имена отцов, дедов и прадеда Ингольва и Хьёрлейва, жены, сестры и потомков Ингольва, сыновей ярла Атли, пяти ирландских рабов Хьёрлейва, рассказывается, как побратимы поссорились с сыновьями ярла и сражались с ними, почему Лейва стали называть Хьёрлейвом, как его ирландские рабы утоляли жажду смесью муки и масла, как именно был убит Хьёрлейв, и, конечно, о границах заимки Ингольва. В древнеисландских памятниках часто бывает столько имен и подробностей, что, с нашей, современной, точки зрения, нить рассказа теряется. Эти памятники были рассчитаны на более цепкую память и более конкретное мышление, чем наши.
На том месте, где одиннадцать веков тому назад поселился Ингольв, в центре Рейкьявика, на холмике, стоит бронзовый памятник, покрытый темно-зеленой патиной. Ингольв, в остроконечном шлеме и кольчуге, опирается левой рукой о копье, а правой о драконью голову — нос ладьи, на которой он приплыл сюда. Внизу видны дома города, корабли в гавани, широкий залив океана и за ним большая гора, возвышающаяся над заливом, — Эсья. Она видна почти отовсюду в городе. Именем Ингольва названа другая гора, величественная и суровая, — по преданию он был похоронен в ней. Она довольно далеко от Рейкьявика.
Исландские первопоселенцы — это видно, в частности, из рассказа об Ингольве — были люди исключительно смелые и решительные. Они хорошо владели оружием и не давали ему ржаветь, искусно водили свои ладьи только по солнцу и звездам, не боялись никаких трудностей. Их ладьи с резными и окрашенными или позолоченными драконьими мордами на носу были не только великолепны как произведения искусства, но и прекрасно приспособлены к длинным походам в океане. Первое в истории Европы переселение через океан в необитаемую страну — великий подвиг исландцев. Правда, еще раньше до Исландии доплывали ирландские отшельники, а может быть и другие мореплаватели. Некоторые cчитают, что самый северный остров мира, упоминаемый латинскими авторами под названием Крайняя Фула (Ultima Thule), и был Исландией. Но даже если бы это было так, только исландцам удалось превратить легендарный остров в обитаемую страну. Не меньшим их подвигом: было открытие и заселение Гренландии в конце X в. (колония эта вымерла в XV в.) и открытие — за полтысячелетия до Колумба! — Северной Америки и попытка ее заселения[5]. Среди народов-мореплавателей исландцы по праву могут претендовать на одно из самых первых мест в мире.
Из рассказа об Ингольве можно также составить себе некоторое представление о социальном и этническом составе исландских первопоселенцев. Рабы в Исландии часто убегали от своих хозяев или получали от них свободу. Историки утверждают, что рабовладение не играло существенной роли в исландском обществе с самого начала, а к концу XI в. исчезло совсем. В «Книге о заселении страны» рассказывается, что, когда швед Гардар Сваварссон, еще до Флоки, перезимовал в Исландии, у него там сбежал один человек по имени Наттфари, и с ним — раб и рабыня. Так что, в сущности, эти люди были самыми первыми поселенцами в Исландии, а не Ингольв. Но Ингольв принадлежал к знатному роду, поэтому в древнеисландских источниках ему отдано предпочтение. Таким образом, первые исландцы были люди разного социального происхождения. К концу эпохи заселения страны, т. е. к 930 г., исландцев стало, по-видимому, уже несколько десятков тысяч — примерно столько же, сколько их было в начале XIX в.
Этническое происхождение исландских первопоселенцев тоже не было единообразным. Около 85% было из Норвегии. Большинство — из западной Норвегии, но многие — из восточной Норвегии, кое-кто — из Швеции и Дании. Некоторые, в частности многие рабы, были кельтского происхождения или жили среди кельтов до переселения в Исландию. Возможно, что среди рабов были и славянского происхождения. В результате переселения в Исландию и жизни в ней из всех этих элементов образовался исландский народ. Время от времени, однако, в ученом мире возникают теории, объясняющие своеобразие Исландского народа своеобразием какого-то другого народа. Так, норвежцы склонны считать, что исландцы — это просто норвежцы. Но один норвежец опубликовал недавно двухтомный труд, в котором он доказывает, что все скандинавы, в том числе исландцы, — это просто датчане (язык всех скандинавов действительно называли иногда в древности «датским языком», и это — основной довод в пользу данного положения)[6]. Особенно часто говорят о предполагаемой роли кельтской (ирландской) примеси в исландцах. Ею, в частности, принято объяснять то, что среди исландцев меньше светловолосых, чем среди норвежцев, и немало голубоглазых, но темноволосых. А один исландец выпустил недавно труд, в котором утверждает, что выходцы из Норвегии, появившиеся в Исландии в конце IX в., образовали только верхушку исландского общества и вскоре растворились в нем, тогда как в основном исландцы — это просто ирландцы, которые якобы населяли Исландию еще до этого (но уже тогда говорили по-норвежски!). Между тем другой исландец раньше выдвинул теорию, согласно которой исландцы — это просто герулы (такое племя когда-то жило на юге Швеции и потом исчезло). Все эти теории основаны на наивном представлении, что своеобразие народа — это нечто неизменное, вечное. На самом деле своеобразие народа — это, конечно, плод его истории. Поэтому, хотя это и слишком очевидно, чтобы быть убедительным для ученого мира, все же вероятнее всего, что исландцы — это исландцы и ничего больше.
В истории народов бывают эпохи наиболее интенсивного и самобытного творчества — эпохи расцвета культуры. Они накладывают отпечаток на всю позднейшую историю культуры данного народа, а также тех народов, которые оказались в сфере его культурного влияния. Так, например, эпоха расцвета греческой культуры наложила отпечаток на позднейшую историю культуры не только Греции, но и всей Европы. Степень расцвета культуры не стоит в прямом соответствии с общим развитием общества, а также с развитием его материальной основы, его цивилизованностью: произведение, написанное гусиным пером при тусклом светильнике, может быть плодом более интенсивного и самобытного творчества, чем написанное авторучкой при электрической лампе. Все же обычно расцвет культуры народа происходит в эпоху, когда есть хоть гусиные перья, есть письменность и уже сложилось государство, в рамках которого формируется культура народа. Не так было в Исландии. Эпоха наибольшего расцвета культуры в Исландии — это самое начало истории исландского народа, эпоха дописьменная и догосударственная.
Историки еще долго будут спорить о том, что представляло собой исландское «народовластие», т. е. то общество, которое просуществовало в Исландии с эпохи ее заселения и до середины XIII в. Но несомненно, что такого общества не было в других странах, история которых известна. Своеобразие исландского «народовластия» заключалось, по-видимому, в парадоксальном сочетании того, что обычно не встречается на одной ступени развития.
В древнеисландском обществе, в частности в так называемый век саг, или в первый век существования «народовластия» (примерно 930–1030 гг.), господствовал героический и воинственный дух, унаследованный исландцами от эпохи викингов[7]. Он ярко выражается в бытовавших в то время в Исландии героических сказаниях и в поэзии, сохранившейся от того времени. Но практически этот воинственный дух находил выход только в кровной мести — обычае, унаследованном исландцами от родового общества и занимавшем большое место в их жизни. В викингские походы ходили только некоторые исландцы, а в XI в. эти походы вообще прекратились и вскоре стали легендой. Никакого войска в Исландии не было. Никаких войн исландцы не вели. Век саг был, как устанавливают историки, веком мирного и всестороннего хозяйственного прогресса. Пастбища в стране еще не были истощены, и овцеводство — уже тогда основа хозяйственной жизни страны — процветало. К тому же у исландцев еще было достаточно кораблей для подвоза из Норвегии всего, чего им не хватало, — хлеба, леса и т. д. Впрочем, плавникового леса было тогда много и в Исландии, и постройки из него были гораздо роскошней, чем исландские постройки последующей эпохи. По подсчетам историков, в течение века саг население Исландии удвоилось. Исландцы жили мирной трудовой жизнью и несомненно ценили мир, как об этом лучше всего свидетельствует знаменитая речь годи Торгейра, в которой он, несмотря на то что сам был язычником, настоял на компромиссе между язычниками и христианами в целях сохранения мира внутри страны. Воинственный дух эпохи викингов странно сочетался в Исландии с жизнью мирных овцеводов.
В исландском «народовластии» продолжали жить институты родового общества. Поселенцы, приехавшие на одном корабле, объединялись в «хрепп» — что-то вроде сельской общины. Свободные общинники — «бонды» — составляли основную массу населения. Все члены общества обладали одинаковыми правами и одинаково участвовали в решении общих дел на своих вечах — «тингах», которые происходили весной и осенью. Выделявшаяся из среды бондов родовая знать — «хёвдинги» — еще не противостояла бондам как правящий класс. Всякий хёвдинг был в то же время бондом, и рядовые бонды не зависели экономически» от хёвдингов. Из хёвдингов выбирался жрец — «годи», власть которого была основана на доверии к нему и его авторитете. Как в родовом обществе, человек пользовался почетом и авторитетом в соответствии со своими действительными достоинствами, а не в силу своего чина или должности. Годи не имел в своем распоряжении никаких средств принуждения. Если он не оправдывал доверия бондов, его смещали. В то же время община годи — «годорд» — не была связана с определенной территорией, так что каждый бонд мог сам выбрать, к общине какого годи он принадлежит. Годи содержал капище на средства, собранные у членов годорда, поддерживал мир в своем годорде, предводительствовал на жертвенных пирах и на тинге, надевая на руку священное кольцо, которое обычно лежало на алтаре в капище.
В конце эпохи заселения страны — в 930 г. — был принят закон, по которому каждый год в июне месяце на Полях Тинга собиралось на две недели всеисландское вече — «альтинг». Не меньше, чем один из каждых девяти членов годорда, должен был ехать со своим годи на альтинг. Те, кто не хотели ехать на альтинг, оплачивала путевые издержки тем, кто ехал. Для многих из них это было довольно дальней поездкой. Так, для жителей восточных фьордов поездка туда и обратно вместе с пребыванием на Полях Тинга занимала около семи недель. На альтинге принимались законы и производился суд по всем делам, которые не могли быть решены на местных тингах. Все годи вместе — их первоначально было тридцать девять — составляли законодательный и судебный совет — «лёгретту», которая собиралась одновременно с альтингом. Лёгретта выбирала «законоговорителя» — всеисландского старейшину. Его обязанностью было знать и помнить законы и возвещать их со Скалы Закона. Он выбирался сроком на три года, и многие законоговорители выбирались по нескольку раз. Однако вне альтинга он никакой власти не имел.
Хреппы, тинги, годорды — все это по своему характеру институты родового общества, и они совсем не похожи на государственные институты, которые в ту эпоху складывались повсюду в Скандинавии. Государство возникало там в результате перерастания власти военного вождя — «конунга» — в королевскую власть. Но в Исландии военный вождь был не нужен, и там этого не произошло. В Исландии не было никакой центральной исполнительной власти, никакой военной силы, противопоставленной народу, ни чиновничества, ни канцелярий, ни полиции, ни тюрем. Вполне возможно, что, как утверждают древнеисландские источники, притеснения со стороны Харальда Прекрасноволосого, короля, объединившего Норвегию, были причиной переселения из Норвегии в Исландию многих первопоселенцев. В таком случае история исландского народа началась с бегства от государства.
Но все это не значит, что в Исландии эпохи «народовластия» не было порядка и законности. «У них нет другого короля, кроме закона», — сказал об исландцах Адам Бременский, немецкий историк XI в. В Исландии не было органа, который следил бы за выполнением решений альтинга. Оно было делом самих истцов или любого, кто брал на себя их выполнение. Но именно поэтому законы, действовавшие в древнеисландском обществе, были исключительно обстоятельны как в отношении предусматриваемых преступлений и наказаний, так и в отношении самой судебной процедуры. В древнеисландских памятниках встречается множество юридических терминов, выражающих настолько частные или своеобразные понятия, что их совершенно невозможно перевести ни на какой современный язык. Обстоятельность древнеисландских законов подчас граничит, с современной точки зрения, с формализмом. Но этот юридический формализм — тоже своеобразный пережиток родового строя и характерной для этого строя тенденции к мелочной обрядовой регламентации. Он не имеет ничего общего с формализмом государственных канцелярий. Понятия «закон» и «общество» для исландца той эпохи совпадали. Для обозначения исландского общества как целого не было другого слова, кроме того, которое значило одновременно и «закон», и «общество», тогда как для обозначения норвежского или любого другого общества, в котором существовало государство, употреблялось слово, которое одновременно значило и «государство», и «насилие».
Тем не менее, как это ни странно, исландское «народовластие» с самого начала несомненно не было родовым обществом. Старые институты, попав в новые условия, претерпели существенные изменения, и дальнейшая их история показывает, как далеко старые институты могут отойти от того, чем они первоначально были. Родовые связи были порваны еще при заселении Исландии. Уже из рассказа об Ингольве очевидно, что в Исландии с самого ее заселения существовало индивидуальное хозяйство. Частная собственность на землю господствовала. Это видно, например, из того, что названия жилья образовывались от имен отдельных людей. Во владении общины оставались только более отдаленные выгоны, леса и воды. Имущественное неравенство было уже довольно значительным. Очевидно также, что индивидуум выделился из родового коллектива не только хозяйственно, но и, так оказать, идеологически. Ни от какой другой древней эпохи — не говоря уже о бесписьменных эпохах — не сохранилось такого огромного множества сведений об отдельных людях, как от эпохи исландского «народовластия», два первых века которой были бесписьменными. Одних первопоселенцев известно около четырехсот. Именные указатели к «сагам об исландцах» — произведениям, в которых речь идет об исландцах века саг, — насчитывают около семи тысяч имен. При этом многие из тех, о ком говорится в этих сагах, — это несомненно яркие и сложные индивидуальности, как например знаменитый скальд Эгиль Скаллагримссон, жизнь которого рассказывается в одной из этих саг.
В век саг культура в Исландии была едина, не только в том смысле, что она была одинакова для всего общества, но также и в том смысле, что исландцы сознавали себя единым народом, называли себя «исландцами» и противопоставляли себя другим народам, в частности — своим ближайшим родичам — норвежцам. Основной причиной того, что исландский народ осознавал свое единство, был, по-видимому, альтинг. На него приезжали рядовые бонды и хёвдинги, иноземные купцы и посланцы иностранных правителей, оружейники и швецы, пивовары и фокусники, бездомные бродяги и, как говорится в сагах, «все самые умные люди страны». В общей сложности собиралось несколько тысяч человек. На альтинг приезжали, чтобы добиться правды и справедливости, обменяться новостями, обсудить текущие события или просто — на людей посмотреть и себя показать. На альтинг собирались, как на всенародный праздник. На нем знакомились, заключали торговые сделки и браки, учились законам и судебной процедуре, состязались в играх, слушали рассказы о путешествиях в дальние страны, рассказывали саги, исполняли стихи. Альтинг считают колыбелью исландской литературы и сравнивают его роль в жизни исландского общества с ролью столичного города, в котором сосредоточена культурная жизнь страны и расцвет которого обусловливает расцвет культуры народа. Следовательно, альтинг подразумевает гораздо большую централизацию культуры, чем та, которая возможна в родовом обществе. В истории бесписьменных обществ он, конечно, нечто совершенно беспримерное.
И еще один парадокс древнеисландского общества. Уже из рассказа об Ингольве, первом поселенце в Исландии, очевидно, что исландские первопоселенцы верили в существование множества сверхъестественных существ — богов, великанов, карликов и т. д., а также в эффективность разных варварских обрядов — жертвоприношений и т. п. В «Книге о заселении страны» сообщается, что первый исландский закон, принятый еще в языческое время, предписывал снимать с корабельного носа драконью голову с разинутой пастью, подплывая к берегу, чтобы не попугать духов страны. О множестве других первобытных верований и обрядов рассказывается в древнеисландских памятниках. Среди первопоселенцев было, правда, некоторое количество христиан. Но язычество господствовало. Письменности в Исландии не было до XII в., если не считать рунической письменности. Рунических надписей от этой эпохи в Исландии не сохранилось, но, вероятно, как всюду в Скандинавии, руны использовались главным образом в магических целях и были известны очень немногим. Вместе с тем, по-видимому, уже в век саг господствовало удивительно свободное отношение к религии. В древнеисландских памятниках неоднократно говорится о людях, которые верили только «в свою мощь и силу». Язычники в Исландии проявляли полную терпимость по отношению к христианам. Из рассказа о принятии христианства видно, что христианские миссионеры проповедовали на альтинге, служили там мессы, устраивал шествия к Скале Закона с крестами и кадилами. Когда во время споров между христианами и язычниками началось извержение вулкана, которое угрожало уничтожением дома одного из поборников христианства, и язычники истолковали это как проявление гнева богов, годи Снорри Торгримссон — а он был язычником — сказал: «Интересно, на что гневались боги, когда извергалась та лава, на которой мы сейчас стоим?». Такое же ироническое отношение к языческим богам характерно для «Перебранки Локи» и «Песни о Харбарде» — песням «Старшей Эдды», в которых боги переругиваются, обвиняя друг друга в разных пороках и преступлениях. Между тем эти песни, как обычно считается, возникли в языческое время и не содержат никаких элементов христианской идеологии.
Исландское христианство было в первые века «народовластия» тоже очень своеобразно. В нем не было ни аскетизма, ни нетерпимости. Многоженство — пережиток старых форм брака — продолжало оставаться довольно обычным, даже среди священников. Так, знаменитый хёвдинг Йон Лофтссон, у которого воспитывался Снорри Стурлусон, открыто содержал вторую жену, хотя имел сан дьякона. Введение христианства сказалось только изживании некоторых варварских обычаев — права оставлять своего новорожденного ребенка на съедение диким зверям, поединка как средства решения тяжбы и т. д. Годи и год орды сохранились и при христианстве, но были теперь связаны не с капищем, а с церковью. Епископы выбирались на альтинге. Священники носили оружие и были теми же хёвдингами. Некоторые из них, как например знаменитый Сэмунд Мудрый, бывали л учились в европейских культурных центрах. Но церковная, латиноязычная ученость сочеталась в них со знанием народной, языческой традиции. Языческая мифология продолжала занимать исландцев и после принятия христианства. Поэтому она нашла отражение в письменности и, несмотря на то что христианство стало официальной религией в Исландии тысячу лет тому назад, до сих пор остается важным элементом исландской национальной культуры.
Своеобразие отношения исландцев к религии больше всего проявилось в том, как в июне 1000 г. произошла христианизация Исландии. В результате споров на альтинге между христианами и язычниками дело приняло сначала такой оборот, что в Исландии образовались две общины, каждая со своими законами. После переговоров с Халлем из Сиды, предводителем христиан, годи Торгейр — он был тогда законоговорителем — удалился в свою палатку, закрылся с головой плащом и пролежал так весь день и следующую ночь, не говоря ни слова и думая. На утро в понедельник 24 июня Торгейр созвал народ к Скале Закона и произнес свою знаменитую речь. Он призывал к осмотрительности и сдержанности. Плохо будет, говорил он, если закон не будет един в стране, возникнут междоусобицы и распри, от которых страна запустеет. Он привел в качестве примера войну между королями Норвегии и Дании, которая тянулась до тех пор, пока народы этих стран сами не заключили между собой мир вопреки воле королей. Торгейр предложил сделать так, чтобы обе стороны получили некоторое удовлетворение и в стране был один закон и один обычай. «Если закон не будет един, то и мира не будет», — закончил он свою речь. И все согласились принять тот закон, который он провозгласит. По его предложению, христианство было принято как официальная религия, но некоторые языческие законы оставались в силе и разрешалось совершать языческие жертвоприношения негласно.
Таким образом, в противоположность тому, что происходило, например, в Норвегии, где христианство вводилось силой оружия и под угрозой пыток, в Исландии принятие христианства было полюбовной сделкой между христианами и язычниками. Это, конечно, в основном результат того, что в Исландии не было королевской власти, не было государства, т. е. институтов, которые нуждались в поддержке церкви и поэтому преследовали ее противников. Впрочем, историки полагают, что Торгейром руководили и внешнеполитические соображения: необходимость сохранить мир с Норвегией (где король Олав Трюггвасон только что ввел христианство и где несколько исландцев было задержано в качестве заложников), а также желательность облегчить сношения с другими странами, где уже раньше христианство стало официальной религией.
Тысячу лет тому назад Поля Тинга выглядели так же, как сейчас. Широкое лавовое поле, расположенное в глубокой котловине. Вокруг котловины — обрывистые уступы. Кое-где в котловине — трещины, в которых течет прозрачная ледяная вода. Рядом — большое озеро, на нем вдали — два скалистых островка. Черные скалы, мох, кустарник, и поблизости — водопад, конечно. Когда стоишь на Скале Закона — в древности она служила трибуной, — то видишь всюду по горизонту горы, а внизу — реку Эхсарау, которая при впадении в озеро разбивается на множество рукавов. За рекой — церквушка. Когда-то на ней висел «колокол Исландии», по которому Лакснесс назвал свой известный роман. Позади Скалы Закона — базальтовый обрыв, верхний край которого образует на фоне неба причудливые силуэты — так называемые ладьи викингов. Горы по горизонту — голубые, синие, серые, лиловые, в зависимости от погоды и освещения. А погода и освещение все время меняются в Исландии: часть неба — светлая, часть — темная, разрывы в тучах, полосы дождя, радуга, ярко-белые облака, блики солнца. Гора — то черная, то, когда ее осветило солнце, — оранжево-бурая. Поверхность реки — то темная, но вот ее осветило солнце, и она — светло-светло-серая или ярко-синяя с зеленоватым отливом. Как всюду в Исландии, воздух необыкновенно прозрачный и, как всюду в Исландии, кажется, что видно не только далеко в пространство, но и далеко в прошлые века.
Поля Тинга — сейчас это национальный парк Исландии — самое дорогое для каждого исландца. Здесь еще сохранились следы построек — то ли землянок, то ли палаток, в которых жили во время альтинга, и, может быть, тех самых, в которых жили знаменитые исландцы эпохи «народовластия». Здесь в июне 1000 г., на утро после бессонной ночи, произнес свою знаменитую речь годи Торгейр. Здесь в июне 1024 г. Эйнар с Тверау произнес свою не менее знаменитую речь — ее часто вспоминают исландцы в последнее время, — в которой он во имя будущего исландского народа призывал своих соотечественников не отдавать Гримсей — острова у северного побережья Исландии — норвежскому королю, чтобы не дать ему возможности расположить свое войско в непосредственной близости от Исландии и тем поставить под угрозу ее независимость. Здесь 17 июня 1944 г. на всенародном собрании была провозглашена Исландская республика и выбран ее первый президент. Поля Тинга — это символ древней исландской культуры и независимости Исландии. Поэтому исландцам обидно, когда туристы из большой страны, которым невдомек, что своеобразие и величие культуры народа не находится ни в каком соответствии с величиной этого народа или его военной мощью, на Полях Тинга не снимают благоговейно шляпы перед Скалой Закона, а обращают внимание только на ущелье, в которое принято бросать монеты, загадав желание, или омут, в котором, по преданию, топили неверных жен, — обычай, который почему-то всегда кажется иностранным туристам очень актуальным и вызывает у них оживление.
Эпоха «народовластия», как и всякая эпоха расцвета культуры, была эпохой бурного развития. То, что продолжали существовать годи, годорды, альтинг, законоговоритель и многое другое, скрывает изменения, которые произошли в исландском обществе от конца эпохи заселения страны до конца эпохи «народовластия», т. е. от начала X в. до середины XIII. Но, по-видимому, эти изменения были велики. Экономическое неравенство значительно увеличилось. Средние бонды уже часто были в экономической зависимости от хёвдингов. Появились батраки. В «Саге о Стурлунгах» говорится о вещем люде, который собирался вокруг епископа Гудмунда Доброго и поддерживал его в его распре с хёвдингами. В результате введения церковной десятины годорды стали источником дохода. Они наследовались, покупались и продавались. Крупные хёвдинги собирали их в свои руки всеми правдами и неправдами. Годорды стали своего рода государствами. Вместе с тем влияние церкви усилилось. Исландская церковь была теперь подчинена норвежскому архиепископу в Нидаросе, и норвежский король мог использовать влияние церкви в своих политических интересах. Епископы Торлак Святой и Гудмунд Добрый боролись против хёвдингов, стремясь усилить власть церкви. Но церковь становилась теперь орудием угнетения. Начали распространяться идеалы мученичества и аскетизма, культ Марии Девы и святых. Еще в XII в. были основаны первые монастыри. Правда, они, по европейским масштабам, были очень маленькими. Вместе с монастырями появилась и письменность, сначала на латинском, а потом и на исландском языке.
Но что всего больше наложило отпечаток на эпоху, — это распри между крупными хёвдингами, которые боролись между собой за власть, сосредоточивая в своих руках богатства, попирая законы, подчиняя себе подчас целые области или даже всю страну. По имени рода, который сыграл наибольшую роль в этих распрях, первая половина XIII в. называется эпохой Стурлунгов. Стурлунги, т. е. сыновья Стурлы из Хвамма — Торд, Сигхват и Снорри — и его внуки, не были потомственными крупными хёвдингами. Богатство и власть не были унаследованы ими, и они не имели опоры в какой-то определенной части страны. Именно поэтому они искали опоры в разных ее частях, пытаясь распространить свою власть на всю Исландию, и боролись не только с потомственными крупными хёвдингами, но и между собой. Так, Снорри Стурлусон (для своего времени — самый видный из Стурлунгов, а для потомства — самый знаменитый из всех исландских авторов) враждовал со своим племянником Стурлой Сигхватссоном. Крупные хёвдинги содержали свои постоянные дружины. Тот же Снорри Стурлусон, который, по словам «Саги о Стурлунгах», был одно время самым богатым человеком в Исландии, явился раз на альтинг в сопровождении семисот двадцати человек, причем среди них было восемьдесят норвежцев в полном вооружении, т. е., очевидно, наемных воинов. Таким образом, в стране появились военные силы, не подчиненные народу. Вероломные нападения, убийства, сожжение противника в его собственном доме, свирепые казни, всевозможные жестокости и преступления следовали одни за другими. Уже упомянутый Стурла Сигхватссон, захватив однажды сына Снорри Стурлусона, велел оскопить его и выколоть ему глаза. В «Саге о Стурлунгах» рассказывается также о том, как пленным отрубали руки и ноги. Враждовавшие между собой хёвдинги совершали походы в другие части страны, и происходили настоящие битвы. Самая крупная из них произошла 21 августа 1238 г. между Гиссуром Торвальдссоном и Стурлой Сигхватссоном при хуторе Эрлихсстадире. В этой битве было убито 56 человек — все они известны по именам, в том числе сам Стурла, его три брата и отец. Битва при Эрлихсстадире — это самая крупная битва, которая когда-либо произошла в Исландии. А в ночь на 22 октября 1253 г. зловещую славу приобрел хутор Флюгумири, где Гиссур Торвальдссон только что справил свадьбу своего сына с дочерью одного из Стурлунгов. В эту ночь хутор был сожжен, и в огне погибло 25 человек, в том числе — жена Гиссура и все его три сына. Сам Гиссур спасся, спрятавшись в зарытом в землю чане с кислой сывороткой и просидев там до тех пор, пока поджигатели не уехали.
В своей борьбе за власть исландские хёвдинги искали поддержки у норвежского короля, а норвежские правители использовали распри между исландскими хёвдингами для распространения своей власти на Исландию. В этой политической игре участвовал, по-видимому, и Снорри Стурлусон. Еще во время своего первого пребывания в Норвегии, когда норвежские правители — король Хакон и ярл Скули — чуть не предприняли военный поход против Исландии, он получил от них сначала звание скутильсвейна, а потом лендрманна — высшее звание после ярла — и обещал уговорить исландцев подчиниться норвежским правителям. А во время второго пребывания Снорри в Норвегии ярл Скули, по-видимому, обещал ему звание ярла. Правда, в конце концов Снорри проиграл в этой политической игре: в ночь на 23 сентября 1241 г. он был убит за ослушание королю в подвале собственного дома людьми Гиссура Торвальдссона, который позднее получил от короля звание ярла.
Связи с Норвегией вообще усилились в эту эпоху, хотя у исландцев уже давно не было своих кораблей (и это тоже было одной из причин того, что Исландия становилась зависимой от Норвегии). Исландское «народовластие» фактически превратилось в государство, во главе которого стояли крупные хёвдинги. Но эти хёвдинги не сумели создать достаточно сильную государственную власть и поплатились за это: немного позднее они вообще исчезли с арены истории. Распрями между ними воспользовался норвежский король, который и раньше протягивал руку к Исландии. В 1262 г. на альтинге исландские бонды — они уже давно страдали от правления хёвдингов и притеснений с их стороны — дали согласие платить подать норвежскому королю и принесли ему присягу. «Народовластие» потерпело окончательное крушение. Независимость и свобода были потеряны Исландией надолго.
В довершение всего в конце XIII в. суровые стихийные бедствия посетили страну: эпидемии, голод, очень холодные зимы, извержения вулканов, землетрясения. Наступил многовековой застой и упадок.
Таким образом, XIII век был черным веком в истории Исландии, веком жестоких междоусобиц, крушения демократии, потери независимости, суровых стихийных бедствий. Тем не менее — и, может быть, это наибольший парадокс древнеисландского общества — XIII век был веком самых больших достижений в истории исландской культуры. Именно в XIII в. было записано все, что сохранилось от древнеисландской поэзии, в частности песни «Старшей Эдды» и поэзия скальдов. Именно в XIII в. были написаны все самые самобытные древнеисландские прозаические произведения, в частности «Младшая Эдда», все «саги об исландцах» и лучшая из королевских саг — «Хеймскрингла».
Но те, кто писали эти произведения, не считали нужным сообщать о себе. В «Саге о Стурлунгах», которая почти современна описываемым в ней событиям и, следовательно, несомненно исторична, приводится огромное множество имен и фактов, в частности в ней подробно рассказывается о Снорри Стурлуссоне, имущественных и семейных делах и действиях этого искусного политика, властолюбца и стяжателя, который был причастен ко всем распрям жестокой и кровавой эпохи Стурлунгов, хотя сам никогда не принимал участия в сражениях. Все наши сведения о нем — из этой саги. Но только благодаря случайности нам известно, что именно он был автором таких знаменитых произведений, как «Младшая Эдда» и «Хеймскрингла». Ни слова не говорится об этом в «Саге о Стурлунгах», а о том, что он «составлял» какие-то «книги саг», сообщается в ней только мимоходом, в связи с тем, что Стурла Сигхватссон велел сделать с них списки. Нигде в древнеисландских памятниках не говорится ни слова о том, кто был автором «саг об исландцах» — самого замечательного из всего, что создано исландцами. Ни об одной из этих саг неизвестно, кто был ее автором. Все, что составляет гордость и славу исландского народа и всего скандинавского севера, было записано или написано в XIII в. В этом веке исландцы совершили героический подвиг в области культуры. Но можно было бы подумать, что те, кто совершали его, хотели сделать его еще более героическим, оставив его анонимным, или что верные себе исландцы и тут сочетали несочетаемое: творческий гений великих писателей и анонимность народного творчества.
В древности исландцы строили свои дома и капища или церкви в основном из дерева, и поэтому постройки того времени не сохранились. Позднее, в продолжение веков застоя и упадка, жилища исландцев стали гораздо более бедными. Все, что сохранилось от прошлого в Исландии, — это очень немногочисленные и скромные каменные постройки XVIII и XIX вв. Старейшим зданием Исландии считается церковь в Хоуларе — в древности епископской резиденции и культурном центре. Эта церковь XVIII в. Если не считать одной деревянной постройки на хуторе Кельдуре, которая, может быть, частично восходит к XIII в., никаких древних архитектурных памятников прошлого в Исландии нет. Тем более Дорог исландцам единственный материальный памятник их древней культуры — рукописи. Исландцы очень болезненно воспринимают то, что все древние исландские рукописи до сих пор находятся вне Исландии. В XVII в., который был для Исландии наиболее мрачным временем, множество древних пергаментов совсем погибло. Тогда же их стали усиленно вывозить в Данию и Швецию — там в это время пробудился интерес к национальной истории, и ученые этих стран начали понимать значение древне-исландских памятников для истории Скандинавии. Исландские пергаменты посылались в подарок датским ученым или датскому королю, скупались и вывозились в Данию и Швецию. Всего больше исландских пергаментов попало в Копенгаген, немало — в Стокгольм и Уппсалу, кое-что в Англию, Германию, Голландию, Норвегию. В Исландии не осталось ни одного.
Древние пергаменты не потому дороги исландцам, что они художественно выполнены и красивы. Как правило, они беднее и меньше украшены миниатюрами, чем средневековые пергаменты других стран. Кроме того, они обычно покоричневели от времени, закоптились, покоробились, подгнили, порвались. В Исландии их читали вслух при коптящем светильнике в сыром помещении, по ним учились читать в детстве, их передавали из хутора в хутор и из поколения в поколение, их зачитывали до полного износа. Древние литературные памятники продолжали сохраняться в рукописях и после введения книгопечатания в Исландии. Печаталась только церковная литература. Рукописи продолжали списываться еще в XIX и даже в XX в. Но древние пергаменты дороги исландцам и не потому, что только в них можно прочесть памятники древнеисландской литературы. В XVII в. в Исландии начали переписывать пергаменты на бумагу, и сохранилось много таких бумажных списков. Еще в XVI в. в Дании начали издавать древнеисландские памятники, и с тех пор накопилось множество их изданий. Немало древнеисландских пергаментов издано фототипически, т. е. полностью воспроизведено в фотографиях. Конечно, не все древние рукописи достаточно изучены, и в сущности конца изучения рукописи и не может быть. Многие текстологические проблемы еще не решены, а может быть никогда не будут решены, потому что сохранились далеко не все существовавшие в Исландии рукописи и часто плохо сохранились. Однако рукописи все больше уступают место их фотографиям. В частности, рукописи, как правило, значительно менее четки, чем их фотографии, снятые с подошью ультрафиолетовых лучей.
Тем не менее понятно то благоговение, та любовь, о которыми исландцы относятся к своим древним пергаментам. Они немые свидетели того, как жила в народе его древняя литература и какую большую роль она играла в его жизни. И то, что они столько времени были на чужбине, вне Исландии, придает им в глазах исландцев особый ореол. Судьба этих национальных реликвий как бы символизирует судьбу исландского народа, который в продолжение многих веков терпел нищету и притеснения и в конце концов вынужден был своими руками отдать чужестранцам то, что было его высшим достижением, его славой, его утешением в нужде и бедствиях, — свою древнюю литературу.
В одном из зданий старого Копенгагена есть комната с невысокими стеллажами. В ней хранится самое большое собрание древнеисландских рукописей — так называемое Арнамагнеанское собрание. Арнас Магнеус — это латинизированное имя Ауртни Магнуссона, исландца, который в конце XVII – начале XVIII в. собрал эти рукописи. Ауртни Магнуссон, потомок Снорри Стурлусона в шестнадцатом поколении, жил в Копенгагене и был профессором копенгагенского университета. В Исландии не было своего университета до 1911 г., поэтому исландцу можно было сделаться ученым, только приобщившись к датской науке. Всю свою жизнь Ауртни посвятил собиранию древних рукописей, в первую очередь — исландских, конечно. Когда он был в Исландии, он собрал там все, что мог, не пренебрегая ни одним клочком или обрывком. Древние рукописи было единственное, что его интересовало в жизни. Большую ее часть он прожил холостяком. Пятидесяти лет он женился на богатой вдове, которая была на десять лет его старше, и благодаря ее состоянию еще умножил свое собрание. В 1728 г., во время большого пожара Копенгагена, часть его собрания сгорела. От этого удара Ауртни так и не мог оправиться и умер спустя два года, завещав свое собрание копенгагенскому университету. Ауртни Магнуссон был лучшим знатоком исландских рукописей, и он до сих пор — самая крупная фигура исландской науки, несмотря на то, что он не опубликовал ни одного научного труда и не оставил после себя ничего, кроме писем, разрозненных заметок и т. п. — его преклонение перед тем, что было написано в древности, было настолько велико, что сам он не мог написать ничего, что бы его хоть сколько-нибудь удовлетворило.
В наше время в Арнамагнеанском собрании посетителя встречает Йоун Хельгасон, тоже исландец и профессор копенгагенского университета. Йоун Хельгасон высок, сутул, никогда не улыбается и во всем разочарован, кроме, по-видимому, древнеисландских рукописей. Он посвятил всю свою жизнь их изучению и публикации. Он лучший в мире знаток этих рукописей. Но он не только ученый, но и поэт, и притом несомненно лучший поэт современной Исландии. Правда, он опубликовал очень мало стихов. Свой единственный сборник стихов — «С юго-востока» — он был вынужден издать, чтобы воспрепятствовать распространению рукописных списков своих произведений, а его едкие сатирические стихи, которые распространяются в Исландии в списках, до сих пор не изданы. Йоун Хельгасон сердится, когда ему говорят о его стихах. Он хочет, чтобы его считали просто хранителем рукописей. И действительно, в его поэзии много следов его занятий древними рукописями и средневековыми литературными памятниками. Никто не сумел так вдохновенно сказать о древнеисландских рукописях, как сказал о них Йоун Хельгасон в своем стихотворении «В Арнамагнеанском собрании рукописей».
Между Исландией и Данией долго шла «тяжба о рукописях». Наконец в июне 1961 г. в датском парламенте было принято решение о передаче их Исландии. Согласно этому решению большая часть исландских рукописей из Арнамагнеанского собрания и часть исландских рукописей из копенгагенской королевской библиотеки должны быть переданы Исландии. Для Исландии возвращение этих реликвий было бы большим торжеством и национальным праздником. Однако решение датского парламента до сих пор не приведено в исполнение. Выполнению его особенно противятся датские филологи. Они считают, что древнеисландские рукописи должны остаться в Копенгагене.
Копенгагенцы привыкли смотреть на исландцев как на провинциалов. По сравнению с великолепным Копенгагеном с его старинными дворцами и парками, богатейшими музеями и библиотеками Рейкьявик до недавнего времени действительно был глухой провинцией. Кроме того, как это свойственно филологам вообще, в результате занятий древними рукописями и древней литературой датские филологи пришли, по-видимому, не только к осознанию эфемерности всего, написанного человеком, но также и к неосознанному убеждению, что в сущности важно не само написанное человеком, а написанное о написанном, другими словами — не то важно, что древнеисландские рукописи написаны исландцами и в Исландия, что в них заключены замечательные произведения, созданные гением исландского народа, а то, что датчане немало посидели над ними, изучая их. Впрочем, эта филологическая иллюзия — тоже проявление эфемерности всего, написанного человеком.
Язык
«Я изучаю исландский язык не для того, чтобы научиться политике, приобрести военные знания и т. п., но для того, чтобы научиться образу мыслей мужа, для того, чтобы избавиться от укоренившегося во мне с детства благодаря воспитанию духа убожества и рабства, для того, чтобы закалить мысль и душу так, чтобы я мог без трепета идти навстречу опасности и чтобы моя душа предпочла скорее расстаться с телом, чем отречься от того, в истинности и правоте чего она непоколебимо убеждена».
Расмус Раек
Язык определяли как нечто, беспрерывно создаваемое народом, и в этом смысле язык — это то, что всего больше связано с действительностью, в которой живет народ, с его настоящим. Но язык определяли и как то, что связывает народ с его прошлым и в чем выражается своеобразие национальной культуры и характера или, как говорили романтики, «дух народа». Правда, в современном языкознании язык обычно определяется как система знаков или вообще какая-то «система», и действительно, язык можно представить как систему или даже свести его целиком к формулам и схемам. Однако едва ли когда-нибудь удастся сделать обратное: язык, построенный из формул и схем, будет так же непохож на живой язык, как робот непохож на живого человека. Поэтому, если наука о роботах — это не наука о человеке, то и современное языкознание — это не наука о языке.
Разнообразными могут быть также ответы на вопрос о том, что такое родной язык. Выдающийся исландский поэт прошлого века Махтияс Йокумссон в стихотворном обращении к «западным исландцам», т. е. исландцам, эмигрировавшим в Канаду, дает целый ряд образных определений исландского языка. По его словам, родной язык для исландцев — это «сокровищница жизни», «искусство, пылающее мужеством», «живая душа, оправленная в сталь», «форма духа в гибких образах», «сага о минувших временах», «потоки жизни в русле летучего века», то, что могло
Претерпеть все униженья — Голод, мор, огонь и стужу, Нищету и гнет бесправьяи было для народа
Матерью в годину злую, Жажду утоляло, голод, Очагом зимой бывало, Светом солнечным во мраке И светильником в лачуге, Весть несло о странах дальних И о славе дней минувших…[8]Судьба исландского языка в самом деле исключительна. Обычно, когда малочисленный и бедный народ попадает на многие века под иноземное иго и становится политически и экономически зависимым от страны с гораздо более многочисленным населением и несравненно более богатой, то язык этой страны либо совсем вытесняет родной язык угнетенного народа, либо по меньшей мере становится его литературным языком. Так, у норвежцев — ближайших родичей исландцев по языку — в период датского владычества датский язык стал языком литературы, и норвежцы до сих пор не изжили датского языкового наследства, хотя Норвегия освободилась от датского владычества полтора века тому назад. Исландцы, народ, значительно менее многочисленный и более бедный, чем норвежцы, были под датским владычеством пять с половиной веков — на полтора века дольше, чем норвежцы. Однако исландский язык в продолжение всего этого более чем полутысячелетнего периода продолжал оставаться не только разговорным языком всей страны, но и ее литературным языком: на нем все время создавались литературные произведения, поэтические и прозаические, он широко применялся в письменности, а с XVI в. — и в печатных книгах.
То, что очень маленький и нищий народ, попав на пять с половиной веков под власть большого и богатого народа, сохранил свой язык, похоже на подвиг героя волшебной сказки: маленький мальчик побеждает вооруженного до зубов великана или какое-нибудь страшное чудовище. Но в сказке такая победа слабого над несоизмеримо более сильным оказывается возможной потому, что у слабого есть какое-то волшебное средство. И такое волшебное средство действительно было и у исландского народа: его древняя литература, ее богатство, ее широкая популярность в народе, одним словом то, что, как сказал Сигурд Нордаль, глава современной школы исландских филологов, исландский народ — это самый литературный народ мира.
Очевидно, конечно, что роль литературы в развитии литературного языка очень велика. Если нет литературы, то нет и литературного языка. В сущности, исландский язык стал литературным еще до того, как он стал письменным. Отсюда исключительная близость древнеисландского литературного языка к устной народной речи. Чем содержательней и разнообразней литература, тем богаче, живее и гибче литературный язык. Не удивительно поэтому, что исландский язык — самый богатый, живой и гибкий из средневековых литературных языков — оказался таким живучим.
Но судьба исландского языка исключительна и в другом отношении. Обычно язык народа не представляет собой чего-то единого, а распадается на литературный язык и местные диалекты, т. е. разговорный язык народа, меняющийся от места к месту, и различия между литературным языком и местными диалектами или между отдельными местными диалектами могут быть очень значительны[9]. Так, они очень значительны в других скандинавских странах — Норвегии, Дании, Швеции. Различия между отдельными местными диалектами значительны даже на такой ограниченной скандинавской языковой территории, как Фарерские острова, где живет всего около 35000 человек. Между тем в Исландии, которая по площади почти в сто раз больше Фарерских островов, диалектальные различия настолько ничтожны, что очень многими считались несуществующими. Как правило, они заметны только квалифицированному фонетисту. А главное — они не имеют характера отклонения от литературной нормы. Поэтому, если называть диалектом не просто речь, характеризуемую местными особенностями, а местную речь, отклоняющуюся от литературной нормы, то тогда в Исландии действительно нет диалектов, как нет и литературной нормы, которая им противопоставлена. Характерно, что в Исландии принято рекомендовать иностранцам изучать исландский язык не в столице, а в каком-нибудь глухом углу. Там, утверждают исландцы, говорят «более чисто и правильно». Общий язык народа, на котором говорят в любом глухом углу, и есть литературный язык в Исландии. Таким образом, если исландцы — это самый литературный народ мира, то исландский язык — это самый литературный язык мира.
Не у всякого народа есть литературные памятники более чем полутысячелетней давности. Но даже если у народа есть такие древние литературные памятники, то, как правило, они не могут быть прочитаны представителем этого народа без специальной подготовки: и слова, и грамматические формы, и синтаксические конструкции, и нередко даже буквы в этих памятниках не те, что в современном языке. Исландский народ и в этом отношении занимает особое место. Современный исландец может свободно читать и понимать памятники своей древней литературы, хотя их отделяет от современности семь — восемь веков. Но отсюда не следует, что исландский язык на протяжении своей истории совсем не изменился. Он изменился, и в некоторых отношениях даже довольно значительно[10].
Одиннадцать веков тому назад, когда происходило заселение Исландии, языковые различия в пределах Скандинавии были еще очень невелики. Сами говорящие едва ли их замечали. Еще в XII в. эти различия были настолько невелики, что язык всех скандинавов мог покрываться общим названием «датского языка». Это был тот самый язык, который в результате викингских походов скандинавов одно время можно было услышать и в Англии, и в Ирландии, и во Франции, и в Италии, и у Белого моря, и у Каспийского, и в Новгороде, и в Киеве, и в Византии, и на всех островах к северу от Англии, и в Исландии, и в Гренландии, и даже в Северной Америке. До эпохи викингов в мире не бывало языка, носители которого распространились бы так широко по земному шару.
Все же некоторые территориальные различия в языке скандинавов, по-видимому, уже существовали в ту эпоху, когда происходило заселение Исландии, и несомненно, что исландские первопоселенцы говорили на тех разновидностях скандинавской речи, которые были характерны для местностей, откуда они приехали. Большинство первопоселенцев приехало в Исландию из западной Норвегии. Не удивительно поэтому, что западнонорвежские диалекты до сих пор всего ближе к исландскому языку. Hо не все исландские первопоселенцы были из западной Норвегии, и в результате переселения не могло не произойти известного языкового смещения. Поэтому, по всей вероятности, речь первопоселенцев в Исландии с самого начала не была тождественна какой-то одной разновидности скандинавской речи на континенте. Что же касается современного исландского языка, то он резко выделяется среди других скандинавских языков и непонятен даже норвежцам.
Еще в XIII в., когда было написано большинство древнеисландских литературных памятников, отличия языка этих памятников от языка норвежских памятников того же времени были невелики. Автор «Первого грамматического трактата», произведения, написанного в Исландии в середине XII в., еще называет свой язык «датским» (dǫnsk tunga). В XIII и XIV вв. язык исландцев и норвежцев обычно назывался «северным» (norrœnt mál). Выражение «исландский язык» (íslenzkt mál) появилось только в XV в., когда отличия исландского языка от норвежского стали значительны. Язык древнеисландских памятников и сейчас называют иногда «древнесеверным», «древнезападноскандинавским» или даже просто «древненорвежским».
Отличия исландского языка от норвежского стали значительными в основном потому, что к этому времени крупные изменения произошли в норвежском языке, и в частности — в его грамматическом строе. Между тем своеобразие истории исландского языка заключается в том, что в своем грамматическом строе он изменился несоизмеримо меньше, чем родственные ему языки и в первую очередь — другие скандинавские языки. Современная исландская грамматика — это, в сущности, та самая грамматика, которая была характерна для скандинавов в эпоху викингов. Поэтому памятниками эпохи викингов можно считать не только ладьи, оружие и утварь, найденные в захоронениях той эпохи, или сказания об Одине, Торе, Сигурде и других богах и героях, сохранившиеся в древнеисландской литературе, но также и современные исландские грамматические формы, соответствия которых давным давно, большей частью еще в дописьменное время, исчезли в других скандинавских языках.
Если искать в грамматическом строе отражения особенностей мышления, то в грамматическом строе древнеисландского языка можно обнаружить ряд черт, которые как будто отражают какую-то архаическую ступень мышления[11]. Например, конструкции типа «они Гуннар» в значении «ранее упомянутые лица и Гуннар» (þeir Gunnarr), «на средней дороге» в значении «на середине дороги» (á miðjum veginum), «многий человек» в значении «многие люди» (margr maðr) и т. п. истолковывались как отражения архаических представлений о соотношении части и целого, а именно — их соположения на равных основаниях: часть выступает в этих конструкциях в роли определения целого, а определение, относящееся к части целого, переносится на все целое или наоборот. Какие-то архаические особенности мышления, возможно, отражают также конструкции типа «было мне тогда взглянуто вверх» в значении «взглянул я тогда вверх» (varð þá mér litit upp), «быку было убито» в значении «бык был убит» (uxa einum hafði slátrat), «она любила ему» в значении «она любила его» (hon unni honum), «туману рассеяло» в значении «туман рассеялся» (þokunni létti), «такой же старый и я» в значении «такой же старый, как я» (eins gamall ok ek) и т. п.
Однако все эти конструкции, странные с точки зрения грамматики современных европейских языков, не только сохранились в современном исландском языке, но в некоторых случаях даже стали более употребительными, несмотря на то, что исландское общество поднялось от варварства до современной цивилизации. Поэтому, если эти конструкции действительно отражают какие-то особенности мышления, то это, очевидно, мышление не тех, кто сейчас говорит на исландском языке, и даже не тех, кто говорил на нем тысячу лет тому назад, а каких-то гораздо более отдаленных предков современных исландцев. По-видимому, в силу своей огромной консервативности, грамматический строй может сохранять в себе отражение давным давно изжитых особенностей мышления, но, вероятно, отражение не зеркальное, а опосредствованное всей предшествующей историей грамматического строя данного языка.
В современном исландском языке совершенно так же, как в древнеисландском, очень много грамматических форм. В существительном различаются формы четырех падежей и двух чисел, в прилагательном, кроме того, — формы трех родов в обоих числах и слабые и сильные формы, в глаголе — формы трех лиц, двух чисел, двух залогов, трех наклонений, двух простых времен и множества сложных. Типы склонений и спряжений, очень многочисленные в исландском, остались те же. Все грамматические категории тоже сохранились. Единственное изменение, которое произошло в грамматических категориях, заключается в том, что в личных местоимениях исчезло двойственное число: старые формы двойственного числа стали употребляться в значении множественного числа. Остальные изменения грамматического строя заключались либо в том, что окончания некоторых форм изменились по аналогии с другими окончаниями (так, окончания прошедшего времени сослагательного наклонения в множественном числе под влиянием соответствующих окончаний изъявительного наклонения изменились из -im, -ið, -i в -um, -uð -u), либо в том, что отдельные слова перешли из одного типа склонения или спряжения в другой, либо, наконец, в том, что некоторые окончания изменились в результате происшедших фонетических переходов (так, окончание -r изменилось в -ur). Но эти последние изменения, в сущности, не грамматические, а фонетические. Никакой общей тенденции во всех этих изменениях нельзя обнаружить.
Так как грамматический строй в исландском почти не изменился, оказалось возможным свести к минимуму различие между орфографией древнеисландских памятников и современной орфографией. Правда, для этого понадобилось двоякое вмешательство лингвистов. Во-первых, издавая древнеисландские памятники, орфографию их, как правило, нормализуют, другими словами — вводят в нее единообразие и последовательность, которых в древних рукописях нет и в помине. Во-вторых, понадобилась орфографическая реформа: еще в начале XIX в. была введена орфография, которая очень близка к нормализованной древнеисландской орфографии, но не отражает фонетических изменений, происшедших в исландском языке. Поэтому современному исландцу труднее читать памятники XVIII, XVII или XVI в. в орфографии оригинала, чем древние памятники в современной орфографии.
Современный исландец читает древние памятники, произнося слова так, как они теперь произносятся. В древности они произносились совсем иначе. Об этом свидетельствует прежде всего сама исландская орфография: современному произношению она в ряде случаев явно не соответствует. Между тем первоначально она несомненно отражала произношение настолько точно, насколько орфография вообще может его отражать. Что древнеисландское произношение отличалось от современного, следует, кроме того, из сравнения исландского языка с другими германскими языками, а также из описания звуков древнеисландского языка в так называемом «Первом грамматическом трактате» — замечательном произведении, в котором неизвестный исландский автор середины XII в. предвосхитил и плодотворно использовал такие понятия современного языкознания, как «смысло-различительная функция звуков речи», «минимальная пара» и т. д., правда, не называя их.
В результате фонетических изменений, которые претерпел исландский язык, его произношение приобрело некоторые очень своеобразные черты. Они отличают исландский язык не только от других скандинавских, но и от других европейских языков вообще. В исландском языке различие между глухими и звонкими звуками играет роль, обратную той, которую оно обычно играет. Обычно оно используется в таких звуках, которые представляют собой в основном шумы, а не тоны, а именно — в смычных и щелевых согласных. Так, в русском языке оно используется для различения звуков в парах п—б, т—д, к—г, ф—в, с—з, ш—ж. В исландском языке, наоборот, это различие совсем не используется в смычных согласных, очень мало используется в щелевых согласных (только в паре f—v), но широко используется в звуках, которые и так представляют собой в основном тоны, а не шумы, а именно — в плавных и носовых согласных, т. е. в звуках, аналогичных русским р, л и м, н. Если, следуя некоторым лингвистам, придыхание, предшествующее смычному согласному, считать глухим гласным, то в исландском есть даже глухие гласные. Слова, где встречаются все эти глухие тоны, звучат странным образом глухо, как будто говорящий производит какие-то артикуляции, но не издает никаких звуков. В сочетании со все время повторяющейся интонацией и большой компактностью слов — приставок в исландском нет, ударение, как правило, падает на первый слог слова, а безударных слогов мало — исландское произношение кажется таким монотонным, стремительным и глухим, как будто это произношение теней, а не людей.
Большинство слов, встречающихся в древнеисландской литературе, понятно современному исландцу. Правда, в ней есть слова и словосочетания, которые ему непонятны или кажутся странными. Но ведь такие слова встречаются и в современной литературе. Во всяком случае, наиболее употребительные слова остались в основном те же. При подсчете частоты употребления слов в современном исландском обнаружилось, что из 520 наиболее употребительных слов только 20 не встречаются в древнеисландских памятниках. Но возможно, что из этих 20 слов часть существовала в языке, хотя и не встречается в памятниках.
И все же это не значит, что словарный состав исландского языка не изменился. Он изменился очень сильно. Появилось огромное множество новых слов, выражающих понятия, которых в древности не существовало, в частности многочисленные понятия, возникшие в новое время в связи с развитием науки и техники. Однако и здесь исландский язык пошел своим собственным путем. В то время как в других европейских языках для выражения новых понятий широко использовались заимствованные слова, исландский язык обходился почти совершенно без них. Правда, за тысячу лет некоторое количество заимствований все же проникло в него. Еще в эпоху заселения Исландии в него попало несколько ирландских слов и собственных имен, позднее — несколько слов разного происхождения для обозначения понятий, возникших в связи с введением христианства, еще позднее, когда появилась переводная литература, — ряд слов из иностранной рыцарской литературы. Из этих последних, впрочем, многие не получили распространения в разговорном языке. Еще позднее немало нижненемецких и датских слов встречается в исландских памятниках, особенно в церковной литературе, появившейся в XVI в. в связи с тем, что лютеранство пришло на смену католицизму. Однако, по-видимому, большинство этих слов тоже не проникло в разговорный язык. Иностранные слова проникают в исландский язык и в наше время. Немало их используется, например, в языке моряков и в языке торговли. Но любопытно, что в наше время наблюдается тенденция, обратная той, которая существовала раньше: в разговорном языке употребляется больше иностранных слов, чем в письменном. Это, конечно, объясняется тем, что ведется борьба с иностранными словами, и она проявляется прежде всего в письменном языке.
По сравнению с другими европейскими языками в исландском все же очень мало заимствований, и его способность образовывать новые слова, наряду с его исключительным богатством, — самое характерное в нем. Эта его способность была давно замечена, и многие говорили о ней. Еще в начале XIX в. знаменитый датский лингвист Расмус Раек писал: «Исландский язык отличается … богатством, которое, особенно в области поэтического языка, несравнимо с другими известными языками, а также гибкостью и способностью образовывать новые слова, в силу которой он по чистоте и своеобразию намного превосходит все новые языки в Европе». Образование новых слов в исландском представляет исключительный интерес с той точки зрения, что в большом количестве случаев известно, кто их создал и при каких обстоятельствах, как они прививались, конкурируя с другими новыми словами или с заимствованиями, в силу каких причин они прививались или не прививались и т. д. Таким образом, исследование относящегося сюда материала могло бы пролить свет на роль отдельного человека в языкотворческом процессе, сущность самого этого процесса, пути сознательного воздействия человека на язык. Между тем, как это ни странно, процесс образования новых слов в исландском до сих пор не исследовался, если не считать того, что были в общих чертах описаны способы образования новых слов и высказаны некоторые догадки о причинах того, что в исландском языке так мало заимствований.
Огромное большинство исландских новообразований — это сложные слова, составленные из двух, реже из трех и больше слов, существовавших в языке и раньше. Такое сложное слово нередко представляет собой перевод греческих или латинских элементов, из которых состоит иностранное слово, обозначающее данное понятие. Другими словами, такое сложное слово нередко калькирует соответствующее иностранное слово, состоящее из греческих или латинских элементов. Однако в то время как в языке, из которого это слово заимствовано, его «внутренняя форма» (т. е. его этимологический состав) понятна только тому, кто знает классические языки, в исландском она понятна любому исландцу. Другими словами, у такого исландского новообразования живая внутренняя форма. Так, например, говорящий на русском языке, как правило, не знает, что слово «космонавт» восходит к греческим словам kósmos «мир, небо» и naútēs «мореплаватель»; «метеорология» — к греческим metéōra «небесные явления» и lógos «слово»; «микроскоп» — к греческим mikrós «маленький» и skopeĩn «смотреть»; «прогресс» — к латинским pro- «вперед» и gressus «шаганье, ходьба». Между тем всякому исландцу понятно, что geimfari «космонавт» происходит от geimur «небесное пространство» и fari «ездок», veðurfræði «метеорология» — от veður «погода» и fræði «знание», smásjá «микроскоп» — от smár «маленький» и sjá «смотреть», framsókn «прогресс» — от fram «вперед» и sókn «продвижение, наступление». Часто, однако, перевод компонентов иностранного слова далеко не буквален: компоненты исландского слова нередко описывают понятие более полно или более образно, чем греческие или латинские компоненты соответствующего иностранного слова. Так, например, по-исландски «электричество» (от греческого ēlektron «янтарь») — это «сила янтаря» (rafmagn, от raf «янтарь», magn «сила»), «истерия» (от греческого hystéra «матка») — это «материнская болезнь» (móðursýki, от móðir «мать», sýki «болезнь»), «витамин» (от латинского vita «жизнь» и amin название химического вещества) — «вещество жизни» (fjörefni, от fjör «жизнь», efni «вещество»). Но всего чаще исландское новообразование состоит из компонентов, которые описывают обозначаемое ими понятие по-своему, а не калькируют соответствующее иностранное слово. Другими словами, внутренняя форма у этих слов не только живая, но и совсем иная, чем у их иностранных соответствий. Вот примеры таких слов: skellmatðra «мотороллер» (от skella «трещать», naðra «гадюка»), kvikmynd «кинофильм» (от kvikur «живой», mynd «образ»), hugmynd «идея» (от hugur «ум», mynd «образ»), skriðdreki «танк» (от skrið «ползание», dreki «дракон»), lágrnark «минимум» (от lágur «низкий», mark «метка»), tröllepli «дыня» (от tröll «великан», epli «яблоко»), vígorð «лозунг» (от víg «бой», оrð «слово»), þjóðnýting «национализация» (от þjóð «народ», nýting «использование»), stjórnskipunarlög «конституция» (от stjórn «управление», skipun «устройство», lög «закон»), dagblað «газета» (от dagur «день», blað «лист»), skopstæling «пародия» (от skop «насмешка», stæling «подражание»), knattspyrna «футбол» (от knöttur «мяч», spyrna «пинок»), eldflaug «ракета» (от eldur «огонь», flaug «полет»). Таких новообразований в современном исландском многие тысячи.
Живая и часто своеобразная внутренняя форма есть также у тех исландских новообразований, которые представляют собой не сложные, а производные слова. Совсем недавно возникли, например, слова þota «реактивный самолет» (от þjota «выть, мчаться»), sprengja «бомба» (от sprengja «взрывать»), fruma «клетка» и frymi «протоплазма» (от frum «первичный»), gerill «бактерия» (от gera «делать»), vindill «сигара», vindlingur «сигарета» (от vinda «свертывать»), gró «спора» (от gróa «расти»). Наконец, новое понятие может обозначаться в исландском словом, уже раньше существовавшим в языке, но употреблявшимся в другом значении или даже вообще вышедшим из употребления. Например, недавно получили новое значение слова vél «машина» (раньше только «хитрость, приспособление»), kerfi «система» (раньше только «сноп, венок»), stúka «ложа» (раньше только «пристройка»), lest «поезд» (раньше только «караван лошадей»), deild «факультет» (раньше только «часть, отделение»), sími «телефон», «телеграф» (раньше «нить»), menning «культура» (раньше «воспитание»), stétt «класс общества» (раньше «сословие»), íþróttir «спорт» (раньше «искусства»), orka «энергия» (раньше «работа, сила»), tundur «взрывчатка» (раньше «трут»), vin «оазис» (первоначально «луг»), þulur «диктор» (первоначально, по-видимому, «тот, кто произносил священные тексты, жрец»). Таких смысловых новообразований значительно меньше в исландском, чем новых сложных слов, но их смысловая структура особенно характерна для мышления современных исландцев, в котором прошлое и современное странным образом скрещиваются и совмещаются.
Массовое образование новых слов для обозначения новых понятий началось в Исландии во второй половине XVIII в., когда потребность в таких словах усилилась в связи с тем, что деятели исландского Просвещения стали обращаться к естественнонаучным и другим темам, на которые раньше никто не писал по-исландски. Начавшееся в Исландии примерно в то же время национальное движение способствовало тому, что процесс образования новых слов стали сознательно направлять по специфически исландскому пути, а именно — создавать новые слова на исландской основе взамен соответствующих иностранных слов. Но сам по себе этот путь не был придуман тогда. Пуристические принципы были впервые сформулированы и применены на практике исландским ученым Артнгримом Йоунссоном еще в самом начале XVII в. Фактически же вся предшествующая история исландского языка и исландской литературы была предпосылкой современного исландского пуризма.
Способы создания новых слов, характерные для современного исландского языка, применялись уже в древнеисландском. Сложные слова, составленные из двух самостоятельных слов, уже тогда были в подавляющем большинстве среди новых слов. В связи с введением христианства возникли, например, скалькированные с английского сложные слова bókstair «буква» (от bók «книга», stafr «руна, буква»), guðspjall «евангелие» (от guð «бог», spjall «весть»), hátíð «праздник» (от hár «высокий», tíð «время»), но еще раньше были созданы без иноязычного прообраза сложные слова alþingi «все-исландское вече» (от al- «все-», þing «вече»), goðorð «годорд» (от goði «жрец», оrð «слово»), lǫgsǫgumaðr «законоговоритель» (от lǫg-saga «произнесение законов», maðr «человек») и т. п. Особенно много сложных слов создавалось в древнеисландской поэзии, где к их созданию принуждали сложность стихотворных размеров и обязательность двучленных поэтических обозначений — так называемых кеннингов. Но о языке поэзии будет речь в главе о поэзии. В ряде случаев в древнем языке имело место и переосмысление слов, уже существовавших в языке. Так, в связи с тем, что исландские первопоселенцы попали в новые для них природные условия, новые значения приобрели слова hraun «лава» (первоначально «каменистая почва»), hverr «гейзер» (первоначально «котел»), laug «горячий источник» (первоначально только «вода для купанья»).
Огромное большинство географических названий в Исландии — это сложные слова, причем нет существенного различия между названиями, возникшими тысячу лет тому назад, непосредственно после заселения страны, и возникающими в современном языке. Название «Остров Сурта» (Surtsey), данное острову, возникшему в 1963 г. у южного побережья Исландии в результате извержения подводного вулкана, по способу образования не отличается от названия «Острова Западных Людей» (Vestmannaeyjar; «западные люди» — это ирландцы), которое возникло, когда Ингольв Арнарсон, первый поселенец в Исландии, убил там ирландских рабов своего побратима Хьёрлейва. Современному исландцу так же понятна внутренняя форма и огромного количества других географических названий, возникших в Исландии еще в древности, таких, как Reykjavík «Залив дымов», Hlíðarendi «Конец склона», Hvalfjörður «Китовый фьорд», Ingólfshöfði «Мыс Ингольва», Hvítá «Белая река», Jökulsá «Ледниковая река», Kaldakvísl «Холодный проток», Þingvellir «Поля Тинга», Álftanes «Лебединый мыс», Mývatn «Комариное озеро», Vatnsdalur «Озерная долина», Fagrabrekka «Красивый склон», Þórsmörk «Лес Тора», Helgafell «Священная гора», Bláskógar «Синие леса», Bergþórshvoll «Холм Бергтора», Kirkjubær «Церковный хутор», Mávahlíð «Склон чаек», Andakíll «Утиная бухта» и т. д., и т. п.
Сохранение грамматического строя исландского языка и всего основного словарного состава в сочетании с непрерывностью письменной и литературной традиции обусловили преемственность и в способах образования новых слов. До мере того как в связи с развитием науки и техники, а также экономическим подъемом увеличивалось количество понятий, которые надо было обозначить новыми словами, усиливалось и ставшее традиционным словотворчество. В последние десятилетия оно приобрело такой размах, что потребовались правительственные ассигнования на нужды словотворчества в области науки и техникп и принятие различных организационных мер — назначение специальных комиссий и т. д.
В результате пуристического словотворчества в исландском языке оказалось очень много слов с живой внутренней формой, т. е. слов такого же типа, как древнеисландские dvergmál «эхо» (буквально «речь карликов», так как dvergr «карлик», a mál «речь», позднее bergmál, буквально «речь скал», так как berg «скала») или vind-auga «окно», позднее «отдушина» (буквально «глаз ветра», так как vindr «ветер», auga «глаз»). В языке художественной литературы и особенно поэзии такие слова, конечно, большое преимущество, так как они сами по себе художественный образ. Но в языке науки и техники наличие слов с живой внутренней формой, в сущности, едва ли преимущество: научные и технические термины выполняют свою функцию, а именно — обозначают определенные понятия, совершенно так же, если они не имеют живой внутренней формы, не говоря уже о том, что внутренняя форма общеупотребительного термина, как правило, вообще не замечается говорящим, а в ряде случаев и не может быть реализована как образ (сравни, например, rafstöð «электростанция», где raf «янтарь», a stöð «станция»). Пожалуй нельзя сказать и того, что живая внутренняя форма всегда делает термин понятным. Термин ýðir «карбюратор» (от úða «моросить») едва ли будет понятен тому, кто не знает, что такое карбюратор. Тем не менее значение пуристического словотворчества в области науки и техники очень велико. Благодаря нему для языка науки и техники и вообще для языка интеллигенции не характерны иноязычные заимствования, т. е. слова, вне данной стилистической сферы не встречающиеся и в древнем языке отсутствовавшие. По своей структуре и по своим элементам пуристические новообразования близки к языку народа, к языку литературы и поэзии, к древнему языку. Таким образом, благодаря пуристическому словотворчеству в исландском языке нет разрыва между языком науки и техники и языком литературы, языком интеллигенции и языком народа, современным и древним языком.
Близость пуристических терминов науки и техники к языку художественной литературы и поэзии сказывается, в частности, в том, что многие из этих терминов были созданы известными писателями и поэтами. Знаменитый исландский поэт романтик Йоунас Хатльгримссон создал слово ljósvaki «эфир» (ljós «свет», vaka «струиться»), известный писатель и ученый Сигурд Нордаль — слово útvarp «радио» (út «наружу», varp «бросанье») и многие другие, Халлдор Лакснесс — слово stéttvís «классово сознательный» (stétt «класс», vís «мудрый», сравни þefvís «с тонким обонянием» и т. п.), samyrkjubú «колхоз» (sam- «вместе», yrkja «обрабатывать», bú «хозяйство») и т. д. О многих других представителях исландской интеллигенции известно, что они создали то или иное слово. Например, слово landhelgi «территориальные воды» (land «земля», nelgi «неприкосновенность») создал один служащий министерства иностранных дел, слово róttækur «радикальный» (rót «корень», taka «брать») и много других — один школьный учитель, слово fúkalyf «антибиотик» (fúki «плесень», lyf «лекарство») — один врач и т. д.
Но, конечно, далеко не всякое новообразование, случайно возникшее в речи или сознательно придуманное, становилось полноценным словом исландского языка. Многие из них были эфемеридами. Нередко конкурировало несколько слов, из которых в конце концов выживало одно. Известно, например, что телефон обозначался словами hljóðberi (hljóð «звук», bera «нести»), hljóðþráður (þráður «нить»), hljómþráður (hljómur «звучанье»), talþráður (tal «речь»), frettaþráður (frett «известие»), málþráður (mal «речь»), sími («нить»), из которых выжило только последнее. Кроме того, сложные слова возникали не только как термины, но и как обозначения, вне данной ситуации непонятные и ненужные. Например, когда однажды сильный ветер в Рейкьявике сорвал с крыш несколько железных листов и крутил их в воздухе, в газете появилось сообщение об этом под заголовком: «Листовьюга (plötufok, от plata «лист, плита», fok «вьюга») на улицах города». Сложные слова в исландском языке так же легко образуются и могут быть так же эфемерны, как словосочетания в других языках.
Исландский пуризм обеспечил прочную связь с языком древней литературы и с самой этой литературой. Но любопытно, что, по-видимому, именно он обусловливает известное осовременивание архаичных явлений в сознании исландцев, в частности — тенденцию к модернизации древней литературы. Связь современного исландского языка с древним настолько сильна, что в сознании исландцев нередко как бы сглажено различие между архаичными и современными явлениями. Исландский парламент (alþing или alþingi) называется тем же словом, что и древнеисландское вече (alþingi). Он, конечно, совершенно непохож на древнеисландское вече. Между тем для исландца современный парламент и древнее вече — это то же самое. Исландцы поэтому обычно называют свой парламент «древнейшим парламентом Европы», полагая, что их вече было тоже «парламентом». Называя одним и тем же словом древнего скальда (skáld) и современного поэта, древнюю сагу (saga) и современный роман (skáldsaga, т. е. «сага, сочиненная скальдом»), исландцы склонны игнорировать различие между соответствующими явлениями и приписывать архаичному явлению свойства современного. Исландский диктор, вероятно, склонен считать, что жрец, обязанностью которого в дописьменное время было произносить священные тексты и который назывался тоже þulur, был просто напросто диктором.
Исландский язык колоссально богат. Для всего, что занимает важное место в жизни исландцев, существует множество слов. Так, конечно, в исландском языке есть огромное множество слов, связанных с овцеводством и рыболовством. Самые частные явления из этих областей имеют специальные обозначения. Не меньше есть в исландском языке слов, связанных с погодой. Дело в том, что погода в Исландии играет важную роль и в сельском хозяйстве, и в рыболовстве, и она там крайне изменчива и капризна. Сообщения о погоде по исландскому радио занимают чуть ли не половину программы, настолько они подробны и часты. Только для обозначения понятия «непогода» есть слова óveður, illveður, illviðri, harðviðri, illviðrakast, ótið, ótiðarkafli, hrota, hret, áfelli, íhlaup, þraæsingur, hryssingur и т. д. Ветер разной силы обозначается по-исландски разными словами: andvari — это ветер в один балл, kul — в два балла, gola — в три балла, kaldi — в четыре балла и т. д. Есть слова со значением «задержанный непогодой» (veðurfastur или veðurtepptur), «умеющий хорошо предсказывать погоду» (veðurglöggur или veðurkðnn), «озабоченный погодой» (veðursjúkur) и т. п. Говорят, что один исландский учитель собрал 1500 слов, связанных с погодой. Такое собирание слов практиковалось многими в Исландии. Большой толковый словарь исландского языка, который сейчас составляют в специальном институте при Рейкьявикском университете, вызывает большой интерес в широких кругах исландского общества[12]. Составители словаря получают много писем со всех концов страны со сведениями о тех или иных исландских словах. Исландцы всегда были народом словолюбов.
Но исландцы также народ с древней литературной традицией. Характерно, что в исландском языке есть несколько слов со значением «старая, потрепанная книга» (skcrudda, skræða, drusla, bókagrey). Богатая фольклорная традиция объясняет существование в исландском множества слов для обозначения разных существ, созданных народной фантазией. Flagð, skessa, skass, sköss, forynja, fála, ófreskja, gýgur, grýla, brussa, bryðja, frenja, svarkur, tröllkona, kvenvargur — все это слова со значением «ведьма, великанша». Есть множество слов со значением «колдовство» (galdur, fítonsandalist, fítonsandi, fjölkynngi, fordæðuskapur, forneskja, gjörningar, kukl, kunátta, kynngi, rýnni, seiður, trölldómur, tröllskapur, töfrar и т. д.). А вот некоторые слова со значением «привидение»: draugur, draugsi, afturganga, slæðingur, vofa, svipur, flyka, sveimur, haugbúi, uppvakningur, sending, fylgja, móri, lalli.
В некоторых случаях в исландском языке есть ряд слов для обозначения одного и того же явления в разных его аспектах, но нет его общего обозначения. Так, например, в исландском есть десять слов со значением «хвост»: hali — у коровы, крысы, мыши, осла и т. д.; rófa — у собаки и кошки; tagl — у лошади; skott — у лисицы, собаки, кошки; stertur — у лошади, особенно, если он короткий; dyndill — у овцы или тюленя; stél или vel — у птицы; stýri — у кошки; sporður — у рыбы. Но ни одно из этих слов не значит «хвост вообще». Могло бы показаться, что это черта архаическая, так как известно, что отсутствие слов, обозначающих общие понятия, при обилии слов, обозначающих частные понятия, — результат неразвитости абстрактного мышления, неспособности отвлечься от отдельных конкретных признаков явления, и обычно имеет место у культурно отсталых народов. Исландцев, однако, никак нельзя назвать культурно отсталым народом. Способность к абстрактному мышлению развита у них несомненно не меньше, чем у других европейских народов, и у них есть множество слов, обозначающих общие понятия. По-видимому, однако, дело в том, что не во всех случаях такие слова нужны, и в частности отсутствие слова со значением «хвост вообще» едва ли исключает возможность абстрактного мышления. Чем менее общее значение имеет слово, тем оно конкретнее, образнее. Поэтому в языке художественной литературы отсутствие слова с общим значением — это даже преимущество. Исландский язык сочетает в себе те преимущества, которые дает наличие слов, обозначающих понятия, необходимые для абстрактного мышления, с теми преимуществами, которые в известных случаях дает отсутствие слов, выражающих общие понятия.
Богатство языка — это не только обилие слов, но и обилие идиоматических словосочетаний. В исландском языке их огромное количество. Пожалуй, основная трудность, которую приходится преодолевать изучающему исландский язык, заключается в том, что, даже когда все отдельные слова в словосочетании понятны, в целом оно непонятно, потому что идиоматично. Невозможно догадаться, что «играть двумя щитами» (leika tveim skjöldum) значит «вести двойную игру», а «играть свободным хвостом» (leika lausum hala) значит «гулять на просторе», а «играть на острие шила» (leika á als oddi) значит «быть в прекрасном настроении», а «играть на двух языках» (leika á tveim tungum) значит «быть сомнительным» и т. д. и т. п. Но исландская идиоматика никогда не была систематизирована и описана, так что невозможно дать представление о ее особенностях.
Богатство языка — это также своеобразие значений слов. Язык тем богаче, чем больше в нем таких значений, которые не имеют иноязычных эквивалентов и могут быть переданы на других современных языках только описательно. Слова с такими значениями — это, конечно, в первую очередь обозначения того, что специфично для исландской природы или исландского быта. Вот несколько таких слов: heiði «пустынное плоскогорье или перевал между долинами», tún «возделываемый и огороженный луг около хутора», sæluhús «дом для путников на перевале или в пустыне», varða «дорожный знак, сложенный из камней», hraun «лавовое поле», drangur «отдельно стоящая скала», melur «холмик, покрытый галькой или гравием», borg «холм с плоским верхом и обрывистыми скалистыми боками», skyr «молочный продукт кремообраз-ной консистенции», hjallur «сарай для сушки рыбы», rétt «загон для овец». Но в исландском много также слов со своеобразными значениями, но не имеющими отношения к специфически исландским условиям. Вот несколько таких слов: misvitur «не всегда одинаково умный», matarást «любовь к тому, кто кормит», т. е. «корыстная любовь», grátfeginn «обрадованный до слез», sleggjudónmr «суждение с плеча», hagyrðingur «тот, кто умеет правильно сочинять стихи», kvöldsvaefur «сонливый по вечерам», gullvægur «ценный как золото», grængolandi «зеленоватый по причине большой глубины», verrfeðrungur «сын, который хуже своего отца», föðurbetringur «сын, который лучше своего отца».
Наконец, своеобразие значений проявляется в исландском даже тогда, когда они как будто имеют полные эквиваленты в других современных языках. Вот несколько примеров.
Исландское слово hestur означает «лошадь», и это такое же общее обозначение лошади, как соответствующие слова в русском и других европейских языках. Тем не менее значение этого слова в исландском специфично. Исландские лошади — это особая порода. Они низкорослые, коренастые, мохнатые, с косматой гривой. Собственно говоря, они лошадки, а не лошади. На исландских лошадках ездят только верхом, и до недавнего времени они были единственным видом сухопутного транспорта в стране. Переезды верхом или с навьюченными лошадками через пески и реки, перевалы и пустынные плоскогорья играли огромную роль в жизни исландцев. Пожалуй, ни у одного народа лошади не пользуются таким почетом и такой любовью, какими пользуются исландские лошадки у исландцев. О них часто сочинялись стихи. «Лошадиные строфы» — особый исландский поэтический жанр. Табун пасущихся лошадок — обычный элемент исландского пейзажа. Их много держат и в Рейкьявике, и его жители любят выезжать по праздникам за город верхом. Недавно была выпущена серия почтовых марок с изображением исландской лошадки на них: исландская лошадка — это символ исландской природы.
Слово sandur значит «песок», и это тоже как будто точный эквивалент соответствующих слов в других европейских языках. Но дело в том, что песок в Исландии совсем не такой, как в других странах. Он черный, а не желтый. Или, вернее, он темно-серый, но когда он влажный, а он часто влажный, он иссиня-черный. Обычно, он крупный, как гравий. Черный пепел, извергаемый вулканами, тоже называется по-исландски sandur. В Исландии, особенно на юге страны, песок занимает огромные площади. Иссиня-черные пески, по которым серебряными потоками растекается река, — типичная для Исландии картина. В «Прорицании вёльвы», самой знаменитой песни «Старшей Эдды», о начале времен говорится как о времени, когда «не было в мире ни песка, ни моря». Здесь песок — это как бы земля вообще, противоположность морю.
Слово blár значит «синий», a svartur «черный». Других слов для обозначения этих цветов в исландском нет. Но blár — также «черный», и это, возможно, связано с тем, что черный или иссиня-черный цвет играет очень большую роль в исландской природе: пески — обычно черные, дороги — тоже, так как они гравийные, лава часто бывает черная, базальтовые скалы и горы — тоже черные, а большая часть гор в Исландии — это базальт, и базальт по-исландски blágrýti — буквально «синий камень» (как негр по-исландски blámaður — буквально «синий человек»). Может быть, поэтому исландский национальный костюм — его и сейчас носят пожилые женщины — черного цвета.
Даже значения исландских слов vestur «запад», norður «север», austur «восток», suður «юг» очень своеобразны. Направляясь из одной части своей страны в другую и следуя старой традиции (она связана, очевидно, с тем, что в стране всегда была заселена только прибрежная полоса и путешествовали обычно вдоль нее, ориентируясь по определенным районам ее, а не по странам света), исландец называет «западом», «севером», «востоком» и «югом» северо-западную, северо-восточную и восточную окраины страны и район Рейкьявика. Поэтому, например, направляясь из северо-западной окраины Исландии в сторону ее северо-восточной окраины, т. е. направляясь фактически на юг или на восток, исландец говорит, что едет «на север», а направляясь из юго-западной окраины в сторону Рейкьявика, т. е. направляясь фактически на север, исландец говорит, что едет «на юг». Таким образом, в отличие от других народов, исландцы могут ехать «на север» и видеть слева восход солнца или ехать «на юг» и видеть его заход слева, а прямо перед собой — северное сияние.
Миф[13]
«Чем больше мы высвобождаемся из-под власти нашего времени и решаемся рассматривать его мудрость как относительную, а не как норму, согласно которой следует судить обо всем, тем легче нам уважать наивные мифы и тат относительный и прогрессивный характер, которым они часто обладают. При внимательном рассмотрении они таят в себе глубины знания и понимания».
Вильхельм Грёнбек.Тот, кто летел на самолете в Исландию весенней ночью 1965 г., замечал издалека зловещее зарево над одним из островков у ее южного побережья и, когда самолет пролетал над этим островком и с потушенными огнями делал вокруг него круг, видел, как из пышащего огнем жерла вулкана раскаленная лава сползала потоками в океан и смешивалась с его волнами. «Остров Сурта» (Surtsey) — так был назван островок, возникший у южного побережья Исландии в ноябре 1963 г. в результате извержения подводного вулкана. «Старик Сурт работает, не покладая рук», — писали в исландских газетах, имея в виду продолжающееся извержение. А когда в июне 1965 г. рядом с «Островом Сурта» возник новый островок, то его сразу же стали называть «Суртёнок» (Syrtlingur) или «Сурташка» (Surtla), и в исландских газетах появились сообщения: «У Сурта родился сын», «Суртёнок крепнет» и т. п. Дело в том, что в «Старшей Эдде» и «Эдде» Снорри Стурлусона говорится, что, когда наступит конец мира, с юга появится огненный великан Сурт — это имя первоначально значило, по-видимому, «черный» — и будет сражаться с богами, и бог Фрейр погибнет от его руки, и Сурт сожжет весь мир. «Сурт едет с юга» — так начинается одна строфа в «Старшей Эдде», и недавно в Исландии был выпущен превосходный документальный фильм об «Острове Сурта» под названием «Сурт едет с юга». С именем Сурта связана также самая большая пещера в Исландии. Она издавна называется «Пещерой Сурта» (Surtshellir). В «Книге о заселении страны» рассказывается, что некто Торвальд Волчья Пасть однажды осенью отправился в эту пещеру, чтобы исполнить там хвалебную песнь, которую он сочинил в честь великана Сурта.
Миф о Сурте сохранился только в исландских источниках и, как видно из только что сказанного, до сих пор общеизвестен в Исландии. Невозможно установить, когда именно возникло представление о великане Сурте: может быть, в Исландии вскоре после ее заселения, а может быть, за много лет до него у каких-то предков исландских первопоселенцев. Но, во всяком случае, именно в Исландии представление об этом великане было ассоциировано с характерными для этой страны вулканическими явлениями. Нигде древние мифологические сказания не оказались такими живучими, как в Исландии. Мифологические имена встречаются всюду даже в современной Исландии. Самолеты исландской авиационной компании называются именами мифических коней — «Золотая Грива» (Gullfaxi), «Заиндевевшая Грива» (Hrímfaxi), «Сияющая Грива» (Skinfaxi) и т. д. В мастерской известного исландского скульптора Аусмунда Свейнссона, оригинальные и лаконичные конструкции которого кажутся почти абстрактными, находишь произведения под названиями «Фрейя», «Тор», «Совет Локи», «Вороны Одина» и т. п. (Фрейя, Тор, Локи, Один — это боги). В Рейкьявике есть улица Фрейи, улица Тора, кафе Тора, переулок Локи, площадь Одина, велосипедная мастерская «Бальдр» (Бальдр — это тоже бог), общество наездников «Тьяльви» (Тьяльви — это слуга Тора), курсы иностранных языков «Мимир» (Мимир — это мифический мудрец), кооперативная школа «Биврёст» (Биврёст — это мифический мост с земли на небо) и т. д. и т. п. Само собой разумеется, однако, что, хотя все мифы, сохранившиеся в Исландии, в сущности исландские, в них нет ничего об исландском народе или исландском государстве и вообще никакого интереса к вопросам национальным или государственным: мифы возникли в обществе, в котором ни народ, ни государство еще не сложились.
Познавательный смысл всякого путешествия в том, чтобы, увидев непохожее на привычное, лучше понять привычное. Чем более природа и быт, которые видишь в путешествии, не похожи на привычные природу и быт, тем интересней путешествие. Но по мере развития техники, все более совершенные воспроизведения любой природы можно увидеть, никуда не выезжая, и по мере распространения цивилизации быт все более унифицируется во всем мире. Поэтому с развитием техники и цивилизации познавательный смысл путешествий становится все меньшим. Тем актуальней становятся путешествия в мир мыслей, непохожий на мир современного человека, в частности — в мир мифа, мир древних традиционных сказаний. Все в этом мире не такое, как в современной литературе, даже представления о пространстве и времени. Впрочем, мифы — даже и не литература, так как назначение их, первоначальное по меньшей мере, гораздо шире назначения любой литературы. Для своего времени миф — это не только литература, но и космогония, космография, история и все науки вместе. Мифы не литература еще и потому, что они и есть только содержание, только существенное, только факты, смысл которых не зависит от того, как они изложены.
Древнеисландские мифы отражены прежде всего в «Старшей Эдде» — песнях, сложенных еще в дописьменное время и записанных кем-то в первой половине XIII в., а также в «Младшей Эдде» — учебнике поэтического искусства, составленном Снорри Стурлусоном в 1222–1225 гг. и содержащем прозаическое изложение мифов и цитаты из древних поэтических произведений. Отражения древних мифов есть также в древнеисландской поэтической фразеологии, в некоторых «сагах о древних временах» и еще кое-где в древнеисландской литературе. По своему содержанию древнеисландские мифы — это сказания о сотворении мира, его устройстве, его будущей гибели, о богах и легендарных героях.
В начале времен не существовало ничего, кроме пустой бездны, — так рассказывают древнеисландские мифы.
Не было в мире Ни песка, ни моря, Ни волн холодных, Земли еще не было И небосвода, Бездна зияла, Трава не росла[14].Но миф стремится описать сущность явлений, а для того чтобы описать сущность явления, надо его назвать. Поэтому миф не может обойтись без множества собственных имен. Изначальная бездна Гиннунгагап лежала между холодным Нифльхеймом на севере и жарким Муспелльсхеймом на юге. В Нифльхейме был источник Хвергельмир. Из него текли на юг реки Эливагар, каждая со своим названием. Истолковывать все эти названия очень трудно. Смысл их ускользает. Лед или иней с севера и искры с юга смешались в изначальной бездне, и из капающей жидкости возник великан Имир, или Аургельмир. Насколько можно понять очень неясный рассказ Снорри, возникновение жизни было похоже на процесс таяния.
Когда Имир вспотел во сне, у него подмышкой левой руки выросли сын и дочь, и его ноги породили вместе сына. Отсюда пошел род «инеистых» великанов. Из тающего инея возникла также корова Аудумла. Четыре молочные реки текли из ее сосков. Аудумла лизала камни, покрытые соленым инеем, и вылизала из одного камня великана по имени Бури. Бор, сын Бури, с Бестлой, дочерью Больторна, породил богов Одина, Вили и Be. Боги убили Имира, и в его крови погибли все «инеистые» великаны, кроме Бергельмира. Боги притащили тело Имира в середину изначальной бездны и создали из него мир: из крови — море, из мяса — землю, из костей — горы, из зубов и осколков костей — камни, из черепа — небо, из мозгов — облака, а из ресниц — Мидгард, царство людей, буквально — «средний двор». Правда, в «Старшей Эдде» есть отзвук другого представления: боги подняли землю из моря и таким образом создали Мидгард. Такие противоречия и непоследовательности обычны в мифах. Например, карлики возникли не то из личинок, которые завелись в разлагающемся теле Имира, не то из крови некоего Бримира и костей некоего Блаина.
В углах неба боги поставили четырех карликов — Аустри, Вестри, Нордри и Судри, что значит «восточный», «западный», «северный» и «южный», а из искр Муспелльсхейма создали солнце, луну и звезды. Наконец, боги — то ли Один, Вили и Be, то ли Один, Хёнир и Лодур — нашли два древесных ствола и создали из них первых людей — Аска и Эмблу, что значит «ясень» и «лоза». В завершение боги построили свое царство — Асгард, т. е. «двор асов». Таким образом, жизнь возникла в форме огромного человекоподобного существа, по-видимому, обоеполого, и потом развивалась в последовательности — великаны, боги, люди. Великаны соответствуют ископаемым чудовищам современной палеонтологии. Тело изначального великана, т. е. человекоподобное тело, в мифе не только прообраз материального мира, но и начало различных форм материи.
В древнеисландских мифах мир подобен человеческому жилью, окруженному пустынными и опасными землями. В середине мира находится Мидгард, царство людей. Но Мидгард — это весь населенный мир. О пределах этого населенного мира образно говорится в одной очень древней стихотворной юридической формуле, согласно которой нарушитель договора будет вне закона повсюду, где
Крещеный люд В церкви ходит, Языческий люд Капища почитает, Огонь горит, Земля зеленеет, Ребенок мать зовет, А мать ребенка кормит, Люди огонь зажигают, Корабль скользит, Щиты блестят, Солнце светит, Снег падает, Финн на лыжах скользит, Сосна растет, Сокол летит Весь весенний день, И дует ему ветер попутный Под оба крыла, Небо круглится, Мир заселен, Ветер воет, Воды в море текут, Люди зерно сеют[15].Рядом с Мидгардом расположен Асгард, царство богов. В нем есть великолепный луг Идавёлль и много чертогов богов и богинь, каждый — со своим названием и своими особенностями. Но в мифах одна и та же местность может быть по-разному расположена, так что невозможно составить карту мифологического мира. Асгард не только рядом с Мидгардом, но он также и на небе. Так, на небе находятся палаты Одина — Валгалла, буквально «палаты убитых в битве». На небо ведет мост, который называется Биврёст или Бильрёст. По «Младшей Эдде», мост этот — радуга. За пределами населенного мира лежит Утгард — «внешний двор», царство злых сил, постоянно угрожающих богам и людям. Там же находится Ётунхейм — «жилье великанов». Великаны — это изначальные существа, которые сильнее богов и, так как они древнее богов, они не только больше их знают, мудрее их, но и представляют собой силы изначального хаоса и поэтому враждебны населенному и устроенному миру.
Вместе с тем земля окружена океаном, в котором лежит кольцом мировой змей Ёрмунганд. В океане живет великан Эгир. У него происходил однажды знаменитый пир, на который собрались все боги. Жена Эгира, коварная Ран, ловит в свои сети тех, кто терпит кораблекрушение. Разные страны света связаны с разными мифолоическими представлениями. С юга придет, когда настанет конец мира, великан Сурт, окруженный огнем. Там же расположен Мюрквид — «лес мрака». Царство злых сил лежит по преимуществу на ceвepe и востоке. На востоке находится царство великанов и Ярнвид — «железный лес», где живут великаны в обличье волков. Широкие реки отделяют царство великанов от Мидгарда. На севере живут «инеистые» великаны, и там сидит Хресвельг, что значит «пожиратель трупов», — орел, который взмахами своих крыльев нагоняет бурю. На севере же находится Нидавеллир — «поля мрака» — и царство мертвых. Но существовали и другие представления: мертвые живут в своих могилах или в подземном царстве Хель, а Хель — это и подземное царство мертвых, и великанша — повелительница этого царства, и сама смерть, и процесс разложения трупа, его сине-черная окраска. Мертвые попадают в Хель по мосту, который охраняет злой пес, а потом через ворота с поднимающейся решеткой. Надо быстро проходить через эти ворота, чтобы решетка не упала на пятки. Палаты Одина Валгалла — это тоже жилище мертвых: туда попадают убитые в битве. Но почему-то там оказываются не только убитые в битве, но и другие мертвые.
Существовало также представление о мире как жилище, расположенном вокруг большого дерева, или храме со священным столбом в середине. Ясень Иггдрасиль распростер свои ветви над миром и кладет ему предел в пространстве. Поэтому он — древо предела. Верхушка этого мирового древа упирается в небо, а корни уходят глубоко в землю, один корень — в Хель, другой — в царство «инеистых» великанов, а третий — не то в царство людей, не то в царство богов. У подножья древа находится источник не то богини судьбы Урд, не то мудрейшего великана Мимира. На древе сидит орел, а между глаз орла — ястреб, по древу бегает белка, олень грызет ветви древа, а корни древа грызут змеи. Мифологическое объяснение имело и многое другое. Например, движение солнца по небу объясняется в древнеисландских мифах тем, что два коня тащут солнце, а за ним мчится волк, а впереди него — другой волк; смена дня и ночи — тем, что день приводит конь Скинфакси — «сияющая грива», и т. д.
Конечно, всякое сказание, даже самое фантастическое, обобщает реальный опыт людей. В любом мифе можно обнаружить отражение быта того общества, в котором этот миф слагался. Но любопытно, что наиболее реалистические человеческие образы в мифах — ото боги. О них всего больше рассказывается в мифах. Они наиболее яркие и содержательные образы мифов. Боги, правда, могущественней людей, но они не бессмертны и наделены всеми человеческими слабостями и пороками. Они обманывают, ссорятся, влюбляются, изменяют, трусят, завидуют, хвастаются совершенно так же, как люди.
Наиболее многосторонний образ древнеисландской мифологии — это Один, глава и отец рода богов. В Одине демоническое начало сочетается с невротическим самоистязанием, злая воля — с вдохновением и мудростью, образуя сложный и противоречивый, но, тем не менее, цельный образ.
Один — бог войны и смерти. В начале битвы было принято метнуть копье во вражеское войско, тем самым посвящая его Одину. Ворон, птица, питающаяся трупами, была посвящена Одину. Два ворона всегда сопровождают Одина. По-видимому, воронам, как птицам Одина, приносили жертвы. В «Книге о заселении страны» рассказывается, что Флоки Вильгердарсон открыл Исландию, после того как принес жертвы трем воронам. Он пустил их лететь впереди своего корабля, и третий ворон нашел Исландию. Волки тоже были посвящены Одину. Его двух волков зовут Гери и Фреки, что значит «жадный» и «алчный». Воинственные девы валькирии, служанки Одина, приводят павших в битве в его палаты — Валгаллу, и эти так называемые эйнхе-рии, или воины Одина, сражаются там каждый день друг с другом и потом пируют. Повар Андхримнир варит им в котле Эльдхримнире кабана Сехримнира, который к вечеру каждого дня снова оказывается целым.
Один — покровитель героев. Он ведет их к победе, дает им свое копье Гунгнир, делает их неуязвимыми, учит их боевому порядку, дает им советы. Но он помогает своим любимцам добиваться победы скорее хитростью, чем силой, и он сам не принимает участия в битвах, он только вызывает их. Он сеятель распрей и раздоров. Его обвиняют в том, что он дает победу несправедливо, и нередко он сам убивает своих любимцев. Он также герой многих любовных историй, в которых он коварно соблазняет женщин. «Злодей» — одно из его имен, «ужасный» — другое. У него вообще множество имен. Он любит принимать разные имена и менять свой образ. Его представляли себе как старика с длинной седой бородой, в шляпе, низко надвинутой на лоб, в синем плаще. «Скрывающийся под маской», или «переодетый», — тоже его имя.
Зловещий полумрак окружает Одина в мифах. Он — бог колдовства и мудрости. Он приобрел тайные знания, подвергнув самого себя истязанию, подобно шаману. Он повесился на мировом древе Иггдрасиль, пронзив себя копьем. Так висел он
В ветвях на ветру Девять долгих ночей, Пронзенный копьем, Посвященный Одину, В жертву себе же, На дереве том, Чьи корни сокрыты В недрах неведомых[16].Так приобрел он знание рун, заклинаний и колдовства. Поэтому Один — бог повешенных, т. е. казненных через повешение или принесенных так в жертву. Он их оживляет, и они сообщают ему потусторонние тайны. Двух воронов, которые всегда сопровождают Одина, зовут Хугин и Мунин, что значит «мысль» и «память». Одина представляли себе одноглазым, и его дефектное физическое зрение — это, конечно, символ его духовной зоркости. Само его имя происходит от слова, которое значит «дух», «исступление», «поэзия».
Дело в том, что Один — также бог поэзии, т. е. магии слов, и покровитель поэтов. В результате ряда убийств и обманов ему достался мед поэзии. Это произошло так. Асы и ваны — два враждовавших между собой рода богов — в знак мира собрали свою слюну в сосуд и сделали из нее Квасира, величайшего мудреца. Возможно, что это имя одного корня с русским словом «квас». Карлики Фьялар и Галар заманили Квасира к себе, убили его и смешали его кровь с медом. Так возник мед поэзии. Всякий, кто пьет этот напиток, становится поэтом. Карликам пришлось отдать мед поэзии великану Суттунгу, отца и мать которого они убили, и тот поручил своей дочери Гуннлёд хранить этот напиток в скале Хнитбьёрг. Один встретил на лугу девять косарей и подстроил так, что они все перерезали друг другу горла из-за точила, которое он им обещал. Затем, назвавшись Бёльверком, т. е. «злодеем», он взялся заменить великану Бауги, брату Суттунга, девятерых работников, но в награду потребовал дать ему напиться меда поэзии. Обернувшись в змею, Один пробрался сквозь скалу Хнитбьёрг, которую просверлил Бауги, соблазнил Гуннлёд, дочь Суттунга, и выпил весь мед. Затем Один обернулся в орла и полетел в Асгард. Суттунг тоже обернулся в орла и погнался за ним. Один еле успел выплюнуть мед в сосуд, подставленный асами, — часть меда ему пришлось выпустить через задний проход, так как Суттунг настигал его, и это та часть меда поэзии, которая досталась бездарным поэтам[17]. Поэзия в этом сказании — нечто совершенно материальное: ее хранят в сосуде, пьют, выплевывают и т. д. Именно такое представление нередко проступает у древнеисландских скальдов. Например, в хвалебной песни Эйнара по прозвищу Звон Весов, исландского скальда X в., говорится, что «волна медового моря с шумом ударяется об утес песни», т. е. о зубы скальда.
Тор во многом противоположен Одину, и прежде всего он настолько же прост, насколько образ Одина сложен. Тор — это наиболее однозначный и ясный образ древнеисландской мифологии. Большой и очень сильный, вспыльчивый и простодушный, с рыжей бородой, косматыми бровями и громким голосом — таков Тор. Он может много съесть и много выпить, и он побеждает силой, а не умом. Сила его возрастает, когда он в гневе, и он может еще умножить ее, надев свой чудесный пояс. Его сыновья — Магни и Моди, что значит «сила» и «смелость», и это, конечно, олицетворение его качеств. Атрибут Тора — каменный молот Мьёлльнир — слово одного корня с русским словом «молния». Молот этот возвращается в руку бросившего его, как бумеранг. В колеснице, запряженной парой козлов, и в сопровождении своего слуги Тьяльви Тор совершает поездки на восток, в страну великанов, и там поражает их своим молотом. Если бы он не истреблял их, они бы стали так многочисленны, что мир был бы опять ввергнут в хаос и жизнь на земле стала бы невозможна. Обычно случается, что, когда Тор в походе против великанов, богам как раз и нужна его помощь. Его называли «ужасом великанов», «другом людей», «защитником Асгарда». Его считают богом грома и молнии. Но, в сущности, гроза и гром — это лишь символы его качеств. К тому же в Исландии гроза — редкое явление. Тор почитался также как бог плодородия (возможно потому, что гроза — это дождь) и как защитник от колдовства, болезней и всего злого. Его молот освящал брак и обеспечивал покой умершему. Тор считался также защитником воинов. Его имя входит в огромное множество исландских личных имен, таких, как Торстейн или Торвальд, а также названий местностей в Исландии, таких, как Торсмёрк или Торсейри. Его изображения украшали и столбы почетного сиденья, и носы кораблей. О популярности Тора в Исландии свидетельствует также обилие рассказов о нем, сохранившихся в древнеисландской литературе, а также то, что эти рассказы явно имели целью не столько сообщить мифологические сведения, сколько позабавить фантастическим и комическим, т. е. были своего рода сказками.
Вот вкратце один из рассказов Снорри о Торе. Однажды, когда Тор уехал на восток сражаться с великанами, Один на своем восьминогом коне Слейпнире заехал в Ётунхейм и поспорил с великаном Хрунгниром о том, чей конь лучше. На своем коне Золотая Грива Хрунгнир догнал Одина у ворот Асгарда, и асы были вынуждены пригласить великана выпить с ними. Опьянев, Хрунгнир стал хвастаться, что перенесет к себе Валгаллу, потопит Асгард, перебьет всех богов и уведет к себе Фрейю и Сив, жену Тора. Асам надоело его хвастовство, и они произнесли имя Тора. Как только они произнесли его имя, явился и сам Тор с молотом. Хрунгнир вызвал его на поединок, и Тор отправился в назначенное место. Между тем великаны приготовили из глины человека девяти миль в высоту и трех миль в ширину и вложили в него, за неимением другого, сердце кобылы. Глиняный великан так испугался, увидев Тора, что обмочился. У Хрунгнира сердце было из камня, с тремя остриями, голова и щит его тоже были из камня, а оружием его было точило. Тьяльви, слуга Тора, побежал вперед и сказал Хрунгниру, что Тор собирается напасть на него снизу, из-под земли. Хрунгнир поверил и положил щит себе под ноги. Тут появился Тор и бросил в Хрунгнира свой молот, а Хрунгнир бросил в Тора свое точило. Молот и точило встретились в воздухе, а точило сломалось. Одна половина его вонзилась в голову Тора, и тот повалился. А молот разбил голову Хрунгнира в куски, и Хрунгнир упал, но так, что одна нога его легла на шею Тора. Между тем Тьяльви легко справился с глиняным великаном. Но ногу Хрунгнира никто не мог снять с шеи Тора, кроме его сына Магни, которому было тогда три ночи. В награду он получил от Тора коня Золотая Грива. Прорицательница Гроа, жена Аурвандиля, начала было говорить заклинание, которое должно было освободить Тора от куска точила, который засел у него в голове. Но тут Тор рассказал ей о том, как он переправлялся через ледяные реки с Аурвандилем в корзине на спине и как палец на ноге у Аурвандиля торчал из корзины и замерз, так что Тор отломил его и бросил в небо, где тот превратился в звезду. Гроа тогда так обрадовалась, что Аурвандиль жив и скоро вернется, что забыла заклинание, и кусок точила так и остался в голове Тора. Поэтому точило нельзя бросать поперек пола, а то шевелится тот кусок в голове Тора.
Рассказывалось также о том, как Тор ловил на удочку мирового змея, и приманкой у него была бычья голова, но великан Хюмир, который был вместе с Тором в лодке, испугался мирового змея и перерезал лесу. Комических деталей много в песни о том, как великан Трюм похитил у Тора молот и Тору пришлось ехать к Трюму, переодевшись Фрейей, которая якобы согласилась стать женой Трюма. Сказочного элемента много в рассказе о том, как Тор в гостях у Удгардалоки подвергался трем испытаниям силы. Сначала он пытался опорожнить рог, но ему удалось тремя глотками лишь немного уменьшить его содержимое. Затем он пытался поднять кошку, взяв ее рукой под живот, но ему удалось заставить ее поднять от земли только одну лапу. Наконец, он боролся со старухой, но не мог с ней справиться, и она поставила его на колени. Потом оказалось, впрочем, что рог сообщался узким концом с морем, кошка была мировой змей, а старуха была старость, так что во всех трех случаях, когда Тор как будто оплошал, он на самом деле, сам того не подозревая, проявил необычайную силу.
Один и Тор принадлежат к асам — роду, к которому относится большинство богов. Но есть еще другой род — ваны, с которыми асы первоначально воевали. К ванам относятся Фрейр и Фрейя, дети Ньёрда от брака с родной сестрой. Такой брак был принят у ванов, и это, вероятно, отражение каких-то архаичных форм брака.
Фрейр — бог плодородия. Он дарует мир и богатство. В его власти дождь и солнце. Его призывают на свадьбах, он дарует счастье девушкам и женщинам, освобождает пленников. Но он также храбрый воин, и один из его атрибутов — меч. Другие его атрибуты — чудесный корабль Скидбладнир — ему всегда дует попутный ветер, и он складывается так, что его можно положить в карман, — и золотой кабан Гуллинбурсти, щетина которого светится так ярко, что ночь становится светлой. Из саг видно, что в Исландии существовали жрецы Фрейра, а также лошади, посвященные Фрейру. Большим распространением пользовался, по-видимому, миф о том, как Фрейр сватался к Герд, дочери великана Гюмира, через своего слугу Скирнира.
Фрейя, сестра Фрейра, — тоже богиня плодородия и деторождения. Но она имеет отношение не только к рождению, но и к смерти. Один берет себе половину павших воинов, она — другую половину. Фрейя имеет отношение и к колдовству. Один учился у нее сеиду — самому изощренному виду колдовства. В мифах она неверна своему мужу Оду, и великаны зарятся на нее. Она даже была возлюбленной своего брата. В одной мифологической песни говорится, что она распутна, как коза.
О Ньёрде, отце Фрейра и Фрейи, в древнеисландских памятниках сохранились только отрывочные сведения. Его жилище называется Ноатун, что значит «корабельный двор». Упоминается его неудачный брак со Скади, дочерью великана Тьяци. Скади вступила в этот брак по недоразумению: она думала, что выбирает в мужья Бальдра, а не Ньёрда. Скади не понравились море и крик морских птиц в Ноатуне, а Ньёрду не понравились горы и вой волков на родине Скади, где она ходит на лыжах и стреляет из лука. О Тюре — самом храбром из асов — рассказывается только, как он потерял правую руку, положив ее в пасть волку Фенриру в залог того, что боги не обманут волка. О Хеймдалде сохранились только очень отрывочные сведения: он родился от девяти матерей, которые были сестрами; он нуждается в сне меньше, чем птица, и слышит, как трава растет; он светлейший из асов, и люди — его дети. Еще менее ясны образы Удля, Видара и Вали, Форсети, Хёнира, Лодура и многочисленных богинь, имена которых упоминаются в древнеисландских памятниках. В ряде случаев трудно сказать, идет ли речь о разных божествах или об ипостасях одного божества, его свойствах пли именах, получивших самостоятельное существование. Так, Скульд, что значит «должное», — имя одной из норн, богинь судьбы, и одной из валькирий, богинь битвы, и, по-видимому, норны и валькирии — это разные аспекты тех же божеств женского пола, которые в своем менее определенном аспекте назывались также дисами. Но слово «дис» встречается также в стершемся значении «женщина» или «знатная женщина».
Наиболее странный и противоречивый образ древнеисландской мифологии — это Локи. С одной стороны, он зачинщик всякого обмана и зла. Его коварство не имеет границ. Он причина смерти светлого бога Бальдра, и это его самое страшное преступление, за которое он потерпел жестокое наказание. Но, с другой стороны, поступки Локи — это как будто неожиданные для него самого и безответственные причуды. Он похож на шутника, который сам не понимает, какие последствия может иметь его шутка. И он строит козни не только против богов, но и против великанов, т. е. злых сил, а подчас и самого себя ставит в трудное положение, из которого ему, впрочем, благодаря его хитроумию, обычно удается выйти. Хотя Локи не останавливается перед тем, чтобы предать Тора, в других мифах он сопровождает его как его помощник и слуга. Хитрость Локи в этом случае оттеняет простодушие Тора. Нередко Локи оказывается советником богов и помогает им выбраться из трудного положения. При случае Локи поносит последними словами всех богов и богинь без исключения. Но его поношения — это в основном правда. Локи вообще похож на злого и умного шута богов.
Вот один из мифов, в котором Локи играет двойственную и отчасти комическую роль. Некто предложил богам построить для них крепость, неприступную для великанов, и в награду просил отдать ему Фрейю, солнце и луну. Помогать ему должен был только его конь Свадильфари. По коварному совету Локи боги согласились на предложение. Но когда они увидели, что, благодаря помощи Свадильфари, который перевозил целые горы, строителю удастся построить крепость в срок, они испугались, стали грозить Локи и потребовали, чтобы он как-нибудь помешал постройке крепости. Локи пришлось согласиться. Он обернулся в кобылу, своим ржаньем ночью привлек к себе Свадильфари и таким образом помешал достроить крепость в срок. Строитель пришел в ярость, и боги поняли, что он — великан. Они позвали Тора, и тот разбил череп великана своим молотом. А Локи родил от Свадильфари восьминогого серого жеребенка Слейпнира, который потом стал конем Одина[18].
Единственный бог, о котором рассказывалось только хорошее, — это Бальдр, сын Одина и Фригг. Он и необычайно красив, и светел, и мудр, и красноречив, и добр. Правда, рассказывалось в основном не о нем самом, а о его смерти. Бальдру снились злые сны, которые предвещали ему смерть. Тогда Фригг, его мать, взяла клятву со всего на свете — с огня и воды, железа и всякого металла, камней, земли, деревьев, болезней, зверей, птиц, яда и змей, — что они будут щадить Бальдра. После этого боги стали забавляться тем, что на поле тинга, где нельзя убивать, они бросали копьями и камнями в Бальдра или рубили его, а он оставался невредимым. Это не понравилось Локи. Он отправился в обличье женщины к Фригг и узнал у нее, что она не взяла клятвы с одного побега омелы — он показался ей слишком молодым, чтобы требовать с него клятвы. Локп срезал этот побег, сделал из него стрелу и посоветовал слепому богу Хёду, брату Бальдра, бросить ее в Бальдра. Локи направил руку Хёда, и стрела пронзила Бальдра, и тот упал пораженный насмерть. Это было самое большое несчастье, которое когда-либо случалось с богами и людьми. Но мстить Локи было нельзя, так как поле тинга священно. Все боги плакали и не могли сказать ни слова, но всего тяжелей была потеря Одину, так как он всего лучше понимал, насколько она велика. Хермод, другой сын Одина, по просьбе Фригг отправился на Слейпнире к Хель, чтобы попытаться выкупить у нее Бальдра.
Асы принесли труп Бальдра на берег моря. Они хотели сделать погребальный костер на корабле Бальдра. Но никто не мог сдвинуть этот корабль с места. Пришлось послать за великаншей Хюрроккин. Она приехала верхом на волке, и змея была на нем уздечкой. Хюррокин сразу же сдвинула корабль, так что из-под него полыхнул огонь и земля затряслась. Увидев великаншу, Тор в гневе схватился за молот, но боги убедили его пощадить ее. Когда труп Бальдра положили на корабль, у жены его Нанны сердце разорвалось от горя, и она умерла. Тор освятил погребальный костер своим молотом и — всё еще в гневе — пихнул в огонь карлика, который пробегал у него под ногами. Многие собрались на похороны Бальдра: Один со своими валькириями и воронами, Фрепр в повозке, запряженной кабаном Золотая Щетина, Хеймдалль на коне Золотая Чёлка, Фрейя в повозке, запряженной кошками, многие великаны. Один положил на погребальный костер свое чудесное кольцо Драупнир, из которого каждую девятую ночь возникают восемь колец такого же веса. Конь Бальдра был взведен на погребальный костер во всей сбруе.
Между тем Хермод ехал девять ночей по темным и глубоким долинам и наконец подъехал к мосту через Гьёлль. Привратница, охраняющая мост, сказала ему, что пять полчищ мертвецов проехали через этот мост накануне, но шуму было меньше, чем от него одного. Хермод встретился с Бальдром (т. е., очевидно, с его тенью?) и заночевал у него. На утро Хермод обратился к Хель с просьбой отпустить с ним Бальдра. Но та поставила условием возвращения Бальдра — чтобы все живое и мертвое оплакивало его. И боги разослали по всему свету гонцов, прося плакать по Бальдру, и все на свете плакали — люди и звери, земля и камни, деревья и металлы. Но в одной пещере сидела великанша — она назвалась Тёкк, — которая не захотела плакать, и говорят, что это был Локи[19].
Смерть Бальдра была первым предвестием того, что приближается «рагнарёк» — буквально «судьба богов», т. е. конец мира. Впрочем, в сказании о рагнарёке время как-то странно ориентировано. Конец мира, по-видимому, будет в будущем, но он вместе с тем как будто уже был в прошлом. Во всяком случае, в «Прорицании вёльвы» граница между прошлым и будущим неясна. Более четок рассказ «Младшей Эдды», который здесь и приводится в сокращении. Концу мира будет предшествовать страшная зима фимбульветр. Снег повалит со всех сторон, настанут суровые морозы, задуют резкие ветры, и три года подряд не будет лета. Начнутся жестокие войны. Братья поднимут руки друг на друга, и никто не пощадит ни родного отца, ни родного сына. Волк проглотит солнце, а другой волк — луну, и звезды исчезнут с неба. Земля так затрясется, что деревья вывалятся из нее, горы обрушатся, все оковы сломаются, и на свободе окажется волк Фенрир. Море нахлынет на сушу, потому что мировой змей повернется в нем и полезет на берег. Поплывет корабль Нагльфар, построенный из неподстриженных ногтей мертвецов. Волк Фенрир так разинет пасть, что его нижняя челюсть коснется земли, а верхняя — неба. Яд, изрыгаемый мировым змеем, отравит весь воздух и все воды. Небо расколется, и прискачут сыны Муспелля (кто он такой, неясно). Под их тяжестью мост Биврёст, который ведет на небо, провалится. Впереди них будет Сурт, окруженный огнем. На поле Вигрид, где произойдет последняя битва, прибудут также волк Фенрир, мировой змей, Локи и с ним все воины Хель, великан Хрюм и с ним все «инеистые» великаны. Тогда Хеймдалль затрубит в свой рог, и боги соберутся на тинг, а Один будет советоваться с черепом мудреца Мимира. Мировое древо Иггдрасиль затрясется, и всё на земле и на небе будет объято ужасом. Начнется последняя битва. Один сразится с волком Фенриром, и Фенрир проглотит его, но Видар, сын Одина, разорвет Фенриру пасть, и тот подохнет. Тор схватится с мировым змеем и умертвит его, но умрет от его яда. Фрейр будет храбро бороться с Суртом, но падет, так как при нем не будет его меча. Противником Тюра будет вырвавшийся на волю свирепый пес Гарм, и оба погибнут. Хеймдалль будет биться с Локи, и оба погибнут. Тогда Сурт зальет землю огнем и сожжет весь мир.
Солнце померкнет, Земля тонет в море, Срываются с неба Светлые звезды, Пламя бушует Питателя жизни, Жар нестерпимый До неба доходит,— говорится в «Прорицании вёльвы».
Итак, весь мир сгорел, и погибли все боги и все люди. Но конец мира — это вместе с тем его новое начало. Земля снова подымется из моря, зеленая и прекрасная:
Вздымается снова Из моря земля, Зеленея, как прежде: Падают воды, Орел пролетает, Рыбу из волн Хочет он выловить[20].На земле заколосятся несеянные хлеба, вернутся Бальдр и Хёд и другие боги младшего поколения — Видар и Вали, Моди и Магни о молотом Тора. Они будут жить на чудесном лугу Идавёлль и вспоминать события прошлого. А от Лив и Ливтрасира (что значит «жизнь» и «пышащий жизнью»), человеческой пары, пережившей пожар мира, пойдет новый человеческий род, который снова заселит весь мир. Так будущее окажется в то же время прошлым, а время — подобным вращающемуся веретену.
Мифами обычно называют только сказания о богах. Но, в сущности, сказания о легендарных героях — тоже мифы, в том смысле, что они тоже традиционны и тоже были шире по своему назначению, чем литература, а именно — они были также историей. Даже и после введения христианства между богами и героями в сказаниях не образовалось пропасти, так как языческие боги после введения христианства стали считаться колдунами, т. е. людьми, которые при помощи колдовства выдавали себя за богов. По-видимому, именно так понимал языческих богов Снорри. Но и легендарные герои, в сущности, не так уже далеки от богов: они происходят в конечном счете от богов, а в ряде случаев они, подобно богам, наделены разными чудесными свойствами. Правда, с точки зрения современной науки между сказаниями о богах и сказаниями о героях есть существенное различие в происхождении. Можно предполагать, что у всякого героя существовал конкретный исторический прообраз (который, впрочем, только в редких случаях удается обнаружить), тогда как у бога такого прообраза, вероятно, не было, образ бога был результатом обобщения многих конкретных прообразов. Но в свое время, до того как развилась история как наука, это различие не было, конечно, заметно.
Все же в трактовке богов и героев в сказаниях есть одно очевидное и, в сущности, парадоксальное различие: герои — это, как правило, более идеализированные, менее реалистические человеческие образы, чем боги. Возможно, это связано с тем, что образы героев — результат идеализации, тогда как образы богов — результат обобщения. Различие в трактовке богов и героев в сказаниях проявляется прежде всего в том, что боги не только сами не предъявляют людям никаких моральных требований, но и не ставятся в пример людям, тогда как герои ставятся в пример людям. В сказаниях о богах говорится, в сущности, о том, каковы люди в действительности, а не о том, какими они должны быть. Не случайно Одину приписывается собрание правил житейской мудрости, в которых говорится, что надо платить обманом за обман, обольщать женщин лестью и подарками, никому не доверять и т. д. Люди изображаются в этих правилах такими посредственными, какими они в действительности бывают. Между тем в сказаниях о героях основное — это всегда героический подвиг, выполнение героического долга.
Герой в сказаниях — это, как правило, воин, и притом наделенный силой и храбростью в самой высокой мере, т. е. идеальный воин. Но проявления силы и храбрости, многочисленные победы над врагами — всего лишь внешние атрибуты героизма и необязательны в сказании о герое. Поэтому героем сказания может быть и женщина, и в героических сказаниях, которые пользовались наибольшей популярностью, это именно так и было[21]. Сущность героизма — в безграничной силе духа, в победе человека над самим собой, в совершении им чего-то трагического для него самого, часто такого, что ведет его к гибели. Поэтому героическое сказание — это не панегирик, а трагедия, его сущность — не радость и слава, а горе и гибель. Герой или героиня одерживают победу над собой во имя того, что представлялось высшим долгом. Правда, с современной точки зрения такая победа часто кажется варварской и бессмысленной жестокостью: у современного человека совсем другое представление о долге. Но как бы ни изменялись представления о долге, этическая сущность его осталась та же, и, чтобы понять эту сущность, нужно понять меняющиеся со временем представления о долге. Для людей того общества, в котором пользовались популярностью героические сказания, высшим долгом было поддержание чести рода или героической чести вообще. А поддержание чести заключалось прежде всего в мести. Убийство из мести было делом не зазорным, а наиболее славным. Ради мести человек шел на все. Потребность в мести была не личным чувством, которое следует в себе подавить, но напротив — она была высшим долгом, ради которого надо было подавить в себе все самые сильные эмоции: и страх смерти, и любовь, и материнское чувство. Тот, кто подавлял в себе эти чувства ради осуществления мести, был героем, достойным подражания и восхищения.
Во многих героических сказаниях действуют также и боги, всего чаще Один, а также валькирии. В сказания о Хельги есть валькирия, покровительствующая герою, и она же — его возлюбленная. В сказании о Сигмунде и Синфьётли важную роль играет Один. Он приходит в дом Вёльсунга, в то время как празднуется свадьба Сигню, дочери Вёльсунга, и Сигара, вонзает меч в ствол дерева, вокруг которого расположен дом, как мир расположен вокруг ясеня Иггдрасиля, и исчезает. Только Сигмунду, младшему сыну Вёльсунга, удается вытащить меч. Сигар, озлобленный против шуринов, приглашает их на пир, связывает и бросает в лесу на съедение диким зверям. Только Сигмунду удается спастись. Сигню приходит к нему в лес и родит потом от него Синфьётли, который, таким образом, принадлежит к роду Вёльсунга и по отцу, и по матери, и поэтому особенно пригоден для осуществления родовой мести. Сигню посылает мальчика к отцу в лес, и они там живут в волчьих шкурах. Когда Синфьётли становится взрослым, отец с сыном осуществляют месть. Они снова овладевают мечом Вёльсунга и сжигают Сигара в его доме, и Сигню добровольно идет в огонь, чтобы умереть вместе с мужем, гибель которого она сама подготовила. Таким образом, наибольший героический подвиг совершает в этом сказании именно она.
Впоследствии Синфьётли умер от яда, который он выпил, не желая подвергаться насмешкам своей мачехи. Сигмунд долго нес труп сына на руках, пока не встретил какого-то человека — по-видимому, Одина, который взял труп к себе на ладью и исчез вместе с ней. Сигмунд погиб, встретившись в битве с самим Одином: его меч сломался о копье бога.
Но самым знаменитым из героев был несомненно Сигурд, другой сын Сигмунда. В своей молодости он совершил славный подвиг — убил дракона Фафнира, который лежал на заклятом сокровище. В рассказе об этом подвиге действуют боги Один, Локи и Хёнир, карлик Андвари в обличье рыбы, великан Хрейдмар, один сын которого плавает в водопаде, обернувшись выдрой, а другой превращается в дракона. Была у Сигурда в молодости и встреча с валькирией. Он разбудил ее ото сна. в который ее погрузил «шипом сна» Один за то, что она его ослушалась. Но основное в сказании о Сигурде — это тоже месть и гибель, и наибольший героический подвиг в этом сказании совершает тоже женщина. Сказание это было настолько популярно, что сохранилось во многих вариантах. Вот его основные черты. Сигурд женится на Гудрун и становится побратимом ее братьев — Гуннара и Хёгни. Гуннар сватается к Брюнхильд. Но она дала обет выйти замуж только за того, кто отважится проскакать через огненный вал, окружающий ее дом, а Гуннар не может проскакать через этот вал ни на своем коне, ни на коне Сигурда. Тогда Гуннар и Сигурд меняются обличьями, и Сигурд проезжает через огненный вал, справляет свадьбу с Брюнхильд и проводит у нее три ночи, но так, что между ним и ею на брачном ложе лежит его обнаженный меч. Они возвращаются к Гуннару, и Сигурд снова меняется с ним обличьями. Таким образом Брюнхильд становится женой Гуннара. Однажды, когда Брюнхильд и Гудрун моют в реке волосы, у них возникает спор о том, кто из них имеет право на место выше по течению, чей муж отважнее. Тут Гудрун открывает Брюнхильд, что ее, Гудрун, муж Сигурд проехал через огненный вал, окружающий дом Брюнхильд, а не Гуннар, муж Брюнхильд, и в доказательство своих слов показывает обручальное кольцо, которое Сигурд получил от Брюнхильд и передал ей, Гудрун. Тогда Брюнхильд подстрекает Гуннара убить Сигурда и утверждает, что в те три ночи, которые Сигурд провел у нее, он злоупотребил доверием Гуннара. Тот поручает убийство своему сводному брату Готторму. После убийства Сигурда Брюнхильд закалывается мечом, и ее кладут на погребальный костер рядом с Сигурдом.
Что побудило Брюнхильд к мести? Чувство героического долга, оскорбленная гордость, ненависть к тому, кто заставил ее нарушить данный ею обет, обманутая любовь, отчаянная надежда соединиться с любимым хотя бы после смерти или сочетание этих чувств? В разных трактовках этого сказания проглядывают разные ответы на этот вопрос, в связи с чем и само сказание осложняется разными деталями. Так, валькирия, разбуженная Сигурдом в молодости, отождествляется с Брюнхильд: он, оказывается, еще тогда обручился с ней, но потом забыл ее, выпив напиток забвения, который ему дала Гримхильд, мать Гудрун. Возможно, что сказание это именно потому и было так популярно, что оно допускало различные толкования, имело как бы особую глубину перспективы.
Героический подвиг женщины есть и в сказании о гибели Гуннара и Хёгни, которое тоже пользовалось большой популярностью. Атли, брат Брюнхильд, женится на Гудрун, вдове Сигурда. Атли приглашает к себе Гуннара и Хёгни с тайным умыслом отнять у них заклятое сокровище, которое досталось им от Сигурда, а Сигурду от дракона Фафнира. Братья принимают приглашение, несмотря на предостережения и недобрые предвестия. После героического сопротивления они попадают в плен к Атли, но не выдают, где спрятано сокровище. Хёгни смеется, в то время как у него вырезают из груди сердце, а Гуннар, брошенный в змеиную яму, играет на арфе пальцами ног — руки у него связаны, пока одна змея не впивается в него. После этого Гудрун осуществляет месть за братьев. Она убивает обоих своих сыновей от Атли и на пиру подносит ему кушанье, приготовленное из них. Затем она убивает Атли и поджигает его палаты.
В этом сказании ярко проявляется не только концепция долга кровной мести, характерная для героических сказаний, но также и характерная для них концепция судьбы. Гуннар и Хёгни отправляются к Атли, хотя, в сущности, знают, что идут на смерть. Побеждая страх смерти, они совершают героический подвиг и ликуют. Судьба навязана человеку извне. Нить судьбы прядут норны в час рожденья человека. Избегнуть того, что они судили, нельзя. Но можно знать свою судьбу. Когда герой знает, что настала его гибель, и тем не менее бесстрашно идет ей навстречу, он торжествует, что выполнил свой долг героя. Смерть — высшее испытание героя. Умирая, т. е. будучи побежденным смертью, но умирая бесстрашно, герой побеждает своего победителя.
Эта концепция судьбы еще отчетливей в сказании о Хамдире и Сёрли. Поверив клевете своего советника, Ёрмунрекк велит, чтобы его жена Сванхильд, дочь Гудрун и Сигурда, была затоптана насмерть копытами коней, а его сын Ландвер повешен. Когда Гудрун узнает о гибели своей дочери, она побуждает своих сыновей Хамдира и Серди отомстить за сестру. В доспехах, заколдованных против железа, Хамдир и Сёрли отправляются в поход, хотя знают, что обречены на гибель. Напав на Ёрмунрекка в его палатах, они отрубают ему руки и ноги, но головы его не могут отрубить, так как это было суждено сделать Эрпу, их сводному брату, которого они убили по дороге. Тогда Ёрмунрекк, который знает, что их доспехи заколдованы против железа, но не против камней, велит побить их камнями, Хамдир и Сёрли торжествуют, что выполнили до предела свой героический долг:
Мы стойко бились, — На трупах врагов Мы — как орлы На сучьях древесных! Со славой умрем Сегодня иль завтра — Никто не избегнет Норн приговора![22]И они погибают.
Когда говорят о мифологических пли героических сказаниях, то всегда допускают, что их можно рассматривать независимо от произведений — песен или прозаических повествований, в которых они представлены, другими словами, что они не произведения, не сочетание содержания и формы, а только сюжет, только содержание. Но оказания — это содержание особого рода, а именно содержание традиционное, т. е. такое, которое не придумывают, а переносят из одного произведения в другое, в то же время видоизменяя его в большей или меньшей мере в результате, так сказать, неосознанного авторства. Такое содержание потому можно рассматривать независимо от произведения, в котором оно представлено, что оно, как уже было сказано, особенно содержательно. Вместе с тем такое содержание, поскольку его видоизменяют, перенося из произведения в произведение, содержит наслоения, многих эпох, имеет сложную и длинную историю.
Сравнение с героической поэзией других германских народов позволяет установить, что все героические сказания, представленные в древнеисландской литературе, в своих основных чертах древнее заселения Исландии. Большинство их южногерманского происхождения. Это, однако, не значит, конечно, что героические сказания, представленные в древнеисландской литературе, тождественны соответствующим южногерманским. Со времени своего возникновения они должны были измениться очень сильно, подчас до неузнаваемости. В отношении некоторых героических сказаний удается установить те исторические факты, которые послужили их основой. Установлено, например, что основой сказания о гибели Гуннара и Хёгни были разрушение гуннами бургундского государства на среднем Рейне в 437 г., когда погиб король Гундикарий (т. е. Гуннар) «вместе со своим народом и родичами», и смерть вождя гуннов Аттилы (т. е. Атли) на ложе его жены Ильдико, а основой сказания о Хамдире и Сёрли — смерть остготского короля Эрманариха (т. е. Ёрмунрекка) в 375 г. Эти исторические факты преобразованы в сказании до полной неузнаваемости. Историческая основа сказания о Сигурде до сих пор неясна, но зато, благодаря многочисленным отражениям этого сказания у других германских народов, многое известно о том, насколько сильно оно изменилось на протяжении своей истории. Скандинавское (датское) происхождение предполагается в отношении сказания о Хельги, причем некоторые считают, что прообразом этого героя было не историческое лицо, а божество. В таком случае и это сказание изменилось до неузнаваемости.
Значительно менее известна история древнеисландских мифологических сказаний. Дело в том, что ни у одного из германских народов, кроме исландского, нет литературы языческого содержания и от язычества не сохранилось ничего, кроме отдельных имен или названий. Исландская литература языческого содержания совершенно единственна в своем роде. По всей вероятности, древнеисландские сказания о богах, так же как сказания о героях, в своих основных чертах возникли до заселения Исландии и, может быть, за сотни лет до ее заселения. Некоторые факты заставляют полагать, что в этих сказаниях есть элементы, которые восходят не только к праскандинавской или прагерманской, но, может быть, даже к праиндоевропейской эпохе. Но мифологические сказания должны были изменяться с течением времени и по мере изменения условии жизни и общественного строя. Едва ли когда-нибудь удастся снять наслоения одно за другим и восстановить весь путь развития этих сказаний. Относительно того, что в них общескандинавское, что общегерманское, что общеиндоевропейское, можно высказывать только догадки. Фиксированы эти сказания были в той форме, в которой они существовали в Исландии. Следовательно, как отбор, так и трактовка их исландские. Другими словами, в той форме, в которой они сохранились, они исландские.
Правда, исландские мифы часто называют, особенно в Германии, «германскими». В основе такой фальсификации лежит, конечно, наивное националистическое самообольщение: лестно считать исландские мифы в какой-то мере своими. Между тем мифы других германских народов, конечно, не могли быть тождествены исландским. О том, насколько сильно мифы других германских народов должны были отличаться от исландских, дают представление пересказы некоторых скандинавских мифов в «Деяниях датчан» — произведении, написанном по-латыни в начале XIII в. датским историком Саксоном Грамматиком. Так, в рассказе Саксона о Бальдре только то общее с рассказом Снорри об этом боге, что Хёд (у Саксона он — Hotherus) убил Бальдра (у Саксона он — Balderus). Ни одного из других мотивов, представленных у Снорри, — злых снов, клятв со всего на свете, побега омелы, совета Локи, всеобщего плача, попытки вернуть умершего с того света и т. д. — у Саксона нет и в помине, но есть ряд других мотивов, которых нет у Снорри: Бальдр (который у Саксона отнюдь не пассивный страдалец) из ревности замышляет убить Хёда (который у Саксона вовсе не слепой и не брат Бальдра, а сын шведского короля и муж Наины), но Хёду удается сразить Бальдра волшебным мечом и благодаря помощи лесных дев и т. д. Между тем Саксон несомненно в основном следовал датской или, во всяком случае, какой-то скандинавской традиции. То, что рассказывалось о Бальдре вне Скандинавии, у других германских народов (если у них вообще что-либо рассказывалось о нем!), должно было еще больше отличаться от исландского мифа. Неизвестно, существовал ли вообще культ Бальдра у других германских народов. Имя «Бальдр», правда, встречается в одном древневерхненемецком заговоре, но неясно даже, собственное ли это имя в данном случае.
Очень трудно или невозможно установить и те изменения, которые произошли в мифологических сказаниях уже в Исландии. Многие предполагали, что в исландских мифах отразились христианские представления. Кое-где, особенно в «Младшей Эдде», такие отражения несомненны. Миф о смерти Бальдра некоторые связывали с легендой о смерти Христа. Другие, однако, отрицали такую связь и связывали миф о Бальдре с различными эллинистическими или восточными сказаниями, с обрядами культа плодородия, с засвидетельствованным в Скандинавии ритуальным умерщвлением короля для предотвращения несчастья, с обрядами инициации и т. д. Христианизация Исландии в 1000 г. была компромиссом между христианством и язычеством, и возможно, что отражения этого компромисса есть кое-где в мифологических сказаниях. Но христианские элементы могли проникнуть в языческие сказания как до христианизации Исландии, поскольку христиане были в Исландии с самого ее заселения, так и до заселения Исландии, поскольку германские племена сталкивались с христианством с первых веков его существования. Наконец, сходство между языческими и христианскими произведениями отнюдь не всегда должно быть результатом заимствования: в языческой и христианской религии могли существовать сходные элементы.
Произведения, которые возникли в эпоху, когда в литературе господствовала традиция (а о том, что она господствовала, свидетельствует их содержание — сказания о богах и героях), должны были быть традиционны и по форме, т. е. создаваться на основе уже существующих прообразов в результате неосознанного авторства. В таких бытующих в устной традиции произведениях обычно происходит подновление старого, отбрасывание изжитого, добавление нового. Поэтому попытки определить, кто, когда и где «сочинил» одно из таких произведений, неизбежно обречены на неудачу.
Согласно общему мнению, песни, собранные в «Старшей Эдде», тоже бытовали в устной традиции. Эти традиционные по содержанию произведения должны были поэтому тоже быть продуктом неосознанного авторства. Не может быть случайностью то, что нигде в древнеисландской литературе никто не называется автором этих произведений, хотя вообще в этой литературе называется огромное множество имен. Снорри цитирует эти песни в своей «Младшей Эдде» явно не для того, чтобы показать, как тот или иной автор трактовал то или иное сказание, но только для того, чтобы сообщить данное сказание. Те кто сочиняли, пересочиняли или досочиняли эти песни (если неосознанное авторство вообще можно назвать «сочинением»), не подозревали, конечно, что они «авторы». Даже Снорри, который в своих прозаических пересказах сказаний, или «новеллах», как их часто называют, вероятно тоже внес кое-что свое в трактовку этих сказаний, не подозревал, конечно, что он «автор», да притом еще и «новелл». Пересказ сказаний с целью показать свое искусство, т. е. осознанное авторство, встречается только в скальдической поэзии. Например, оно есть в «Хвалебной песни Тору» Эйлива Годрунарсона и тому подобных произведениях. Но такие произведения Снорри цитирует не для того, чтобы сообщить сказание, а только для того, чтобы проиллюстрировать скальдическое искусство, и авторы таких произведений всегда называются. Впрочем, даже и в скальдической поэзии, как будет подробнее рассказано в следующей главе, авторство не распространялось на содержание произведения.
Между тем вся огромнейшая литература, посвященная исследованию эддических песен, имеет своей предпосылкой молчаливое допущение, что они возникали совершенно так же, как возникают современные литературные произведения. Сочинение и хранение этих песен протекало якобы в условиях вполне осознанного авторства и развитого авторского права, характерных для нашего времени. Каждая из этих песен была сознательно и целиком придумана определенным автором, сознательно стилизована в соответствии с определенными эстетическими принципами, сознательно использована для выражения тех или иных чувств, идей и концепций. Последовательная и систематическая модернизация эддическпх песен повлекла за собой бесчисленные попытки определить, когда, где и как была сочинена та или иная из них. История этих попыток, поражающих как размахом, изобретательностью и количеством затраченного труда, так и абсолютной неубедительностью и бесплодностью, могла бы составить содержание объемистого и очень поучительного исследования. Невозможно вкратце рассказать эту историю, которая должна была бы охватывать сотни работ, написанных за последние сто лет.
Аберрация, в силу которой возникновение древних произведений кажется тождественным возникновению современных произведений, в отношении исландских ученых объясняется, по-видимому, одной особенностью современной исландской культуры. Как уже говорилось в предыдущей главе, современные исландцы во многих случаях называют одним и тем же словом древнее и современное явление — сказителя и радиодиктора, вече и парламент и т. д. Им свойственно поэтому не замечать различия между древними и современными явлениями и таким образом модернизировать древние явления. Труднее понять, чем объясняется аберрация, о которой идет речь, в отношении ученых других стран, в частности — немецких ученых, которые больше всего и усерднее всего занимались древнеисландской литературой. Но, по-видимому, эта аберрация результат той склонности науки к последовательности и систематичности, в силу которой абсурдность допущения, как бы велика она ни была, не замечается, если это допущение последовательно и систематично проводится.
Поэзия
«Когда Харальд Прекрасноволосый был королем Норвегии, произошло заселение Исландии. У Харальда были скальды, и люди еще помнят их стихи, а также стихи обо всех королях, которые потом правили Норвегией… Мы признаем за правду все, что говорится в этих стихах о походах или битвах королей, ибо, хотя у скальдов в обычае всего больше хвалить того правителя, перед лицом которого они находятся, ни один скальд не осмелился бы приписать ему то, что, как всем известно, кто слушает, в том числе самому правителю, ложь и небылица. Эта было бы издевательством, а не похвалой».
Снорри Стурлусон
Исландию называют страной поэтов. Сочинение стихов действительно очень широко распространено в Исландии. По любому случаю сочиняется шутливое или сатирическое четверостишие, так называемая ферскейхтла, которая, как говорится в одной из них, бывает первой детской игрушкой исландца и со временем становится в его руках смертоносным оружием. Страсть к мастерству в стихосложении — исландская национальная черта[23]. До сих пор поэт, допускающий хотя бы малейшие ошибки в стихосложении, не может добиться популярности в Исландии, не может прослыть «большим поэтом». Очень популярна в Исландии импровизация стихов, а также вообще всякая рифмовка. Рифмуется все: даже правила, словари, счета. Процент поэтов в Исландии по отношению к общему количеству населения, по-видимому, намного превышает соответствующий процент в любой другой стране. Иностранцу, приезжающему в Исландию, остается совершенно непонятным, каким образом в стране, где нет и двухсот тысяч жителей, могут окупаться те многочисленные издания произведений поэтов этого или прошлых веков, которые он видит в витринах книжных магазинов в Рейкьявике. Но поэтов много не только в столице, но и в провинции, в глухих углах, далеко отстоящих от Рейкьявика.
О том, что Исландия — страна поэтов, свидетельствует, в частности, обилие памятников поэтам, поставленных там, где эти поэты жили или бывали, иногда в совсем глухих местах. Вся Исландия — это как бы заповедник поэтов. В одной долине на севере Исландии, около хутора Боула, где в прошлом веке жил в бедности поэт крестьянин Хьяульмар Йоунссон по прозвищу Боулу-Хьяульмар, стоит памятник: лира на высоком постаменте и на нем двустишие, в котором Хьяульмар — он был мастером едкой эпиграммы — сравнивает свое творчество с полуночным скитанием по мокрым снежным сугробам. За памятником — широкая долина, по ней несколькими руслами растекается река, дальше — горы. На пустынном перевале между этой долиной и соседней стоит памятник Стефану Стефанссону — поэту крестьянину, эмигрировавшему, как многие исландцы, в Канаду, жившему там суровой и трудной жизнью и в основном по ночам сочинявшему свои стихи. Памятнику придан вид «варды» — пирамиды из камней, показывающей во время снежных заносов, где проходит дорога. В такую варду было принято вкладывать четверостишие, сочиненное в дороге, с тем чтобы другой путник прочел его и, может быть, вложил свое. На юге Исландии, около хутора Хлидарендакот, где родился Торстейтн Эртлингссон, стоит бюст этого поэта-бунтаря, выступавшего в своих отточенных стихах против христианской церкви и власти богатых. Грустное лицо поэта вырисовывается на фоне черного обрыва, с которого, правее бюста, водопадом низвергается ручей. Напротив расстилается широкая долина, по которой текут две реки, а за ними высятся горы со снежными вершинами. На хуторе Рейкхольт, на западе Исландии, перед современным двухэтажным зданием школы стоит во весь рост на высоком постаменте Снорри Стурлусон, автор самого знаменитого из всех учебников поэзии — «Младшей Эдды». Семьсот лет тому назад Снорри был убит на этом хуторе.
Нет в Исландии памятника только Эгилю Скаллагримссону, самому знаменитому из исландских поэтов. Но живой памятник ему — это хутор Борг, у Боргарфьорда, на западе Исландии. Тысячу лет тому назад хутор Борг принадлежал Эгилю. Одно время на этом хуторе жил Снорри Стурлусон. Многие считают, что именно он был автором «Саги об Эгиле». В одной из древних могил около хутора похоронен, по преданию, Кьяртан, герой «Саги о людях из Лаксдаля». При хуторе есть малюсенькая церковка. Пастор церкви прочувствованно рассказывает посетителям о хуторе. Церковь здесь была впервые построена при сыне Эгиля, отце Хельги Красавицы, героини «Саги о Гуннлауге Змеином Языке». Сам Эгиль еще был язычником. Теперешняя церковка — середины XIX в. Другие постройки на хуторе еще новее. Но древнее здесь то, что, как и тысячу лет тому назад, хутор с церковью принадлежит одному хозяину. Ну и, конечно, то, что позади хутора возвышается холм с плоским верхом и обрывистыми скалистыми баками, — такой холм называется по-исландски «борг», по нему и назван хутор, — а перед хутором простирается низина, поросшая кое-где мелким ивовым кустарником, а дальше виднеется фьорд, а за ним высокие горы с голыми вершинами — трава с них сдута ветром.
В эпоху «народовластия» поэтическое творчество было распространено в Исландии едва ли не еще больше, чем в новое время. В «Книге о заселении страны» приводятся строфы, сочиненные по тому или иному поводу уже в самые первые десятилетия после заселения Исландии. О сотнях исландцев, живших в эпоху «народовластия», известно, что они сочиняли стихи, и многие из этих стихов приводятся в «сагах об исландцах» или других древнеисландских произведениях. Среди этих исландцев и средние бонды, и хёвдинги, и бедняки — люди самого разного социального положения. Сочиняли стихи и женщины.
Из «саг об исландцах» известно, что на праздниках и сходках исполнялись строфы, недавно сочиненные по тому или иному поводу. В «Саге о Бьёрне из Хитардаля» рассказывается, например, что однажды Бьёрн и Торд устроили лошадиный бой — обычную для того временя забаву, — и туда собрался народ со всей округи. Торда попросили позабавить собравшихся чем-нибудь, и он сказал строфы, сочиненные им о жене Бьёрна. После этого Бьёрн сказал свои строфы о жене Торда. Неясно, понравились ли эти стихи женам, но авторам стихи друг друга явно не понравились. Хорошо известен рассказ «Саги о Стурлунгах» о том, как на многолюдной свадьбе в Рейкьяхоларе в 1119 г. священник Ингимунд сказал много строф и целый флокк — сюиту из строф, — которые он сам сочинил. О том, что было принято импровизировать строфы стихов на пиру, за пивом, видно также из «Саги об Эгиле». В «Саге о Стурлунгах» приводится ряд таких строф, сочиненных на той же свадьбе в Рейкьяхоларе.
Возможно, конечно, что не все стихи, которые приводятся в сагах, подлинны или сочинены тем, кому их приписывает сага, и при тех именно обстоятельствах. Но и в этом случае эти стихи свидетельствуют об огромной распространенности поэтического творчества. При чтении «саг об исландцах» создается впечатление, что чуть ли не все могли тогда сочинять стихи, так как в сагах сплошь и рядом человек, о поэтических способностях которого ничего не было сказано, вдруг сочиняет строфу, как нечто само собой разумеющееся. Стихи сочинялись на пиру и в поле, за работой и в путешествии, на суше и на море, в самых обыденных и в исключительных обстоятельствах, по случаю потравы луга или поединка, торговой сделки или убийства и т. д. и т. п.
Все такие стихи называются «скальдическими», так как по-древнеисландски автор любого стихотворного произведения — это «скальд»[24]. Скальдическая поэзия была как бы диффузна в обществе, ее распространение в нем не имело определенных границ. Но существовала еще не скальдическая поэзия, песни «Старшей Эдды» и другие «эддические» произведения. В них рассказывалось о языческих богах и древних героях. Об этих сказаниях шла речь в предыдущей главе. Ничего неизвестно о том, кто сочинял эддическую поэзию и как она бытовала. Скальдическая и эддическая поэзия — это не два разных жанра или направления, а два различных вида литературы, хотя, конечно, это не исключает того, что существовали произведения, промежуточные между этими двумя видами литературы.
Из сообщений в сагах очень часто следует, что скальдические стихи импровизировались и что уменье их импровизировать ценилось. Как высшая похвала говорится в «Хеймскрингле» о скальде Сигхвате, что, хотя он обычно говорил медленно, стихами он говорил так же свободно, как прозой. В сагах даже импровизируют стихи, нанося друг другу удары мечом, как Скегги и Гисли в «Саге о Гисли», или, будучи смертельно раненным, как тот же Гисли или как Тормод в битве при Стикластадире. В «Саге о Стурлунгах» приводится строфа, сказанная Ториром Ёкулем, когда он клал голову на плаху[25].
Едва ли, конечно, все, что приводится в сагах как импровизация, действительно было импровизацией. Но, по-видимому, понятия «сочинение» и «исполнение» вообще были не всегда четко разграничены. Характерно, что сочиненная кем-либо строфа часто вводится в сагах выражением, которое можно перевести и «он сказал следующую строфу», и «он сочинил следующую строфу». Но до сих пор импровизация стихов — специфически исландское искусство. По словам одного копенгагенского врача, когда он делал серьезную операцию какому-то исландцу, тот импровизировал стихи в одном из трудных исландских размеров.
В продолжение трех с половиной веков, с середины X в. до конца XIII, исландцы поставляли правителям Норвегии, а иногда и других скандинавских стран и даже Англии хвалебные песни, так называемые «драпы», — в то время наиболее высоко ценимый вид поэзии или, вернее, единственный вид поэзии, обратимый в материальные ценности. Судя по сохранившимся драпам в честь норвежских правителей, исландские скальды начиная со второй половины X в. вытеснили в Норвегии местных скальдов. В «Перечне скальдов» называются сто сорок скальдов, сочинявших хвалебные песни в честь разных скандинавских правителей. По-видимому, не меньше ста из этих скальдов были исландцами. Исландские скальды бывали не только в Норвегии, но также и в Швеции, Дании, Англии, на Руси, в Испании, Сицилии, на Крите, в Византии. Одна скальдическая строфа была сочинена даже в Северной Америке. Сохранилось множество драп, сочиненных исландскими скальдами в честь различных правителей. В сагах часто рассказывается об исландцах, которые во время своих морских поездок посещали норвежских и других правителей, исполняли им свои драпы, получали в награду золотое запястье, дорогое оружие, плащ из драгоценной ткани, корабль, груженный товаром, и т. п., оставались на некоторое время или надолго при дворе, занимая почетное положение и подчас играя важную политическую роль. Нередко один скальд слагал хвалебные песни в честь правителей разных стран. Из «Перечня скальдов» следует, например, что Халльдор Болтун прославлял, кроме норвежского короля, четырех датских королей, шведского короля и трех шведских ярлов. Правителям приходилось, по-видимому, мириться с тем, что скальд, прославлявший их, слагал потом хвалебные песни в честь других правителей, нередко — их врагов. Правда, случалось, что правитель выражал недовольство тем, что скальд был у враждебного ему, другого правителя, как например недоволен был норвежский король Олав Толстый тем, что его скальд Сигхват посетил датского короля Кнута Могучего. Дело, однако, обычно не доходило до репрессий по отношению к скальду. Наоборот, рассказывается, что когда скальд Эйнар по прозвищу Звон Весов, пригрозил ярлу Хакону, что перейдет к его врагу ярлу Сигвальди, Хакон, чтобы задобрить Эйнара, поспешил подарить ему драгоценные весы с гирями из золота и серебра, издававшими особый звон, откуда и прозвище скальда.
Все это свидетельствует о том, что уже в эпоху «народовластия» поэзия была очень широко распространена в Исландии, Но исландская поэзия нового времени — преемница древнеисландской поэзии не только в этом. Есть в исландской поэзии нового времени и другие черты, которые восходят к поэзии эпохи «народовластия».
Что такое поэзия? По-исландски поэзия называется «связанной речью». Если действительно поэзия отличается от обыденной речи тем, что она речь «связанная», т. е. формально подчеркнутая, известным образом ритмически организованная и стилизованная, связанная рядом традиционных условностей или, во всяком случае, воспринимаемая на фоне этих условностей, то исландская поэзия отличается от поэзии других народов примерно так же, как у других народов поэзия отличается от обыденной речи. Исландская поэзия — это как бы поэзия в квадрате.
Мощь и многообразие языка исландской поэзии можно уподобить только мощи грандиозных исландских водопадов с радугой, появляющейся в их брызгах на солнце. Непрерывная поэтическая традиция существует в Исландии больше тысячи лет, и язык всех этих прошлых поколений поэтов до сих пор понятен исландцам. Потому в распоряжении исландского поэта не только современный повседневный язык, но и очень многое из языка поэзии прошлого. В силу всеобщего знакомства с древней литературой многие старые слова в поэзии не выходят из употребления, а если и выходят, то нередко со временем вновь входят в оборот. Показательно, что в первый толковый словарь исландского языка, вышедший в 1963 г. и предназначенный, как значится на титульном листе, «для школы и широкой публики», в большом количестве включены слова, которые уже в древности употреблялись только в поэзии! Они помечены в словаре как «поэтицизмы». Включены в этот словарь и многие так называемые кеннинги[26], т. е. характерные для древнеисландской поэзии условные поэтические обозначения типа «липа золота», «сосна наряда», т. е. женщина, «буря мечей», «вьюга копий», т. е. битва, и т. п. В самом деле, в так называемых «римах» — поэтическом жанре, существующем в Исландии уже шестьсот лет, — такие обозначения широко употребляются до настоящего времени.
Но в распоряжении исландского поэта нового времени не только огромные, накопленные веками словарные богатства, но также и почти неограниченная возможность создавать новые слова, соединяя два слова в одно. Вот три примера, взятые наугад. В стихотворении «Лед океана» Махтияса Йокумссона — самого выдающегося поэта второй половины XIX в. — встречается тридцать девять сложных слов в восьмидесяти строчках. Десяти из этих слов нет ни в одном исландском словаре. Они, видимо, были придуманы Махтиясом, но не стали употребительными. Вот некоторые из тех сложных слов этого стихотворения, которые поддаются буквальному переводу: «среброфлот», «гневопламя», «смелосила», «призракоцарство», «адоподобный», «молчеречь». В первых восьми строчках стихотворения «Островок Гуннара» Йоунаса Хатльгримссона — самого выдающегося поэта первой половины XIX в. — встречается восемь сложных слов: «сребросиний», «златокрасный», «небосинь», «прекрасно-прозрачный» и т. п. Двух из этих восьми слов нет в словарях. А в первых восьми строчках стихотворения «Лед океана» Эйнара Бенедихтссона — самого выдающегося поэта XX в. — встречается семь сложных слов, из которых трех нет в словарях.
Благодаря всем этим языковым возможностям, в распоряжении исландского поэта оказывается очень много созвучных слов, и это позволяет сделать стих более отличным от обыденной речи, чем это возможно в поэзии других народов. Исландские поэты нового времени, как правило, связывают строки своих стихов не только обычной рифмой, т. е. созвучием концов строк, как поэты других стран, но еще и аллитерацией, т. е. созвучием начал слов в двух соседних строках. Когда-то, в глубокой древности, у всех народов, говорящих на германских языках, стих был аллитерационным, другими словами — аллитерация регулярно связывала в нем две соседние строки. Но только у исландцев аллитерационный стих жив до сегодняшнего дня. С исландской точки зрения, строки, только рифмованные, но не аллитерирующие, — это не настоящие стихотворные строки. Но исландские поэты нового времени применяют, кроме конечной рифмы и аллитерации, еще и внутреннюю рифму, т. е. созвучие слогов внутри строки. Внутренняя рифма широко применялась уже в древнеисландской поэзии. Как случайные украшения стиха или средства выразительности аллитерация и внутренняя рифма встречаются и в поэзии других народов, в частности в русской поэзии. Но в исландском стихе все эти созвучия и их сочетания могут быть регулярны, т. е. так же повторяться из строки в строку, как количество слогов в стопе или стоп в строке в русском силлабо-тоническом стихе. Особенно разработаны все эти способы украшения стиха регулярными созвучиями в уже упомянутом выше жанре рим (смотри примеры на стр. 116). Едва ли на каком-нибудь другом языке, кроме исландского, можно было бы сочинять строфы с таким количеством созвучий.
Наконец, исландский стих отличается от обыденной речи тем, что в нем допускаются различные отступления от обычного порядка слов, а надо сказать, что в исландском языке порядок слов вообще свободнее, чем в других германских языках. Иногда в исландском стихе бывает даже так, что сложное слово разрывается, и между его членами вставляется другое слово[27]. Например, у Махтияса Йокумссона есть сочетание hlífa-finnur-stálin, где hlífastálin «доспехи», a finnur «находит», а у Эггерта Оулафссона есть сочетание Ísa-köldu-landi, где Ísalandi «Исландии», a köldu «холодной». Более сложные переплетения слов не встречаются в исландской поэзии нового времени. Однако всякий исландский ребенок знает шуточное четверостишие, в котором переплетаются семь предложений. «Петух, ворон, собака, свинья, лошадь, мышь, воробей, кукарекает, каркает, лает, хрюкает, ржет, пищит, чирикает»[28]. Подчеркнутость формы, резкое отличие от обыденной речи были характерны и для скальдической поэзии, причем даже в еще большей степени. Эта поэзия требовала поэтому огромного напряжения внимания от слушателя. Она — самая трудная поэзия, которая когда-либо и где-либо была записана. Если исландская поэзия нового времени — это поэзия в квадрате, то скальдическая поэзия — это поэзия в кубе.
Сложный и трудный стихотворный размер — это первое, что характерно для скальдической поэзии. Пять шестых того, что сохранилось от нее, сочинено так называемым «дротткветтом», или «дружинным размером». В строфе дротткветта восемь обычно шестисложных строк, и в каждой строке в определенном месте аллитерация — две в нечетной строке и одна в четной — и полные или неполные внутренние рифмы — неполные в нечетной строке и полные в четной. Конечная рифма первоначально была вообще неизвестна в Скандинавии, и в древнеисландской поэзии опа встречается редко. Вот две строки дротткветта:
Тебя шлет ныне в изгнанье Князь, поправший право.или:
Владыке ратной гадюки Дело его не приспело.Аллитерации выделены жирным шрифтом, внутренние рифмы — курсивом. Строфа состояла из четырех двустиший с точно таким же узором созвучий. Выдержать его на протяжении строфы, не говоря уже о десятках строф, было нелегко. Но исландцам всего больше импонировал именно этот размер. В XIX и XX вв. некоторые исландские поэты пробовали писать дротткветтом — например, Махтияс Йокумссон. Но господствовали, если не считать рим, более простые размеры.
Сложный и трудный поэтический язык — это второе, что характерно для поэзии скальдов. Такие наиболее важные для поэзии понятия, как «воин», «битва», «корабль», «золото», «меч», «щит», «кровь», «ворон», обозначались поэтическими синонимами, так называемыми «хейти», и поэтическими фигурами, так называемыми «кеннингами». Хейти — это либо слово, вышедшее из употребления в обыденной речи, либо собственное имя, ставшее нарицательным, либо обозначение части вместо целого, рода вместо вида и т. п. Так, в русской классической поэзии «ланиты» — это хейти щек, «зефир» — хейти ветра, «лира» — хейти поэзии и т. д. В скальдической поэзии для некоторых понятий хейти насчитывались десятками. Никакой аналогии кеннингу в русской поэзии нет. Кеннинг — это совершенно условное обозначение из двух или больше существительных, из которых одно определяет другое. Так, кеннинг воина или мужчины — это «Бальдр щита», «Фрейр меча», «древо битвы», «куст шлема» и т. п., кеннинг корабля — это «конь мачты», «олень моря», «бык штевня» и т. д., кеннинг ворона — это «чайка ран», «глухарь битвы», «кукушка трупов» и т. п., кеннинг крови — это «море меча», «река трупа», «напиток ворона» и т. п.
Подставляя различные хейти вместо составных частей кеннинга, можно было варьировать его, а подставляя целые кеннинги вместо его составных частей, можно было сделать его многочленным и тем самым бесконечно увеличить возможность его варьирования. Трех- и четырехчленные кеннинги довольно обычны в скальдической поэзии. Встречаются иногда даже семичленные кеннинги, например «метатель огня вьюги ведьмы луны коня корабельных сараев», где «конь корабельных сараев» — это корабль, «луна корабля» — щит, «ведьма щита» — копье, «вьюга копий» — битва, «огонь битвы.» — меч, «метатель меча» — воин. Для того чтобы расшифровать такой кеннинг, приходилось «переводить» его составные части и таким образом сводить его к элементарной схеме. Нередко, впрочем, и двучленные кеннинги — своего рода загадки. Не сразу догадаешься, что «снег тигеля» — это серебро, «змея тетивы» — стрела, «море телеги» — земля, а «небо песка» или «поде тюленя» — море. На загадки похожи и замены составных частей собственных имен синонимами или кеннингами. Так, Ísland, буквально «страна льда», превращается в Snægrund, буквально «земля снега». Такие зашифровки собственных имен довольно обычны в скальдической поэзии. В средневековой поэзии других стран тоже нередко встречаются разные зашифровки, ребусы, причем нередко всем этим занимались выдающиеся поэты. Однако нигде эта тенденция не получила такого развития, как в скальдическом кеннинге. Форма скальдического кеннинга имела эстетическую ценность сама по себе и часто не зависела непосредственно от того, что данный кеннинг выражал. В основе кеннинга могло не лежать никакого живописного образа, либо этот образ мог совершенно не соответствовать конкретной ситуации. Кеннинги воина, или мужчины, «расточитель сокровищ» или «раздаватель золота» могли быть применены и тогда, когда речь шла о бедняке. Эпитет при кеннинге мог противоречить буквальному смыслу кеннинга, как в сочетании «нищий расточитель сокровищ». Кеннинги с именами языческих богов могли употребляться для описания христианских персонажей. Да, в сущности, и любой кеннинг воина, или мужчины, был, как правило, не богаче содержанием, чем местоимение «он». Но зато кеннинги давали возможность нагромождать существительные в таком количестве, какое не засвидетельствовано ни в какой другой поэзии, и это делало язык поэзии необычайно богатым и пышным. Кеннинги подчеркивали поэтическую форму, они казались тем красивее, чем более изобретательно и замысловато они были разработаны.
Наконец, для скальдической поэзии характерен очень своеобразный порядок слов. В науке долго господствовало представление, что в дротткветтной строфе никакого порядка в расположении слов вообще нет. Слова, составляющие отдельные предложения, — так представляли себе ученые — разбрасывались в пределах дротткветтной строфы совершенно произвольно, и слушатель — ведь скальдическая поэзия существовала и в дописьменное время! — должен был сложить эти слова в предложения, подобно тому, как в детской игре произвольно разбросанные кубики надо сложить так, чтобы получилась требуемая картинка и лишних кубиков не оказалось. Никому не приходило в голову усомниться в возможности такого словорасположения, и это любопытный пример того, как явно абсурдное допущение в продолжение долгого времени принимается в науке за абсолютную истину. Только сравнительно недавно стало понятно, что, хотя порядок слов в дротткветтной строфе действительно необычен, дело обстояло все же не совсем так плохо, как представляли себе раньше ученые. Отступления от обычного словорасположения подчинялись определенным закономерностям. Так, слова, составляющие кеннинги, могли быть расположены не в том порядке, который необходим, чтобы кеннинг в целом был максимально понятным. Например, вместо «расточитель огня волны», т. е. «золота», можно было сказать «расточитель волны огня». Предложения могли быть определенным образом переплетены друг с другом: одно предложение можно было в определенном месте прервать другим предложением и потом в пределах той же полустрофы закончить его. Например, можно было сказать
Славен был бы повелитель воинов, Если бы он был — Мало какой народ мог бы вскормить — Подобен отцу — такого короля.Слова, набранные курсивом, образуют вставное предложение. Неясно, как смысл стихов с таким порядком слов доходил до слушателей. Может быть, вставное предложение произносилось с особой интонацией? Неизвестно также, как возник такой порядок слов. Сохранилось свидетельство о том, что при дворе Аттилы двое произнесли хвалебную песнь в честь него, и считается, что это древнейшее свидетельство об исполнения стихов по германскому обычаю. В поэме «Видсид» — одном из древнейших памятников английской литературы — тоже есть указание на исполнение хвалебной песни двумя поэтами. В «Саге о Стурлунгах» дважды рассказывается о том, что двое исполняют строфу, каждый свою строчку, причем в обоих случаях такое исполнение снится кому-то. Наконец, Гиральд Камбрийский — английский средневековый автор — упоминает исполнение песни в два голоса в Нортумбрии и высказывает предположение, что оно идет от скандинавских викингов. Может быть, переплетение предложений в дротткветтной строфе объясняется тем, что первоначально ее произносили двое, перебивая друг друга? Вставное предложение было в таком случае своего рода припевом. Но такого предположения никто почему-то до сих пор не высказывал. Припев — так называемый «стев», — который обычен в дротткветтных хвалебных песнях, действительно похож на вставное предложение, но он более регулярен. Несомненно, во всяком случае, что исконное применение дротткветта, т. е. «дружинного размера», — это хвалебная песнь.
Таким образом, если подчеркнутость формы — это сущность поэзии, то скальдическая поэзия — это действительно своего рода поэзия в кубе. Но что же такое поэзия? Можно ли ее определять, как речь, «связанную», т. е. формально подчеркнутую, ритмически упорядоченную, известным образом стилизованную и т. д.? Ведь такое определение не учитывает функции поэзии. Нельзя ли дать такое определение поэзии, которое учитывало бы также ее функцию? Ведь возможны и даже очень обычны стихи, в которых, как принято говорить, «нет поэзии», и возможны стихотворения в прозе, т. е. проза, в которой «есть поэзия». Правда, по-исландски так сказать нельзя. По-исландски поэзия — это только «то, что сочинено» (skáldskapur) или «связанная речь» (bundið mál).
Попытки дать определение поэзии, которое учитывало бы ее функцию, бесчисленны. По словам поэтов, поэзия — это «музыка души», «душа вещей» и т. д. и т. п. Но беда в том, что такие определения подразумевают не только некоторую условную фразеологию («музыка», «душа» и т. п. — это условные обозначения того, что не поддается определению), но и некоторый ограниченный этап в развитии поэзии. В процессе развития поэзии ее функция претерпевает настолько большие изменения, что нельзя дать такое ее определение, которое годилось бы на всем протяжении ее истории. Значение древней поэзии в том, в частности, и заключается, что она делает очевидным, насколько изменчива функция поэзии. Правда, историки литературы, как правило, игнорируют эту изменчивость, рассматривают древнюю поэзию с точки зрения современных критериев и не делают никакой попытки понять критерии, применявшиеся к поэзии в древности. И это странно: получается, что историки литературы не интересуются историей литературы.
Скальдические стихи сохранились как фрагменты, цитируемые в произведениях XIII в. Как правило, эти стихи были записаны только в XIII в., между тем древнейшие из них были сочинены в IX в. Таким образом, эти стихи очень долго — до трех с половиной веков — бытовали в устной традиции, и не исключена возможность, что, несмотря на строгость их формы, они подверглись некоторым искажениям за это время, так как уже тогда они могли быть непонятны. Они, как правило, непонятны и современному человеку, даже исландцу. Но не потому, что они плохо сохранились, и не потому, что их форма очень сложна, а потому, что современному человеку непонятна функция этой поэзии. Между тем ученых эта поэзия никогда и не интересовала как поэзия: достаточно хлопот доставляла им она просто как тексты, подлежащие прочтению.
Традиция скальдических хвалебных песен прослеживается на протяжении около полутысячелетия — от первой половины IX в. до самого конца XIII в. Никаких существенных изменений в их форме или содержании не произошло за это время, если не считать некоторых колебаний в частоте и сложности кеннингов. Хвалебная песнь всегда построена по одной и той же схеме. Она может начинаться с предложения выслушать сочиненные скальдом стихи. Дальше всегда следует перечень событий в хронологическом порядке, прославляется храбрость и щедрость того, кому посвящена песнь, упоминаются походы и битвы, приводятся собственные имена и географические названия, причем повторяются все те же традиционные детали — бег украшенных щитами кораблей, сверканье мечей, потоки крови, пожирание трупов волками, воронами и орлами. Заключение может содержать просьбу скальда о награде за его произведение. Ничего «поэтического» в современном смысле в содержании такой хвалебной песни нет. Если, устранив кеннинги, передать это содержание в прозе, то оно оказывается чрезвычайно скудным. Но, тем не менее, оно всегда содержит только невымышленные факты, потому что, как сказал Снорри Стурлусон, приписать кому-нибудь то, чего он не совершил, было бы не хвалой, а насмешкой — суждение, поражающее в наше время своей наивностью (почему бы, в самом деле, не приписать живому правителю то, чего он не совершал?), но в то время несомненно истинное и основанное на понимании функции поэзии, закономерном для того времени.
Недаром скальдические хвалебные песни давно оценены как наиболее надежный исторический источник и в значительной мере именно потому и сохранились, что уже в XIII в. цитировались в исторических произведениях. Содержанием их могли быть только невымышленные факты, так как возможность говорить в поэзии о сознательно вымышленном была вообще неизвестна. Понятий «художественный вымысел» и «художественная правда» не существовало. Невозможно было ни обобщить сознательно действительность в художественный вымысел, ни искать художественной правды в вымысле. В отношении поэзии речь могла идти только о «правде» и «лжи» в самом прямом смысле, и поэтому граница между ними была абсолютно четкой. Отношение автора к содержанию его стихов было как бы совершенно пассивным: он не мог ни прибавить чего-нибудь к фактам, ни отнять от них. Его творчество было поэтому направлено в основном на форму.
Все это еще более очевидно в строфах к случаю, или отдельных строфах, которые составляют не менее важную часть скальдической поэзии, чем хвалебные песни. У скальдических отдельных строф содержание значительно разнообразней, чем у скальдических хвалебных песен. В них может идти речь не только о беге кораблей, потоках крови и пожирании трупов волками и воронами, но также и о встрече в пути, торговой сделке, украденной застежке, свидании с женщиной, чистке овечьего загона от навоза, праве на наследование имущества, вареной колбасе и т. д. и т. п. Однако и в отдельной строфе содержание, если его, устранив кеннинги, изложить в прозе, оказывается крайне скудным и сводится к констатации каких-то невымышленных фактов, которые сообщаются как объяснение причины поступка, предупреждение, совет, угроза, похвальба или просто как информация. При этом сообщаются имена конкретных людей, названия конкретных местностей, даже цифры. Ничего «поэтического» в современном смысле в содержании отдельной строфы, как правило, нет. Оно обычно настолько отрывочно, случайно, индивидуально и конкретно, что без сопровождающего прозаического текста так же непонятно, как могут быть непонятными перехваченное чужое письмо или подслушанный разговор. Крайне условная форма сочетается с содержанием, свободным от каких-либо литературных условностей и потому не говорящим ничего современному читателю. Никакого художественного обобщения, никакой типизации, никакого художественного вымысла в скальдических отдельных строфах не бывает. Вот суть некоторых из них, выбранных наугад: «Я отнял когда-то землю у Стейнара своим решением, я думал, что это будет к лучшему для Торгейра, но он обманул меня, он мне обещал, что будет все по-хорошему, но не мог удержаться от плохого поступка, и это меня удивляет»; «Бери эту марку, а то не получишь ничего»; «Меня вырвало на голову Армода»; «Я убил Торгрима, Лодина, Торкеля, Торда и Фальгейра».
С точки зрения наших, современных представлений о «поэтическом» может показаться, что именно преобладание индивидуального и конкретного в содержания, его необщий характер, и особенно в тех строфах, где речь идет о личной жизни автора, его отношении к какой-то определенной женщине и т. п., приближают скальдическую поэзию к современной лирике, в которой отсутствие общих мест и конкретность ситуации может быть сознательным художественным приемом. Но это, конечно, иллюзия. «Необщее» в лирике нового времени — это результат преодоления уже достигнутого «общего». Предпосылка этого «необщего» — уже выработанные лирические общие места и типические лирические ситуации, от которых автор отталкивается. Это «необщее» — результат обобщения, так сказать, второй степени. «Необщее» в скальдической поэзии определяется только конкретной ситуацией. Оно результат того, что автор еще не способен на художественное обобщение. Авторство еще как бы неполноценно: оно направлено на изощренную разработку формы, в известной мере независимой от содержания, на словесное орнаментирование, внешнее по отношению к тому, о чем идет речь. Но такое отношение автора к форме — это лишь обратная сторона его отношения к содержанию. Содержание не выбрано им, а предопределено действительностью. Поэзия для автора скальдических стихов — это способ констатации фактов, лежащих вне сферы его творчества. Но это не потому, что у него нет «поэтической фантазии». Он неспособен на художественный вымысел потому, что не может отличить его от обыкновенной лжи. Его авторское сознание еще не поднялось на ступень, на которой возможен сознательный отбор фактов действительности, их обобщение и преобразование в художественное произведение. Его творчество связано по рукам и ногам фактами необобщенной действительности.
Функция литературного жанра определяется его местом в системе литературных жанров данного общества, точно так же как функция искусства определяется его местом в существующей системе идеологических форм. Чтобы понять, чем был в прошлом тот или иной литературный жанр, надо рассмотреть всю совокупность жанров, существовавших в данном обществе. Нет «лирики вообще», «стихов к случаю вообще». В разные эпохи эти жанры были совершенно разными по своей функции. В современном обществе функции стихов к случаю ограничивает то, что наряду с ними существуют корреспонденции в прессе, очерки, публицистика, докладные записки, политические доклады и отчеты, передовицы и т. д. и т. п. Ничего этого в древнеисландском обществе не было. Поэтому функция скальдических отдельных строф была чрезвычайно широкой и нерасчлененной. Этому способствовало и то, что в них могли сообщаться только невымышленные факты. «Строфы о путешествии на восток», в которых скальд Сигхват рассказывает о своей поездке в Швецию с дипломатической миссией, были одновременно и поэзией, и путевым очерком, и дипломатическим отчетом, а его знаменитые «Строфы откровенности», в которых ему пришлось докладывать норвежскому королю Магнусу о недовольстве его политикой в некоторых слоях норвежского общества и о необходимости изменить ее, были одновременно и поэзией, и политическим докладом. Скальдические отдельные строфы были гораздо актуальней, чем это возможно для современной поэзии, и гораздо литературней, чем это возможно для современного политического документа. Скальдические отдельные строфы, как видно из саг, в которых они цитируются, могли, оставаясь поэзией, выполнять также функцию военного донесения или юридического документа. Примеры этого — строфа Тормода, скальда Черных Бровей, в которой он подает свое мнение на военном совете перед битвой при Стикластадире, или строфа Глюма Битвы, содержание которой послужило достаточным основанием, чтобы считать его виновным в убийстве Торвальда Крюка.
Вместе с тем, в силу того, что в скальдической поэзии форма была в известной мере независима от содержания, самой поэтической форме приписывалась действенная сила. Хотя, как уже было сказано, скальдические хвалебные песни давно были оценены как наиболее надежный исторический источник, в действительности в своей хвалебной песни скальд отнюдь не ставил себе историографических целей, да и фактическое содержание ее было обычно очень скудным. Ее назначением было прославить того, к кому она была обращена, обеспечить ему славу. Сочинить хвалебную песнь о ком-нибудь — значило сделать его обладателем славы. Не случайно в древнеисландском поэтическом языке слова «слава» и «поэзия» синонимы. Решающим было в хвалебной песни не содержание, а форма. Важны были не битвы, которые перечислялись, а то, что эти битвы описывались по всем правилам поэзии, — замысловато, пышно, изобретательно. Сочинялись и такие хвалебные песни, в которых вместо актов, свидетельствующих о храбрости прославляемого, перечислялись его знатные предки или даже просто описывались изображения на щите, подаренном прославляемым скальду. Древнейшее из скальдических произведений — щитовая драпа, сочиненная Браги Боддасоном в честь некоего Рагнара, — было именно таким.
Представление о действенности поэтической формы самой по себе отчетливо проявляется в рассказах о тех хвалебных песнях, которые были «выкупами за голову». В этих рассказах тот или иной правитель меняет свое право убить провинившегося перед ним скальда на хвалебную песнь, сочиненную скальдом в его честь. Хвалебная песнь в таких случаях была явно вынуждена, но, тем не менее, считалась вполне действенной. Исландская традиция рассказывает о целом ряде таких «выкупов за голову». Браги Боддасон — древнейший из скальдов, чьи произведения сохранились, — выкупил свою голову у шведского конунга Бьёрна, сочинив хвалебную песнь о нем в течение одной ночи. Примерно то же самое рассказывается о семи других скальдах IX–XI вв. Самая знаменитая из этих историй известна из «Саги об Эгиле». По пути в Англию — рассказывает сага — Эгиль был застигнут бурей и потерпел кораблекрушение у берегов Нортумбрии, где правил его злейший враг — Эйрик Кровавая Секира. Эгиль раньше имел с ним столкновения и убил его сына. По заступничеству Аринбьёрна, друга Эгиля и приближенного Эйрика, расправа откладывается до утра. Следуя совету Аринбьёрна и примеру своего предка Браги, Эгиль сочиняет в течение ночи хвалебную песнь в честь Эйрика и наутро исполняет ее перед ним, за что получает жизнь.
Вот одна типичная строфа из «Выкупа за голову» Эгиля:
Серп в жатве сеч — сек жадно меч, был ран резец клинка конец. И стали рдяны от стали льдяной доспехи в рьяной потехе бранной[29].В этом произведении впервые в Исландии применена конечная рифма. По содержанию оно не отличается от обычных скальдических хвалебных песен. Неизвестно, о какой именно битве здесь идет речь. Неизвестно также, конечно, все ли происходило в действительности так, как рассказывает сага. Если сага верно описывает внешность Эгиля — его огромный рост, могучие плечи, безобразное лицо, выдающийся подбородок, толстый нос, густые сросшиеся брови, — то возможно, что на Эйрика произвели впечатление не только необыкновенная звучность стихов, но и пугающая внешность их автора. Несомненно, во всяком случае, что обычай стихотворного «выкупа за голову» действительно существовал.
Представление о действенности поэтической формы самой по себе отчетливее всего проявляется в рассказах о магических свойствах, которыми якобы обладали стихи, сочиненные не с целью прославления, но, наоборот, с целью поношения. Такие стихи назывались «нид» (níð) Впрочем, значение этого слова не совсем ясно. По-видимому, оно могло означать не только хулительные стихи, но и жердь с насаженной на нее лошадиной головой. Жердь воздвигалась с той же целью, с какой сочинялись такие стихи. В «Саге об Эгиде» так рассказывается о его знаменитом ниде против Эйрика и его жены Гуннхильд. Прежде чем покинуть Норвегию — это было, еще когда Эйрик правил в Норвегии, а не в Нортумбрии, — Эгиль высадился на пустынную шхеру, вблизи норвежского побережья, взобрался на скалу, обращенную к материку, насадил лошадиную голову на орешниковую жердь и сказал: «Я воздвигаю эту жердь и обращаю нид против конунга Эйрика и его жены Гуннхильд, — и он повернул лошадиную голову в сторону материка. — Я обращаю нид против духов, населяющих страну. Пусть они все блуждают без дороги и не находят себе покоя, пока не изгонят Эйрика и Гуннхильд из Норвегии». Потом он всадил жердь в расщелину скалы и вырезал на ней рунами сказанное им заклятие. Несколько раньше в саге приводятся две строфы Эгиля, которые по своему содержанию в общих чертах совпадают с этим заклятием. В этих строфах выдержаны магические числовые соотношения между рунами; в каждом четверостишии по семьдесят две руны — трижды общее количество рун в руническом алфавите. Вероятно, эти строфы и вырезал Эгиль на жерди. Что касается Эйрика, то известно, что он вскоре был действительно вынужден покинуть Норвегию вместе с Гуннхильд и обосновался в Нортумбрии. Там Эгиль и выкупил у него свою голову хвалебной песнью.
В саге рассказывается дальше, что Эгиль вернулся к своим спутникам на корабль, и они вышли в море. Ветер крепчал, и Эгиль сочинил такую строфу:
Ветер храпящий рубит море лезвием бури, волны сечет крутые — дорогу коня морского. Ветер в одеждах снежных рвет, как пила, зубцами крылья морского лебедя, грудь ему разрывая[30].Скальдическая поэзия — самая непереводимая поэзия, которая когда-либо существовала. В приведенном выше переводе строфы Эгиля не выдержан обычный скальдичный размер, кеннинги устранены или упрощены, порядок слов тоже упрощен. Все же этот перевод дает некоторое представление о звучности строфы дротткветта и ее насыщенности иносказаниями.
О том, как представляли себе возможные последствия нида, видно из рассказа о скальде Торлейве. Норвежский ярл Хакон отобрал у Торлейва его товары, сжег его корабль и повесил его спутников. Переодетый нищим, Торлейв пробрался в палаты ярла и получил разрешение сказать сочиненные им стихи. Ярлу сначала показалось, что Торлейв прославляет его и Эйрика, его сына. Но вдруг на ярла напал страшный зуд, и он понял, что стихи Торлейва — скрытый нид. Торлейв начал тогда говорить центральную часть своего нида:
Туман поднялся с востока, Туча несется к западу. Дым от добра сожженного Досюда уже долетает…В палате стало темно, все оружие пришло в движение, многие были убиты, а ярл упал без сознания. У него отгнила борода и волосы по одну сторону пробора, и он долго пролежал после этого больной.
Снорри Стурлуеои рассказывает в «Хеймскрингле» о ниде, сочиненном коллективно всеми исландцами против Датского короля Харальда Синий Зуб и его наместника Биргира в отместку за то, что датчане захватили груз исландского корабля, разбившегося у берегов Дании. Было постановлено собрать по строфе нида «с носа». Коллективный нид — своего рода народное ополчение — должен был, как представляли себе исландцы, доставить немало хлопот датчанам. В сохранившейся строфе этого нида говорится, что Харальда и Биргира видели спаривающихся в образе жеребца и кобылы — высшее оскорбление по тогдашним представлениям. Датский король принял направленный против него нид очень всерьез: он собрался в поход против Исландии. Однако, как рассказывает Снорри, он сначала послал на разведку одного колдуна. Колдун этот подплыл в образе кита к Исландии с востока и увидел, что все горы и холмы полны там духами страны, а когда он заплыл в Вохпна-фьорд, то ему навстречу появился из долины громадный дракон, а за ним — множество дышащих ядом змей, жаб и ящериц. Тогда колдун подплыл к Исландии с севера, но из Эйя-фьорда навстречу ему вылетел огромный орел, а за ним — множество других птиц. Колдун подплыл к Исландии с запада, но из Брейда-фьорда навстречу ему с ревом пошел в брод по морю большущий бык, а за ним — множество духов страны. Колдун обогнул мыс Рейкьянес и хотел подплыть к Исландии с юга, по тут навстречу ему вышел великан с железной палицей, а за ним — много других страшилищ. А дальше на восток — песчаный берег и сильный прибой, так что боевым кораблям не пристать, как сообщил колдун. Харальд Синий Зуб вернулся со своим флотом восвояси не солоно хлебавши. Дракон, орел, бык и великан — объясняет Снорри — это четыре наиболее выдающихся исландца того времени: Бродд-Хельги, Эйольв Вальгердарсон, Торд Геллир и Торрод Годи. Вот почему дракон, орел, бык и великан — духи-хранители Исландии и эмблема ее независимости. Они изображены на стене здания альтинга, исландского парламента, в Рейкьявике. Дракон, орел, бык и великан — это государственный герб Исландской республики.
О том, насколько всерьез принимались хулительные стихи, свидетельствуют также многочисленные сообщения об убийствах в отместку за них. Даже один христианский миссионер не преминул убить двух исландцев, сочинивших о нем нид. Наконец, о том, насколько всерьез принимался нид, свидетельствует запрещение в «Сером гусе» — древнеисландском своде законов — сочинять, исполнять или заучивать хулительные стихи под страхом объявления вне закона или штрафа в зависимости от объема стихотворения. Стихи о женщине, т. е., конечно, определенной женщине, так как вымышленных женских образов или «женщины вообще» в стихах быть не могло, — тоже были запрещены по закону. По-видимому, считали, что такие стихи могут подействовать как приворот или нанести телесный ущерб женщине. Правда, такие стихи все же сочинялись…
Последняя вспышка веры в магическую силу поэтической формы была в Исландии в XVII в., когда возникло множество народных сказок о магических стихах так называемых сильных поэтов. В сказках этих рассказывается о том, как строфа «сильного поэта» вызывала проказу или другую тяжелую болезнь, даже смерть, поднимала мертвеца из могилы и т. д. Такие строфы обычно импровизировались, причем считалось, что, если человек сможет сразу же ответить на обращенные к нему стихи, подхватив рифму или завершив строфу, то тем самым магическое действие стихов парализовалось. Сочинялись также длинные стихотворения, которые были по существу заклинаниями. Многие такие стихи сохранились. «Сильным поэтом» считался, в частности, Хатльгрим Пьетурссон, наиболее знаменитый исландский поэт XVII в., автор рим, сатирических стихов и особенно псалмов и вообще религиозной поэзии. В народной сказке рассказывается, что однажды Хатльгрим убил своим четверостишием лисицу, которая причиняла много вреда. Он увидел ее в окно церкви во время службы — он был священником — и не мог удержаться от того, чтобы сочинить о ней тут же уничтожающее четверостишие.
И форма, и содержание, и функция скальдической поэзии очень своеобразны. Но есть у этой поэзии еще одна черта, по ней она и называется поэзией скальдической, или поэзией скальдов, и, в сущности, именно эта черта — основная: все скальдические стихи приписываются определенным скальдам, или авторам, и все древнеисландские стихи, приписываемые авторам, — это и есть скальдические стихи. Возможно, правда, что автор скальдического произведения был забыт или что оно приписывалось не тому, кто его в действительности сочинил. Но в отношении всех скальдических произведений — и только в отношении них! — непременно подразумевалось сознательное индивидуальное авторство. Эддическая поэзия никогда не приписывалась определенным авторам. Прозаические произведения в дописьменное время тоже никогда не приписывались определенным авторам. С появлением письменности в Исландии появляются и прозаические произведения, авторы которых известны. Но известны эти авторы только случайно, и авторы огромного большинства древнеисландских прозаических произведений неизвестны. Это и понятно: существовало понятие «автор стихов», и оно выражалось словом «скальд», но понятия «автор» не существовало, и не было такого слова. Соответственно есть в древнеисландском языке слово «сочинять стихи» (yrkja), но нет слова «сочинять».
Разумеется, древнеисландское слово «скальд» и современное «поэт» совсем не однозначны. Быть «скальдом» не значило обладать душевным обликом «поэта» — фантазера, мечтателя и т. д. Сочинять стихи было просто уменьем, таким же как стрелять из лука, плавать, ездить верхом, и все эти уменья назывались тем же словом, что и поэтическое искусство, а именно — словом íþrött. В современном исландском языке это слово означает «спорт» или «физическая культура». Скальд сознавал себя автором своих стихов, гордился ими и даже замечал заимствование из своих стихов у другого скальда, как об этом свидетельствует название одного скальдического произведения — «драпа с украденным припевом» (stolinstefja). Но скальд осознавал поэтическое творчество только как владение поэтической формой. Другими словами, это было не полностью осознанное авторство.
Таким образом, в древнеисландской литературе становление осознанного авторства еще не завершилось. Оно развилось в поэзии раньше, чем в прозе, но в поэзии определенного характера. До того как оно возникло в скальдической поэзии, где оно еще неполноценно, его не было нигде. Процесс его возникновения был несомненно сложен и длителен и происходил еще в дописьменное время. Тем не менее основные черты этого процесса очевидны.
Хвалебная песнь — это самый консервативный жанр скальдической поэзии. Древнейший памятник скальдической поэзии, возникший еще в Норвегии, за четыре века до того, как он был записан в Исландии, — это хвалебная песнь. Все особенности скальдической поэзии сложились несомненно в хвалебной песни, и это особенно очевидно в скальдических кеннингах с их лейтмотивами — бегом боевых кораблей, сраженьем, сокровищами. Поэтому, всего вероятнее, что сознательное индивидуальное авторство возникло сначала именно в хвалебной песни. Содержание в хвалебной песни — имя прославляемого, его происхождение, имена врагов, с которыми он сражался и т. д. — задается действительностью, и потому не дает простора для творчества. Но это содержание каждый раз разное. Поэтому, хотя форма хвалебной песни очень традиционна, она все же должна каждый раз воссоздаваться заново. Необходимость бесконечно варьировать ту же традиционную форму, импровизировать ее, делает ее особенно ощутимой. Отсюда и осознание этого творчества. Но отсюда же и особая подчеркнутость формы в скальдической хвалебной песни и в скальдической поэзии вообще.
Осознанное авторство возникает в хвалебной песни раньше, чем в других видах поэзии, потому что в хвалебной песни форма особенно ощутима, и оно возникает в поэзии раньше, чем в прозе, потому что в поэзии форма ощутимее, чем в прозе, ведь поэзия — это и есть речь, формально подчеркнутая. Подчеркнутость формы, подобная той, которая характерна для скальдической поэзии, — это первый шаг на пути творческого освобождения автора от связанности традицией, закономерная стадия в развитии самосознания поэта. Особая подчеркнутость формы, ее гипертрофия — это трамплин, благодаря которому совершается скачок из неосознанного в осознанное авторство — один из самых больших скачков в истории человечества. Возникновение творческого самосознания в поэзии и ее формальная гипертрофия — это две стороны одного и того же процесса. Сознательное творчество возникает сначала только по отношению к поэтической форме — сознательного художественного вымысла еще нет, содержание задается действительными фактами — отсюда ее гипертрофия. Впрочем, для самих скальдов понятий «форма» и «содержание» вообще не существовало.
Обязателен ли именно такой путь возникновения сознательного авторства в литературе? Скальдическая поэзия — это явление исконное и очень древнее в Скандинавии. Особенности этой поэзии развились в результате закономерного внутреннего развития, а не под влиянием какой-либо иноземной, более высокой культуры. На это указывает ряд фактов — исторических и лингвистических — и, в частности, само слово «скальд» (skáld или skald). Слова, со значением «поэт», «автор», т. е. подразумевающие существование сознательного личного авторства, — это обычно слова, сравнительно новые, заимствованные из других языков, как например соответствующие слова в русском языке, либо образованные из старых слов тем или иным способом. Между тем слово «скальд» — несомненно очень древнее в Скандинавии. Оно, по-видимому, ниоткуда не заимствовано и ни от чего не образовано. Его первоначальное значение неизвестно. Правда, всего вероятнее, что это слово как-то связано со словами, которыми обозначался нид, т. е. хулительные стихи. Но никаких явных соответствий в других языках у этого слова нет. Многочисленные попытки установить его этимологию, или происхождение, не увенчались успехом. Известно только, что слово это искони среднего рода, так же как некоторые слова, обозначавшие сверхъестественные существа (tröll, goð, regin и др.). В современном исландском языке принадлежность этого слова к среднему роду может быть использована для комического эффекта: «Оно долго отказывалось, но в конце концов оно сказало свое новое стихотворение». Возможно, что первоначально принадлежность этого слова к среднему роду была связана с представлением о безличной силе, проявляющейся в поэтической форме и в том, кто ее создает. В таком случае осознание авторства в поэзии было вместе с тем преодолением ложных представлений о природе поэтических способностей.
Нельзя сравнить процесс возникновения осознанного личного авторства в Скандинавии с его возникновением в других странах: процесс этот в других странах либо происходил в эпоху, от которой не сохранилось никаких памятников, — ведь от дописьменных эпох, как правило, ничего не сохраняется, — либо был результатом влияния литературы — иноземной или местной, в которой осознанное авторство уже существовало. Так, все европейские средневековые литературы, кроме древнеисландской, попадают в поле зрения историка уже как письменные литературы, сложившиеся в результате влияния более древней и более высокой культуры.
Все же кое-где сохранились памятники древнейшей и при том исконной личной поэзии, и эти памятники, как правило, отличаются теми же особенностями, что и скальдическая поэзия. В древнейшей ирландской личной поэзии содержание — это необобщенные факты действительности, господствующие жанры — хвалебная песнь и хулительные стихи, а форма этой поэзии исключительно вычурна, и это всегда приводило в изумление исследователей — они ожидали в древнейшей личной поэзии найти первобытную простоту или, во всяком случае, бо́льшую простоту, чем в позднейшей поэзии. Еще в эпоху романтизма был придуман образ древнейшего личного поэта — старца с седыми кудрями, который, бряцая на арфе, исполнял свои песни, исполненные простоты и лиризма. Такого старца всегда ожидают найти. Но, по-видимому, ничего подобного ему в действительности никогда не существовало. В древнейшей арабской личной поэзии, которая бытовала еще в устной традиции, до введения ислама, господствующие жанры — это хвалебная песнь и хулительные стихи. Так же, как в Скандинавии, хвалебная песнь у арабов могла быть «выкупом за голову», а хулительным стихам приписывалась магическая сила. Трафаретность содержания сочеталась в этой поэзии с формальной изощренностью, которая ставила исследователей в тупик: она явно противоречила представлению о развитии поэзии от первобытной простоты к большей формальной изощренности.
Черты сходства со скальдической поэзией можно обнаружить и в некоторых других литературах Востока, где архаичные черты были устойчивее, чем в литературах Запада, и где хвалебная песнь была основным поэтическим жанром. В сущности, гипертрофия формы, характерная для жанра хвалебной песни, продолжает жить до сих пор в том, что принято называть «восточной витиеватостью». Следы того отношения к форме и содержанию, которое было характерно для скальдической поэзии, можно обнаружить и в западноевропейских средневековых литературах, — в пристрастии к разного рода формалистическим трюкам и аллегорическому способу выражения, в преобладании исторически бывшего над вымышленным в содержании, в неумении отличить правду историческую от правды художественной.
Черты, вытекающие из сущности определенного этапа развития культуры, могут в известных условиях стать чертами национального своеобразия культуры на последующих этапах ее развития. Характерные черты скальдической поэзии вытекали из роли поэтической формы в развитии авторского самосознания. Но некоторые из этих черт, уже в другой функции, стали характерными для поэтического жанра, который был популярным в Исландии в течение всего последующего шестисотлетнего периода, а именно, для рим — самого исландского из поэтических жанров, — а тем самым в значительной степени и для исландской поэзии вообще.
Римы — это длинные стихотворные повествовательные произведения[31]. Иногда рима — это целое произведение. Но обычно рима — это часть целого произведения, цикла рим. Поэтому «римами» называется и отдельное целое произведение, и все такие произведения вместе. От скальдической поэзии римы унаследовали подчеркнутость формы, ее строгость и условность. В римах всегда широко употреблялись поэтические синонимы и кеннинги из арсенала скальдической поэзии. Многие из этих кеннингов — мифологического содержания. Но постепенно эти кеннинги стали еще трафаретнее, чем они были в скальдической поэзии. Таким образом, язык рим очень богат, но вычурен и условен.
Стихотворная форма рим, строфа с конечными рифмами, — из народных баллад, датских или норвежских. Но в римах всегда есть не только конечная рифма, но и аллитерация, а часто и внутренняя рифма. Для того чтобы соблюсти такой чрезвычайно богатый созвучиями и строгий размер на протяжении целой римы, т. е. десятков строф, нужно огромное стихотворное мастерство. Не меньшее мастерство нужно для того, чтобы владеть не одним, а многими такими размерами. Дело в том, что в пределах каждого цикла рим структура строфы — узор конечных и внутренних рифм, длина и количество строк — меняется от римы к риме, так что в одном цикле рим используется до нескольких десятков размеров. Постепенно выработалось громадное количество строфических вариаций, применимых в римах. В «Ключе размеров» Хельги Сигурдосона, вышедшем в 1888 г., их свыше двух тысяч. В свое время Снорри Стурлусон в своем перечне размеров в «Младшей Эдде» привел только сто две вариации стихотворных размеров. Сочинялись римы в десятки и сотни строф, в которых строго выдерживался заданный узор созвучий. Вот в транскрипции русскими буквами строфа из одной римы Боулу-Хьяульмара, где внутренние и конечные рифмы повторяются по четыре раза в строфе:
Флоуда брима Фриггян глау, Фьярар грима иггяр лау Хвильдар тима тигг ег тау, Тротин рима лиггя мау[32].Аллитерации выделены жирным шрифтом, а рифмы, внутренние и конечные, — курсивом. А вот строфа из «Перечня размеров» Свейнбьёртна Бейнтейнссона, опубликованного в 1953 г. в его руководстве по исландскому стихосложению, — такие перечни и ключи размеров сочинялись в Исландии со времен «Младшей Эдды» и продолжают сочиняться. В этой строфе узор созвучий охватывает все слова, кроме одной безударной частицы:
Минди киндум хаум хьяу Хайдум, глайдаст крафтур; Техкар брехкур трау ад сьяу Таунгад лаунгар афтур[33].В отличие от скальдической поэзии в римах всегда есть сюжет. В этом отношении они похожи на средневековые баллады или рыцарские романы. Но римы гораздо длиннее баллад, в них больше имен и событий, а от рыцарских романов римы отличаются своей вычурной и условной формой. В основе сюжета рим обычно лежит прозаическое произведение всего чаще — сага более или менее фантастического и романического содержания или рыцарский роман, реже — волшебная сказка или сага исторического содержания. Таким образом, римы, как правило, имеют литературный источник, и сюжеты их неоригинальны. Общее с содержанием скальдической поэзии в римах разве только то, что описания битв — излюбленный мотив в них. Но в римах эти битвы фантастичны: сражаются легендарные герои, великаны, боги.
Авторы многих рим — и в частности большинства древнейших рим — неизвестны. Но некоторые из авторов уже древнейших рим известны. В новое время многие выдающиеся поэты сочиняли римы, например Махтияс Йокумссон, Боулу-Хьяульмар, Торстейтн Эртлингссон, Эйнар Бенедихтссон и др. Впрочем, личное начало проявляется в римах обычно только в так называемом мансёйнге — лирических строфах в начале римы, в которых автор, пересыпая стих мифологическими кеннингами поэзии (например, «вино Рёгнира», «ладья Фьялара») и женщин (например, «Биль золота», «Гевн запястий»), говорит о своей несчастной любви к женщине или сетует на свою старость и неуменье слагать стихи, по-видимому, впрочем, с целью не столько разжалобить слушателей, сколько позабавить их своим остроумием, так как тут обычны сентенции общего содержания о женщинах и т. д. С течением времени мансёйнг все больше удалялся от своей первоначальной любовной темы, заимствованной из средневековой куртуазной литературы, и мог содержать что угодно: и посвящение патрону, и комментарий к риме, и т. д.
Таким образом, римы — это авторские произведения имеющие литературные источники. Они, следовательно, не фольклор. Но они и не литература в обычном смысле слова. Они — народная литература, нечто специфически исландское.
Поэтическая традиция никогда не прерывалась в Исландии, хотя жанры менялись[34]. Уже в XII в. скальдические размеры и кеннинги стали использоваться в поэмах христианского содержания. В последующие века сочинялись поэмы о святых и Марии Деве. К католической эпохе относятся также первые сатирические поэмы о пороках мира. Стихи сочинял последний католический епископ Исландии Йоун Арасон, казненный в 1550 г. Ему принадлежит, в частности, первая «лошадиная строфа», т. е. стихотворение о лошадях, — жанр, ставший впоследствии популярным в Исландии. С XIV по XVI век в Исландии в большом количестве слагались баллады по образцу датских средневековых баллад. В XVI в. появились лютеранские гимны и псалмы, а также так называемые викиваки — танцевальные песни сложной строфической формы. В XVIII в. — веке Просвещения — дидактическая поэзия получила распространение в Исландии. Ряд новых поэтических жанров был введен исландскими поэтами-романтиками в XIX в., и много замечательных произведений было создано этими поэтами. Но римы оставались популярными все время, и в XIX в. они были популярнее, чем когда-либо, несмотря на то, что крупнейший поэт романтик Йоунас Хатльгримссон обрушился на них с жестокой критикой с позиций высокой поэзии и осудил их как бессодержательное и безвкусное рифмачество.
Слушание рим было излюбленным занятием исландцев в продолжение более полутысячелетия. Много поколений исландцев воспиталось на римах. Возможно, что первоначально их танцевали. До сих пор в Исландии на танцевальных вечерах принято перемежать вальс с веселой музыкой в быстром темпе, под которую все топчутся и поют римы. Но, по-видимому, уже издавна римы обычно пели, а не танцевали. В долгие зимние вечера собирались в бадстове — тесном жилом помещении крестьянского дома — и, сидя на нарах, при тусклом светильнике, занимались каким-нибудь рукоделием, рассказывали сказки, читали саги и пели римы. Кто сучил шерсть, кто вязал, кто мастерил какую-нибудь утварь или снасть. Существовали профессионалы, которые записывали саги и римы и зимой ходили с хутора на хутор. Такой профессионал читал риму с рукописи и пел ее на специальный мотив, а остальные подпевали ему. Когда в Исландии получила распространение печатная Библия, ее иногда читали вместо рим, но она не выдерживала конкуренции рим, и к этому именно времени относится высказывание одной старушки, ставшее поговоркой: «Евангелие не забавно, там нет битв». В длинных вереницах богатых созвучиями строф, в пышных скоплениях необычных слов и кеннингов, в полуэлегическом, полушутливом мансёйнге, в описаниях героических подвигов и великолепных битв много поколений глухой и нищей страны поэтов находило удовлетворение своей ненасытной страсти к «связанной речи», к поэзии — тому искусству, которое, как сказал Эгиль Скаллагримссон в поминальной песни о своих сыновьях, искупает все несчастья.
Сага[35]
«Но не будем в критическом рвении вдаваться и в противоположную крайность — забывать об огромной важности исторического элемента в сагах, правильно понятого, а также того, что они очень скоро выродились, когда им стали пренебрегать. И в благодарность к их авторам не забудем и наш долг вежливости по отношению к ним — поменьше замечать то, что они сами хотели скрыть».
Сигурд НордальВсё в истории исландской культуры было не так, как в истории культуры других европейских стран. Правда, исландский народ тоже испытывал влияния культуры других народов. Но, наслаиваясь на исконную исландскую самобытность, эти влияния давали совершенно своеобразные результаты. Всюду в Европе введение христианства сопровождалось искоренением народной языческой традиции. В Исландии введение христианства привело к бережному сохранению этой традиции. Всюду в Европе средние века были эпохой господства церковной и феодальной идеологии. В Исландии средние века были эпохой небывалого расцвета литературы, совершенно чуждой церковной и феодальной идеологии. Всюду в Европе Возрождение было великим культурным переворотом и расцветом науки. В Исландии века, когда в Европе происходил этот переворот, были эпохой расцвета черной магии и веры в колдунов и привидения. Всюду в Европе движение против католицизма, характерное для эпохи Реформации, было прогрессивным. В Исландии Реформация была воспринята как новая форма иноземного гнета, и последний католический епископ, сопротивлявшийся Реформации с оружием в руках, стал национальным героем. Всюду в Европе в эпоху романтизма пробудился интерес к народной поэзии. В Исландии начало эпохи романтизма ознаменовалось выступлением крупнейшего поэта романтика против рим — основного жанра народной поэзии в Исландии. В Европе у романтизма были и реакционные тенденции — идеализация средневековья, отрицание современной цивилизации, разлад с жизнью и т. д. В Исландии все эти реакционные тенденции были совершенно чужды романтизму. Всюду в Европе реализм был отрицанием романтизма. В Исландии реализм был непосредственным продолжением романтизма. Все литературные движения и все литературные жанры в Исландии были своеобразны. Но самый своеобразный жанр исландской литературы и вместе с тем самый своеобразный прозаический жанр мировой литературы — это, конечно, «саги об исландцах», или «родовые саги».
«Сагой» называется в Исландии всякое прозаическое повествование. Слово это произошло от глагола, который значит «говорить» или «рассказывать» (segja). Первоначально, в дописьменное время, оно значило «устное прозаическое повествование». Однако, поскольку известны только письменные древнеисландские прозаические повествования, обычно именно они называются «сагами». Такие повествования начали писать в Исландии во второй половине XII в. За последующие два века их было написано огромное множество. Среди них есть повествования реалистические и фантастические, правдивые и вымышленные, оригинальные и переводные. Кроме «саг об исландцах», выделяют еще «королевские саги» — повествования об истории норвежского королевства, «епископские саги» — жизнеописания исландских епископов, «саги о древних временах» — повествования о легендарных временах в истории Скандинавии, основанные на героических песнях, сказочных мотивах, различных сказаниях или просто вымышленные. Саги фантастические по содержанию называются также «лживыми сагами», «мифо-героическими сагами», «сказочными сагами», «героическими романами» и т. п. Границы между всеми этими группами не всегда бывают четкими, и ни в одну из этих групп не попадает, например, «Сага о Стурлунгах» — собрание повествований о событиях первой половины ХII в., современное этой эпохе. Сагами называются и переводные повествования. Так, переводы рыцарских романов или подражания им называются «рыцарскими сагами», перевод французских эпических поэм — «Сагой о Карле Великом и его витязях», перевод «Истории бриттов» Готфрида Монмаутского — «Сагой о бриттах», перевод «Истории Иудейской войны» Иосифа Флавия — «Сагой об иудеях», и т. д. Поскольку самые своеобразные среди саг — это «саги об исландцах», часто имеют в виду их, когда говорят об «исландских сагах» или просто о «сагах». Именно так употреблено слово «сага» и в названии этой главы. Исландское слово «сага» значит также «история», так что с исландской точки зрения политическая история страны — это тоже «сага». Таким образом, слово это в своих значениях до сих пор отражает то состояние, когда история еще не выделилась из традиции, которая была одновременно и историей, и художественной литературой.
Очень трудно точно определить, когда была написана та или иная «сага об исландцах». Но в последнее время среди ученых господствует мнение, что все эти произведения были написаны на протяжении XIII в., не раньше, а наиболее поздние из них — даже в XIV в. Между тем рассказывается в этих произведениях об исландцах века саг, или людях, живших в первый век исландского «народовластия», т. е. примерно от 930 до 1030 г. Таким образом, в «сагах об исландцах» рассказывается о людях, которые жили за два, три или даже четыре столетия до того, как эти саги были написаны. Первый век «народовластия» — это героический век исландского народа, эпоха безраздельного господства язычества и варварской морали, известных нам по древнейшей исландской эпической поэзии. Тем не менее — и уже это совершенно беспримерно, — хотя «саги об исландцах» повествуют об эпохе героической, сами по себе они абсолютно реалистичны.
Реализм «саг об исландцах» не имеет никакой параллели в средневековой литературе. От рыцарских романов — повествовательного жанра, наиболее характерного для средневековой литературы, — «саги об исландцах» отличаются, как небо от земли. По богатству жизненной правды и полнокровности с «сагами об исландцах» могли бы сравниться разве только лучшие реалистические романы нового времени. Однако в известном смысле саги правдивее лучших реалистических романов: меньше заметен вымысел. Впрочем, о правде и вымысле в сагах будет речь потом.
Никаких условных литературных тем в «сагах об исландцах», как правило, нет. Содержание их — это то, что всего больше занимало людей варварской героической эпохи. Основные события в них поэтому — это распри на почве кровной мести, сопровождаемые тяжбами на тинге, объявлениями вне закона, убийствами, поединками, поджогами и т. п.
Хотя «саги об исландцах» были написаны больше чем через двести лет после введения христианства, влияние христианской идеологии в них ничтожно. Большая часть персонажей «саг об исландцах» не обнаруживает никакого влияния христианской идеологии. В основе того, как трактуются судьбы персонажей саг, лежит фаталистическая концепция, характерная для языческой религии. Счастье трактуется в «сагах об исландцах» как своего рода жизненная сила, внутренне присущая человеку, а несчастье — как ее отсутствие, ведущее человека к преступлению, бедам и гибели. Даже о тех исландцах века саг, которые были христианами, как например о Ньяле и его сыновьях, рассказывается с точки зрения языческой. В «Саге о Ньяле» рассказывается, что после смерти Гуннара его сын Хёгни хотел «отдать» Гуннару его копье, чтобы оно было с ним в Валгалле и он бы мог там сражаться им, а когда Хёгни и Скарпхедин отправились мстить за Гуннара, то два ворона всю дорогу летели за ними.
Большое внимание уделяется в «сагах об исландцах» родословным, перечислениям предков и потомков упоминаемых лиц и вообще родственным связям. Привязанность к родичу, видимо, казалась людям той эпохи чем-то гораздо более важным, чем привязанность к представителю другого пола. Поэтому, в противоположность роману, «саги об исландцах» уделяют очень мало внимания любовной тематике. Браки заключаются в сагах, как правило, не на основе любви, а в результате договоренности между родителями или родичами. О любви упоминается чаще всего как о чувстве, которое возникло между супругами в результате совместной жизни. Правда, иногда из фактов, сообщаемых в саге, можно заключить, что тот, о ком рассказывается, испытывает романическое чувство любви. Так, например, из рассказа «Саги об Эгиле» о поведении Эгиля во время свадьбы его брата с Асгерд, на которой Эгиль после смерти брата женился, а также из некоторых других мимоходом сообщенных фактов можно заключить, что Эгиль был с детства страстно влюблен в Асгерд. Но, по-видимому, то ли автор саги не понял психологического смысла сообщаемых им фактов, то ли романические чувства Эгиля его совершенно не интересовали.
«Саги об исландцах» — всего их около шестидесяти — вместе с так называемыми «рассказами об исландцах», которые отличаются от саг только меньшей длиной, — их тоже около шестидесяти — составляют в популярном исландском издании двенадцать томов. В этих двенадцати томах упоминается в общей сложности около 7000 исландцев века саг, причем многие из них действуют или по меньшей мере упоминаются в нескольких произведениях. В «Саге о Хравнкеле, жреце Фрейра» упоминается 28 лиц на 37 страницах, а в «Саге о Ньяле» — она, правда, самая длинная из «саг об исландцах» — упоминается около 650 лиц на 434 страницах. «Саги об исландцах» образуют вместе как бы одну «Человеческую комедию», в которой действуют или упоминаются чуть ли не все «активные граждане» Исландии первого века «народовластия», другими словами — все исландцы этой эпохи, кроме рабов, челяди и домочадцев. Таким образом, широта охвата действительности в «сагах об исландцах» совершенно беспримерна в мировой литературе.
В «сагах об исландцах» вообще, как правило, сообщается больше фактов, чем это необходимо для понимания действия. Как уже было сказано выше, в них обычно приводятся родословные действующих лиц. Описание тяжб на тинге нередко содержит обилие процессуальных тонкостей. Особенно много этих тонкостей сообщается в «Саге о Ньяле», хотя именно она отличается наибольшим драматизмом действия. Очень много в сагах географических названий. Так, в «Саге о людях с Песчаного Берега» на 184 страницах 220 географических названий. Большинство этих названий можно найти на современных картах Исландии. Читать «сагу об исландцах» надо медленно и внимательно, чтобы не пропустить подробности, которые, будучи раз упомянутыми, подразумеваются известными через много страниц далее: сага рассчитана на память, менее хилую или более цепкую, чем память современного читателя, привыкшего глотать книги, не требующие никакого напряжения памяти. Надо иметь перед собой подробную карту Исландии. Местность, о которой рассказывается в саге, как бы подразумевается известной читателю, или вернее — слушателю, так как в Исландии саги обычно читались вслух. Надо иметь перед собой генеалогическую таблицу. Иначе не разберешься в родстве и не поймешь действия. Надо обращаться и к комментарию за разъяснением овцеводческих или юридических терминов.
Объективность «саг об исландцах» находит свое языковое выражение в обилии оборотов типа «рассказывают», «говорят», «считают», «передают», «некоторые люди говорят», «другие считают», «большинство полагает», «об этом ничего не рассказывается» и т. п. Характеристики, даваемые при вводе персонажей, отражают как бы общее суждение о них. Иногда в саге не высказывается даже мнение относительно того, произошло ли данное событие или нет. Так, в «Саге о сыновьях Дроплауг» остается неясным, была ли причастна Дроплауг к убийству своего второго мужа или нет. В одном месте «Саги о Греттире» говорится, например, так: «Халльдор дал ему в помощь шесть человек. Одного звали Кар, другого Торлейв, третьего Бранд. Другие не были названы». Сага как бы ограничивается передачей только установленных фактов.
«Сага об исландцах» начинается обычно так: «Жил человек по имени Грим», или «жил человек по имени Бранд», или «жил человек по имени Торир», и т. д. Затем перечисляются другие лица, о которых будет речь в саге или в данной ее части, сообщаются их родословные и прочие сведения о них. Затем рассказываются все факты в порядке последовательности событий. Если рассказ об одном персонаже прерывается рассказом о другом персонаже, то говорится: «Теперь надо рассказать о Скарпхедине» или: «Теперь надо рассказать о Кари», или: «Теперь надо рассказать о том, как…» и т. д. Когда о ком-либо все факты сообщены, говорится «и он вышел из саги». После сообщения последнего факта всей саги говорится: «На этом кончается сага» или «на этом мы кончаем сагу о Гисли Сурссоне» и т. п. Ни возвращений назад, ни обрамляющих рассказов, ни рассказывания своей жизни и тому подобных искусственных композиционных приемов в «сагах об исландцах» не бывает. В силу обилия фактов и объективности в их подаче нить рассказа иногда как бы теряется, и сага превращается в ряд нанизанных отдельных событий. Иногда даже кажется, что сюжетная схема также отсутствует в саге, как она отсутствует в статье биографического словаря или в протоколе судебного следствия.
«Саги об исландцах» рассказывают о жизни различных людей во всех подробностях их быта. Они подчас сообщают о совсем незначительных фактах из жизни отдельного человека. Однако в них всегда говорится только о фактах. Ни статистических описаний быта, ни описаний природы в них не бывает. Чуть ли не единственное описание природы в «Сагах об исландцах» — это знаменитые слова Гуннара из «Саги о Ньяле», которые он произносит, когда, будучи осужден на изгнание, уже по дороге на корабль, случайно останавливается и бросает взгляд назад на свой дом. «Как красив этот склон! — говорит он. — Таким красивым я его еще никогда не видел — желтые поля и скошенные луга. Я возвращаюсь домой и никуда не поеду!». И он возвращается, чтобы, оказав своим врагам геройское сопротивление, погибнуть от их руки в своем доме. Таким образом, описание природы здесь не самоцель, а звено в цепи фактов.
Персонажи «саг об исландцах» — это не условные литературные типы, а живые люди. Они не делятся на положительных и отрицательных. В «Саге об Эгиле», например, рассказывается не только о том, что знаменитый скальд Эгиль Скаллагримссон бесстрашно борется против короля Норвегии, мстя ему за насилие и несправедливость, совершает воинские подвиги, горой стоит за своих друзей, но также и о том, что он безобразен, жаден к имуществу, свиреп, ради забавы сеет раздор, выдавливает пальцем глаза у людей, харкает им в лицо. Если кто-нибудь из персонажей «саг об исландцах» и оказывается целиком положительным, то не исключено все же, что именно он совершит нечто отрицательное. Так, в «Саге о Ньяле» благородный и миролюбивый Флоси силой обстоятельств оказывается предводителем поджигателей и виновником величайшего преступления — сожжения Ньяля и всей его семьи. Жизнью персонажей «саг об исландцах» управляет не автор, а судьба. Поэтому, как бы вопреки воле автора, подчас не злые, а добрые несут наказание. Так, Ньяль, который своими мудрыми советами стремился предотвратить зло, оказывается сожженным заживо.
Факты в «сагах об исландцах» — это только то, что доступно органам чувств. Поэтому в этих сагах никогда ничего не говорится о переживаниях действующих лиц или их невысказанных мыслях. О чувствах можно заключать только из их физических проявлений, упоминаемых в саге, поступков или слов персонажей. О том, что Гудрун из «Саги о людях из Лаксдаля» испытывала обиду и ревность, когда ее соперница Хревна показала ей платок, который Кьяртан предназначал первоначально для Гудрун, можно заключить только из того, что она «развернула платок, некоторое время глядела на него, но не оказала ничего, ни плохого, ни хорошего». О том, что Эгиль Скаллагримссон после гибели своего любимого сына Бёдвара испытывал глубокое горе, можно заключить только из следующих фактов: «Когда он вернулся с похорон, он пошел сразу в каморку, где он обычно спал. Он лег и задвинул засов. Никто не смел заговорить с ним. Еще рассказывают, что когда Бёдвара хоронили, Эгиль был одет так: чулки плотно облегали его ноги, на нем была красная матерчатая одежда, узкая в верхней части и зашнурованная сбоку. И люди рассказывают, что он так глубоко вздохнул, что одежда на нем лопнула и чулки тоже. Эгиль не отпер своей каморки и на следующий день и не принимал ни еды, ни питья. Так он пролежал весь день и следующую ночь. Никто не смел заговорить с ним».
Объективность «саг об исландцах» проявляется также в том, что, даже рассказывая о сверхъестественном, в которое несомненно верили все в ту эпоху, сага нередко остается в границах доступного органам чувств. Вера в сверхъестественное часто проявляется в саге только в том, что вполне естественным фактам дается сверхъестественное объяснение. Плохая погода, эпидемия, кораблекрушение объясняются, например, колдовством. Плохая погода даже обычно называется в сагах «колдовской погодой». В «Саге о Кормаке» рассказывается, что Кормак поразил копьем кита, и тогда же заболела старуха Торвейг, которая, по-видимому, приняла образ кита. Льот из «Саги о людях из Ватнсдаля» призналась, что хотела превратить двух своих земляков в свиней, но не успела. Ее все же убили. Нередко в «сагах об исландцах» сообщается о том или ином человеке, что он был оборотнем, но потом это сообщение вовсе не используется и никаких превращений с ним не происходит. Таких превращений в «сагах об исландцах» и не бывает.
Все же сверхъестественные события происходят в «сагах об исландцах», и это прежде всего — возвращение мертвых. Возвращение с того света считалось, видимо, настолько естественным, что сообщения о «живых мертвецах» вкрадываются в самые реалистические саги. Человека хоронят по всем правилам: закрывают ему глаза, чтобы он никого не сглазил, выносят из дома через пролом в стене, чтобы он не нашел дороги назад, везут на санях и т. д., а он начинает «ездить» верхом на крыше, дерется и убивает скот. Приходится убивать его снова, зарывать где-нибудь подальше и обносить могилу стеной, чтобы он не мог перелезть, или сжигать его. Иногда приходится даже начинать против мертвеца судебную тяжбу по всем правилам. Таким образом, возвращение мертвеца трактуется как своего рода нарушение общественного порядка. В сообщениях о таких живых мертвецах нет ничего зловещего, нездешнего. Сверхъестественное в «сагах об исландцах» — не литературная техника, как в волшебной сказке или рыцарском романе. На него указывается мимоходом, как на нечто совсем обыденное, само собой разумеющееся, а не для того чтобы заинтересовать «чудесным». Поэтому суеверия оказываются изображенными в «сагах об исландцах» так сухо и трезво, как если бы их описал современный этнограф. Отсюда огромная культурно-историческая ценность «саг об исландцах».
Объективность «саг об исландцах» проявляется также в исключительной сдержанности тона. Патетика в них совершенно отсутствует. Ни рассуждений, ни умозрений, ни морали, ни лирических отступлений в них не бывает, О трагических событиях рассказывается в том же тоне, что и о самых обыденных событиях. Никаких риторических украшений — ни метафор, ни сравнений, ни эпитетов — в «сагах об исландцах» но бывает. В них даже редки другие прилагательные, кроме таких, как «большой», «маленький», «хороший», «плохой». Эта полная свобода от какой бы то ни было формальной подчеркнутости послужила основанием для того, чтобы назвать стиль «саг об исландцах» «абсолютной прозой». Странно, что самое своеобразное из всего, созданного народом поэтов, — это абсолютная проза. Но, может быть, это как раз вполне закономерно: крайняя подчеркнутость формы, характерная для скальдической поэзии, создала и свою противоположность — абсолютную прозу «саг об исландцах». Не случайно скальдические строфы постоянно приводятся в этих сагах и нередко играют в них важную роль.
Сдержанность тона проявляется в «сагах об исландцах» также в обилии безличных и пассивных конструкций, отрицаний, слов типа «несколько», «скорее», «средне» и т. п. В сагах говорится «не нерадость» вместо «большая радость», «не средняя дура» вместо «дура непроходимая». Впрочем, это скорее общая черта языка, на котором говорили в то время. Язык «саг об исландцах» вообще производит впечатление исключительной близости к живой устной речи и этим резко отличается от языка средневековой литературы других европейских стран. Язык «саг об исландцах» — это как бы язык самих персонажей этих саг. То, что эти персонажи говорят, — особенно диалоги между ними, — занимает очень большое место в «сагах об исландцах», иногда до половины всего текста.
В языке «саг об исландцах» нет замысловато построенных периодов, редки другие союзы, кроме самых элементарных «и» и «но», часто не выдержана синтаксическая связь между элементами предложения, не избегается повторение того же слова по два-три раза в одном предложении, прошедшее время беспорядочно чередуется с историческим настоящим, прямая речь мешается с косвенной, обильно употребляются указательные местоимения, часты поговорки и стереотипные выражения, повторяющиеся в определенных ситуациях. Всё это — черты, характерные для устной речи. Если учесть, что в «сагах об исландцах» приводится огромный фактический материал X–XI вв., который с того времени мог сохраниться только в устной традиции, — ведь письменность появилась в Исландии не раньше XII в., — а также то, что существование такой устной традиции подтверждается ссылками в самих сагах, то естественно предположить, что «саги об исландцах» и есть запись устной традиции.
Такое предположение, однако, опровергается рядом доводов. Во-первых, дословную запись прозаических произведений, бытующих в устной традиции, может сделать только квалифицированный фольклорист, и такая запись стала возможна только в недавнее время. Не может быть речи о ней в эпоху, когда всякий, кто писал, считал себя вправе свободно обращаться с прозаическими текстами, которые были в его распоряжении. Во-вторых, прозаические произведения такой длины, как некоторые «саги об исландцах», и такие сложные по композиции, как многие из них, и содержащие явные следы использования письменных источников, нигде в мире в устной традиции не засвидетельствованы. В-третьих, рукописные памятники начали появляться в Исландии задолго до той эпохи, к которой относятся рукописи «саг об исландцах», и в этих памятниках, так же как и в самих сагах, прослеживается, как утверждают исландские ученые в последнее время, постепенное развитие и совершенствование того стиля, который характерен для лучших «саг об исландцах». Считается, что «Сага о Ньяле» — общепризнанный шедевр среди исландских саг, в частности и по стилю, — была написана не раньше самого конца XIII в., а она — самая длинная из «саг об исландцах», и в ней явно использованы письменные источники. Таким образом, возможно, что близость языка «саг об исландцах» к устной речи — это результат развития письменной традиции[36].
Впрочем, если судить по тому, как велики были колебания в мнении ученого мира о происхождении «саг об исландцах» до сих пор, то возможно, что окончательное решение вопроса еще не найдено. С вопросом о происхождении «саг об исландцах» произошло нечто подобное тому, как если бы ученые сначала считали что-то белым, но потом один из них сказал «нет, это черный цвет», и все согласились с ним, затем другой ученый сказал «нет, это белый цвет», и все пришли к тому же выводу, но потом еще один ученый сказал «нет, это безусловно черный цвет», и все единодушно решили, что это действительно так. В первой половине прошлого века установилось мнение, что «саги об исландцах» — это запись устной традиции. Во второй половине прошлого века господствующей стала теория, впоследствии получившая название «теории книжной прозы». Согласно этой теории в XIII в. бесформенная устная традиция была собрана от «мудрых людей», и ей была придана форма саги, другими словами, «саги об исландцах» — это письменные произведения, созданные их авторами. В начале нашего века на смену «теории книжной прозы» пришла «теория свободной прозы», и ей последовали крупнейшие специалисты мира. Согласно этой теории не только содержание, но и форма «саг об исландцах» сложилась до записи, и таким образом саги эти, с некоторыми оговорками в отношении саг, наиболее длинных и сложных по композиции, — запись устной традиции, в ряде случаев даже дословная. В тридцатых годах нашего века исландский ученый Сигурд Нордаль обосновал теорию, согласно которой «саги об исландцах» — это не запись устной традиции, а письменные произведения, созданные их авторами, и эта теория стала в последнее время господствующей. Таким образом, за последние сто лет мнение ученых о происхождении «саг об исландцах» три раза качнулось, подобно маятнику, из одного крайнего положения в противоположное. Процесс возникновения «саг об исландцах» был, очевидно, настолько своеобразен, что его не удается втиснуть в жесткие рамки таких определений, как «запись устной традиции» или «письменное произведение, созданное его автором». Возможно, поэтому, что маятник будет продолжать колебаться, и уже есть явные признаки этого.
Историческая точка зрения на «саги об исландцах» в последнее время заключалась в том, что рассматривалось место каждой отдельной саги в общем процессе развития древнеисландской литературы и определялись последовательные этапы развития жанра до его кульминации в «Саге о Ньяле» и последующего упадка. Много ценного было сделано в этом направлении. Однако, чтобы сделать контрасты в пределах древнеисландской литературы достаточно четкими, нередко затушевывалось то, что отличает «саги об исландцах» от литературы позднейших эпох, в частности — от исторического романа. Между тем историческая точка зрения могла бы заключаться и в большем внимании к представлениям самих авторов этих саг и их современников об этих сагах и их сочинении. В этом случае на первый план выступят, естественно, те общие черты, которые отличают эти саги и их авторов от литературы нового времени и ее авторов.
Те, кто считали «саги об исландцах» письменными произведениями, созданными их авторами, высказывали различные догадки о том, кто был этим автором. В последнее время таким догадкам были посвящены сотни страниц. Предлагались даже статистические методы определения авторов «саг об исландцах». Некоторые современные исследователи настолько живо представляют себе автора той или иной саги, что знают чуть ли не номер его телефона, не говоря уже о системе авторучки, которой он пользовался. Но никому из тех, кто искал авторов «саг об исландцах», не удалось убедить кого-либо, кроме самого себя.
В древнеисландской литературе авторы сохранившихся «саг об исландцах» ни в одном случае не указываются. Надо сказать, впрочем, что если авторы некоторых других древнеисландских прозаических произведений известны, то это дело случая. Как правило, имя автора известно от переписчика, который называет автора потому, что тот употребил местоимение «я» или написал что-либо, требующее пояснения. В частности, даже то, что Снорри Стурлусон был автором «Хеймскринглы», известно только от двух ее переводчиков, которые в XVI в. пользовались рукописью, позднее утерянной. Неизвестно, как именно было сказано в этой рукописи, что Снорри — автор «Хеймскринглы». Дело в том, что слова со значением «автор» в древнеисландском вообще не было. Слово höfundur «автор» появилось в исландском языке только в XVIII в. В древнеисландском языке были слова со значением «писать, записывать, списывать» (ríta, skrifa, setja á bók), «диктовать» (segja fyrir), «составлять» (setja saman). В некоторых случаях эти слова можно перевести словом «сочинять». Но в древнеисландском языке значение это не отграничено от значений «писать» и т. д. Слова со значением «сочинять» (semja, skálda) появились в исландском языке позднее. Между тем, как рассказывалось в главе «Поэзия», еще в дописьменное время были в древнеисландском слова со значениями «автор стихов» (skáld) и «сочинять стихи» (yrkja).
Анонимность «саг об исландцах» принято объяснять общим стремлением древнеисландских прозаических авторов к анонимности, отсутствием авторского права, чувством скромности и т. п. Но чем объясняется это стремление к анонимности и почему оно есть именно у прозаических, но не у поэтических авторов? Отсутствие слов со значением «автор» и «сочинение» не значит, конечно, что самих этих явлений не существовало, но оно значит несомненно, что не было таких понятий. Между тем авторство — это не только сам факт сочинения, но и отношение сочинителя к сочиняемому, и это отношение не может не зависеть от понятий, существующих в данной области. Поэтому при отсутствии понятий «автор» и «сочинение» авторство не могло не быть принципиально отличным от авторства в современном смысле. В частности, оно не могло не быть в прозе менее осознанным, чем в поэзии. Никакие прозаические авторы, жившие в дописьменное время, нигде в древнеисландской литературе не упоминаются. Отсюда следует, что в дописьменное время в прозаической традиции осознанного авторства вообще не существовало. И хотя возникновение письменных прозаических произведений несомненно способствовало развитию осознанного авторства в этой области творчества, развитие это было, вероятно, гораздо более медленным, чем сам по себе переход от устной традиции к письменной литературе. В частности, авторство в «сагах об исландцах», вероятно, еще не многим отличалось от того, чем оно было в дописьменной прозаической традиции.
Подобно тому как значение «сочинять» не было отграничено от значений «писать» и т. п., сочинение саги не было четко отграничено от ее пересказывания или списывания. Если тот, кто списывал сагу, менял стиль по желанию, добавлял или сокращал, как делал, например, переписчик основной рукописи «Саги об Эгиле», то он был не только переписчиком, но и в большей или меньшей мере автором. Но если тот, кто первый писал сагу, пересказывал или переписывал свои источники, как это несомненно делал Снорри в «Хеймсирингле», то он был не только автором, но в большей или меньшей мере переписчиком. Сочинение и пересказывание могло сочетаться в разных дозах и по-разному, как это происходило и в устной традиции, до того как начали возникать письменные прозаические произведения.
С вопросом о происхождении «саг об исландцах» связан и вопрос о том, представляют они собой историю или художественный вымысел. Казалось бы, правда, что ответить на этот вопрос очень легко. Любой отрывок из этих саг может убедить в том, что они художественный вымысел. Например:
«Эгиль спросил, в каком дворе живет Аринбьёрн. Ему указали, и он поехал туда. Подъехав к дому Аринбьёрна, Эгиль слез с коня и обратился к какому-то человеку. Тот сказал, что Аринбьёрн ужинает. Эгиль сказал:
— Я хотел бы, любезный, чтобы ты пошел в дом и спросил Аринбьёрна, где ему удобней говорить с Эгилем Скаллагримссоном, в доме или на улице?
Человек ответил:
— Это нетрудно передать.
Он вошел в дом и громко сказал:
— Тут приехал какой-то человек, большущий, как великан, он просил меня зайти и спросить, дома или на улице ты хочешь говорить с Эгилем Скаллагримссоном.
Аринбьёрн сказал:
— Пойди и попроси его подождать около дома, я сейчас выйду.
Тот сделал, как сказал Аринбьёрн, вышел и сказал, что ему было велено. Аринбьёрн распорядился убрать столы. Затем он вышел, и все его домочадцы с ним. Увидев Эгиля, он поздоровался с ним и спросил, зачем он приехал. Эгиль в немногих словах рассказал все о своей поездке».
Встреча, о которой говорится в приведенном отрывке, должна была произойти осенью 936 г. Между тем «Сага об Эгиде» была написана, как полагают, около 1220 г. Невозможно думать, конечно, что приведенный отрывок сколько-нибудь точно передает разговор, происходивший за триста лет до написания саги. Ведь в этом разговоре нет ничего, что стоило бы запоминать и хранить триста лет в устной традиции. Он вполне правдоподобен, но он, конечно, не история, а художественный вымысел. Назначение этого разговора — сделать рассказ живым, занимательным. В «сагах об исландцах» такие диалоги — на каждой странице. Как уже говорилось выше, иногда они занимают до половины текста саги. И нередко приводятся такие диалоги, которые вообще не могли стать известными.
Правда, остается неопровергнутым, что в «сагах об исландцах» персонажи, основные события и родословные, как правило, историчны. Но ведь эти исторические рамки оставляют широкий простор для художественного вымысла. В частности, исторические лица и события могут быть втиснуты в вымышленный сюжет. Сравнивая «саги об исландцах» с источниками, которые считаются более надежными, например с «Книгой о заселении страны» или «Книгой об исландцах» Ари Мудрого, исследователи устанавливают, что в «сагах об исландцах» в целях художественного эффекта подчас искажены факты и даже присочинены персонажи. Несколько раз на хуторе Бергтоурсхвотль, где, как рассказывает сага, Ньяль и вся его семья были сожжены в доме, производились раскопки с целью найти пожарище. Но были найдены только остатки сгоревшего хлева. Следовательно, возможно, что сожжение Ньяля — вымысел.
Из сравнения «саг об исландцах» с другими источниками можно иногда заключить, что персонажи «саг об исландцах», если и существовали в действительности, были совсем не такие, как их изображает сага. Так, из одной цитаты в «Младшей Эдде» можно заключить, что Ньяль участвовал в викингских походах и был скальдом, о чем в «Саге о Ньяле» даже не упоминается. В «сагах об исландцах» встречаются и ошибки против топографии той местности, где происходит действие. Классический пример такой ошибки — упоминание в «Саге о Ньяле» лощины около хутора Бергтоурсхвотль, в которой поджигатели привязали лошадей и оставались до ночи. Такой лощины на самом деле нет и несомненно никогда не было.
В «сагах об исландцах» могут быть обнаружены элементы своего рода «эпической» стилизации: тенденции к противопоставлению контрастирующих персонажей, к концентрации действия вокруг персонажа, обладающего исключительной силой, мужеством, мудростью или поэтическим талантом, а также вокруг типичной эпической ситуации — гибели героя в неравной борьбе с врагами, — ситуации, которая исподволь подготовляется посредством вещих снов, предостережений, предсказаний, предзнаменований. Было даже написано обширное исследование об эпическом числе «три» в «сагах об исландцах» и собрано множество примеров действия этого эпического закона[37]. В некоторых случаях в персонажах саг как бы оживают персонажи древнеисландской эпической поэзии: история Гудрун и Кьяртана в «Саге о людях из Лаксдаля» явно повторяет историю Брюнхильд и Сигурда в песнях «Старшей Эдды». Таким образом, «саги об исландцах» оказываются своего рода героическим эпосом.
Однако «саги об исландцах» на героический слог все же очень непохожи: они гораздо прозаичнее, историчнее и реалистичнее. Поэтому, хотя в прошлом многие утверждали, что «саги об исландцах» — это эпос, в последнее время эти саги обычно сравниваются не с эпосом, а с историческим романом. В «сагах об исландцах» ищут отражение эпохи, когда они были написаны, и действительно в ряде случаев находят его. Обычаи, экономические или правовые отношения XIII в. в ряде случаев подставлены в сагах вместо обычаев или отношений на триста лет более древней эпохи, к которой относится действие. Была даже сделана попытка доказать, что «Сага о Ньяле» — это «роман с ключом», т. е. роман, в котором определенные люди конца XIII в. изображены под видом людей века саг[38]. Такое толкование подразумевает, очевидно, полное отождествление современных представлений о литературе с представлениями о ней авторов «саг oб исландцах».
Между тем такое отождествление — это, конечно, чудовищный анахронизм. В древнеисландском языке но было слов, которыми можно было бы выразить понятия «историческая правда» и «художественный вымысел», «историческое произведение» и «художественное произведение», и, следовательно, у тех, кто писал «саги об исландцах», не было этих понятий, которые легко могут быть выражены на любом современном европейском языке, в том числе — исландском. В распоряжении тех, кто писал «саги об исландцах», были только такие значительно более широкие понятия, как «правда» и «вымысел» или «ложь», а также «сага», т. е. любое повествовательное прозаическое произведение, историческое или неисторическое, устное или письменное. Историческая правда и художественный вымысел как явления несомненно существовали в древнеисландской литературе. Но, так как не было таких понятий, те кто писал «саги об исландцах», могли различать в литературе «правду» и «ложь», но не историческую правду и художественный вымысел. Они поэтому должны были принимать неправдоподобный художественный вымысел за «ложь», а правдоподобный художественный вымысел за «правду», и этому способствовало то, что сочинение вообще не было четко отграничено от пересказывания, не было полностью осознанным. Так оно и было в действительности: саги, в которых господствует фантастика, т. е. неправдоподобный художественный вымысел, считались «лживыми сагами», а «саги об исландцах» — произведения, в которых господствует правдоподобный художественный вымысел, — считались правдивыми.
В древнейшем упоминании о «лживых сагах» говорится: «Эту сагу рассказывали королю Сверриру, и он называл такие лживые саги наиболее забавными». Из контекста «Саги о Стурлунгах» ясно, что речь здесь идет об одной из фантастических «саг о древних временах» — «Саге о Хромунде Грипссоне». Но нигде в древнеисландской литературе нет и намека на то, чтобы «саги об исландцах» считались «лживыми». Напротив, известно, что древнеисландские авторы, которые сознательно стремились быть возможно более «правдивыми», пользовались «сагами об исландцах» как надежными источниками. Ими пользовался, например, как известно, Стурла Тордарсон в своей редакции «Книги о заселении страны».
Таким образом, в то время как в поэзии авторы еще в дописьменное время полностью сознавали себя авторами, но распространяли свое творчество только на форму и не позволяли себе художественного вымысла, в прозе, наоборот, авторы позволяли себе художественный вымысел, но принимали правдоподобный художественный вымысел за «правду», другими словами — не осознавали полностью своего авторства. Это положение вещей — очевидное следствие того, что авторство в устной традиции могло стать осознанным только ценой его ограничения формой, ценой отказа от творчества в содержании, т. е. от художественного вымысла.
Реализм «саг об исландцах» — произведений, в которых правдоподобный вымысел принимался за правду, — был как бы «реализмом правды» в отличие от «реализма правдоподобия» романов нового времени, в которых правдоподобный вымысел осознается, по меньшей мере их авторами, как вымысел. Но в древнеисландской литературе «реализму правды» противостоял не «реализм правдоподобия» — его еще вообще не было — и не история как наука — ее, конечно, тоже еще не было, как об этом свидетельствует само древнеисландское слово «сага», в котором значения «история» и «художественное повествование» еще не были разграничены, — а либо явный вымысел и сказочная фантастика «саг о древних временах» и «рыцарских саг», либо проглядывающая кое-где тенденция выдать за правду то, что было в интересах церкви, т. е. зарождающегося государства, считать за правду. В жизнеописании епископа Гудмунда Доброго есть такое наивное проявление этого, так сказать, «государственного реализма»: «…все люди знают, что все то хорошее, что говорится о боге и его святых, — это правда, и поэтому хорошо верить хорошему и плохо верить плохому, хотя бы оно и было правдой…». Такой «государственный реализм» широко распространился в европейской средневековой литературе, и он, конечно, огромный регресс по сравнению с реализмом саг. «Государственный реализм» развивался но мере усиления классового государства, но в Исландии он никогда не получил развития.
«Реализм правды» не случайно развился именно в «сагах об исландцах» — произведениях, в которых рассказывалось о наиболее близком прошлом. В XIII в. еще существовала обильная устная традиция об исландцах века саг, и эти исландцы были ближайшими предками тех, кто писал или слушал «саги об исландцах». В «сагах о древних временах» — произведениях, в которых рассказывалось о гораздо более далеком прошлом, — художественного вымысла настолько больше, что он уже осознавался как «ложь» и саги эти — как «лживые». Характерно, что и в «сагах об исландцах», как только рассказ переходит на события, происходившие до заселения Исландии или далеко от Исландии, вымысла становится явно больше, и даже стиль становится другим: появляются округленные и бессодержательные фразы, общие сентенции, описания. Сага как бы уступает место рыцарскому роману. Характерно также, что, например, в «Саге о Гисли» только та часть подверглась поздней переработке, где речь шла о событиях, происходивших вне Исландии.
Напротив, в тех сагах, где рассказывается о событиях, современных или почти современных написанию саги, вымысла явно меньше, чем в «сагах об исландцах». Так, «Сага о Стурлунгах», в которой рассказывается о событиях XII и XIII вв., отличается от «саг об исландцах» большей обстоятельностью изложения, большим количеством упоминаемых в ней имен, названий и всяких подробностей. На 900 страниц в ней свыше 3000 имен. Она заметно суше и фактографичней, чем «саги об исландцах». Поэтому она всегда принимается за вполне надежный исторический источник. Однако и в ней, конечно, все же есть художественный вымысел, причем такого же характера, как в «сагах об исландцах»: действие передается диалогами, трагические события подготовляются вещими снами и т. п. Таким образом, по мере того как изображаемые события удаляются во времени и пространстве и тем самым сведения автора об этих событиях становятся более скудными, количество художественного вымысла увеличивается, но до тех пор пока он остается правдоподобным, сага осознается как «правда».
С точки зрения истории художественного вымысла в литературе исторический роман и «саги об исландцах» — это диаметрально противоположные жанры. Ведь не в том сущность исторического романа, что он — повествование о жизни людей прошлого и что он — вымысел. Повествования о людях прошлого существовали и до возникновения исторического романа, и всякое повествование о событиях — в большей или меньшей степени вымысел. Сущность исторического романа в том, что с его возникновением художественная трактовка прошлого была противопоставлена его научной трактовке. Исторический роман возник в начале XIX в. в результате распространения «реализма правдоподобия» на новую область — историческое прошлое. Это стало возможным в. эпоху романтизма, с развитием исторической точки зрения в разных областях искусства и науки. Только тогда стало возможным в изображении прошлого сознательно стремиться к правдоподобию, которое не было исторической правдой. Еще в XVIII в. исторический роман был невозможен. В историческом романе обращение к прошлому обусловлено тем, что художественный вымысел уже давно стал осознанным и, в частности, уже давно применялся в изображении современности. В «сагах об исландцах», наоборот, обращение к прошлому обусловлено тем, что художественный вымысел еще не стал полностью осознанным и поэтому не мог применяться в изображении современности.
В силу того, что «саги об исландцах» были «реализмом правды», у них была как бы двойная функция: они должны были быть не только «забавными», т. е. удовлетворять эстетическим требованиям, но и «правдивыми», т. е. удовлетворять потребность в знании фактов прошлого. Поэтому в «сагах об исландцах» стремление к фактической точности органически сочеталось с художественным мастерством — органически сочеталось то, что уже больше вообще не может сочетаться, с тех пор как пути истории и художественной литературы разошлись и вымысел стал осознанным и полноправным средством в литературе. Отсюда огромная убеждающая сила «саг об исландцах». Не случайно до самого последнего времени в Исландии господствовала непоколебимая вера в безусловную правдивость «саг об исландцах». Крупнейший исландский ученый прошлого поколения Финнур Йоунссон верил всю жизнь в то, что «саги об исландцах.» — это историческая правда. Всякий исландец готов был скорее допустить, что гора передвинулась на другое место или река потекла вспять, чем поверить в возможность фактической ошибки в «сагах об исландцах».
В одной своей статье Лакснесс[39] приводит ряд примеров того, как его соотечественники, хорошо знакомые с местами, упоминаемыми в «Саге о Греттире», тем не менее не замечали ошибок в трактовке этих мест в саге или оправдывали эту трактовку объяснениями, явно притянутыми за волосы. В саге говорится, например, что однажды Греттир проплыл всю речку Хитарау, от горного озера, из которого она вытекает, до моря. Речка эта, однако, так мелка и камениста, что плыть по ней, конечно, невозможно. «Те, кто живут на Хитарау, наверно не очень-то верят в этот подвиг Греттира?» — сказал Лакснесс молодому образованному исландцу с хутора на этой речке. «Да, но зимой вода в речке иногда очень подымается», — ответил тот. Зимой, однако, температура воды в ней около нуля, и плыть в ней невозможно из-за торосов и льдин. «Во что же нам здесь в Исландии остается верить, если наши саги подвергаются сомнению?» — сказала, по словам Лакснесса, одна образованная пожилая дама, выражая общее мнение своего поколения.
И, в сущности, почему бы действительно не продолжать считать «саги об исландцах» своего рода правдой? Ведь всякое повествование о фактах, даже рассказ очевидца о событии, которое произошло за несколько минут до рассказывания, — не копия, снятая с фактов с математической точностью, а большее или меньшее отклонение от фактов, т. е., строго говоря, вымысел. Однако такой рассказ считается правдой, если степень его отклонения от фактов не превышает той, которая по господствующим представлениям допустима в данном жанре. Отличие правды «саги об исландцах» от правды современного исторического исследования только в степени отклонения от фактов, допустимых в соответствующих жанрах.
Странно, однако, что убеждающая сила «саг об исландцах» действует и в противоположном направлении. Насколько слепо все в Исландии верили в то, что эти саги — чистая правда, настолько же слепо верят сейчас некоторые ученые, особенно немецкие, в то, что саги — художественный вымысел и ничего больше. Роль устной традиции в создании «саг об исландцах» они полностью отрицают. За сознательное художественное мастерство принимается то, что на самом деле было стремлением к правде в ее архаичном понимании. Исключительная обстоятельность «саг об исландцах», обилие имен и прочих сведений, не необходимых для понимания действия, — все это истолковывается как сознательный литературный прием, аналогичный приемам мастеров романа нового времени. Как сознательный литературный прием истолковывается иногда даже то, что в саге сообщаются факты, из которых для современного читателя выясняется психологическая ситуация, явно непонятная для автора саги: он якобы нарочно притворяется, что не понимает ситуации, и тем самым делает ее изображение особенно объективным.
На том, что «саги об исландцах» — это романы, особенно настаивал датский критик Рубов, который утверждал даже, что прообразом для этих саг послужили французские рыцарские романы[40]. В концепции Рубова, как и в работах некоторых современных датских ученых, проглядывает стремление умалить роль авторов исландских саг. Между тем современным исландским ученым, наоборот, кажется, что, истолковывая «саги об исландцах» как романы, как плоды сознательного художественного вымысла, они реабилитируют творческий гений своих предков, доказывают, что их предки были в не меньшей степени творцами, чем авторы романов нового времени. Однако против своего желания эти ученые совершают большую несправедливость по отношению к создателям «саг об исландцах». Творческий гений исландского народа в том больше всего и проявился, что, несмотря на архаичность характерного для «саг об исландцах» «реализма правды», саги эти — одна из высочайших вершин в мировой литературе. Ведь архаическая ступень литературного развития, особенно в ее наивысшем проявлении, может обладать чертами, которые не только прекрасны сами по себе, как прекрасен «реализм правды» «саг об исландцах», но и неповторимы в дальнейшем развитии. Ни в каком историческом романе нет той растворенности автора в своем произведении, той объективности и убеждающей силы, которые есть в любой «саге об исландцах». Ни один исторический роман не занимает такого места в мировой литературе, какое занимает «Сага о Ньяле». «Лживые саги» создаются и будут создаваться. «Саги об исландцах» никогда больше созданы не будут.
В «королевской саге», называемой «Гнилая Кожа», рассказывается о молодом исландце, который забавлял норвежского короля Харальда Сурового разными сагами, и в том числе в продолжение тридцати вечеров — сагой о походах самого этого короля. По его словам, он слышал эту сагу от бывшего дружинника короля на альтинге, куда рассказчик ездил каждое лето и заучивал сагу по частям. В своем роде это единственное свидетельство о том, как бытовали саги в устной традиции. Но речь здесь идет о «королевской саге», а не о «саге об исландцах». В известном сообщении «Саги о Стурлунгах» о том, как в 1119 г. на свадьбе в Рейкьяхоларе рассказывались саги, речь идет о «лживых сагах». О том, что представляла собой устная традиция, которая послужила материалом для «саг об исландцах», и как она бытовала, никаких свидетельств, в сущности, нет.
Гораздо лучше известно, как бытовали письменные саги в Исландии, и в том числе «саги об исландцах»[41]. Уже в XIII в. саги списывались и переписывались в большом количестве, и это можно объяснить, конечно, только тем, что на письменные саги был большой спрос. По-видимому, обычай чтения саг вслух стал распространяться в Исландии уже во второй половине XIII в. Этот специфически исландский обычай наложил отпечаток на всю культуру исландского народа. Чтение саг вслух было любимым народным развлечением в Исландии в продолжение около семисот лет и окончательно прекратилось только совсем недавно. Жизнь на исландских хуторах менялась в продолжение веков застоя и упадка очень мало. Поэтому основные черты этого народного развлечения оставались, по-видимому, те же. Внешний вид сохранившихся рукописей позволяет заключить, что они отнюдь не всегда писались в монастырях или в домах богатых и знатных людей. Сохранились рукописи, которые явно были во владении бедных людей и в очень усердном употреблении. По сообщениям более поздней эпохи известно, что существовали профессионалы, которые записывали саги и римы, ходили зимой с хутора на хутор и читали саги и пели римы. Собравшиеся на хуторе слушали и в то же время сучили шерсть, вязали и т. д. Таким образом, слушанье саг и рим было важным фактором крестьянского хозяйства. Известно, что особой популярностью пользовались «саги об исландцах». Из всех саг только они до сих пор популярны в Исландии. Продолжая жить в народе на всем протяжении его истории, они как бы перебросили мост из его прошлого в его настоящее.
Причины особой популярности «саг об исландцах» в исландском народе очевидны. В сагах этих рассказывается о предках исландцев. Многие исландцы возводили или возводят свой род к тому или иному персонажу «саг об исландцах». В сагах этих рассказывается о золотом веке Исландии, той поре, когда исландский народ был свободным и независимым и жил сравнительно богато. В долгие века застоя и упадка память о веке саг была для исландцев самым дорогим наследием. В противоположность «королевским сагам» и скальдическим хвалебным песням «саги об исландцах» предназначались не для иноземных правителей, а для исландского народа. В сагах этих сочувствие автора часто явно не на стороне знатных и богатых. Герои таких популярных саг, как «Сага о Греттире» и «Сага о Гисли», — изгнанники, все потерявшие, объявленные вне закона и скрывающиеся от преследования. В «Саге о людях с Льосаватна» звучит осуждение богатого и знатного хёвдинга Гудмунда Могучего и насмешка над ним. Рабы и рабыни в ряде случаев изображаются в «сагах об исландцах» как люди не менее достойные, чем хёвдинги. Таков, например, раб Асгаут из «Саги о людях из Лаксдаля». Бедняки оказываются подчас благороднее богатых в «сагах об исландцах». Когда в «Саге о Гисли» Бёрк требует от зависимого от него бедняка Ингьяльда, чтобы тот выдал ему Гисли, Ингьяльд отвечает: «У меня худая одежда, и мне все равно, успею ли я ее сносить, — но я скорее умру, чем оставлю Гисли в беде и выдам его». Все это находило отклик в исландском народе, и особенно когда эпоха «народовластия» кончилась и начались века гнета и нищеты. Современные исландские историки считают даже, что «саги об исландцах» были проявлением сознательной борьбы против норвежского короля, церкви и местных крупных хёвдингов[42].
Популярность «саг об исландцах» в Исландии объясняется, конечно, также тем, что действие в этих сагах всегда связано с определенной исландской местностью, которая легко может быть отождествлена. В Исландии нет древних архитектурных памятников. Но в ней очень много долин, рек, ручьев, гор, скал и других объектов природы, связанных с действием в «сагах об исландцах». Единственный материальный памятник в Исландии — это природа. Вся Исландия — это исторический памятник. Одно из наиболее знаменитых мест, связанных с «сагами об исландцах», — это хутор Бергтоурсхвотль на юге Исландии. Здесь жил и был сожжен Ньяль вместе со своей семьей. Жилой дом на хуторе несколько полинял, но он, конечно, совсем не древний. Опрятно одетая хозяйка, в очках и старомодной прическе, сидя на кухне рядом с электрической плитой и холодильником, отпускает приезжим бензин — тут на хуторе есть заправочная колонка. Как все пожилые исландские крестьянки, хозяйка похожа на почтенную учительницу из солидного женского учебного заведения. Впрочем, женщин на исландских хуторах сейчас очень мало — большинство их переехало в город. Хутор расположен на маленьком возвышении посреди широкой и голой равнины, с которой в ясные дни отовсюду видны горы, окружающие ее с севера и востока. Нигде вокруг нет ни возвышений, ни лощин, ни деревьев. Только луга и кое-где хутора. На юге маячат вдали силуэты скал островов Вестманнаейяр. Но океана не видно, хотя он недалеко отсюда.
Не менее знаменит хутор Хлидаренди, где жил Гуннар, друг Ньяля. Черная собака Саум (так звали собаку Гуннара и с тех пор — всех собак на этом хуторе) встречает тут посетителя лаем, но, как все исландские собаки, не кусается и позволяет себя погладить. Старик хозяин — его зовут Хельги Эртлендссон — живет в небольшом довольно новом доме, в более старых домах сложено сено. Тут же рядом — церковь и совсем новый летний домик, где живет летом сын хозяина. Хельги небольшого роста, и у него румяное, энергичное и красивое лицо. Он считает себя прямым потомком Гуннара, называет его «мой родич Гуннар» и знает о «своем родиче» все до последней мелочи, хотя их разделяет без малого тысяча лет. Несмотря на то, что ему за семьдесят и он сильно хромает, он очень охотно ведет посетителя на то место, где, по его мнению, стоял дом Гуннара, — он тут сам производил раскопки и что-то нашел — показывает камни, которые враги Гуннара использовали, чтобы стащить веревками крышу с дома, и места, связанные с жизнью Гуннара. У Хельги по меньшей мере то общее с авторами древних саг, что он также не считает себя ученым археологом, как те не считали себя авторами замечательных художественных произведений. Такие ученые, как Хельги, всегда были в стране, и они очень типичны для культуры Исландии.
Хутор Хлидаренди стоит на пологом склоне высокой гряды, в том месте, где склон кончается и начинаются обрывы и скалы. Отсюда и название Хлидаренди — буквально «конец склона». Это тот самый склон, о котором Гуннар сказал, когда по дороге на корабль он соскочил с коня и оглянулся назад: «Как красив этот склон! Таким красивым я его никогда не видел — желтые поля и скошенные луга. Я возвращаюсь домой и никуда не поеду!». Но, по-видимому, понятие «красивый» было у людей того времени совсем не то, что у современного человека. На Гуннара произвело впечатление, конечно, не то, что склон выделялся красками, масштабами или контурами, а то, что он был возделан человеческими руками, его руками. Наверно, именно это выделяло склон, ничем не примечательный в других отношениях.
Но, с точки зрения человека нашего времени, красив не этот пологий склон, а вид, который открывается с него. Описывая сцену возвращения Гуннара в своем знаменитом стихотворении «Островок Гуннара», исландский поэт романтик Йоунас Хатльгримссон рисует величественную картину окружающего пейзажа и видит в нем все цвета радуги: серебряно-голубой, золотисто-красный, небесно-синий, иссиня-черный, зеленый, белый и т. д. Вид со склона действительно величествен, хотя в пасмурную погоду, которая так характерна для этих мест, всех цветов радуги в нем не увидишь. Прямо под склоном по черному песку растекается река. За ней до самого океана, километров на двадцать, простирается пустынная равнина, на которой одиноко маячит силуэт горы Димон. Она не раз, под другим, правда, названием, упоминается в «Саге о Ньяле». Где-то справа вдали на равнине должен быть Бергтоурсхвотль. А слева, за широкой долиной, в тумане, виднеется огромный ледник, белыми языками сползающий вниз. Тысячу лет назад всё это было таким же.
«Саги об исландцах» продолжали играть большую роль в исландской культуре и в новое время[43]. По-видимому, именно тем, что они пользовались большой популярностью и в новое время, объясняется позднее появление реалистического романа в Исландии. Реалистическому роману было трудно выдержать конкуренцию «саг об исландцах»! Первым исландским реалистическим романом было произведение Йоуна Тороддсена «Юноша и девушка», написанное в сентиментально-бытописательском духе и появившееся в 1850 г. Еще позднее появился в Исландии исторический роман — по-исландски söguleg skáldsaga, т. е. «историческая сочиненная сага». Первым исландским историческим романом было произведение Торвхильд Хоульм «Бриньоульв Свейнссон» — история исландского епископа, который в 1643 г. нашел знаменитую рукопись «Старшей Эдды». Роман этот появился в 1882 г. Влияние «саг об исландцах» на современную исландскую литературу очень велико. Стиль этих саг по простоте, близости к разговорной речи и выразительности остается классическим исландским стилем.
Но влияние «саг об исландцах» сказывается не только в стиле. Роман «Герпла», что значит «Героика», Лакснесса — наиболее знаменитого из современных исландских писателей — не только чрезвычайно искусно подражает стилю «саг об исландцах», но и по содержанию в значительной степени повторяет одну из них — «Сагу о названных братьях». Лакснесс лучший рассказчик современной Исландии и даже всего скандинавского севера, и, конечно, искусство рассказывать он унаследовал от своих предков, авторов «саг об исландцах». Правда, художественный метод этих авторов ему, в сущности, чужд. Лакснесс воспитывался на современной литературе Европы и Америки — американском социальном романе, французском сюрреализме и т. д. Его произведения часто вообще не претендуют на правдоподобие. Многие его персонажи — символы социально-критического содержания. В частности, «Герпла» — это не столько изображение исландцев века саг, сколько острая критика современного империализма и милитаризма[44].
Более глубоким было влияние «саг об исландцах» на Тоурберга Тоурдарсона, «самого исландского» из современных исландских писателей[45]. Тоурберг никогда не подражал ни стилю саг, ни их архаическому языку. Напротив, в его языке больше неологизмов и слов, заимствованных из иностранных языков, в частности научных терминов, чем у других исландских писателей. На Тоурберга повлияла сама сущность «саг об исландцах», их «реализм правды». Подобно их авторам, Тоурберг не отличает правды исторической от правды художественной. Поэтому в его произведениях почти совсем отсутствует сознательный художественный вымысел. Они представляют собой либо фрагменты его собственной автобиографии, либо биографии известных ему лиц, либо путевые заметки, либо описание местности, людей, предметов, обычаев, известных ему, либо запись его бесед с кем-либо (например, в «Псалме о цветке» — это запись его бесед с его маленькой племянницей), либо, наконец, беспорядочное сочетание автобиографических фрагментов с публицистическим и иным материалом.
Ни одно из произведений Тоурберга нельзя назвать ни романом, ни повестью, ни рассказом. Все они — как бы фрагменты чего-то большего, что, однако, едва ли вообще может быть написано одним человеком. В произведениях Тоурберга, в сущности, нет и литературных персонажей. Лица, о которых он рассказывает, — это люди, встречавшиеся ему в жизни. Невозможно пересказать все, о чем говорит Тоурберг в своих произведениях. В них находит место и его увлечение всякими точными измерениями, и страстная пропаганда идей социализма, мира и дружбы между народами, и увлечение эсперанто, и страсть к народным сказкам о привидениях и чудовищах. Но он не считает нужным непременно перерабатывать идейный материал в художественные образы. Для доказательства того или иного положения он приводит целые страницы из чужих произведений, статистические данные и т. п. Он не останавливается и перед тем, чтобы вставлять в свои произведения анекдоты, фольклорные записи и т. п. Все это проявление прямолинейного и бесхитростного отношения к литературе, безыскусной правдивости, характерной для «саг об исландцах».
Но как и в современной исландской культуре, в творчестве Тоурберга Тоурдарсона сочетаются совершенно разновременные плоскости. Есть в его творчестве и чисто современная черта: изощренная ирония, ироническое изображение самого себя. Он рассказывает о себе, как о ком-то постороннем. Поэтому он называет все своими именами, не боится показывать себя в таких положениях, в которых человек обычно не хочет, чтобы его видели, глумится над собой, нарочно ставит себя в смешные и неловкие положения. Но тут же наивно похваляется, как например в заключительных строках своего лучшего и наиболее иронического произведения «Чудак»: «Здесь кончается рассказ о Чудаке, великое изображение души, книга о борьбе беспомощного юноши во мраке мира, в его поисках мудрости, в заблуждениях любви, в унижениях бедности, — самое оригинальное и самое безупречно правдивое повествование из написанных на исландском языке».
Ирония все время переплетается в произведениях Тоурберга с наивностью, грубая откровенность с восторженной романтикой, детская суеверность с трезвостью естествоиспытателя. В сущности, он рассказывает о себе так, как будто он сам свой вымышленный герой: ведь обычно, если автор делает себя героем произведения, он не называет себя подлинным именем, не сообщает своего подлинного адреса и номера телефона, не рассказывает о себе так откровенно, как это делает Тоурберг. Кроме того, если бы он изображал себя, то едва ли была бы возможна такая объективность и такая ирония. Наконец, невероятно, чтобы писатель XX в., воодушевленный передовыми идеями своего времени, атеист и коммунист, верил бы в привидения так по-детски, как верит в них герой произведений Тоурберга, носящий его имя. Поэтому, подобно тому, как современные исследователи «саг об исландцах» ставят вопрос о том, существовали ли в действительности персонажи «саг об исландцах», можно было бы поставить вопрос: не является ли Тоурберг Тоурдарсон, о котором говорится в произведениях, подписанных Тоурбергом Тоурдарсоном, литературным персонажем, вымышленным героем какого-то замечательного, хотя и неизвестного автора, который называет себя именем своего героя? Во всяком случае, произведения Тоурберга заставляют снова и снова задумываться над проблемой, которая кардинальна и для «саг об исландцах», а именно — над проблемой правды и вымысла в литературе, и с недоумением убеждаться в том, что в литературе правда — это разновидность вымысла.
Сказка[46]
«Немало узнает об исландской культуре прошлых веков тот, кто углубится в исландские народные сказки, хотя бы он не прочел ни одного исторического исследования об этом времени. Возможно, правда, что краски на картине, которую он получит, будут не совсем натуральные, суеверие окажется преувеличенным, и он увидит больше привидений и мертвецов, чем видели люди того времени. Но в большинстве народных сказок говорится о сверхъестественном, таковы их природа и тематика, и это должно отразиться на даваемой ими картине исландской культуры. Тем не менее картина эта широка и глубока».
Эйнар Оулав Свейнссон.Никакой другой литературный жанр не имеет в Исландии таких глубоких корней, как народная сказка. Но, как все в Исландии, исландская народная сказка очень своеобразна. Прежде всего, если сказка — это рассказ о событиях, который не претендует на достоверность, то большинство исландских народных сказок — это не сказки, так как они претендуют на достоверность, они рассказываются так, как будто рассказчик верит в то, что они правда, и раньше в самом деле все в это верили. Дело в том, что большинство исландских народных сказок — это так называемые сказки-былички, или сказки-бывальщины, т. е. наиболее архаичный вид сказок. В сказках-бывальщинах, в отличие, например, от волшебных сказок, трафаретом служит не сюжет, не последовательность мотивов, а только свойства того сказочного персонажа, о котором рассказывается. Поэтому такая сказка дает очень большой простор для творческой фантазии. Встреча со сказочным персонажем может происходить в самых различных условиях и самым различным образом. Более пли менее одинаковыми остаются только свойства этого персонажа. Вместе с тем в сказке-бывальщине всегда рассказывается о том, что произошло с конкретным лицом в конкретном месте. Поэтому такие сказки всегда особенно тесно связаны с бытом народа и страной, в которой он живет, другими словами — они реалистичны, в той мере, в какой сказка вообще может быть реалистична. По-видимому, именно этими свойствами сказок-бывальщин объясняется то, что у исландского народа, с его страстью к литературному творчеству и склонностью к историзму и правдивости, эти сказки заслонили все остальные виды народных сказок.
В исландских сказках-бывальщинах, как правило, сообщаются имена действующих лиц, их происхождение (иногда даже генеалогия), их социальное положение, состав семьи, место действия — хутор, долина и т. д. Правда, бывает, что в разных вариантах сказки эти данные оказываются разными, а иногда и в самой сказке сообщается, что, по словам разных лиц, эти данные то одни, то другие. Если имя действующего лица в сказке не сообщается, то обычно это оговаривается: «Имя его не было названо», «его звали Торир, а имя жены его неизвестно», «как звали третьего сына, не сказано» и т. п. Обычны также оговорки, вроде «неизвестно, о чем они разговаривали», «встречала ли она его после этого, не сказано» и т. п. В той мере, в какой это необходимо для понимания действия, сообщаются разные сведения о данном хуторе, его истории или расположении, о погоде, обычаях и т. п.
Иностранцу многие из подробностей, сообщаемых в исландских сказках-бывальщинах, могут показаться излишними. Но, с точки зрения исландца, который, возможно, хорошо знает данную долину или даже данный хутор и т. д., именно подробности делают эти сказки «самым исландским из всего, что есть в Исландии». Сказки эти настолько тесно связаны с местностью, в которой происходит их действие, что многое в них становится понятным, только если путешествуешь по Исландии и видишь эти местности своими глазами в разное время дня и ночи и в разную погоду.
Исландский пейзаж и быт исландского народа никогда не бывают целью описания в сказке-бывальщине, они только как бы проглядывают сквозь действие. Но тем естественней они находят себе место в такой сказке и тем богаче и разнообразней они в ней представлены. Снова и снова упоминаются долины и горы, озера и реки, дожди и туманы, метели и вьюги, снова и снова говорится о том, что крестьянин косит траву, ищет овец, пасущихся в горах, рыбачит, едет на лошадях за сушеной рыбой в торговый поселок, собирает весной исландский мох в горах вместе с девушками, сидит вечером за работой в бадстове, что крестьянка доит коров или овец, убирает сено, прядет, убаюкивает ребенка, снимает с гостя промокшую обувь и носки, готовит пищу. Вся крестьянская страна, такая, какой Исландия была до самого недавнего времени, встает в сказках перед глазами того, кто их читает. Единственные не крестьяне в сказках — это пасторы, и о них, а также об учениках из епископских школ в Хоуларе и Скаульхольте в сказках часто идет речь. О купцах, всегда иностранцах, говорится в сказках гораздо реже — их было ничтожно мало, и они жили только в торговых поселках.
Исландские народные сказки — это, конечно, устная крестьянская традиция. Но в Исландии никогда не было пропасти между народом и учеными людьми, и в Исландии устная крестьянская традиция не противоположна книжной, письменной традиции. Поэтому роль книги и письменности значительна в исландских народных сказках. Не случайно в них нередко упоминаются книги и письма. В сказках о колдунах большую роль играют магические книги «Серая Кожа», «Красная Кожа» и т. п. В одной сказке о великане крестьянин записывает его имя, чтобы не забыть его. Нередко упоминаются в исландских народных сказках псалмы и римы. Очевидно, конечно, что исландские народные сказки испытали влияние древнеисландских саг. Ведь списки с древних саг всегда были широко распространены в Исландии. Влияние саг сказывается и в стремлении сказок к достоверности, и в обилии собственных имен и всяких точных сведений, и в использовании определенных мотивов в сказках. Часто вообще неясно, что в сказке устная традиция, а что прочтенное и потом ставшее устной традицией. Влияние саг сказывается кое в чем и в стиле сказок. Наконец, сама запись народных сказок происходила в Исландии не так, как в других странах. Сказки знаменитого собрания Йоуна Ауртнасона, которое он издал в 1862–1864 гг., посвятив его Якобу Гримму, были записаны не самим издателем, а грамотными людьми с разных концов Исландии — крестьянами и пасторами, мужчинами и женщинами. Лучшие из таких записей Йоуну вообще не приходилось править. Только в некоторых записях ему приходилось немного править стиль. В результате, сказки, собранные им, оказались в общем ближе к устной традиции, чем сказки, которые в ту же эпоху собирались в других странах.
Так как сказки-бывальщины претендуют на достоверность, в исландских сказках такого рода не рассказывается о существах, явно фантастических, — говорящих животных, карликах, драконах, домовых, леших. Даже в исландских волшебных сказках всех этих существ, как правило, нет. Леших, правда, в Исландии и не могло бы быть из-за отсутствия леса. Но вот карлики и драконы были представлены в древнеисландской литературе и только потом исчезли. Сверхъестественные существа, которые встречаются в исландских сказках-бывальщинах, как правило, во всем похожи на людей и отличаются от них, в сущности, только тем, что они все-таки не люди. Их образы, однако, резко разграничены между собой, и все они специфичны для Исландии.
От языческих мифов сказки унаследовали только великанов. Но в сказках великаны не такие, как в мифах. Большинство исландских сказок о великанах возникло еще до Реформации, т. е. до середины XVI в., так что, по-видимому, в Исландии уже давно никто не верит в существование великанов. Великан по-исландски — трётль (tröll). Этимологически это, конечно, то же самое слово, что «тролль». Но дело в том, что соответствиями этого слова в разных скандинавских языках и в разные эпохи обозначались очень разные сверхъестественные существа, отнюдь не всегда великаны. Поэтому едва ли стоит исландских трётлей называть «троллями».
В отличие от мифов, в которых рассказывалось о встречах богов с великанами, в сказках рассказывается о встречах людей с великанами. Встречи эти могут быть самыми разнообразными. Постоянно в рассказах о них только то, что трётль гораздо больше и сильней людей, безобразен, глуп, свиреп, жаден и мстителен, но, когда ему оказывают услугу, он становится навсегда верным другом. Верность трётлей вошла во многие исландские поговорки. Трётли живут в одиночку в пещерах или скалах. В руках у них обычно железная палица или большой нож. Они похищают и убивают скот. Но нередко они и людоеды. Больше всего они боятся звона церковного колокола и вообще всего церковного. Так, рассказывается, что одна пастушка в Даласисле, вернувшись из церкви от причастия, сразу же, ничего не поев, отправилась одна за овцами в горы и вдруг услышала, как кто-то сказал: «Рагнхильд в Красных Скалах!» и другой голос ответил: «Чего тебе, великан в Трех Скалах?». Тогда первый голос сказал: «Тут прыгает жаркое по тропинкам, съедим его, съедим его!». Но второй голос ответил: «Ну ее, пусть себе прыгает, у нее рот запачкан». Пастушка не слышала продолжения разговора четы трётлей.
Трётли боятся также дневного света. С наступлением дня они превращаются в скалы. Впрочем, трётли, превращающиеся с наступлением дня в скалы, или «ночные трётли», — это, возможно, особая порода. В исландском языке есть специальный глагол, образованный от слова dagur «день», со значением «превращаться в камень с наступлением дня» (daga uppi). Многие сказки о трётлях представляют собой объяснение названия той или иной скалы, которая якобы образовалась таким образом. Исландская природа, с ее долгими зимними ночами, туманами и вьюгами, пустынными горами, оползнями, страшными пропастями, причудливыми скалами и нагромождениями лавы, — это, конечно, исключительно благоприятная почва для веры в трётлей.
Особенно часто в исландских сказках рассказывается о трётлях женского пола, или «скессах», безобразных, свирепых и глупых, но чадолюбивых и мужелюбивых. В исландских волшебных сказках злые мачехи обычно оказываются страшными и свирепыми скессами. Скессы нередко похищают мужчин, воспылав к ним страстью, и делают из них трётлей, если похищенному не удается убежать. А в одной сказке рассказывается о страсти трётля к поэзии: он очень любил, чтобы ему декламировали римы.
Больше, чем сказки о трётлях, распространены в Исландии сказки о сверхъестественных существах, которые собирательно называются «хульдуфоульк» (huldufólk) — буквально «скрытые жители». Раньше их называли также «аульвы» (álfar), и этимологически это, конечно, то же слово, что «эльфы». Но рассказывают, что скрытые жители обижаются, когда их называют «аульвами». В их существование верили в Исландии до недавнего времени. Высказывалось предположение, что вера в них — ирландского происхождения. Но возможно, что в этом предположении сказалась обычная среди ученых скандинавистов склонность во всех неясных случаях предполагать ирландское происхождение.
Скрытые жители ничем не отличаются от людей, ни по своей внешности, ни по своему быту. Единственное их внешнее отличие от людей это то, что у них нет вертикальной впадинки между носом и верхней губой. Они рождаются и умирают так же, как люди. У них такое же хозяйство, как у людей. У них есть коровы, лошади, овцы, собаки. Они косят сено, сучат шерсть, рыбачат. Иногда они живут богаче людей, иногда так же или даже беднее. У них есть священники, церкви и кладбища. Но мир их где-то рядом с миром людей, и люди их обычно не видят, разве что они ясновидящи, или глаза у них смазаны специальной мазью, или скрытые жители сами захотели, чтобы люди их увидели. Дома скрытых жителей — это то, что людям кажется зелеными пригорками или покрытыми мхом скалами. Поэтому в скалах часто слышен стук маслобойки — это скрытая жительница сбивает масло из молока от своих коров.
Мир скрытых жителей — это как бы зеркальное отражение мира людей, но отражение, подернутое какой-то дымкой, как будто оно сон или мечта. Сходство скрытых жителей с людьми настолько велико, что, например, если исландский крестьянин видит около своего хутора незнакомого человека, который гонит корову, или незнакомую женщину с ребенком, он считает, что это скрытые жители, так как незнакомых людей около его хутора обычно не бывает. Но может остаться неясным, была ли действительно такая встреча или нет.
Бывают, однако, и более тесные соприкосновения со скрытыми жителями. Так, они просят чего-нибудь у людей, например молока для ребенка и особенно часто помощи роженице — она не может разрешиться, пока человеческая рука не ляжет на нее, — и щедро благодарят за помощь, а за отказ мстят. Нередко скрытые жители являются людям во сне. Сон и действительность вообще как-то переплетаются в сказках о скрытых жителях. Подчас скрытые жители оказывают помощь людям, например лечат их ребенка или, наоборот, мстят за нанесенный им ущерб, например за то, что кто-то бросил камень в окно их жилья. Скрытые жители любят подкладывать людям вместо новорожденного ребенка своего дряхлого уродца или заманивать ребенка к себе. Бывают и романические связи между людьми и скрытыми жителями, и у женщины родится от скрытого жителя ребенок, или, наоборот, он родится у скрытой жительницы от человека. Такая связь обычно кончается трагически — смертью от разлуки или от родов, иногда смертью обоих участников связи. В сказках, где рассказывается о такой связи, часто есть мотивы из волшебных сказок: скрытая жительница налагает заклятье на человека, навлекая на него разные бедствия, или оказывается королевой скрытых жителей, на которую было наложено заклятье.
Скрытые жители любят появляться на рождество и в ночь под Новый год. У них тогда происходят празднества и перемена жилья. Хозяйки хуторов в ночь под Новый год ставили раньше свечи во все углы дома, открывали все двери и говорили: «Приходите, кто хочет». Но часто посещение скрытых жителей оказывалось смертельным для того, кто в эту ночь оставался дома. Вообще в скрытых жителях есть что-то завлекательное и вместе с тем опасное для людей: их покрытые зеленой травой и мхом жилища красивы, у них нарядные и яркие одежды, но в их власти многое, что непосильно людям, и встреча с ними может привести к гибели.
Еще больше распространены в Исландии сказки о людях, которые якобы живут в необитаемой части страны, или о так называемых утилегуманнах (útilegumaður, от liggja úti «спать под открытым небом» и leggjast út «бежать с родины»). Еще в древности рассказывалось о людях, которые, будучи объявлены на тинге вне закона, скрывались от преследования своих врагов в необитаемых местностях Исландии. В «Саге о Греттире» рассказывается о том, как Греттир — один из самых популярных персонажей «саг об исландцах» — скрывался таким образом в продолжение пятнадцати лет, много раз меняя свое убежище. Образ такого объявленного вне закона и скрывающегося от своих врагов встречается и в других «сагах об исландцах», и он несомненно имел реальную основу. Случаи бегства в глубь страны с целью избежать наказания за преступление бывали и позднее. Так, Фьятла-Эйвинд, или Эйвинд с Гор, который в середине XVIII в., скрываясь от преследования за воровство, в продолжение двадцати лет жил со своей женой Хатлой в разных необитаемых местностях, кое-как перебиваясь в лачуге из камней и кормясь в основном кражей скота, — это несомненно историческое лицо. Слухи о таких случаях преобразились в народной традиции в сказки о людях, которые живут богато и счастливо в каких-то долинах в глубине Исландии. Уже в «Саге о Греттире» рассказывается о подобной долине. Вера в существование утилегуманнов была очень распространена еще в XIX в., и сказки о них возникали до самого недавнего времени.
В сказках об утилегуманнах действующие лица всегда происходят из конкретных долин и хуторов, и действие в этих сказках локализуется в конкретных местностях. В сказках этих — вся Исландия и особенно та огромная пустыня, которая начинается сразу за «последним хутором» и которая знакома каждому исландцу. Обычно сказка об утилегуманнах начинается с того, что кто-то поехал в горы, то ли в поисках пасущихся там овец, то ли для сбора исландского мха, то ли в торговую поездку поперек страны, и на хейди, пустынном плоскогорье, его застиг туман, и он заблудился в горах, другими словами — попал в те дали, которые в ясные дни виднеются на горизонте и кажутся тогда такими манящими, такими фантастически красивыми, что естественно было связать их с мечтой о жизни, непохожей на ту, которую влачили исландские крестьяне на своих насиженных местах.
Пейзаж в Исландии, несмотря на суровость ее природы, нередко поразительно красочен, например, когда в ясный октябрьский день ивовый и березовый кустарник — его много в некоторых долинах — весь золотой, ягодник — в основном голубика, ее много по склонам гор — малиновый, вереск — лиловый, а завядшая трава — оранжево-бурая. Не менее красочны в солнечную погоду бугры лавы, сплошь поросшие пушистым мхом матово-зеленого цвета, или голые рыжие плиты лавы, покрытые разноцветными пятнами, или реки и озера, когда с их холодно-синей глади взмывают стаи белых лебедей. Но ничто не может сравниться с исландской солнечной далью: краски у нее такие нежные и чистые, что и назвать их невозможно.
Исландский пейзаж вообще фантастичен, и это, конечно, сыграло в развитии исландской живописи не меньшую роль, чем в развитии фольклорной традиции. Несмотря на то, что живопись начала развиваться в Исландии совсем недавно, в Рейкьявике очень много живописцев, постоянно устраиваются выставки живописи, и в квартирах исландцев всегда есть картины отечественных художников или репродукции с них. Живопись начала развиваться в Исландии, конечно, с горного пейзажа. Крупнейший исландский живописец Аусгрим Йоунссон открыл фантастическую красочность исландских гор. В Рейкьявике есть музей его произведений. Йоуханнес Кярваль, другой крупнейший исландский живописец, открыл фантастику исландских лавовых полей. Его лавовые пейзажи, будучи вполне реалистичными, в то же время граничат с абстрактной живописью. В исландском пейзаже деревья, поля, сады и вообще живая природа играют такую ничтожную роль, а лава и базальт с их причудливыми и как бы абстрактными очертаниями — такую большую роль, что понятным становится, почему исландская живопись так быстро перешла от пейзажа к абстракционизму и так долго на нем задержалась.
Сказочная долина, где живут утилегуманны, тоже фантастична. Она всегда зеленая. Посредине нее — река. В долине пасется много скота, и он крупнее и жирнее, чем в обитаемых местностях Исландии. Молоко у коров утилегуманнов гуще, чем обычно. Дома большие и красивые. Сами утилегуманны большого роста и очень сильные. Девушки у них красивые. В некоторых сказках утилегуманны — разбойники. Они крадут скот, похищают девушек, убивают всех, кто к ним попадает, иногда даже едят людей. Но часто они оказываются благородными разбойниками. Побежденный в поединке и пощаженный утилегуманн обычно рыцарски отплачивает за то, что ему оставили жизнь. Чаще всего, однако, они просто зажиточные крестьяне. У них есть свои пасторы и сельские общины или целые округи. Иногда они, неузнанные, появляются даже в Рейкьявике, чтобы закупить железо и соль.
В очень многих сказках об утилегуманнах есть романический элемент. На хуторе утилегуманнов пришелец встречает девушку и потом женится на ней. С ее помощью он побеждает хозяев или освобождает ее из их власти. Утилегуманн похищает девушку, но потом щедро одаривает ее родных и мирится с ними. Девушка попадает к утилегуманнам, но бежит с помощью одного из них и выходит за него замуж. Концы в таких романических сказках об утилегуманнах всегда счастливые. В ряде сказок чета утилегуманнов оказывается братом и сестрой, бежавшими от наказания за кровосмешение. Бывают в сказках об утилегуманнах и другие романические причины бегства с родины. В некоторых сказках утилегуманн может вызывать непогоду и болезнь, заманить странника к себе против его воли, обладает напитком, придающим силу, и т. п.
Действие в сказках об утилегуманнах, как правило, остается в пределах реально возможного. Фантастики, подобной той, которая обычна в волшебных сказках, в них никогда нет. Все же какой-то оттенок сказочности в них обычно есть. В утилегуманне нередко появляется какое-то отдаленное сходство то с трётлем, то со скрытым жителем, то с колдуном. В ситуации, как будто реалистической, прощупывается мотив волшебной сказки. Поэтому сказка об утилегуманне — это как бы сказка, перелицованная в реалистический рассказ, но перелицованная так, что нет, нет, да и проглянет в реалистическом рассказе какой-то фантастический подтекст.
Не меньше, чем сказки об утилегуманнах, распространены в Исландии сказки о колдунах. Вера в существование людей, которые могут вызывать сверхъестественные явления, — понятное проявление мечты нищего и беспомощного народа о богатстве и могуществе. На почве этой веры возникали в Исландии сказки-бывальщины о колдунах. Среди этих сказок есть оптимистические, или сказки о добрых колдунах, и пессимистические, или сказки о злых колдунах. В первых сверхъестественное служит на пользу людям или по меньшей мере не приносит никому вреда. Во вторых оно используется в злых целях. В этих сказках господствует представление, что зло — единственный путь к богатству и могуществу.
В исландских народных сказках колдун — это чаще всего священник, пастор, иногда даже епископ. Самый знаменитый из таких колдунов — это Сэмунд Мудрый. Из исторических источников известно, что Сэмунд Сигфуссон по прозвищу Мудрый был священником, учился в Париже, славился своей ученостью. Годы его жизни 1056–1133. Впоследствии ему приписывалась «Старшая Эдда». До сих пор существует хутор Одди, где когда-то жил Сэмунд, а в конце XII в. — Снорри Стурлусон, который там воспитывался. Сейчас это вполне современный хутор, расположенный среди широкой равнины на продолговатом холмике, похожем на кита, выброшенного на берег. На склоне холмика стоит церковь с белыми стенами из рифленого железа и коричневой крышей и такой же дом, где живет пастор, он же — хозяин хутора. Рядом расположены службы с ярко-красными с зеленым стенами, тоже из рифленого железа. Только овцы, которые стоят сгрудившись на вершине холмика, вероятно такие же, какие были во времена Сэмунда или Снорри. Нигде не видно ни одного деревца. В ясные дни отсюда, как и с Бергтоурсхвотля, где жил Ньяль, на горизонте видны горы, а на юге — скалы островов Вестманнаейяр. Но в пасмурный день кажется, что хутор расположен на островке среди туманного океана.
Хотя очевидно, конечно, что в сказках о Сэмунде нет ничего исторического, все же тот, кто знает их, невольно спрашивает себя, попав в Одди, а где же колодец, из которого Сэмунд заставил черта носить воду в дырявых сосудах? Где курган, в котором зарыто заклятое сокровище с корабля, разбившегося о берег неподалеку отсюда? А хлев, который черт чистил по приказанию Сэмунда? А камень, который черт ударил кулаком? А луг, с которого старуха Торхильд бросала целые стога сена на двор Сэмунда? А ров, образовавшийся, когда черт тащил по земле вязанку нарубленного им леса? А каменная плита, в которой есть впадина от того, что черт по приказанию Сэмунда вылизывал с нее навоз? Впрочем, наверно еще есть в Исландии старики, которые могли бы уверенно ответить на эти вопросы. Но едва ли ответит на них молодой парень в джинсах, который как раз собирается куда-то с хутора на джипе.
Сэмунд — типичный добрый колдун. Сэмунд, приготовившийся ударить книгой по голове черта, который в образе тюленя доставил его из Парижа в Одди (так изобразил Сэмунда Аусмунд Свейнссон в своей известной скульптуре), — это символ победы книги над темными силами. По-видимому, сказки о добрых колдунах, как правило, относятся к эпохе до XVII в., когда исландский народ еще не так страдал от нищеты и гнета, как в XVII в. Но позднее снова стали появляться сказки о добрых колдунах. Так, об Эйрике из Вохсоуса (годы его жизни — 1667–1716) рассказывается, в частности, что одного крестьянина, который не ходил в церковь, он проучил с помощью черта, хотя и был пастором. У него самого, судя по одной сказке, был только тот недостаток, что он любил выпить.
Сказки о злых колдунах характерны особенно для XVII века — эпохи наибольшего экономического и политического гнета, стихийных бедствий, пышного расцвета всяких суеверий, вообще — самой мрачной эпохи в истории Исландии. Суды над колдунами и колдуньями и сожжения их заживо, которые тогда неоднократно происходили, способствовали усилению веры в колдовство. В 1625 г., например, один человек был сожжен по приговору суда за то, что он «вызвал из могилы мертвеца, а тот напал на одного мальчика из Урдира, убивал там лошадей и устраивал другие штуки». Последний приговор о сожжении колдуна был вынесен в 1690 г. Лютеранство было в XVII в. сравнительно новой религией в Исландии. Оно было введено в 1550 г., и его введение было для исландцев, в сущности, новой формой политического гнета. Введение лютеранства привело, в частности, к захвату королем всех епископских и монастырских земель и к разрушению монастырей, а в монастырях хранились древние рукописи, и они были очагами культуры. Йоун Арасон — последний католический епископ в Хоуларе, одной из двух исландских епископских епархий — сопротивлялся введению лютеранства с оружием в руках и был казнен вместе со своими двумя сыновьями.
Пережитки католицизма сохранялись в Исландии почти так же долго, как в свое время пережитки язычества. По словам Йоуна Ауртнасона, знаменитого собирателя исландских народных сказок, стихотворные католические молитвы бытовали в устной традиции в Исландии еще в середине XIX в. По-видимому, лютеранство так и не заняло в исландской культуре того места, которое когда-то занимало язычество, а потом католицизм. И то, что исландский народ на протяжении своей истории видел три религии — язычество, католицизм и лютеранство — не сделало его особенно религиозным и преданным церкви. В исландских народных сказках пасторы нередко колдуны, и притом злые колдуны, а также стяжатели и скряги. В одной сказке рассказывается, что пастор взял однажды у бедной вдовы ее последнюю корову в счет десятины, но на возвратном пути на него свалился камень с горы и раздавил его, а корова вернулась к вдове. В другой сказке черт не мог выполнить просьбу умирающего — привести ему священника, который не был бы жаден, он нашел только одного такого священника, но в Германии, и к нему нельзя было добраться, так как вокруг него все время пылал огонь.
Суеверия, связанные с устной народной традицией, а также с древней литературой, всегда занимали в жизни исландского народа гораздо больше места, чем официальная религия. Кто-то в Исландии, кажется Сигурд Нордаль, сказал однажды такой каламбур: для исландца вера (trú) — это его жена (kona), но суеверие (hjátrú — буквально «побочная вера») —это его любовница (hjákona — буквально «побочная жена»). Если учесть, что в «сагах об исландцах» побочная жена нередко занимает почетное положение и жена пасует перед ней, то каламбур приобретает особый смысл.
В сказках о злых колдунах рассказывается о том, как они приготовляют себе из кожи мертвеца «дьявольские штаны» — такие штаны притягивают в свои карманы деньги, или уздечку, с помощью которой можно летать на ком угодно и куда угодно, добывают себе магическую книгу или духа, обладающего знанием будущего. Но больше всего в этих сказках рассказывается о том, как они вызывают мертвецов из могил, насылают их на кого-нибудь или борются против мертвецов, которых наслал другой колдун. В одной сказке про Тормоуда из Гвендарейяра говорится, впрочем, что он «забавлялся» с мертвецами, которых на него наслал другой колдун. Этот же Тормоуд выступал и в качестве доброго колдуна: раз он по просьбе голодных бедняков с помощью колдовства открыл двери лавки, в которой было много продовольствия. О колдуньях рассказывается также, что они приготовляют из кости мертвеца «тильбери» — существо, которое сосет молоко чужих коров и приносит его своей хозяйке, под платьем которой тильбери живет.
Самая известная и самая драматичная из сказок о колдунах — это сказка о Гальдра-Лофте, т. е. Лофте Колдуне. Об этом исландском Фаусте рассказывается, что он учился в епископской школе в Хоуларе и ревностно изучал колдовство. Однажды он надел уздечку из кожи мертвеца на служанку у себя дома и летал так из дома в школу и назад. Служанка потом долго болела, но никому ничего не посмела сказать при жизни Лофта. Одну служанку, которая забеременела от него, он умертвил, заставив стену открыться и потом снова закрыться в то время, как эта служанка шла через образовавшийся проход с корытом, полным золой. Много позднее, когда стену сносили, в ней нашли скелет с корытом в руках.
Лофт изучил всю «Серую Кожу», но ему было мало этого, он решил добыть «Красную Кожу» — магическую книгу, которую унес с собой в могилу епископ Гохтскаульк Злой. Товарищу, которого Лофт под страхом смерти принудил помогать себе, он сказал, что те, кто изучил колдовство, не могут использовать его иначе, чем во зло, и поэтому должны погибнуть, но если они знают достаточно много, дьявол не имеет над ними власти и должен служить им, как он служил Сэмунду. Они отправились в церковь, где похоронены все епископы, чтобы вызвать из могилы Гохтскаулька. Товарищ Лофта должен был по его знаку зазвонить в колокол. Луна светила, и Лофт стал говорить заклинания. Один за другим выходили из могилы епископы во всем облачении. Но Гохтскаульк не появлялся. Лофт усилил свои заклинания. Наконец, раздался страшный грохот, и появился мертвец с красной книгой в руках. «Хорошо ты поешь, сынок, но „Красную Кожу“ ты не получишь», — сказал он. Лофт стал еще неистовей говорить свои заклинания, и вся церковь заскрипела и затряслась. Тут у товарища Лофта почернело в глазах от страха, ему показалось, что Гохтскаульк уже протягивает Лофту книгу, а тот подает знак рукой, и он дернул за веревку колокола, и мертвецы провалились в землю со страшным грохотом.
Оправившись от остолбенения, Лофт сказал своему товарищу: «Все вышло плохо, но я тебя не виню, потому что, когда я увидел книгу и услышал, как епископ издевается надо мной, я стал так неистово говорить заклинания, что, скажи я еще хоть один стих, церковь бы провалилась сквозь землю, а этого он и хотел». С тех пор Лофт стал очень молчаливым, боялся оставаться один и бормотал про себя, что в субботу в середине великого поста он будет в аду. Ему посоветовали переехать к одному пастору, который умел лечить помешанных и околдованных. Лофт переехал к нему, и тот брал Лофта с собой, когда шел к больным, и ни днем, ни ночью не оставлял его одного. Наступила суббота в середине великого поста. Лофт лежал больной, а пастора вызвали к одному его другу, который был при смерти. Лофт не мог поехать с пастором, он был слишком слаб, но обещал ему не выходить из дома в его отсутствие. Как только пастор ушел, Лофту вдруг стало лучше. Погода была хорошая, и он вышел прогуляться. Он попросил у одного старика лодку и сказал, что хочет покататься и половить рыбу. Весь день было тихо. Но лодки этой никто никогда больше не видел. По словам одного человека, когда лодка отплыла от берега, из воды поднялась мохнатая серая лапа и утащила лодку вместе с Лофтом в воду.
Известно, что некто Лофт Торстейнссон поступил в школу в Хоуларе в 1722 г. Епископ Гохтскаульк Никулауссон — тоже историческое лицо. Он жил еще до Реформации. Церковь в Хоуларе, под полом которой похоронены епископы, стоит и сейчас. Когда едешь «домой в Хоулар» — это выражение возникло когда-то давно, но до сих пор употребляется всеми исландцами, — то издали видишь высокую белую колокольню, которая красиво вписывается в панораму гор. Теперешняя церковь — она построена в XVIII в. — считается самым старым зданием Исландии, Но древнее в ней только кое-что из утвари (чаши и купель XIII в. и т. д.). А колокольня построена только в 1950 г., когда в Хоулар были перевезены останки епископа Йоуна Арасона, исландского национального героя, казненного в 1550 г. До конца XVIII в. Хоулар был резиденцией одного из двух исландских епископов и культурным центром севера Исландии. Сейчас тут сельскохозяйственная школа и церковь, вернее собор, да старый хутор, сохраняемый как музей. Впрочем, вероятно, и раньше здесь было не много народа, и таким же малолюдным был второй старый культурный центр Исландии — Скаульхольт, бывшая резиденция епископа юга Исландии. Там был казнен Йоун Арасон, и там только что построен большой новый собор, очень современный по материалу и отделке, с яркими абстрактными витражами, но по общим очертаниям повторяющий деревянную церковь, которая раньше стояла на том же месте. Этот собор как бы аналогичен роману Лакснесса «Герпла», который очень современен по своему идейному содержанию, хотя по изображаемым событиям повторяет одну из «саг об исландцах». В противоположность новой колокольне в Хоуларе, новый собор в Скаульхольте плохо вписывается в окружающую его местность. Это неудивительно, очень уж величествен и драматичен кругозор, открывающийся от него: три полноводные реки стекаются у Скаульхольта, блестя своей гладью, и горы, далекие и близкие, толпятся там кругом по всему горизонту.
Наиболее распространены в Исландии сказки о привидениях, и в этих сказках меньше всего трафарета, они самые разнообразные. И хотя они встречаются нередко уже в древнеисландской литературе, их до сих пор в Исландии придумывают и рассказывают. Все же, по-видимому, больше всего их возникало в XVII и XVIII вв., и они носили тогда наиболее мрачный характер. Поэтому обилие в Исландии сказок о привидениях нередко объясняют мрачностью исландской жизни в те века. Но такое объяснение оставляет непонятным, почему эти сказки были распространены также в древности и популярны и в наше время. В качестве объяснения указывали также на пустынность Исландии и ее длинные зимние ночи, благодаря которым якобы развивается страх темноты. Этот страх некоторые считают специфически исландской чертой и ссылаются на то, что еще Греттир — знаменитый герой древности, который, будучи объявлен вне закона, был вынужден пятнадцать лет прожить в необитаемых местностях Исландии, — боялся темноты и в свои скитания брал с собой одного мальчика для компании. Возможно, однако, что распространенность в Исландии сказок о привидениях объясняется тем же, чем объясняется распространенность в Исландии сказок-бывальщин вообще, а именно тем, что они оставляют наибольший простор для творчества и вместе с тем позволяют держаться конкретной действительности, называть определенных лиц, определенные хутора и т. п.
В исландских народных сказках привидение — это либо кто-то, погибший в результате несчастного случая, либо человек, которого и при жизни почему-либо боялись, либо кто-то, при жизни обиженный, не успевший воспользоваться приглашением, гонимый с того света любовью или ненавистью и т. д. Бывают даже привидения лошадей, овец и других животных. В исландском языке есть особые слова для обозначения привидения скряги, который и после смерти не может расстаться со своим богатством (fépúki), ребенка, загубленного родной матерью (útburður), привидения, вызванного из могилы колдуном и посланного куда-то со злой целью (uppvakningur, sending), привидения, всегда следующего за кем-либо (fylgja), привидения мужского (móri, lalli) или женского пола (skotta) и т. п. Каждое привидение, о котором рассказывается в сказке, имеет свой облик, свои повадки. У одного — серые штаны, коричневая куртка и широкополая черная шляпа, порванная у левого глаза, у другого — черный плащ и красные носки, одно — в лоскутьях, другое — в праздничном наряде, одно стоптало свои ноги до колен, другое всегда ходит в высоких сапогах, одно все время вяжет из тонкой шерсти коричневые чулки, другое любит сидеть на нарах или ящике и болтать ногами. Очень часто привидения имеют клички или уменьшительные имена, и многие привидения известны под этими кличками по всей Исландии. Многие местности Исландии могут похвалиться такими знаменитыми привидениями. Почти у каждого исландского хутора есть своя сказка о привидении. В сказках этих привидение большей частью причиняет вред, особенно часто убивает скот, что для исландского крестьянина очень чувствительно. Больше всего вреда причиняют привидения, вызванные из могилы колдунами. Такие привидения нередко убивают не только скот, но и людей. Рассказывается, однако, и о таком привидении, которое любило смотреть за сеном, и в частности лежать на нем, чтобы ветер его не разносил.
Сказки о привидениях — наиболее яркое свидетельство незатронутости исландского народа идеологией христианской церкви и его верности древнейшей устной традиции, связанной с язычеством. Представления о загробной жизни, которые проявляются в исландских сказках о привидениях, находятся в полном противоречии с учением христианской церкви о бессмертии души, рае, аде и т. п. Напротив, они мало чем отличаются от языческих представлений о жизни мертвых в могилах. За неимением другого русского слова приходится называть привидения исландских сказок «привидениями», но, в сущности, они совсем не «то, что привиделось». Они не призраки, не души людей, а телесные существа, обладающие всеми свойствами живого человека. Эти «живые мертвецы» не только дерутся, в частности и между собой, дают пощечины, бьют стекла и посуду, кидаются разными неприятными предметами, как-то камнями или навозом, убивают скот и людей, страдают от голода и холода — особенно часто у них мерзнут ноги, — вступают в любовные связи, но даже умирают. Пастор Йоун Торстейнссон — рассказывается в одной сказке — послал привидение за табаком в Акурейри, дав ему на дорогу достаточно еды. В другой сказке компания привидений съела своего товарища — им не дали еды на дорогу! Привидению по прозвищу Моури из Ирафетля всегда ставили пищу в определенное место, и ему была отведена лежанка для спанья. В нескольких сказках девушка становится беременной от привидения человека, которого она при жизни отвергла. Привидение по прозвищу Латли из Хусавика заставали в постели в объятиях его подруги — тоже привидения — по прозвищу Скохта с Мивахтна. В некоторых сказках привидение обезвреживают, связав его. Наконец, во многих сказках говорится, что привидение умерло, после того как ему воткнули иглы или гвозди в пятки или в могильный холм, сожгли его, отрубили ему голову и приложили ее к ляжке и т. п.
Многие исландские сказки о привидениях имеют параллели в древней литературе. В частности, самая драматичная из них — сказка о дьяконе из Миркау — повторяет ситуацию из «Второй песни о Хельги Убийце Хундинга»: встречу женщины с ее мертвым возлюбленным. Но сказка драматичнее героической песни. Миркау, что значит «темная река» — это название реки и хутора на этой реке в одной из горных долин северной Исландии. Вот вкратце содержание сказки. У дьякона из Миркау была возлюбленная по имени Гвудрун. Она была служанкой пастора на другом хуторе. Дьякон ездил к ней на своем сером коне Фахси. Однажды незадолго до рождества дьякон поехал к ней и пригласил ее на праздники в Миркау, обещав заехать за ней в сочельник. Вечером в тот день началась сильная оттепель, и, когда дьякон возвращался в Миркау, реки вскрылись. Через одну он переехал по мосту, но, когда он переезжал через вторую, мост провалился, и дьякон свалился в реку. На следующее утро крестьянин соседнего хутора увидел серого коня дьякона у своего туна, а потом нашел на берегу и самого дьякона, мертвого. Льдина сильно повредила ему затылок. Труп отвезли в Миркау и похоронили. До самого сочельника никаких вестей об этом не дошло до хутора, где жила Гвудрун, — реки вышли из берегов, и была распутица. Но в сочельник погода улучшилась, за ночь вода в реках спала, так что Гвудрун рассчитывала попасть на рождество в Миркау. Когда наступил вечер, она начала собираться в дорогу. Вдруг она услышала стук в дверь. Другая женщина, которая была с Гвудрун, вышла на двор, но никого не увидела. Месяц плыл в облаках и то скрывался, то появлялся. Гвудрун сказала, что это, наверно, к ней, и вышла, но второпях сунула руку только в один рукав своего салопа. На дворе она увидела серого коня и около него — человека, как она полагала, — дьякона. Человек посадил ее на коня и сел сам впереди нее. Так они ехали некоторое время молча и подъехали к реке. Но, когда они стали спускаться к ней по крутому берегу, шляпа съехала с затылка всадника, и Гвудрун увидела голый череп. В эту минуту месяц выплыл из-за туч, и всадник сказал:
Месяц светит, мертвый едет; разве не видишь мой череп, Гвудрун?Гвудрун ужаснулась, но молчала. Так они приехали в Миркау, прямо к кладбищенским воротам. Всадник велел Гвудрун подождать его и пошел отвести коня. Она заглянула за ворота и увидела там открытую могилу. Тогда она догадалась схватить веревку церковного колокола, и в то же мгновение почувствовала, что кто-то хватает ее сзади за салоп. На ее счастье она так и не успела сунуть руку во второй рукав салопа, и поэтому, когда салоп лопнул по шву в том рукаве, который она уже надела, она вырвалась и увидела, что дьякон бросился с обрывком салопа в руках в открытую могилу, и земля с обоих боков могилы засыпала его. Гвудрун была в таком ужасе, что не могла ни сдвинуться с места, ни перестать звонить в колокол. Тут сбежались люди, и она узнала от них о смерти дьякона. В сказке дальше рассказывается еще о том, как дьякон преследовал Гвудрун после этого каждую ночь, пока одному колдуну не удалось завалить его камнем.
Сказки о привидениях придумываются и рассказываются в большом количестве и в современной Исландии. Но эти современные сказки о привидениях, конечно, не столько фольклор, сколько литература или вернее — литература, стилизованная под фольклор. Правда, и сейчас всякая сказка о привидениях претендует на то, что она достоверна, и это находит выражение, в частности, в том, что по-исландски все сказки-бывальщины называются «сагами» (sögur), т. е. так же, как произведения, которые отнюдь не обязательно вымысел. Только волшебные сказки, т. е. сказки, которые явно не претендуют на достоверность, называются по-исландски не «сагами», а заимствованным из нижненемецкого словом «айвинтири» (ævintýri). Но сказки, которые не претендуют на достоверность, не характерны для исландской народной традиции. Волшебных сказок в ней гораздо меньше, чем сказок-бывальщин. Многие наиболее распространенные в Европе типы волшебных сказок в Исландии совсем неизвестны. Совсем неизвестны в Исландии также сказки о животных. Все исландские волшебные сказки попади в Исландию откуда-то с континента, и обычно иностранное происхождение в них заметно. Начинаются они всего чаще с формулы «жил-был король с королевой в своем королевстве» или как-нибудь в этом роде, и тем самым действие локализуется вне Исландии, потому что всякому исландцу известно, что королей в Исландии никогда не было. В них нередко встречаются экзотические имена, например: Исоль, Фертрам, Ионидес, Горвёмб и т. п., и такая экзотика, как развесистые деревья, леса, замки, волки, змеи (ничего этого нет в Исландии). Своеобразие исландских волшебных сказок только в том, что среди них очень много сказок о злой мачехе, а также резче контрасты и больше стишков и прибауток, чем в континентальных волшебных сказках.
В современных исландских сказках о привидениях нет той мрачности, которая была часто характерна для этих сказок, когда все верили в реальность привидений. Мало того, в современных сказках о привидениях всегда есть что-то жизнеутверждающее: при отсутствии веры в привидения рассказ о них — это как бы преодоление страха темноты и смерти забавной выдумкой. Недаром в современной исландской аудитории сказка о привидениях всегда вызывает оживление, и обычно такая сказка рассказывается со своеобразным, чисто исландским юмором — таким юмором, который все время на грани полной серьезности. Кроме того, поскольку сказки о привидениях издавна были самыми распространенными в исландской народной традиции, сказки эти для всякого исландца — символ самобытности исландской национальной культуры и ее связи с народной традицией. Большой мастер рассказывать их — Тоурберг Тоурдарсон, «самый исландский» из современных писателей Исландии. Этот голубоглазый и светловолосый человек, небольшого роста, очень моложавый для своих семидесяти пяти лет и парадоксально сочетающий в себе ребяческую наивность и суеверие с обличительным пафосом передового политического деятеля и тонкой иронией, любит поражать своих посетителей тем, что демонстрирует им свою веру в привидения. «Меня спрашивают, — говорит он, — как я, будучи коммунистом, могу верить в привидения. Но как я могу не верить в них, если я несколько раз в жизни видел их так же ясно, как я сейчас вижу вас?». И он начинает рассказывать о своих встречах с замогильными жителями. Как художник он не может не следовать поэтике данного жанра, т. е. должен делать вид, что его сказка о привидениях правдива, что автор верит в ее достоверность.
Все в Исландии знают те или иные сказки о привидениях. Если, путешествуя по Исландии на машине с шофером-исландцем, спросить его как-нибудь с наступлением вечера, не приходилось ли ему в жизни встречать привидений, то, как бы он ни был флегматичен, он непременно оживится и окажется, что, если не он, то его товарищ по таксомоторному парку или знакомый шофер действительно встречались с привидениями. И он начнет с исландским юмором рассказывать о пассажирах, которые вдруг исчезают из машины или снимают с себя шляпу и вместе с ней голову или оказываются прозрачными и т. д., и т. п. И вы будете ехать по пустынной местности, где только изредка увидите стадо овец, сгрудившееся на склоне горы и как будто совершенно неподвижное, или мохнатых лошадок, бродящих на свободе по лугу, или одинокий хутор в отдалении от дороги, а у дороги «молочный помост» и на нем — почтовый ящик и бидоны с молоком, приготовленные к отправке в город. Но возможно, что вы вообще не увидите никаких признаков человеческого жилья и не встретите ни души. В вечернем освещении очертания гор станут призрачными. Всюду вокруг будет первозданная пустыня. И вы увидите, как в сумерках скалы начнут превращаться в ночных трётлей, или как два ворона Одина вдруг поднимутся с камня и полетят вслед за вами. И машина будет мчаться по черной, гравийной дороге, и фары будут выхватывать из хаоса ночи камни, мох, вереск, и туман поползет отовсюду, или начнет накрапывать дождь, и сквозь туман, дождь и мрак будет угадываться, как привидение, пустынное исландское плоскогорье, хейди…
Примечания
1
«В мире так повелось, что одни пускают ошибки в оборот, а другие стараются по том устранить эти ошибки. Таким образом всем находится дело».
Ауртни МагнуссонЧем больше изучается что-либо, тем больше спорных утверждений, недоразумений, ошибок, опровержений, исправлений, уточнений и вообще научной литературы о научной литературе, в частности — библиографий. Библиографии по различным аспектам исландистики публикуются с 1908 г. в серии «Islandica» (Ithaca, New York). Большую часть этих библиографий составил Халльдоур Херманнссон (Halldór Hermannsson). С 1964 г. начала выходить ежегодная библиография по древнеисландскому и древненорвежскому языку, литературе, истории и т. п.: Bibliography of Old Norse-Icelandic studies (Copenhagen). Большой библиографический материал по исландистике содержат ежегодные бюллетени исландской национальной библиотеки: Landsbókasafn Íslands, árbók (Reykjavík). По скандинавистской филологической литературе наиболее подробные библиографии публикуются в журнале «Acta philologica scandinavica» (Copenhagen), который выходит нерегулярно. Ежегодные обзоры скандинавистской филологической литературы публикуются в журнале «Arkiv för nordisk filologi» (Lund). Библиографии по различным вопросам древнеисландской культуры есть в соответствующих работах, входящих в серию «Nordisk kultur» (København, Oslo, Stockholm, 1931–1956), а также в соответствующих статьях в еще незаконченной энциклопедии «Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid» (Malmö, 1956–). Библиографии по советской исландистике есть в сборниках: «Скандинавская филология (Scandinavica)», 1, 1961, стр. 7–8 (языкознание); 2, 1963, стр. 118–121 (литературоведение) («Ученые записки Ленинградского университета, серия филол. наук», №№ 308 и 321, вып. 62 и 67). Об истории исландистики в России см.: И. В. Дмоховская. Из истории русско-исландских литературных отношений (исландская литература в России во второй половине XVIII–первой половине XIX в.). «Скандинавский сборник», 9, 1964, стр. 172–190; W. W. Pochljobkin. The development of Scandinavian studies in Russia up to 1917. «Scandinavica», 1, 2, 1962, стр. 89–113. Об изучении исландского языка в СССР см.: V. P. Berkov. Die Erforschung der nordischen Sprachen in der UdSSR. «Wissenschaftliche Zeitschrift der Ernst Moritz Arndt-Uni-versität Greifswald», 8, 1958/59, Gesellschafts- und sprachwissen-schaftliche Reihe, 3, стр. 129–130.
(обратно)2
Есть много книг, содержащих сведения о природе Исландии. На русском языке: Э. О'Делл. Скандинавия. М., 1962 (сокращенный перевод с английского); И. П. Герасимов. Исландская экскурсия. В кн.: XIX Международный географический конгресс в Стокгольме, М., 1961, стр. 402–411; Л. Серебрянный. Страна огня и льда. М., 1959; Е. Д. Силаев. Исландия. М., 1950. Книг и очерков о поездках в Исландию очень много. Есть и на русском языке, например: Г. Фиш. Отшельник Атлантики. В его книге: Путешествия по Дании и Исландии. М., 1963, стр. 279–508; А. Т. Венцлова. Серебро севера. М., 1963; М. И. Стеблин-Каменский. На «Коне Золотая Грива» в страну саг. «Новый мир», 1961, 4, стр. 207–218; Орест Верейский. Исландия. Путевой альбом. М., 1960.
(обратно)3
О новейшей истории Исландии см.: Гуннар Бенедиктссон. Исландия в борьбе за независимость (1940–1955). М., 1958 (перевод с исландского).
(обратно)4
Об истории Исландии в IX–XIII в. см. особенно: Jón Jóhannesson. Íslendinga saga, 1. Reykjavík, 1956; Björn Þorsteinsson. Íslenzka þjóðvel dið. Reykjavík, 1953; S. Nordal. Íslenzk menning, 1. Reykjavík, 1942; см. также сборники статей: Ólafur Lárusson. 1) Lög og saga, Reykjavík, 1958; 2) Byggð og saga. Reykjavík, 1944. На русском языке: Эйнар Ольгейрссон. Из прошлого исландского народа, родовой строй и государство в Исландии. М., 1957 (перевод с исландского).
(обратно)5
Об открытии Гренландии и Северной Америки исландцами и о сагах, в которых рассказывается об этих открытиях («Саге о гренландцах» и «Саге об Эйрике»), есть огромная литература. Изданий и переводов соответствующих саг есть также множество. Единственный русский перевод: Сага об Эйрике Красном. Перевод С. Н. Сыромятникова. СПб., 1890. Библиография по сагам об открытии Америки есть в «Islandica», 2, 1909; 25, 1936; 30, 1944. В последние годы много шума вызвало утверждение норвежца Хельге Ингстада, что он якобы обнаружил в Ньюфаундленде остатки скандинавского жилья, датируемого им ок. 1000 г. А в 1965 г. была опубликована доколумбовская карта, на которой Гренландия и Северная Америка нанесены якобы по исландским источникам. Во всяком случае, остается общепризнанным, что исландцы действительно доплывали до Северной Америки ок. 1000 г., как об этом рассказывается в сагах.
(обратно)6
О том, что все скандинавы — это якобы датчане, см.: Н. Melberg. Origin of the Scandinavian nations and languages, 1–2, Halden, [1949–1952]; о том, что исландцы — это ирландцы, которые якобы населяли Исландию до того, как в ней появились выходцы из Норвегии, см.: Benedikt Gíslason frá Hofteigi. Íslenda. Reykjavík, 1963; о том, что исландцы — это якобы герулы, см.: Barði Guðmundsson. Uppruni Íslendinga. Reykjavík, 1960. Ни одна из этих трех эксцентричных книг никого не убедила, по-видимому.
(обратно)7
Об эпохе викингов литература огромна. На русском языке есть теперь отличная книга: А. Я. Гуревич. Походы викингов. М., 1966.
(обратно)8
Перевод стихотворения Махтияса Йокумссона сделан А. И. Корсуном.
(обратно)9
О диалектах в исландском языке см.: Hreinn, Benediktsson. Icelandic dialectology: methods and results, «Íslenzk tunga», 3, 1961–1962, стр. 72–113; М. И. Стеблин-Каменский. Диалектальные различия в исландском языке. «Вопросы языкознания», 1960, 5, стр. 61–67. В обеих этих работах есть библиография вопроса.
(обратно)10
Сколько-нибудь обстоятельная история исландского языка еще не написана, но есть много работ по частным вопросам его истории, особенно по ее древнему периоду. Недавно вышел сборник обобщающих популярных статей исландских лингвистов по истории, исландского языка: Þættir um íslenzkt mál eftir nokkra íslenzka málfræðinga. Reykjavík, 1964. Более старые работы очень кратки: Hreinri Benediktsson. Islandsk språk. В кн.: Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid, 7, Maljno, 1962, столб. 486–493; Finnur Jónsson. Det islandske sprogs historie i kort emrids. København, 1918; A. Noreen. Geschichte der nordischen Sprachen. Strassburg, 1913 (2-е изд.). На русском языке: М. И. Стеблин-Каменский. История скандинавских языков. Л., 1953; Э. Вессен. Скандинавские языки. М., 1949 (перевод с шведского). Есть много грамматик древнеисландского языка. Более новые из них: Е. V. Gordon. An introduction to Old Norse, Oxford, 1957 (3-е изд.); R. Iversen. Norrøn grammatikk. Oslo, 1955 (5-е изд.); II. Andersen. Oldnordisk grammatik. København, 1962 (3-е изд.); S. Gutenbrunner. Historische Laut- und Formenlehre des Altislandischen, Heidelberg, 1951; A. Heusler. Altislandisches Ele-mentarbuch. Heidelberg, 1950 (4-е изд.); W. Krause. Abriss der altwestnordischen Grammatik. Halle, 1948; A. Noreen. Altislandische und altnorwegische Grammatik. Halle, 1924 (4-е изд., эта грамматика до сих пор остается наиболее подробной). На русском языке: М. И. Стеблин-Каменский. Древнеисландский язык. М., 1955. Есть несколько грамматик современного исландского языка, лучшая из них: Stefán Einarsson. Icelandic: grammar, texts, glossary. Baltimore, 1949 (2-е изд., несколько раз перепечатывалось). На русском языке: С. Сабинин. Грамматика исландского языка. СПб., 1849 (очень устарела); А. Бёдварссон. Краткий очерк грамматики исландского языка. В кн.: В. П. Берков и А. Бёдварссон. Исландско-русский словарь. М., 1962, стр. 945–1032.
(обратно)11
Об отражении особенностей архаического мышления в грамматическом строе древнеисландского языка см.: С. Д. Кацнельсон. Историко-грамматические исследования, 1. Из истории атрибутивных отношений. Л., 1949.
(обратно)12
Наиболее полный словарь современного исландского языка: Sigfús Blöndal. Islandsk-dansk Ordbog. Reykjavík, 1920–1924 (фототипическое издание 1952 г.), Supplement, 1963. Единственный толковый словарь исландского языка: Árni Böðvarsson. Íslenzk orðabók handa skólum og almeimingi. Reykjavík, 1963. В Рейкьявикском университете под руководством Якоба Бенедихтсоона ведется работа по составлению большого толкового словаря исландского языка. Другие важнейшие словари современного исландского языка: В. П. Берков и А. Бёдварссон. Исландско-русский словарь. М., 1962; G. Vigfusson and R. Cleasby. An Icelandic-English dictionary. Oxford, 1957 (включает и древнеисландский, 2-е изд.); Gunnar Leijström, Jón Magnússon, S. B. P. Jansson. Isländsk-svensk ordbok. Stockholm, 1955 (2-е изд.); G. T. Zoëga. Íslenzk-ensk orðabök. Reykjavík. 1942. Самый полный словарь древнеисландского языка: J. Fritzner. Ordbog over Det gamle norske Sprog, 1–3. Oslo, 1954 (фототипическая перепечатка издания 1883–1896 гг.). Более полный словарь подготовляется в Арнамагнеанском институте в Копенгагене. Словарь древнеисландского поэтического языка: Sveinbjörn Egilsson. Lexicon poeticum antiquae linguae septentrionalis. København, 1931 (2-е изд.). Этимологические словари: J. de Vries. Altnordisches etymologisches Wörterbuch. Leiden, 1961; A. Jóharmesson. Isländisches etymologisches Wörterbuch. Bern, 1951–1956. Есть и другие, более старые или более краткие словари.
(обратно)13
Литература по древнеисландской мифологии огромна. Последние обобщающие работы: Е. О. G. Turville-Petre. Myth and religion of the North. London, 1964. (Обстоятельное изложение всех основных фактов); F. Ström. Nordisk hedendom. Göteborg, 1961 (очень компетентный популярный очерк); J. de Vries. Altgermauische Religionsgeschichte, 1–2. Berlin, 1956–1957 (2-е изд., наиболее обстоятельная работа, с подробной библиографией); Ó. Briem. Heiðinn siður á Íslandi. Reykjavík, 1945. Есть еще целый ряд более старых обобщающих работ, как правило — немецких, в которых древнеисландская мифология называется «древнегерманской». Наиболее оригинальная обобщающая работа: V. Grønbech. Vor Folkeæt i Oldtiden, 1–4, København, 1909–1912 (английский перевод: The culture of the Teutons, 1–3. Copenhagen, 1931; немецкий перевод: Kultur und Religion der Germanen. Hamburg, 1937). Общегерманские элементы в древнеисландской мифологии освещаются подробно в работе Фриса и во всех более старых работах по «древнегерманской религии», общеиндоевропейские элементы — особенно в книге: G. Dumézil. Les dieux des germains. Paris, 1959 (2-е изд.). Литература по частным вопросам древноисландской мифологии необозрима. Но ее невозможно отграничить от литературы по «Эддам», а литература по «Старшей Эдде» тоже необозрима. Наиболее полные библиографии по «Эддам» Johan Hannesson. Bibliography of the Eddas, a supplement to bibliography of the Eddas by Halldór Hermansson. Ithaca, New York, 1955 («Islandica», 37); Halldór Hermansson. Bibliography of the Eddas. Ithaca, New York, 1920. («Islandica», 13). Важнейшие обобщающие работы по древнеисландской литературе, рассматривающие и «Эдды»: Jþ de Vires. Altnordische Literatyrgeschichte. 1. Berlin, 1964 (2-е изд.); то же, 2, 1942; Einar Ól. Sveinsson, Íslenzkar bókmenntir í fornöld, 1. Reykjavík, 1962 (только «Старшая Эдда», продолжения пока нет); F. Paasche. Norges og Islands litteratur inntil utgangen av middelalderen. Oslo, 1957 (второе издание, его дополняла А. Холтсмарк); Jón Helgason. Norges og Islands digtning. В кн.: Nordisk kultur, 8 B, Stockholm, Oslo, København, 1952, стр. 1–179; A. Heusler. Die altnordische Literatur. Leipzig, 1923 (популярный очерк); Finnur Jónson. Den oldnorske og oldislandske Litteraturs Historie. 1–3, København, 1920–1924 (второе изд., «Старшая Эдда» — в первом томе); E. Mogk. Geschichte der norwegisch-isländischen Literatur. Strassburg, 1904 (2-е изд.). На русском языке см.: М. И. Стеблин-Каменский. «Старшая Эдда». В кн.: «Старшая Эдда». Л., 1963 ( это единственный полный перевод «Старшей Эдды» на русский язык), стр. 214–257. Есть множество изданий оригинала «Старшей Эдды». Наиболее современное: Edda, die Lieder des Codex Regius nebst verwandten Denkmälern herausgegeben von G. Neckel, 1, Text, vierte umgearbeitete Auflage von H. Kuhn, Heidelberg, 1962. Изданий «Младшей Эдды» много. Принято цитировать по изданию: Edaa Snorra Sturlusonar udgivet efter håndskrifterne af Kommissionen for det Arnamagnæaeske Legat ved Finnur Jónsson, København, 1931. «Младшей Эдды» до сих пор нет в русском переводе (если не считать нескольких выдержек из нее).
(обратно)14
Стихи — из «Прорицания вёльвы», первой песни «Старшей Эдды». Перевод А. И. Корсуна.
(обратно)15
Стихотворная юридическая формула (Tryggðamál), которя здесь приводится, сохранилась в двух сагах («Heiðarvíga saga» и «Grettis saga»). Судя по тому, что в этой формуле упоминается финн и сосна, возможно, что она возникла еще в Норвегии, до колонизации Исландии (финнов в Исландии не было и сосен, по-видимому, тоже).
(обратно)16
Стихи — из «Речей Высокого», второй песни «Старшей Эдды». Перевод А. И. Корсуна.
(обратно)17
Миф о меде поэзии — из «Младшей Эдды».
(обратно)18
Миф о постройке крепости для богов — из «Младшей Эдды».
(обратно)19
Миф о Бальдре — из «Младшей Эдды».
(обратно)20
Стихи — из «Прорицания вёльвы».
(обратно)21
Героические сказания представлены в песнях «Старшей Эдды», в прозаических пересказах «Младшей Эдды» и в некоторых «сагах о древних временах» (особенно в «Саге о Вольсунгах», перевод вышел в издании «Academia» в 1934 г.). Поэтому об этих сказаниях см. работы по древнеисландской литературе в примечании к стр. 60. На русском языке см. также: А. Хойслер. Германский героический эпос и сказание о Нибелунгах. М., 1960 (перевод с немецкого со вступительной статьей В. И. Жирмундского).
(обратно)22
Стихи из «Песни о Хамдире». Перевод А. И. Корсуна.
(обратно)23
Об исландской поэзии нового времени см.: Stefán Einarsson. A history of Iselandic literature. New York, 1957; R. Beck. History of Iselandic poets, 1800–1940. Ithaca, New York, 1950 («Islandica», 34); Kristinn E. Andrésson. Íslenzkar nútímabókmenntir, 1918–1948. Reykjavík, 1949 (русский перевод: К. Андерссон. Современная исландская литература, 1918–1948. М., 1957); Bjarni M. Gíslason. Islands litteratur efter sagatiden, ca. 1400–1948. København, 1949; М. И Стеблин-Каменский. Исландская литература. Л., 1947; S. Nordal. Udsigt ove Islands Litteratur i det 19. og 20. Århundrede. Reykjavík, 1927; Halldór Hermannsson. Icelandic authors of today. Ithaca, New York, 1913 («Islandica», 6); J. C. Poestion. Isländische Dichter der Neuzeit. Leipzig, 1897. Антологии новоисландской поэзии: Kristinn E. Andrésson og Snorri Hjartarson. Íslenzk nútímalýrikk. Reykjavík, 1949, Einar Ól. Sveinsson, Páll E. Ólason, Snorri Hjartarson, Arnór Sigurjónsson og Tómas Guðmundsson. Íslands þúsund ár. 1–3, Reykjavík, 1947; S. Nordal. 1) Íslenzk lestrarbók, 1750–1930. Reykjavík, 1942. 2) Íslenzk lestrarbók, 1400–1900. Reykjavík, 1931. На русский язык переведено несколько стихотворений в книге: Современная скандинавская поэзия. М., 1959.
(обратно)24
О древнеисландской (скальдической) поэзии см. истории древнеисландской культуры Фриса, Поске, Хельгасона, Хойслера, Нурена, Йоунсона, Могка (см. примечание к стр. 60). См. также: М. И. Стеблин-Каменский. 1) Лирика скальдов? «Ученые записки ЛГУ, серия филол. наук», №308, вып. 62, 1961, стр. 108–123 («Scandinavica», 1); 2) Происхождение поэзии скальдов. «Cкандинавский сборник», 3, 1958, стр. 175–201. Есть два издания всей скальдической поэзии: 1) Den norsk-islandske skjaldedigtning udg. af Kommissionen for det Arnamagnæanske Legat ved Finnur Jónsson, 1A–2A (tekst efter håndskrifterne), 1B–2B (rettet tekst med tolkning). København, 1912–1915 (в томах 1B–2B есть подстрочные переводы на датский язык); 2) Der norsk-isländska skaldediktningen reviderad av E. Kock, 1–2. Lund, 1946–1950. Есть множество работ, посвященных толкованию тех или иных скальдических стихов или частным вопросам скальдического стиля и т. д. См.: L. M. Hollander. A bibliography of scaldic studies. Copenhagen, 1958 (далеко не полная). Ряд скальдических строф в русском переводе есть в книге: Исландские саги. Л., 1956. Перечень более старых переводов скальдических стихов есть в книге: М. И. Стеблин-Каменский. Исландская литература. Л., 1947, стр. 49.
(обратно)25
Вот эта строфа в переводе С. В. Петрова:
Лезь на киль без страха! Холодна та плаха. Пусть метель морская мчит, с тобой кончая! Не тужи от стужи, Духом будь потуже! Дев любил ты вволю — Смерть лишь, раз на долю. (обратно)26
Есть целый ряд работ о скальдическом кеннинге. Самая обстоятельная из них: R. Meissner. Die kenningar der Skalden. Bonn und Leipzig, 1921 (Rheinische Beiträge und Hilfsbücher zur germ. Philologie und Volkskunde). На русском языке: М. И. Стеблин-Каменский. О некоторых особенностях стиля древнеисландских скальдов. «Известия Академии Наук, отд. литературы и языка», 16, 2, 1957, стр. 143–155.
(обратно)27
По поводу порядка слов в поэзии скальдов в продолжение около двадцати лет шел спор между исландским ученым Финном Йоунссоном и шведским ученым Эрнстом Альбином Кокком. Йоунссон защищал традиционную точку зрения во множестве работ, посвященных толкованию различных скальдических стихов. Все эти толкования сведены вместе в его издании скальдической поэзии (см. выше). Э. А. Кокк опровергал толкования Йоунссона и доказывал, что в поэзии скальдов порядок вовсе не такой замысловатый, какой он получается у Йоунссона. Его толкования публиковались под названием «Notationes norroenare» в журнале «Lunds universitets årsskrift» с 1923 по 1943 г. и сведены вместе в его издании поэзии скальдов (см. выше). Итоги дискуссии были подведены, в частности, в рецензиях на работы Кокка: S. Nordal, «Arkiv för nordisk filologi», 51, 1935, стр. 169–181; H. Kuhn, «Beiträge zur geschichtte der deutschen Sprache und Literatur», 66, 1936, стр. 133–160. См. также: М. И. Стеблин-Каменский. Древнеисландский поэтический термин «дротткветт». «Научный бюллетень ЛГУ», 1946, 6, стр. 21–24, где переплетение предложений в скальдической строфе истолковывается как результат ее первоначального исполнения двумя скальдами.
(обратно)28
Вот текст этого стихотворения на исландском языке:
Hani, krummi, hundur, svín, hestur, mús, tittlingur galar, krunkar, geltir, hrín, hneggjar, tístir, syngur. (обратно)29
Стихи из «Выкупа за голову» переведены С. В. Петровым.
(обратно)30
Стихи Эгиля переведены А. И. Корсуном.
(обратно)31
О римах см. истории литератур Фриса, Хельгасона, Нурена, Йоунссона, Могка (см. выше). Ср. также: Einar Ól. Sveinsson. Um rímur fyrir 1600 og fleira. В его кн. Við uppsprettungar, Reykjavík, 1956, стр. 200–217. Антология рим: W. A. Craigie. Sýnisbók íslenzkra rímna, 1–3. London, 1952.
(обратно)32
А вот прозаический перевод этой строфы: «Богини огня морей (т. е. женщины) сияют, море рогов Одина (т. е. поэма) кончается, я собираюсь отдохнуть, рима кончена».
(обратно)33
Вот прозаический перевод этой строфы: «На высоких холмах у овец окрепли бы силы; желание увидеть милые склоны, туда тянет снова».
(обратно)34
Об исландской средневековой поэзии после падения «народовластия», кроме работ, названых в примечании к стр. 90, см: Stefán Einarsson. Icelandic popular poetry of the Middle Ages. В кн.: Philologica, the Malone anniversary studies. Baltimore, 1949, стр. 342–353; Jón Þorkelsson. Digtningen påIsland i det 15. og 16. Árhundrede. Reykjavík, 1888. Антология: S. Nordal, Guðrún P. Helgadóttir og Jón Jóhannesson. Sýnisbók íslenzkra bókmennta til miðrar átjándu aldar. Reykjavík, 1953.
(обратно)35
О сагах вообще, и в частности о «сагах об исландцах», см. истории литератур Фриса, Поске, Йоунссона, Могка (с. 119–120). См. также: Widding O. Islændingasagaer // Norrøn fortællekunst. Købengavn, 1965. S. 72–91, 156–162; Einar Ól. Sveinsson. Íslendingasögur // Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid. Malmö, 1962. 7. Kol. 496–513; Hallberg P. Den isländska sagan. Stockholm, 1956; Turville-Petre G. Origins of Icelandic literature. Oxford, 1953; Nordal S. Sagalitteraturen // Nordisk kultur. 8 B. København; Oslo; Stockholm, 1953. S. 180–273; Laxness H. Minnisgreinar um fornsögur // Timarit máls og nienningar. 1945. 1. S. 13–56; Jón Helgason. Norrön Litteratur-historie. København, 1934; Koht H. The Old Norse sagas. N. Y., 1931; Phillpotts B. Edda and saga. London, 1931; Craigie W. A. The Icelandic sagas. Cambridge, 1913; Neckel G. Von der Isländischen Saga // Germanisch-romanisches Monatsschrift. 1911. 3. S. 369–381, 439–452; Ker W. P. Epic and romance. London, 1908 (2-е изд. ); Heinzel R. Beschreibung der islandischen Saga // Sitzungsberichte der Akademie der Wiss. Phil.-hist. Klasse. Wien, 1880. 97. 1. S. 107–305. На русском языке см.: Стеблин-Каменский М. И. 1) О реализме исландских саг // Вестник ЛГУ. Сер. ист., яз. и лит. 1965. № 8. Вып. 2. С. 107–115; 2) вступительная статья в кн.: Исландские саги. Л., 1956. С. 1–19; 3) Исландская родовая сага // Романо-германская филология. Сборник статей в честь В. Ф. Шишмарева. Л., 1957. С. 281–290. Есть огромное множество других работ по «сагам об исландцах», в частности — по отдельным сагам, особенно по «Саге о Ньяле» и «Саге об Эгиле», а также по разным частным аспектам изучения «саг об исландцах». Библиографию по сагам см. в выпусках: Islandica 1908. 1; 1935. 24; 1957. 38 («саги об исландцах»); 1909. 2; 1936. 25; 1944. 30 (саги об открытии Америки); 1910. 3; 1937. 26 («королевские саги»); 1912. 5; 1937. 26 (мифо-героические саги). Об отдельных сагах см. прежде всего предисловия в «Íslenzk fornrit» (1–16. Reykjavík, 1933) — лучшее издание «саг об исландцах». Есть также массовое исландское издание «саг об исландцах»: Íslendinga sögur, Guðni Jónsson bjó til prentunar. 1–13. Íslendingasagnaútgáfan. Reykjavík, 1953. Более старое издание, включающее не только «саги об исландцах», с хорошими комментариями: Altnordische Saga-Bibliothek. 1–18. Halle, 1892–1929. Если не считать сокращенных переводов, пересказов и выдержек (перечень их есть в книге: Стеблин-Каменский М. И. Исландская литература. Л., 1947. С. 49), на русский язык переведены только пять «саг об исландцах», а именно: «Сага о Гуннлауге», «Сага об Эгиле», «Сага о людях из Лаксдаля», «Сага о Ньяле» (все четыре в книге: Исландские саги. Л., 1956) и «Сага об Эйрике Красном» (СПб., 1890, перевод С. Н. Сыромятникова). «Сага о Гуннлауге» была переведена раньше Е. Н. Щепкиным в «Летописи Историко-филологического общества при Новороссийском университете» (1905. 12. Приложения. С. 87–140. Полуроманическая «Сага о Финнбоги» переведена Ф. Д. Батюшковым (Журнал Министерства народного просвещения. 1885. Февраль. С. 217–277; июль. С. 53–109). Из «королевских саг» «Сагу об Эймунде» перевел О. И. Сенковский (Собр. соч. СПб., 1858. Т. 5. С. 420–573), а часть «Саги об Олаве Трюггвасоне» — С. Сабинин (Русский исторический сборник, издаваемый Обществом истории и древностей российских. 1840. Т. 4. С. III–V и 7–116). Три последних перевода и перевод «Саги об Эйрике Красном» перепечатаны в книге: Древне-северные саги и песни скальдов. Русская классная библиотека / Под ред. А. Н. Чудинова. Сер. 2. Вып. 25. СПб., 1903. Из «саг о древних временах» «Сагу о Фритьофе» перевели Я. И. Грот (Фритиоф, скандинавский витязь, поэма Тегнера, 2-е исправленное издание, с приложением перевода первоначальной исландской саги. Воронеж, 1874) и А. И. Смирницкий (изд. «Academia», 1935), а «Сагу о Вёльсунгах» перевел Б. И. Ярхо (изд. «Асаdemia», 1934). Таким образом, огромное большинство древнеисландских саг, в том числе «саг об исландцах», не переведено на русский язык.
(обратно)36
Литература по проблеме происхождения «саг об исландцах» особенно велика. Последняя сводка по этой проблеме: Andersson Th. M. The problem of Icelandic saga origins, a historical survey. New Haven; London, 1964. См. также: Scovazzi M. La saga di Hrafnkell e il problema delle saghe islandesi. Brescia, 1960. Точка зрения, господствовавшая в первой половине XIX в., выражена всего отчетливей в следующих работах: Muller P. E. 1) Über den Ursprung und Verfall der isländischen Historiographie. Kopenhagen, 1813; 2) Sagabibliothek med Anmærkninger. 1. København, 1817; Keyser R. Nordmændenes Videnskabelighed og Litteratur i Middelalderen // Efterladte Skrifter. 1. Christiania, 1886. Поворот в сторону «теории книжной прозы» наметился в работах К. Маурера, см.: Maurer K. Die norwegische Auffassung der nordischen Literatur-Geschichte // Zeitschrift fur deutsche Philologies. 1869. 1. S. 25–28. Классические работы, в которых сформулирована «теория свободной прозы»: Heusler A. Die Anfange der isländischen Saga // Abhandlungen der preuss. Akademie d. Wiss. Phil.-hist. Klasse. 1913. 9. Berlin, 1914. S. 1–87; Liestøl K. Upphavet til den islendske ættesoga. Oslo, 1929 (английский перевод: The origin of the Icelandic family sagas. Oslo, 1930). Точка зрения исландской школы, возродившей «теорию книжной прозы», представлена в работах: Ólsen В. М. Um Íslendingasögur // Safn til sögu Íslands. 1937–1939. 6, 5–7. Bls. 1–427; Nordal S. 1) Snorri Sturluson. Reykjavík, 1920; 2) Formáli // Egils saga Skalla-grímssonar («Íslenzk fornrit»), 2). Reykjavík, 1933. Bls. V-CV; 3) Hrafnkalla. Reykjavík, 1940 («Studia islandica», 7): 4) Saga-litteraturen // Nordisk kultur. 8 B. København; Oslo; Stockholm, 1953. S. 180–273; Einar Ól. Sveinsson. l) The Icelandic family sagas and the period in which they were written // Acta Philologica Scandinavica. 1937–1938. 12. P. 71–90; 2) Á Njálsbúð. Reykjavík, 1943; 3) Formáli // Brennu-Njáls saga («Íslenzk fornrit», 13). Reykjavík, 1943. Bls. V-CLXIII; 4) Dating the Icelandic sagas. London, 1958. Точка зрения исландских ученых доведена до абсурда (полное отрицание исторического элемента и роли устной традиции в «сагах об исландцах») в работах Бетке и его учеников. См.: Baetke W. Über die Entstehung der Islander-sagas. Berlin, 1956 (Berichte über die Verhandlungen der Sachs. Akademie der Wiss. zu Leipzig. Phil.-hist. Klasse. 102. 5). Проблема происхождения «саг об исландцах» рассматривается также во множестве других работ.
(обратно)37
О числе «три» в «сагах об исландцах» см.: Bock L. A. Die epische Dreizahl in den Íslendinga sggur // Arkiv för nordisk filologi. 1920. 37. S. 263–313; 1921. 38. P. 51–83.
(обратно)38
«Сага о Ньяле» толкуется как роман с ключом в книге: Barði Guðmundsson. Höfundur Njálu. Reykjavík, 1958.
(обратно)39
Статья Лакснесса, о которой идет речь, опубликована в «Poliliken's kronik» 27 ноября 1960 г.
(обратно)40
Статьи Рубова (V. Rubow) опубликованы в журнале «Tibkueren» за 1928 г.
(обратно)41
О бытовании письменных саг в Исландии см.: Hermann Pálsson. Sagnaskemmtun íslendinga. Reykjavík, 1962.
(обратно)42
О «сагах об исландцах» как проявлении сознательной борьбы исландского народа против норвежского короля, церкви и крупных хёвдингов см.: Бьёрн Торстейнссон. Исландские саги и историческая действительность // Скандинавский сборник. 1958. Вып. 3. С. 205–223 (перевод с исландского).
(обратно)43
О новоисландской прозе см. истории исландской литературы, а также: Stefán Einarsson. History of Icelandic prose writers, 1800–1940. Ithaca; N. Y., 1948 («Islandica», 32–33).
(обратно)44
О Лакснессе см.: Hallberg P. 1) Den store vävaren. Stockholm, 1954; 2) Skaldens bus. Stockholm, 1956; Eskeland I. Menneske og motiv. Oslo, 1955. В наших газетах и журналах много писали о Лакснессе как писателе-гуманисте. Например: Шаткое Г. Гуманизм Лакснесса // Иностранная литература. 1958. № 6. С. 170–181. Большая часть его произведений есть в русских переводах, см.: Халлдор Кильян Лакснесс. Библиографический очерк. М., 1963.
(обратно)45
О Тоурберге Тоурдарсоне см. статью М. И. Стеблин-Каменского в «Звезде» (1959. 12. С. 204–205). См. также: Kadečková H. Thórbergur Thórdarson: «Brief an Laura», der Wendepunkt in der Entwicklung der modernen islandischen Literatur // Acta Universitatis Carolinae. Philologica. 1962. 2. P. 93–111 («Germanistica Pragensia», 2). В русском переводе опубликована его повесть «На пути к любимой» («Íslenzkur aðall») (Звезда. 1957. № 3. С. 84–136).
(обратно)46
Литература об исландских народных сказках невелика. Основные работы о них принадлежат профессору Эйнару Оулаву Свейнссону: Einar Ól. Sveinsson. 1) Íslenzkar þjóðsögur og ævintýri // Við uppspretturnar. Reykjavík, 1956. Bls. 218–226; 2) Um íslenzkar þjóðsögur. Reykjavík, 1940 (наиболее обстоятельная работа; в ней, в частности, указываются все источники и все издания исландских народных сказок до 1940 г.); 3) Islandske folkeævintyr // Nordisk kultur. 9 В. København, 1931. S. 285–292; 4) Islandske folkesagn // Ibid. S. 185–198; 5) Verzeichnis isländischer Märchenvarianten, mit einer einleitenden Untersuchung. Helsinki, 1929 («Folklore Fellows Communications», 83). Можно еще упомянуть некоторые предисловия в изданиях сказок, например: Nordal S. Formáli // Sagnakver Skúla Gíslasonar. Reykjavík, 1947. Bls. I–XIX; Guðbrandur Vigfússon. Formáli // Íslenzkar þjóðsögur og æfintýri, safnað hefir Jón Árnason. 1–2. Leipzig, 1862–1864. S. V–XXXIII. Последняя книга — это классическое собрание исландских народных сказок. Недавно оно было переиздано в шести томах, с добавлением сказок, собранных Йоуном Ауртнасоном, но не вошедших в его издание: Íslenzkar þjóðsögur og ævintýri, safnað hefur Jón Árnason; Árni Böðvarsson og Bjarai Vilhjálmsson önnuðust útgáfuna, 1–2, ny utgafa, 3–6, nytt safn. Reykjavík, 1956–1961. Это самое большое и капитальное издание исландских народных сказок. Есть много других изданий. Например: Þjóðsögur Þorsteins Erlingssonar. Reykjavík, 1954 (сказки-бывальщины, собранные известным исландским поэтом Торстейтном Эртлингссоном); Einar Ól. Sveinsson. Leit eg suður til landa, ævintýri og helgisögur frá miðöoldum. Reykjavík, 1944 (средневековые волшебные сказки и легенды); Gráskinna hin meiri, útgefendur S. Nordal og þórbergur þorðarson. 1–2. Reykjavík, 1962 (в основном — современные сказки-бывальщины). Есть также переводы исландских народных сказок на другие скандинавские, английский и немецкий языки. На русский язык они никогда не переводились. Есть библиография исландских народных сказок: Steindór Steindórssonfrá Hlöðum. Skrá um íslenzkar Þjódsögur og skyld rit. Reykjavík, 1964.
(обратно)
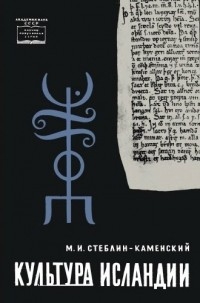

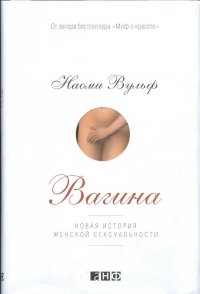

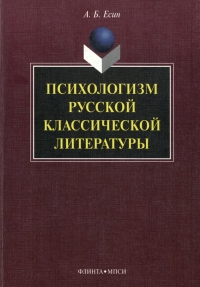


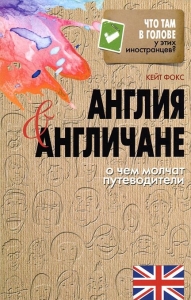
Комментарии к книге «Культура Исландии», Михаил Иванович Стеблин-Каменский
Всего 0 комментариев