Нации и этничность в гуманитарных науках. Этнические, протонациональные и национальные нарративы: формирование и репрезентация
Nations and ethnicity in humanities and social sciences. Ethnic, protonational and national narratives: formation and representation / ed. by A. Ch. Daudov & S. E. Fyodorov. – Saint-Petersburg: Aletheia, 2017. – 398 p.
The symposium comprises the collection of the materials of the second international conference “Ethnic, protonational and national narratives: formation and representation” (Saint Petersburg State University, February, 24–26, 2015). The symposium is dedicated to a variety of narratives and their instrumental capacities in different periods, from the Middle Ages to Contemporary history. Such chronological and geographical scope is due to the possibility of identifying of the universal scenarios of constructing and representing narratives.
The materials of the conference will be of interest to historians, political or social scientists, philologists and scholars of the cultural studies as well as those who are concerned with the issues of ethnicity and nationalism.
© Коллектив авторов, 2017
© Ф. Е. Левин, С. Е. Федоров, составление, 2017
© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2017
Введение
Второй сборник “Нации и этничность в гуманитарных науках” включает в себя материалы конференции “Этнические, протонациональные и национальные нарративы: формирование и репрезентация”, проходившей в Санкт-Петербургском государственном университете 24–26 февраля 2015 г. Конференция была посвящена многообразию нарративов и их инструментальным возможностям в различные периоды.
Необходимость изучения этнических, протонациональных и национальных нарративов объясняется тем, что они дают уникальный срез имплицитно существующей или же существовавшей реальности, открытой для историко-культурного, социального и политического анализа. В первую очередь представленные материалы отражают уровень современной интерпретации европейского материала, однако открывающаяся таким образом перспектива интеграции теоретических и практических наработкок европейских исследований в более широкий контекст с использованием их в качестве матриц для изучения явлений в других регионах видится вполне реальной. Не менее очевидной представляется также возможность выявления универсальных сценариев конструирования и репрезентации нарративов, что доказала проведенная конференции.
Известно, что в Европе наиболее ранние варианты подобной реальности во многом определяются образующими ее первичную структуру мифологемами, функции которых связаны с задачами легитимации соперничающих или же претендующих на господство династий. Такие мифологемы скрепляют в единое целое ориентированное на вполне конктертные формы сначала этнокультурного, а затем этнополитического единства повествование о происхождении народов, их военных лидеров, а также исконно или же позднее принадлежавших им территориях. При этом локальная фрагментация таких нарративов выступает в качестве обязательного и неотъемлемого условия. Позднее под влиянием распространяющегося христианства, но все еще в пределах традиционалистски организованных сообществ, в стратегиях репрезентации исторического прошлого этнических групп усиливаются универсализирующие тенденции, а схема позиционирования отдельных этносов усиливается благодаря воздействию библейского субстрата.
В эпоху раннего Нового времени инструментальная база такого рода нарративов критически переосмысляется. Процесс начальной профессионализации исторического знания (антикварно-эрудит-ский дискурс) дезавуирует значительную часть мифологического прошлого народов, заметно рационализирует и упорядочивает его культурные доминанты. При этом коренным образом видоизменяется собственно потестарный сюжет повествования, акцентируется не столько его продинастический, сколько территориально ориентированный характер: монархия определяется лишь как одно из средств, обеспечивающих определенный тип этнополитического единства, но не как его наиболее оптимальная форма.
Процесс деперсонализации верховной власти, начавшийся в раннее Новое время, во многом провоцирует последующие изменения в этнически ориентированных нарративах, обеспечивая тем самым постепенный переход к национальному историописанию. Превращаясь из патримониального владения в институт, монархия становится предвестником и на тот момент наиболее ранней формой нового государства.
Этносам, буквально «заточенным» под интересы подобного государства, историописание стремится придать особенный структурообразующий характер. При этом важным остается то, что выстраиваемый таким образом эпохалистский дискурс не только допускает, но и в известной степени предполагает этнокультурный плюрализм. Политическая (государственная) лояльность раннего Нового времени не исключает характерного для Средневековья языкового и иного рода культурного многообразия. Собственно формируемая при этом «политическая нация» не означает, что границы между отдельными этносами насильственно стираются. Эпохалистски ориентированный нарратив сосуществует с эссенциалистски сконструированными нарративами; при этом инструментальная база и часть ресурсов каждого из дискурсов остаются достаточно близкими.
Вплоть до эпохи романтизма среди эпохалистски ориентированных дискурсов исторические нарративы, направленные на обоснование политического единства проживавших на обособленной территории этносов^ сохраняли монопольное положение. Понятие «политическая нация» оставалось одной из наиболее устойчивых идеологем нового государства.
Ситуация начинает кардинальным образом меняться, когда романтики предпринимают масштабный проект, известный как повторная аккультурация. Акцент на неоспоримом культурном единстве входящих в состав «политической нации» этносов существенно видоизменил характер перестраивающихся эпохалистских нарративов. Характерное для этой эпохи представление о так называемой «культурной нации» способствовало не только постепенному стиранию традиционных границ между этносами, но и потере интереса самого государств к эссенциалистски ориентированным практикам. Рождающееся таким образом представление о «новой» нации предполагала как ее политическое, так и культурное единство.
Превращение концепта «культурная нация» в одну из двух важнейших идеологем перестраивавшегося подобным образом государства во многом завершал процесс интеллектуального переосмысления природы традиционных этносов, нацеливая собственно эпохалистский дискурс на идею национального единства. Исторический нарратив, традиционно разводивший, но, как известно, не противопоставлявший этнополитические и этнокультурные процессы, терял свое инструментальное преимущество, не переставая быть одним из наиболее востребованных ресурсов.
Национальное, осмысленное как политическое и культурное единство, почти неизбежно расширяло инструментальные возможности ориентированного на интересы государства дискурса и в этом смысле обуславливало необходимость создания новых форм национально ориентированных нарративов.
Материалы конференции разделены в сборнике на шесть тематических разделов, связанных с различными проблемами изучения нарративов: «Этнические и протонациональные нарративы в Средние века и раннее Новое время», «Вариации национализма: политические и конфессиональные координаты», «Способы восприятия. Нарративные стратегии: художественная литература, искусство», «Проблемы протонационального и национального историописания», «Проблемы коммеморации», «Образ врага и образ другого».
Необходимо отметить, что сборник лишен понятийного ригоризма, присущего изучению таких феноменов как нация, этничность и национализм, и имеет скорее эмпирический характер. Именно региональное разнообразие материалов конференции позволяет осознать, какими близкими могут быть проблемы исследований, отдаленных во времени и пространстве.
К единственному разделу с нарочито хронологической составляющей относятся «Этнические и протонациональные нарративы в средние века», что и неудивительно в связи с тем, что ядро исследовательского проекта «Historia Nationem Gignit» все же составляют медиевисты. Собранные материалы посвящены не только отдельным сюжетам из средневековой европейской истории, но и азиатской тематике. Корни, по крайней мере, европейского нациогенеза эпохи Модерна следует искать именно в средних веках, когда зарождались мифологемы будущих национализмов.
Содержащиеся здесь материалы раскрывают по разному роль нарративов в средние века: дискурс власти (Федоров, Суловски, Фукалов, Паламарчук), повествование о прошлом (Наумов), управление сообществами как организованное высказывание (Пен). Статьи И. Фукалова, В. Суловски и Л. Пен показывают, что этническое еще в средние века в различных регионах могло быть инструментализировано с целью формирования дискурса власти. Суловски и Пен показывают, каким образом власть через интеллектуальные элиты может использовать консентуальный дискурс в целях управления полиэтничными образованиями.
Легитимация династии Штауфенов, о которых пишет В. Суловски, проходила через линии римской, франкской и германской идентичности. Обращение к тому или иному элементу обуславливалось конкретной ситуацией, поскольку консентуальность предполагает возможность переключения. В статье Л. Пен рассказывается о том, как императорские элиты пытались включать южные районы Китая в свою орбиту влияния. Интегрируя местные сообщества в гражданское управление, китайским правителям удавалось сохранять их под контролем, при этом не нивелируя локальные различия. Путем такого имперского строения формировалась идентичность тех, кто противостоял центральному правительству и тем самым воспринимался не как часть сообщества, а как пограничная общность. Таким образом, категоризирующий дискурс власти позволил создать новую общность, каковым и сталхмонг в процессе их взаимодействия империей.
На примере разных периодов и регионов С. Федоров и А. Паламарчук анализируют композитарность Британского острова, которой на конференции был посвящен отдельный круглый стол. С. Федоров на основании изучения генетических легенд о Дал Риате приходит к выводу о возможном композитарном характере данного этнического образования. Помимо этого, автор статьи реконструирует, каким образом эволюционировала легенда о заселении Дал Риаты, изложенная в «Истории народа скоттов». В центре внимания А. Паламарчук – нарративы цивилистов в первой половине XVII в., в которых излагалась история английского права и доказывалась роль цивильного права как посредника в процессе интеграции композитов.
Н. Наумов и А. Овчинников рассматривают этноопределяющую роль религии в домодерных обществах и приходят к разным выводам. Н. Наумов полагает, что гуситский этноконфессионализм повлиял на протонациональные аспекты в «Книге императора Сигизмунда» Эберхарда Виндеке, в то время как А. Овчинников выражает скепсис по поводу того, что религия могла влиять на самосознание народов в средние века. Основываясь на изучении историографии этногенеза татар, автор предостерегает нас от навязывания прошлому логики модерна, коей является национализация религии. С его точки зрения, вопреки различным домыслам, мы не сможем найти унифицированную мусульманскую культуру у средневековых татар.
Во втором разделе «Вариации национализма» представлены исследования, в первую очередь, политических и конфессиональных координат данного явления. Если некоторые статьи связаны с отдельными текстами (М. Юсим, А. Даркина), то в остальных нарратив предстает как организованное высказывание, если речь идет о политических процессах. Как нельзя кстати, раздел начинается с работы М. Юсима об итальянском патриотизме в XTVI–XVII вв. Он усматривает корни патриотизма в раннем Новом времени и считает, что республиканский оттенок итальянского патриотизма повлиял на риторику войны за Независимость США и Французской революции. Работа П. Осколкова посвящена истории фламандской национальной идеи и раскрывает роль языка как фактора формирования национальной идентичности.
К. Еременко пишет о достаточно уникальном кейсе Канады, когда констатация кризиса идентичности может приводить к ее реактуализации и обновлению. В статье А.Баранова речь идет о конфессии как факторе идентичности и о перспективе формирования единой мусульманской нации (уммы) по примеру Ирана. Таким образом, в отличие от секулярных процессов нациогенеза в Европе, в арабских странах эти процессы имеют религиозный характер.
Проблеме русского национализма на разных этапах его истории посвящены материалы А. Панченко, Н. Славнитского, А. Даркиной и Р. Бараш. Из статей первых трех авторов становится очевидно, что русский национализм не успел сложиться в период существования Российской Империи в связи с отсутствием консенсуса как среди управленческих, так и среди интеллектуальных элит, что, безусловно, повлияло и на неудачные попытки его реставрации в постсоветское время. А. Панченко на примере имперской этнографии показывает, каким образом Российская империя пыталась репрезентировать свое этническое многообразие. Сосуществование двух парадигм – одной – основанной на русификации и лояльности населения, другой – на подчеркивание особенности подданных народов империи, было связано с тем, что государство само не могло решить, что оно собирается строить: империю или национальное государство. Н.Славнитский подчеркивает, что русский национализм был ограничен крупными городами и не нашел понимания среди масс, остававшихся православными.
Неопределенность русского национализма, как и понятие «русский» остается актуальным и по сей день, о чем идет речь в статье Р. Бараш, анализирующей дискурс о «русском вопросе» в современной российской действительности. Н. Славнитский пишет, что под «народом русским» во второй половине XIX в. понималось совокупность подданных империи. Языковые игры в «русское» не прекратились и поныне. Бараш считает «русскость» показательным примером «этничности без групп», понятия Роджерса Брубейкера. «Русскость» превратилась в эластичный термин, лишенный аналитического содержания, который используется в угоду той или иной политической конъюктуре. Так же эластичны и маркеры принадлежности к русским: это либо язык, либо принадлежность к культурному пространству, либо кровное родство.
Третий раздел «Способы восприятия. Нарративные стратегии» состоит из разноплановых работ в области преимущественно истории литературы. Гендерная проблематика затрагивается X. Бао и И. Буровой в их анализе средневековой английской литературы, функционировавшей в средневековом мужском мире. С. Башли исследует «миф прогресса» в зарождающейся турецкой национальной литературе и акцентирует внимание читателей на изменчивости в процессе формирования идентичности, когда противоречивые элементы с течением времени группируются по разному по отношению друг к другу, тем самым претерпевая трансформации.
В статьях Е. Самушкиной, Т. Краюшкиной и Н. Трухан речь идет о фольклоре как выражении культуры этноса. Краюшкина и Трухан анализируют образ врага в с русских народных сказках и сказках хантов и приходят к выводу, что их представления присущи языческому мировосприятию. Самушкина на примере истории Ойротской автономной области показывает, каким образом в советской национальной политике конструировалось энтческое/национальное. Проблема конструировавши! образа национальных героев и его рецепции в различных нарративах рассматриваются И.Бариновым (историософия), И.Джафарова (газеты) и Е.Болашенкова (банкноты).
Последние два раздела так или иначе посвящены феномену коллективной памяти и его поддержанию при помощи нарративов. В разделе «Протонациональное и национальное историописание» анализируются динамика представлений о прошлом и дискурсивные стратегии его описания. Также оценивается влияние построений интеллектуальных элит на последующие процессы в Западной и Восточной Европе. Общий тезис, пронизывающий опубликованные материалы, заключается в том, что до-модерное историописание являлось формой сохранения памяти и средством легитимации настоящего путем прошлого, а нарратив как высказывание о прошлом являлся рычагом ее управления. Ф. Левин и Д. Алимов на примере периферий европейского пространства – Ирландии и Хорватии – показывают, каким образом уже господствовавшие образы прошлого систематизировались и ре-актуализировались интеллектуалами и приобретали новые значения и смыслы. Интеллектуалы по разные стороны континента стремились придать континуитет своей истории и создавали новые парадигмы – ирландскую парадигму Джоффри Китинга и хорватский готицизм. Оба явления вошли в символический капитал последующих национализмов XIX в.
Линейность истории обсуждается и в статьях Е. Калмыковой и Р. Бутучел. Калмыкова анализирует, каким образом различные историописцы присваивали бриттское прошлое с целью легитимации своей собственной идентичности, начиная от раннего средневековья и заканчивая английскими католиками XVI–XVII вв. Труды Трансильванской школы историографии находятся в центре внимания Бутучел. Выработанная этой школой в XVIII в. концепция романской идентичности стала инструментом политической борьбы валашской элиты и позднее оказалась востребованной при формировании государства Румынии.
Помимо этого, интеллектуальные конструкты часто предшествуют складыванию общности как таковой. Это подтверждается в статье Ю. Ивонина, разбирающего дискуссии по поводу Священной Римской Империи и ее роли в появлении немецкого национального государства. Автор подчеркивает, что германский национализм – явление эпохи Модерна и никак не мог сложиться в период существования Империи, но его появление было генетически связано с интеллектуальной работой ранних периодов. Тем самым, путем миграции и рецепции идеи, в разное время артикулированные в исторических нарративах, оказывали непосредственное влияние на процессы, определившие облик современного европейского национального ландшафта.
В тесной связи с четвертым разделом находится и пятый раздел, посвященный проблемам коммеморативных практик. Здесь собраны статьи, так или иначе связанные с имперским опытом и осмыслением имперского наследия. В. Шарова размышляет о нарративе империи и рефлексии имперского опыта в странах Центральной Европы. Она подчеркивает, что если империя Габсбургов в современном понимании – это предвестник Евросоюза, то Россия – это одновременно и «образ опасности»/«образ другого» и «образ родства» в географическом и культурном плане.
Объектом анализа Е. Кумпан и А. Киридон выступает мемориальная политика и ее конструирование в современной Украине. Предметом исследования Е.Кумпан являются учебники по истории Украины, ангажированно определяющие видение узловых событий в истории страны. По ее мнению, в учебниках образ России приобретает негативные ценностные коннотации, и история Украины после 1654 г. рассматривается как история угнетения. А. Киридон, сопровождающая свою статью теоретическим экскурсом в теорию проблемы, пишет о мемориальной политике в Украине в целом и так же подчеркивает, что ее доминанты базируются в плоскости «травма-триумф». Таким образом, имперский опыт в украинских нарративах воспринимается негативно. Данные исследования подчеркивают как избирательность коллективной памяти, так и то, что формирование нации начинается со школьной скамьи, поэтому политика памяти находится в сфере интересов модерных государств, воспитывающих лояльных граждан.
Статья Е. Саволайнен сконцентрирована не на феномене «коллективной», навязанной памяти, а на индивидуальной. Автор анализирует мемуары ингерманландских финнов, в которых речь идет о пережитом травматическом опыте – блокаде и репрессиях, и противопоставляет свидетельский опыт официальной, ангажированной истории.
«Образ врага и образ другого» – один из присущих элементов представлений сообществ о самих себе. Подобные дискурсивные практики, в которых люди категоризируют себя и других относительно группы, способствуют распознанию или созданию границ между ними. Материалы этого разделы сосредоточены не только на конструировании этнических/национальных границ, но и политических (К.Станков).
Актуализация культурных границ и использование культуры как дискурсивной конструкции оказывается одной из самых успешных стратегий, используемых в различные периоды истории. М. Кузьмина пишет о том, что разделение между французами и англичанами в эпоху Столетней войны проходило на уровне языка. Однако пока этнокультурное не сливается с этнополитическим, подобные разграничения могут отходить на второй план по сравнению с традиционными лояльностями, что и было в XIV–XV вв. Статьи Т.Лабутиной и Е.Калининой связаны с бинарными оппозициями «цивилизованность» – «варварство»/«отсталость». Необходимо отметить, что последними качествами наделяется периферийное пространство. Т. Лабутина констатирует, что ксенофобия в русском обществе была более естественна, являясь реакцией на засилье иноземцев и перемену порядков в то время, как антирусские настроения подогревались английскими элитами для формирования негативного образа экономического и политического конкурента. В статье Е. Калининой рассматривается феномен «черной легенды» как негативного образа Испании среди более цивилизованных европейских соседей. В контексте России следует обратить внимание на работу Н. Зотова, где говорится о том, что, как ни странно, в Германии образ революционной России воспринимался скорее положительно, чем отрицательно, в связи с некоторыми особенностями их исторического пути в первой половине XX в.
М. Григер и Е. Клименко описывают механизмы исключения и отчуждения из группы в XX–XXI вв., актуализированные по идеологическим соображениям. Для фашисткой Италии, предмете исследования Григер, поводом для исключения евреев из итальянской нации стала отсутствие их принадлежности к христианскому миру, что говорило об их не-лояльности.
Е. Клименко на основании анализа публикаций в «Российской Газете» приходит к выводу, что проблемы, связанные с мигрантами, описываются в терминах культуры. Соответственно, неприязнь к мигрантам объясняется их не-принадлежностью к культурному пространству. Подобное использование культуры как дискурсивной конструкции довольно распространено в современном мире и имеет идеологический эффект.
Таким образом, материалы данной конференции вполне согласуются с уровнем развития современного гуманитарного знания по вышеуказанным проблемам, поэтому преобладание конструктивистского и инструменталистского подходов неудивительно. Сборник репрезентативен по своей сути, поскольку исследуемые явления удалось отразить в их динамике во временном и пространственном измерениях, от более простых к более сложным социальным организмам и роле нарративов в этом процессе. Материалы конференции еще раз подтверждают, что будущее (и настоящее тоже) не только за междисциплинарными, но и за транснациональными исследованиями, особенно в рамках подобной проблематики, где учет региональной специфики позволяет выйти на генерализирующий уровень и рассмотреть универсальность различных механизмов и сценариев.
С.Е. Федоров, Ф.Е. Левин
I. Этнические нарративы в Средние века и раннее Новое время
Гэлы шотландской Дал Риаты: метаморфозы этнического сценария
Федоров С. Е.
Согласно сообщению Гильды, северная Британия почти одновременно была заселена пиктскими и гэльскими пришельцами, расселившимися за пределами зоны романо-бриттского контроля. Примерно два столетия спустя Беда предложил отличную от Гильды версию, согласно которой первые ирландские поселенцы (скотты) пришли на землю, уже освоенную до этого бриттами и пиктами. Беда писал: «Так пикты появились в Британии и расселились в северных областях острова, поскольку юг занимали бритты… по прошествии времени в Британию вслед за бриттами и пиктами появился и третий народ – скотты, что пришли в область пиктов из Ибернии со своим вождем Ревдой и миром либо мечом приобрели земли, которыми владеют до сих пор. По имени их вождя они зовутся далревдинами (Dalreudini), ибо «дал» (daal) на их языке значит часть»[1] (Bede. Hist.I.L).
Подобно Гильде, Беда признает факт самой миграции, но при этом его версия переселенческой легенды обращает пиктов в наиболее ранних известных ему переселенцев в Северную Британию. Утверждение Беды о первенстве пиктов превращает территорию Аргайла в зону их изначального расселения. Содержащиеся в его тексте пояснения косвенно указывают на то, что пикты могли враждовать со скоттами (гэлами) и даже выступать против них, используя силу оружия[2] (Bede.Hist.Ll). Специалисты, неоднократно комментировавшие это утверждение Беды, указывают на то, что содержащаяся в нем информация была, без сомнения, пиктского происхождения и что сами гэлы могли трактовать факт своего переселения в Британию иначе[3].
Действительно, еще задолго до того, как Беда завершил свою историю, гэльские хронисты были знакомы с Ревдой. Как правило, они объединяли в единое целое род Габрана и Комгалла под одним названием Корку Рети, считая их потомками Домангарта Рети или в другой версии – Домангарта Кинтайрского[4]. Д. Фрэйзер считает, что именно эта версия родословной двух основных родов Дал Риаты легла в основу повествования Беды[5].
Как известно, род Габрана относился к трем правящим в Дал Риате родам и сохранял свое территориальное господство в пределах южного Аргайла на протяжении всего периода существования шотландской Дал Риаты. При этом род Лоарна занимал его центральную часть, а род Энгаса довольствовался прилегающими островами. Роду Г абрана, должно быть, принадлежала также часть земель в Антриме (северо-восточная Ирландия). Поскольку Беда был знаком с родословной этих двух родов, его описание мест расселения скоттов к северу от Клайда могло, хотя бы, косвенно, указывать на очертания полуострова Кинтайр, образующего основную северную периферию залива («упомянутые скотты поселились к северу от этого и основали там свою родину») и составлявшего вместе с цитаделью Давентри родовые земли Габрана.
Легенда о королевстве Корку Рети или о королевстве Габрана была не единственной среди историй, содержащих свою версию заселения Дал Риаты. Речь идет, по меньшей мере, еще о двух вариантах полулегендарных рассказов о гэльской миграции в Шотландию. Наиболее поздней по времени окончательного оформления считается версия легенды, изложенная в знаменитой «Истории народа скоттов» (Senchus Fer n-Alban), а наиболее ранней является история, содержащаяся в трактате «Четыре основных рода Дал Риаты» (Cetri prímchenéla Dál Riata). Этот трактат во многом известен тем, что в нем появляется четвертый род – род Эхдаха. Д. Дамвилл считает, что этот род являлся частью территориального союза, во главе которого стоял род Лоарна. Оба рода возводили свою родословную к Лоарну Великому, который назван в трактате дядей Домангарта Рети[6].
Территориальная коалиция Лорна (род Лоарна и род Эхдаха), королевство Корку Рети (род Габрана и род Комгалла), а также род Энгаса, составляющий подобие федерации ближайших к Кинтайру островов, образовывали то, что обычно принято называть Дал Риатой[7]. При этом каждый из сегментов такого территориального союза позиционировался в трактате как равноправный[8]. Д. Дамвилл считает, что зафиксированная в трактате форма территориального единства гэлов Аргайла отражает широко бытующую в литературе того времени формулу «scoti Brittanniae», в частности неоднократно встречающуюся в «Жизнеописании Колумбы» Адомнана. Д. Фрейзер, уточняя семантический ряд возможных дополнений, добавляет сюда и понятие «Dalreudini» самого Беды[9].
Наибольший интерес с точки зрения формирования генетического мифа гэлов Дал Риаты представляет версия легенды, содержащаяся в «Истории народа скоттов» (Senchus Fer n-Alban). Ее изначальный вариант восходит примерно к тому же самому времени, когда была закончена работа над трактатом о четырех основных родах Дал Риаты, но последовавшая за этим и растянувшаяся почти на два века работа редактора превращает этот памятник в уникальное свидетельство выстраивания политических притязаний далриатинских родов на властное господство в регионе.
Сопоставление различных списков (Н, В, L, McF)[10] «Истории народа скоттов» позволяет усомниться в устойчивости схемы, определявшей растиражированный другими хрониками состав широко известной легенды о заселении гэлами западного побережья Шотландии. Речь идет не только об общепринятом, но тем не менее восходящем к тексту именно этой хроники представлению о том, что «переселение» гэлов в Шотландию было организовано тремя Эрками – братьями Фергусом, Лоарном и Энгасом, но и еще о двух важных сюжетах, определявших последующее конструирование и воспроизведение легенды. Важным с точки зрения последующей традиции остаются впервые увязанные между собой идеи, что именно Эрки, а не Корку Рети привели за собой в Аргайл ирландские кланы и что образованное ими территориальное объединение возникло изначально как часть этнически однородной (гэльской) конфедерации, подчинявшейся верховной власти ирландского короля из рода Корку Дуибне.
Д. Баннерман[11] датирует протограф «Истории» серединой VII в. и считает, что работа над окончательным вариантом рукописи была закончена не ранее середины X столетия[12], полагая тем самым, что даже в своем завершенном варианте хроника оставалась наиболее ранним из всех образующих так называемый «гэльский» цикл повествований о Дал Риате историческим свидетельством. Реконструируя начальный вариант рукописи, он определяет исходный текст протографа, видя в нем разновидность родовой генеалогии королевской династии Габрана, очевидно, законченной до вступления на престол Ферхара II (676–696), первого представителя рода Лоарна. Все последующие интерполяции были связаны, по его мнению, с изменяющейся конфигурацией правящих родов Дал Риаты, а последняя точка в работе над рукописью была, очевидно, поставлена в годы правления Алпина мак Эохайда (839–842) или же его сына Кеннета I (841–858)[13].
Отмечая присущую тексту динамику, Д. Баннерман усматривает в ней результат поэтапной работы редактора или переписчика, который под влиянием изменяющихся условий вносил в начальный вариант рукописи изменения и тем самым трансформировал, должно быть, более общий по смыслу и нейтральный в отношении правящих в Дал Риате родов первоначальный вариант легенды, судя по всему, не исключавший сюжетную близость с более ранней историей исхода «сыновей Конайре». Под рукою редактора изначальная легенда, фиксировавшая характерный для ирландской раннесредневековой литературы сюжет исхода из отчего дома одного из потомков стареющего правителя не только содержательно трансформировалась, но и структурно видоизменялась. И хотя работа над рукописью «Истории» подчинялась определенной логике, старания редактора не всегда уравновешивали или же сглаживали возникавшие в результате интерполяций противоречия, а сам текст сохранял следы таких сюжетных наслоений.
Первое, что впечатляет в опубликованных Д. Баннерманом текстах, так это нелепое нагромождение парных и схожих по написанию имен. Фигурирующие сначала в буквально развернутом для последующей визуализации списке двенадцати сыновей Эрка мак Эхдаха (Н), а затем (L и В) в почти его зеркальном распределении между отплывшими к британским берегам и оставшимися в Ирландии братьями, они отражают только понятную самому хронисту генеалогическую комбинацию[14].
Тенденция к такого рода персонализации сохраняла, по меньшей мере, два не зависевших друг от друга уровня мотивации. С одной стороны, очевиден интерес редактора к оживлению скрывавшейся за цифрами 12 и 6 информации. Стремясь к буквальной персонализации, редактор был, судя по всему, ограничен репертуаром наиболее часто встречающихся имен в среде далриатинских гэлов и, как показывают присутствующие в перечислении комбинации с антропонимом Энгас, соседних пиктов. Таким обстоятельством можно объяснить наличие парных сочетаний имен в персоналиях ирландских и шотландских когорт сыновей Эрка, а также появление в списке В явно не распознанных редактором взаимозаменяемых имен Фергуса мак Эрка (Mac Nisse Mór и Fergus Mór). С другой стороны, речь может идти о попытках редактора дублировать в именах далриатинских гэлов известные ему ирландские антропонимы. Этим обстоятельством можно объяснить даже самую необычную с точки зрения использованных имен ситуацию с пиктским антропонимом Энгас, для которого уже современные исследователи подтвердили наличие ульстерского топонима Telach Ceniuil Oengossa[15].
Персонализация списка, судя по всему, отражала наиболее ранний этап редакторской работы над текстом «Истории» и могла хронологически совпадать с начальным периодом известного доминирования рода Габрана в шотландской Дал Риате. Не предполагая строгой идентификации клановых связей с персонифицированным списком, такая правка адаптировала независимо циркулировавший ирландский пласт легенды (сюжет исхода «сыновей Конайре») к характерному для Дал Риаты этнокультурному контексту. Констатируемая в тексте «Истории» кровная связь Фергуса мак Эрка с Домангартом I и его двумя сыновьями была, подобно всем последующим соотнесениям, условием, легитимирующим род Габрана в качестве правящей в Дал Риате династии в один из периодов его несомненного господства, но тем не менее оставалась интерполяцией внесенной редактором или же писцом[16].
Актуализация эпонимов или следующая группа интерполяций закономерно отражает возвышение рода Лоарна. Именно с этим обстоятельством могли быть связаны определяемые по списку В следы очередной «зачистки». Именно тогда фильтруются списки, и наряду с обновленными персоналиями появляются указания на определенную связь Лоарна Великого (Loarn Мог) и несущего его эпоним рода[17]. Все последующие корректировки рукописи лишь увеличивают объем эпонимов и отчетливее определяют зависимость между прибывшими в Дал Риату гэлами и структурой ее территориальной организации[18].
Если выделенные Д. Баннерманом группы интерполяций действительно отражали социальные и властные изменения в Дал Риате VII–IX вв., то предлагаемая «Историей» схема, тем не менее, оказывается уязвимой в трех определяющих ее структуру элементах. Речь идет о декларируемых в тексте братских связях между Фергусом, Лоарном и Энгасом. Уровень проработки этих связей хронистом определялся не только доступным ему вариантом инкорпорирующей и легитимирующей новые территориальные приобретения легенды, связанной с предшествующем инаугурации военном походе королевского наследника в «соседние» или же «заморские» земли, но и доступным для иллюстрации такого родства эмпирическим материалом. Значимыми оказывались характерные для ирландской хроникальной традиции топосы, определяющие различные формы освоения встречаемых в ходе такого похода препятствий.
Если во время своей военной кампании наследник завоевывал или, как обычно определяли хронисты, овладевал новой территорией, то, оставаясь победителем, он заключал союз с завоеванными или заново отвоеванными землями, сначала символически, а затем и реально присоединяя их к владениям своего еще здравствующего предшественника. Как правило, населявшим такие земли племенам хроники присваивали эпоним наследника и именно таким образом завоеванные народы включались в орбиту родственных связей наследника.
Ни в одном из сохранившихся списков «Истории» хронист не упоминает об отцовском роде Фергуса (Кайрпре Риата)[19], и тем более в тексте отсутствуют какие-либо намеки на род, появившийся в связи с его приходом в шотландский Аргайл, носящий его эпоним (должно быть что-то вроде Cenel Fergusa Móir). Напротив, его имя напрямую связывается с правящим родом Габрана уже в группе наиболее ранних текстовых вариаций. Судя по всему, речь должна идти о характерном не только для «Истории», но и других сочинений подобного жанра и тематики инструментальном приспособлении широко бытовавшей в ирландской традиции легенды о заморском походе – в данном случае – одного из преемников Конайре Великого для легитимации правившего в Дал Риате рода Габрана.
Наиболее древний пласт легитимирующей легенды, как показывают сохранившиеся к концу VIII в. варианты[20], обрывался на моменте отплытия народа Дал Риаты к берегам Британии, но происходившие там события не детализировались. В таком виде легенда начиналась с того, что ирландские септы Мускрайге и Корко Дуибне, Корко Байскинд, а также Дал Риата, ведущие свою родословную от трех сыновей Конайре Великого (Кайрпре Муска, Кайрпре Баскайна и Кайрпре Риата)[21], мигрировали в Мунстер, а там совместно с Эоганахтами[22] завладели территориями, ранее принадлежавшими Эрне Мумайне[23]. Позднее в первоначальный вариант повествования был интерполирован сюжет, уточнявший, что после того, как Дал Риата, спустя некоторое время, покинула Ульстер с тем, чтобы обосноваться в Британии (при этом без дальнейших деталей происходившего по ту сторону Ирландского моря), ее земли в Мунстере наследуются септом Корко Дуибне.
Во вступительной части «Элегии Колуиму Килле» содержатся продолжающие эту историю детали: начавшийся в Мунстере голод вынуждает Кайрпре Риату повести свой народ (Дал Риату) обратно в Ульстер, после чего (по одной из версий – вскоре) определенная его часть септа решает покинуть Ирландию, направившись, как следует из скупого уточнения, не столько в Британию (или же в более поздних версиях – Альбу), сколько в земли пиктов[24]. На этом месте все существовавшие к концу VIII в. версии легенды обрываются, оставляя известный простор для последующих уточнений[25]. Поскольку ни одна из сохранившихся версий легенды не конкретизирует персональный состав переселенцев и не уточняет (за исключением одной)[26] хронологические рамки исхода, перспектива ее последующей адаптации для легитимации доминировавшего в шотландской Дал Риате королевского рода представляется вполне возможной.
Судя по всему, такая адаптация преднамеренно элиминировала любую связь (но прежде всего хронологическую) с преданием о Кайрпре Риаты. Исключая упоминание о нем в восходящей линии предшественников Габрана, она лишала выстраиваемую преемственность незримого присутствия Конайре Великого, поскольку прежние версии легенды не содержали даже намеков на фигуру Фергуса и как следствие – возможно, находившихся в его окружении братьев. Единственно важным в адаптированной версии легенды оставался прежний мотив преемственности с ирландской Дал Риатой и конкретизированный во времени и пространстве факт свершившегося исхода[27].
Вопрос о том, какое место занимали в адаптированной таким образом легенде Лоарн и Энгас, остается тоже загадкой. Можно предположить, что, подобно роду Г абрана, они и связанные с ними территориальные объединения уже существовали на территории Аргайла. В таком случае хронист, используя реальные факты, соединил их с остававшимися «вакантными» сюжетами легенды. Заполненные в легенде лакуны, однако, не позволяют судить об этническом происхождении стоявших за Лоарном и Энгасом «поселенцев». Были ли носившие их эпонимы рода исключительно гэльского или же, следуя Беде, смешанного происхождения, судить достаточно сложно.
Ответ, во многом любопытный для определения этнического состава далриатинских родов, дают исправления в тексте списка L. Имя Энгаса, как известно, присутствовало в обоих развернутых списках братьев Фергуса вплоть до того самого времени, когда один из редакторов не вычеркнул его из ирландского аналога, снабдив свои действия весьма однозначным комментарием: «cuius tamen semen in Albania est»[28]. Поскольку факт использования топонима «Альба» не позволяет датировать это исправление ранее IX в., то, судя по всему, ситуация с определением этнического состава населения Дал Риаты оставалась вплоть до конца исчезновения королевства неразрешенной.
Если вспомнить трудности, которые испытывал Беда с определением этнического состава жителей Аргайла, то существование и взаимодействие генетически разнородного населения может оказаться вполне реальным. Известно, что северная граница Дал Риаты проходила по территории полуострова Арднамерхан, а далее на северо-востоке располагались земли северных пиктов. С юго-востока их подпирали границы бриттского Алт Клута, а по всей восточной периферии королевства тянулся общий с южными пиктами пограничный рубеж.
Сложно представить себе непроницаемость или замкнутость очерченного таким образом гэльского ареала. Беда писал о готовности гэлов, согласившихся после ухода пиктов дать им «жен», но с «одним условием, что королей они должны выбирать не по мужской, а по женской линии», а далее уточнял, «что этому обычаю пикты следуют до сего дня» (Bede. Hist. I.l). Любопытно, но грамматическая структура предложения не позволяет определить с точностью, идет ли речь об обычае «брать гэльских жен» или же о практике престолонаследия: не исключено, что Беда предполагал оба, связанных с гэлопиктским «соглашением» условия.
Если речь идет о присутствии в Аргайле до предполагаемого прихода Фергуса этнически разнородного или же смешанного населения (народ Ревды и пикты), то основанное на родственных связях территориальное единство Дал Риаты приобретает весьма условный и далекий от очевидного характер. Возможно, при таких условиях шотландская Дал Риата представляла собой не столько часть ее легендарного, завязанного на ирландские владения дифилитического прообраза, сколько была разновидностью композитарного по своей природе этнического образования, соединявшего в своей основе, по меньшей мере, гэльское и, очевидно, проживавшее в Аргайле ранее исхода народа Койпре Риаты (Ревды) пиктского или же гэло-пиктского населения.
* * *
УДК 94
ФЕДОРОВ СЕРГЕЙ ЕГОРОВИЧ. Д. и. н., профессор, Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург.
SERGEY FYODOROV. PhD, Professor, Saint Petersburg State University, Saint Petersburg. E-mail: s.fedorov(a)spbu.ru
ГЭЛЫ ШОТЛАНДСКОЙ ДАЛ РИАТЫ: МЕТАМОРФОЗЫ ЭТНИЧЕСКОГО СЦЕНАРИЯ
Статья рассматривает различные варианты легенд об основании шотландской Дал Риаты и обращает особое внимание на изложенную в «Истории народа скоттов» легенду. Определяя пути влияния ирландских легенд («О семени Конайре» и «О сыновьях Конайре») на содержание «Истории», автор показывает, каким образом эти предания были адаптированы в ее новой версии.
Ключевые слова: раннесредневековая Шотландия и Ирландия; Дал Риата; легенды об основании Дал Риаты; гэльские кланы; этнический сценарий.
THE GAELS OF THE SCOTTISH DAL RIATA: METAMORPHOSES OF AN ETHNIC SCENARIO
This paper verifies different versions of the foundation myth of the Scottish Dal Riata with a particular reference to the legend developed in Senchus Fer n-Alban. It traces the influence of the Irish legends (De Moccaib Conaire and De Sil Chonairi Mór) on Senchus and lays special emphasis on their adaptation in the newly articulated foundation story of Dal Riata.
Keywords: Dark Age Scotland, Dal Riata, Gaelic kindreds; foundation legend; ethnic scenario.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Беда Достопочтенный. Церковная история народа англов / Пер. В. В. Эрлихмана. СПб: Алетейя, 2001. URL: (дата обращения – 01.06.2015)
2. Федоров С. Я., Паламарчук А. А. Средневековая Шотландия. СПб.: Дмитрий Буланин, 2014. 352 с.
3. Amra Choluim Grille // Vernam E. Arnra Choluim Grille // Zeitschrift fur celtische Philologie. 1961. Vol.28. P. 242–51.
4. Amra Choluimb Grille // Stokes W. The Bodleian Amra Choluimb Grille // Revue Celtique. 1899. Vol. 20. P. 31–55.
5. Bannerman J. Studies in the History of Dalriada. Edinburgh: Scottish Acedemic Press, 1974. 178 p.
6. Bede’s Ecclesiastical History of the English People / ed. by B. Colgrave & R. Mynors. Oxford: Clarendon P., 1969. 618 p.
7. Cetri prímchenéla Dál Riata // Dumville D. Cetri prímchenéla Dál Riata // Scottish Gaelic Studies. 2000. Vol.20. P. 175–183.
8. De Moccaib Conaire //Gwynn L. De Moccaib Conaire // Ériu. 1912. Vol. 6. P. 144–152;
9. De SíL Chonairi Mór//Gwynn L. De SíL ChonairiMór//Ériu. 1912. Vol. 12. P. 130–142;
10. Dumville D. Ireland and North Britain in the Earlier Middle Ages: Context for Miniugud Senchusa Fher nAlban 11 Rannsachadh na Gaidhlig 2000: Papers Read at the Conference Scottish Gaelic Studies 2000 Held at the University of Aberdeen 2–4 August 2000 / ed. by C. Baoill & N. McGuire. Aberdeen: An Clo Gaidhealach, 2002. P. 185–212.
11. Dumville D. Political Organization of Dal Riata // Tome. Studies in Medieval Celtic History and Law in Honour of Thomas Charles-Edwards/ ed. by F. Edmonds & P. Russell. Woodbridge, Rochester: Boydell Press, 2011. P. 41–52.
12. Follet W. Céli Dé in Ireland. Monastic Writing and Identity in Early Middle Ages. Woodbridge, Rochester: Boydell Press, 2006. 253 p.
13. Fraser J. From Caledonia to Pictland. Scotland to 795. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2009.436 p.
14. Irish Liber Hymnorum / Ed. by J. Bernard. London: Henry Bradshaw Society, 1898. In 2 vol.
15. Life of St. Fechin of Fore // Strokes W. Life of St. Fechin of Fore // Revue Celtique. 1891. Vol. 12. P. 318–353.
16. Nieke M., Duncan H. Dalriada: the Establishment and Maintenance of an Early Historic Kingdom in Northern Britain // Power and Politics in Early Medieval Britain and Ireland / ed. by S. Driscoll & M. Nieke. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1988. P. 6–21.
17. Poem in Praise of Columb Cille // Fergus K. A Poem in Praise of Columb Cille // Ériu. 1973. Vol. 24. P. 1–34.
18. Senchus Fer n-Alban // Bannerman J. Senchus Fer n-Alban // Celtica. 1966. Vol. 7. P. 154–159.
19. Sharpe R. The Thriving of Dalriada / / Kings, Clerics and Chronicle in Scotland, 500-1297: Essays in Honour of Marjorie Ogilvie Anderson on Occasion of Her Ninetieth Birthday / ed. by S. Taylor. Dublin: Four Court Press, 2000. P. 47–61
20. The Annals of Innisfallen: (ms. Rawlinson B. 503) / ed. by S. Mac Airt. Dublin: Dublin Institute for Advanced Studies, 1977. 596 p.
21. The Yellow Book of Lecan: a collection of pieces (prose and verse) in the Irish language, in part compiled at the end of the fourteenth century / ed by R. Atkinson. Dublin: Royal Irish Academy House, 1896. 468 p.
REFERENCES
1. “Amra Choluim Chille” in Vernam Hull. “Amra Choluim Chille”, Zeitschrift fiir celtische Philologie 28 (1961). P. 242–51.
2. “Amra Choluimb Chille” in Stokes Whitley. “The Bodleian Amra Choluimb Chille”, Revue Celtique 20 (1899). P. 31–55.
3. Beda Dostopochtennij. Zerkovnaja istorija naroda anglov, transl. Vadim Erlikhman. Saint Petersburg: Aleteja Publ., 2001. (date of access: 01.06.2015) (in Russian)
4. Bede's Ecclesiastical History of the English People, ed. Bertram Colgrave, Roger Mynors. Oxford: Clarendon P., 1969. 618 p.
5. Bannerman John. Studies in the History of Dalriada. Edinburgh: Scottish Acedemic Press, 1974.178 р.
6. “Cetri prímchenéla Dál Riata” in Dumville David. “Cetri prímchenéla Dál Riata”, Scottish Gaelic Studies 20 (2000). P. 175–183.
7. “De Moccaib Conaire” in Gwynn Lucius. “De Moccaib Conaire”, Eriu 6 (1912). P. 144–152.
8. “De Síl Chonairi Mór” in Gwynn Lucius “De Sil Chonairi Mór”, Ériu 12 (1912). P. 130–142.
9. Dumville David. “Ireland and North Britain in the Earlier Middle Ages: Context for Miniugud Senchusa Fher nAlban” in Rannsachadh na Gaidhlig 2000: Papers Read at the Conference Scottish Gaelic Studies 2000 Held at the University of Aberdeen 2–4 August 2000, ed. Colm Ó Baoill and Nancy McGuire. Aberdeen: An Clo Gaidhealach, 2002. P. 185–212.
10. Dumville David. “Political Organization of Dal Riata” in Tome. Studies in Medieval Celtic History and Law in Honour of Thomas Charles-Edwards, ed. Fiona Edmonds, Paul Russell. Woodbridge, Rochester: Boydell Press, 2011. P. 41–52.
11. Fyodorov Sergej, Palamarchuk Anastasija. Srednevekovaya Shotlandia. Saint Petersburg: Dmitrij Bulanin, 2014. 352 p. (in Russian)
12. Follet Westley. Cíli Dé in Ireland. Monastic Writing and Identity in Early Middle Ages. Woodbridge, Rochester: Boydell Press, 2006. 253 p.
13. Fraser James. From Caledonia to Pictland. Scotland to 795. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2009.436 p.
14. Irish Liber Hymnorum, ed. John Bernard. London: Henry Bradshaw Society, 1898. In 2 vol.
15. “Life of St. Fechin of Fore” in Strokes Whitley. “Life of St. Fechin of Fore”, Revue Celtique 12(1891). P. 318–353.
16. Nieke Margaret, Duncan Holly. “Dalriada: the Establishment and Maintenance of an Early Historic Kingdom in Northern Britain” in Power and Politics in Early Medieval Britain and Ireland, ed. Stephen Driscoll and Margaret Nieke. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1988. P. 6–21.
17. “Poem in Praise of Columb Cille” in Fergus Kelly. “A Poem in Praise of Columb Cille”, Ériu 24 (1973). P. 1–34.
18. “Senchus Fer n-Alban” in Bannerman John. “Senchus Fer n-Alban”, Celtica 7 (1966). P. 154–159.
19. Sharpe Richard. “The Thriving of Dalriada” in Kings, Clerics and Chronicle in Scotland, 500-1297: Essays in Honour of Marjorie Ogilvie Anderson on Occasion of Her Ninetieth Birthday, ed. Simon Taylor. Dublin: Four Court Press, 2000. P. 47–61.
20. The Annals of Innisfallen: (ms. Rawlinson B. 503), ed. Séan Mac Airt. Dublin: Dublin Institute for Advanced Studies, 1977. 596 p.
21. The Yellow Book of Lecan: a collection of pieces (prose and verse) in the Irish language, in part compiled at the end of the fourteenth century, ed. Robert Atkinson. Dublin: Royal Irish Academy House, 1896. 468 p.
Сакрализация терминологии власти у тюрков раннего Средневековья в Центральной Азии
Фукало в И. А.
Власть – неотъемлемая часть исторической сущности истории тюркских народов и государств. В историческом процессе власть каганов у тюрков являлась основополагающим условием существования не только государства, но и самих народов. Это подтверждается памятниками тюркской письменности периода расцвета тюркской государственности. В надписях, посвященных Капаган-кагану, Кюльтегину и Тонъюкуку, четко обозначается значимость кагана в условиях борьбы за гегемонию в Центральной Азии. То же самое мы можем отметить в так называемом «плаче» по кагану енисейских кыргызов Барсбеку. Власть в эпоху раннего Средневековья подтверждала свою государственно-образующую роль как сакральным статусом (через религиозные институты верховного жречества), так воинской доблестью на поле сражений. Особую роль во власти у тюрков играло тенгрианство, являющееся мощным сакральным институтом поддержки власти.
Зародившийся в середине VI в. великий Тюркский каганат оказался самым сильным и могущественным государством Евразии этого времени. Его основатель Бумын-каган стал зачинателем династии Ашина. Сакральный статус его при этом был крайне высок, что подчеркивалось в том числе и поздними каганами. В продолжение данного культа его составной частью становится культ Эль-хана Бумына, который также «вырос» из культа ашиноидов. Данный культ целиком и полностью был понятен и связан только с древнетюркской государственностью. Исследователи соотносят его с этнической первоосновой ашинаидов и считают культом, внеэтничным к основной массе тюрков. Культ рода Ашина имеет морфологическую связь с обыденным, можно сказать, тривиальным, культом предков, характерным для древнего пласта любого общества[29]. Однако, с изменением роли и места отдельно взятого рода Ашина, данный культ в этом объекте гипертрофированно преломляется, превратившись в «царский» культ с добавлением политических церемоний и ритуалов. Основные контактные точки этого культа заключались в почитании личности кагана, пещеры предков и в поклонении волку.
Уже к концу века могущественная тюркская держава разделяется на две части; при этом каганы как Западного, так и Восточного каганатов сохраняют за собой сакральную титулатуру. Личные имена в китайских источниках продолжают фиксироваться родовым именем «Ашина», а корпусная титулатура заключает в себе наследные имена (Эль, Ышбара, Бури)[30]. По нашему мнению, суть сохранения данных титулов заключается в сохранении легитимности правителя в двух раннее указанных ветвях власти кагана над элем (народом). Без несения сакральных титулов или при их изменении каган терял сущность своей власти, «кут», даруемой свыше.
После падения каганата восточных тюрков в начале VII в. и временном подчинении его Китаю, марионеточные правители также несли титулы, напрямую связанные с родом Ашина. Китайские императоры не смели нарушить уже заведенную традицию, но при этом играли на чувствах тюрков, стремясь переподчинить их сакральность напрямую себе. Китайские императоры, фактически присвоив себе сакральную культуру перехода власти «Тенгри-каган-эль», именовались «отцами» тюркских каганов того периода[31].
Вскоре после нескольких неудачных восстаний тюрки восстановили свою государственность на востоке Великой степи. Во главе воссозданного государства встает Кутлуг каган. В его титуле и имени сочетались как сакральная титулатура рода Ашина, так и тенгрианская основа «кут». Таким образом, он стремился высвободить и восстановить сакральную титулатуру тюрков времен величия каганата. В это же время происходит воссоединение двух ветвей каганских родов тюрков – Ашина и Ашидэ. Присоединение к ополчению Кутлуг-чора влиятельного лидера ашидэ, Тоньюкука (кит. Ашидэ Юаньчжень), знаменовало собой качественно новый этап в развитии тюркского возрождения. В летописи сообщается: «Гудолу был очень обрадован, что он (Юаньчжень) перешел на его сторону, назначил его абодаганем и передал в его полное ведение все военные дела»[32]. Тоньюкук стал советником кагана. Во время интронизации Кутлуг-чор был наречен тронным именем Эльтериш-каган, а его супруга получила имя Эльбильге-катун.
После смерти ему наследует его младший брат Бег-чор (кит. Мочжо; после интронизации получил имя Капаган-каган). В описании интронизации Бег-чора скрытно отмечается эпизод борьбы двух начал в престолонаследовании. Судя по общему тону документов, Кутлугу должен был наследовать его сын, что означало бы внедрение патриархального порядка наследования по прямой нисходящей линии «отец-сын», но престол был занят Бег-чором, младшим братом Кутлуга, что вполне соответствовало традиционному порядку наследования по коллатеральному принципу. Было объявлено о похищении престола и о том, что Бег-чор «сам назвался каганом»[33]. Источники скрывают от нас очень активную политическую и родовую борьбу, происходившую в каганате в то время. Попытка изменить престолонаследие едва не обернулась катастрофой: в момент обретения величия тюркские каганы были вынуждены потратить время на восстановление легитимности власти и ее сакрального статуса. Наступил период укрепления Второго Восточного тюркского каганата (693–716 гг.), в который восточные тюрки столкнулись с окрепшими народами енисейских кыргызов и тюргешей. Их титулатура совпадала с тюркской. Стоит отметить момент столкновения – сразу три народа, исповедующих приблизительно одинаковую религию и несущих в себе сакральность некогда единого каганата, вступили в борьбу за гегемонию во всей Центральной Азии. Кыргызский ажо Барсбек встал во главе триединого союза кыргызов, тюргешей и тибетцев. Сам Барсбек в начале VIII в. принимает титул Ынанчу Алп Бильге Каган. Таким способом правитель енисейских кыргызов счел нужным совместить сразу четыре титула – собственно титул «каган», затем имя «бильге» (мудрый, знающий путь), с сохранением при этом енисейско-кыргызской титулатуры «алп». Восточно тюркские каганы не имели таких титулов, кроме самого наследника престола Бильге кагана. Тем самым Барсбек бросил вызов кагану восточных тюрков. На тот момент престол занимал Капаган каган, но главнейшую роль в каганате играл Кюльтегин: хоть сакральный статус его титула был слаб (лишь передаваемый по наследству титул «тегин»), он сумел оставить после себя славу о грандиозных подвигах, совершаемых в честь своего народа. В это же время тюргеши в Средней Азии также стали обосновывать свою преемственность прав каганата. После того, как в конце VII в. были перебиты наследники рода Ашина, тюргеши усиленно стали выдвигать своих ставленников на власть. Они владели важнейшей ветвью Великого шелкового пути и по праву считали себя преемниками каганов, при этом правители тюргешей не назывались почтительно каганами, отлично понимая, что сил удержать этот титул у них нет. Они довольствовались титулом «джабгу» (наместник), который переходил и как наследственный, и как сакральный. Умудренные опытом борьбы в Средней Азии тюргеши, вступив в союз с Барсбеком, признали его высокий титул и роль главного лидера в союзе. Барсбек поступил мудро и расчетливо: тюргеши, наступившие с запада, тибетцы с юга и енисейские кыргызы с севера вполне могли разгромить восточных тюрков. Но Кюльтегин решил опередить кыргызского кагана – он решил разгромить противников поодиночке. Китай остался в стороне от распрей соседей, приняв политику «мудрой обезьяны», как исповедовали учителя-даосы. Кюльтегин за короткое время разбил тюргешей и тибетцев, а затем зимой 711 г., воспользовавшись помощью предателя из племен азов, пробился в тыл енисейским кыргызам и напал на них в грандиозной битве при Черни Сунга. Барсбек погиб, а наследник престола восточных тюрков принял в 716 г. его титул Бильге. Борьба шла не только на воинском уровне: сакральные титулы требовали подтверждения, поскольку по неписанным законам Степи каган мог быть только единственным. Восточные тюрки также исчерпали себя в борьбе с кыргызами – уже через 20 лет они настолько ослабли, что их правители утратили авторитет, вновь став, по сути, марионетками Китая. После смерти великих правителей Тонъюкука и Кюльтегина, а затем – и Бильге кагана, пришел черед распрей и раздоров, закончившихся воцарением в Центральной Азии государства уйгуров. В это же время тюргеши подняли на время собственного кагана – Сулук Чабыш Чора. Как известно, тюргеши не принимали высшей тюркской титулатуры, но каган Сулук стал исключением. Он добил остатки западных тюрков (марионеток Китая в Средней Азии)[34], а затем поставил себя каганом всех тюрков Средней Азии, на время объединив разнородные племена. Его борьба против арабов и Китая сохранилась в источниках как арабско-персидского, так и китайского происхождения; последние, именовали его в транскрипции (кит. упр.蘇祿, пиньинь: sulu, падл.: Сулу, буквально: «lang-kk»). «Каган Сулук» стал на некоторое время препятствием для столкновения двух сил – арабов и китайцев. Его независимое государство при сохранении титула «каган» могло бы просуществовать и дольше, но распри между двумя родами вновь погубили наследие кагана. Его преемники довольствовались титулом «тархан», что являлось небольшим княжеским титулом. Пришедшие после тюргешей карлуки сохранили титул «ябгу», «джабгу» как наследственный и наделенный сакральностью, но при этом их раздробленность не давала им возможности достичь успеха в создании целостного государства после Таласской битвы 751 г.[35] Итак, к середине VIII в. титул «каган» уже не мог быть присвоен никем из тюркских или родственных им племен. Уйгурские правители рода Яглакар успешно расправились с союзными им басмылами, а затем стали править в основной части Центральной Азии. Титулатура уйгурских правителей также основывалась на тюркском корне: первый правитель носил имя Кутлуг, что явно было связано с победой над ослабевшими восточными тюрками. Уже через несколько десятков лет начинает прослеживаться борьба с усиливавшимися енисейскими кыргызами – уйгурские правители стали присваивать себе титулы «ачо», при этом добавляя по китайским летописям наименование «кэхань» как правители тюрков[36]. Повлияла и смена религии – по Великому шелковому пути к уйгурам проникли проповедники манихейства, которые, следуя заветам своей религии, стали оказывать сильное влияние на правителей рода Яглакар вплоть до установления очередности престолонаследия[37]. В конечном итоге религиозные и племенные распри, а также резкая смена климата привели к упадку уйгурского государства, а на смену ему пришло установившееся после 840 г. Кыргызское великодержавие. Енисейские кыргызы умело воспользовались распрями внутри уйгуров и удачно выбрали момент восстания против правителей, облагавших их данью с 744 г. В течение 20 лет шла война, в результате которой енисейские кыргызы стали владыками Центральной Азии. В китайских летописях начинают указываться кыргызские послы от кыргызского кагана как равные китайскому императору[38]. К сожалению, в этот момент прерывается цепочка летописей китайских источников, а арабские источники были более заняты борьбой в халифате. Имена кыргызских каганов еще предстоит выяснить как археологии, так и источниковедению.
Насколько нам позволяет оценить современная историография, они также были составлены из тюркских и кыргызских титулатур, при этом манихейство среди енисейских кыргызов не укрепилось. В это же время в Средней Азии карлукские джабгу приняли ислам. В результате ряда столкновений с более укрепленными государством Саманидов у джабгу начался переход в более прогрессивную составляющую государства. Карлукская государственность не пала – она модифицировалась. От карлукского государства (соединения племен) получила свое происхождение династия Караханидов, поскольку титулы «арслан-джабгу» и «богратегин» пошли впрямую от карлуков.
В заключение стоит отметить, что сакральность титулов у тюрков в раннем средневековье всегда являлась основной составляющей их власти, легитимным и легализующим моментом в процессе генезиса государств и народов, населявших Центральную Азию в ту эпоху.
* * *
УДК 94(5) «04/14»
ФУКАЛОВ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ. Соискатель степени кандидата исторических наук, Кыргызский Национальный Университет им. Жусупа Баласагына, Бишкек.
IVAN FUKALOV. Postgraduate student, Kyrgyz National University, Bishkek.
E-mail: fukalovl988(a)mail.ru.
САКРАЛИЗАЦИЯ ТЕРМИНОЛОГИИ ВЛАСТИ У ТЮРКОВ РАННЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
Средневековые представления о божественности правителя – носителя идеи порядка, участника космологического действа, – являлись всеобщими. Обожествление главы государства было важной коллективно-психологической предпосылкой интеграционных процессов в центрально-азиатских номадических обществах. По нашему мнению, аналогичными сакральными позициями обладали тюркские и кыргызские правители. Однако источники не содержат прямого и концентрированного описания системы таких представлений. Вместе с тем традиция осмысления власти в категориях «священного», как и любое другое явление культуры, не могло исчезнуть, не оставив никакой информации. В современных исследованиях расшифровке подобной информации должно быть уделено большое внимание. Данные, содержащиеся в памятниках енисейской и орхонской руники, в китайских и мусульманских источниках, синхронны реконструируемому мировоззренческому образу. Они могут стать основой для параллелей с фольклорными материалами, не имеющими прочной хронологии.
Очевидно, что титулы правителей несли в себе особую роль в отношении сакрализации как наследуемой по принципу передачи или заимствования титула, становившегося сакральным. Это стоит отметить в отношении титулов «тегин», «тархан», «джабгу». Кроме функции обозначения занимаемого поста в каганате, эти титулы несли сакральную нагрузку, делая их обладателей более значимыми в среде тюркской элиты. С первых шагов государственной истории тюркское общество было строго ранжировано. Место и политический вес члена общества во многом определялись его титулом, нередко наследственным, закреплявшим положение его носителя в системе социальных связей и соподчинений.
Очевидно, что древнетюркский и кыргызский корпусы титулатуры теснейшим образом связаны между собой. Получение титула было очень важным моментом в жизни представителя правящего слоя государства. Часто это событие и описание заслуг фиксировалось в эпитафии. Принятие кыргызским правителем титула каган означало не только политический акт, но и претензию на обладание сакральностью кагана во всей ее полноте.
Ключевые слова: Средневековье; тюрки; власть; религия; сакрализация; правитель.
SACRALIZATION OF THE TERMINOLOGY OF POWER BY EARLY MEDIEVAL TURKIC PEOPLES OF CENTRAL ASIA
Medieval people shared perceptions about divinity of the governor – the bearer of the idea of the order, the participant of cosmological actions. Deification of the heads of the state was the important collective-psychological prerequisite of the processes of integration in Central Asian nomad societies. In our opinion, Turkic and Kirghiz governors possessed similar sacral positions. However, sources do not contain direct and solid description of the system of such perceptions. At the same time, the tradition of interpreting power in the categories of «sacred», as well as any other phenomenon of culture, could not disappear, not having left any information. Modern researchers should pay great attention to decoding such information.
Obviously, the titles of governors played a special role in the attitude towards sacralization, which was inherited and, thus, the title became sacral, which should be noted as far as the titles «tegin», «tarhan», «jabgu» are concerned. Besides the function of denomination of the occupied position in the Khaganate, these titles had sacral meaning, making their owners more significant in the environment of Turkic elite. From the first steps of the history of the Turkic state the Turkic society was strictly hierarchical. The place and political heft of a member of society were in many respects defined by his title, quite often hereditary, which strengthened the position of its bearer in the system of social communications.
It is evident that Turkic and Kirghiz titles are closely connected with each other. The acquisition of the title was a very important moment in the life of a representative of a ruling layer of the state. This event and the description of merits were frequently recorded in the epitaph. The acquisition of the khagan title by Kirghiz governor meant not only the political art, but also the claim for possession of sacrality of the khagan in all its completeness.
Keywords: the Middle Ages; Turkic people; the power; religion; sacralization; the governor.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Бартольд В. В. Киргизы. Исторический очерк // Соч., Т. II. Ч. 1. М.: Наука, 1963. С. 471–543.
2. Виденгрен Гео. Мани и манихейство./ пер. с нем. С. В. Иванова СПб.: Издательская группа «Евразия», 2001.
3. Гумилев А. Н. Древние тюрки. М.: Кристалл, 2003. 575 с.
4. Зуев Ю. А. Создание Тюргешского каганата: история и традиция // Эволюция государственности Казахстана. Алматы, 1996. С. 39–48.
5. Камалов А. К. Древние уйгуры VHI–IX вв. Алматы: «Наш Мир», 2001. 216 с.
6. Кляшторный С. Г. Генеалогия и хронология западнотюркских и тюргешских каганов VI–VIII вв. // Из истории дореволюционного Киргизстана. Фрунзе: Илим, 1985. С. 165–168.
7. Кляшторный С. Г. Каган, беги и народ в памятниках тюркской рунической письменности // Ученые записки ЛГУ. 1984. Вып. 25(9). С. 16–25. 254 с.
8. Аъвова Э. А., Октябрьская И. В., Сагалаев А. М., Усманова М. С. Традиционное мировоззрение тюрков Южной Сибири: Человек. Общество. Новосибирск: Наука. Сибирское отделение, 1989. 241 с.
9. Lui Mau-tsai. Die chinesischen Nachrichten zur Geschichte der Ost-Turken (T' u-kue). Wiesbaden: O. Harrassowitz, 1958. 831 s.
10. Pritsak O. Karachanidische Streitfrage // Oriens. Vol. 3. N. 2. 1950. S. 209–228.
REFERENCES
1. Bartol’d Vasilij. “Kirgizy. Istoricheskij ocherk” in Sochineniya. In 9 vol. Vol. II. Part 1. Moscow: Nauka Publ., 1963. S. 471–543. (in Russian).
2. Gumilev Lev. Drevnie tjurki. Moscow: Kristall Publ., 2003. (in Russian).
3. Kamalov Ablet. Drevnie ujgury VIII–IX vv. Almaty: Nash Mir Publ., 2001. (in Russian).
4. Kljashtornyj Sergej. “Genealogija i hronologija zapadnotjurkskih i tjurgeshskih kaganov VI–VIII w.” in Iz istorii dorevoljucionnogo Kirgizstana. Frunze: Ilim Publ., 1985. S. 165–168. (in Russian).
5. Kljashtornyj Sergej. Kagan, begi i národ v pamjatnikah tjurkskoj runicheskoj pis’mennosti, Uchenye zapiski LGU25 (1984). P. 16–25. (in Russian).
6. Lvova Jeleonora, Oktjabr’skaja Irina, Sagalaev Andrej, Usmanova Mar’jam. Tradicionnoe mirovozzrenie tjurkov Juzhnoj Sibiři: Chelovek. Obshhestvo. Novosibirsk: Nauka, Sibirskoje otdelenie Pubk, 1989. (in Russian). 241 p.
7. Lui Mau-tsai. Die chinesischen Nachrichten zur Geschichte der Ost-Turken (T'u-kue). Wiesbaden: О. Harrassowitz, 1958. 831 s.
8. Pritsak O. Karachanidische Streitfrage, Oriens 3 (1950). 831 p. P. 209–228.
9. Videngren Geo. Máni i manihejstvo, transl. S. V. Ivanova Saint Petersburg: Izdatel’skaja gruppa «Evrazija» Publ., 2001. (in Russian).
10. Zuev Jurij. “Sozdanie Tjurgeshskogo kaganata: istorija i tradicija”, in Jevoljucija gosudarstvennosti Kazahstana. Almaty, 1996. S. 39–48. (in Russian).
German, Roman and Frankish: the national narratives of the early Hohenstaufen era (1138–1190) and their Influence on high Politics
Vedran Sulovsky
Shortly after the end of the investiture controversy, Henry V (1106–1125), the last emperor of the Salian dynasty, died childless. While Lothair III of Supplingenburg (1125–1137) succeeded him at first, at his death it was Conrad III of Hohenstaufen (1138–1152), who was elected king. His position was very weak: Saxony and Bavaria were his open enemies, while Italy fell into complete disarray. The new ruler desperately needed to boost his legitimacy, but he never really achieved this. It is difficult to tell how Conrad would have portrayed himself as a legitimate ruler, as no source commissioned by him remains. However, Otto of Freising s Chronica sive historia de duabus civitatibus, written in 1146 was revised in 1153 in order to be presented to Frederick Barbarossa (1152–1190), Conrad’s nephew and heir. However, only a small part of the text was actually revised. Otto of Freising, who was a close relative to the Hohenstaufen, apparently believed in the same 'national’ narrative as the Hohenstaufen, as other sources from the court of Frederick I prove.
Otto’s view of world history is a complicated one. First of all, he conceives the Roman Empire as the last of the four empires as prophesized by Daniel, after whose end the world itself should end. The empire, however, migrated from one people to another for quite some time, having gone from the Romans to the Greeks, then to the Franks, who then lost it to the Langobards, who, in turn, lost it to the Franci Teutonici, the German Franks. During this migration the Roman Empire grew weak[39]. Both the Western, that is, Latin, Franks and the German Franks were descendants of the Trojans, who, upon escaping the burning city of lilium, split into two groups: while the future Romans followed Aeneas on his way to Latium, the future Franks went to Scythia and called themselves the Sicambri[40]. Interestingly, Otto describes the rise of the
Roman Empire as well as the history of the Franks[41]. In fact, the history of the impérium itself takes pride on the place in his History of the Two Cities, whose title refers to the Church and the Empire, which are called the civitas Dei and the civitas terrena, respectively[42]. Christ’s birth during the times of Augustus (27 BC-14 AD) was described by Otto as the will of God, who wanted to make Rome the seat of the Church[43].
To Otto, the key moment of world history was the reign of Constantine the Great (306–337), who Christianized the Roman Empire and united the civitas Dei and civitas terrena into the civitas permixta. However, Constantine moved the impérium to Constantinople and gave it to the Greeks. Whether Constantine gave the western part of the empire to Pope Sylvester I or not, Otto does not decide, but leaves it to the reader[44]. The fall of Rome is a dramatic episode in Otto’s chronicle, followed a row of tyrannies in Italy until Justinian’s reconquest of it for the Romans[45]. From then on the chronicle traces the history of the Franks until Charlemagne renovated the Roman Empire under the Franks, finally transferring it away from Constantinople[46]. It is at this precise point that the two Trojan lines, the Roman and the Frankish, finally converge. After the Carolingians lost control of the empire, Henry I (919–936) was elected king of Eastern Francia. For Otto of Freising this was the key moment in the history of his country, the Roman Empire, as it was disputed whether Henry I continued the regnum Francorum or started a regnum Teutonicorum. Otto solves the problem by stating that the regnum Teutonicorum, which held the impérium Romanům in his own day, was a part of the regnum Francorum. Finally, the impérium Romanům was conquered by Otto the Great from the Langobards in 962[47].
However, the problem of the Hohenstaufen Frankish ideology was that the Ottomans (919-1024) were a Saxon dynasty. In order to solve this problem, it was stated that Conrad II’s (1024–1038) wife, Gisela, was a descendant of Charlemagne, and therefore the throne ofGermany would return to the Franks under her descendants[48]. This version of history was the official one in the 1150s, when Otto of Freising started writing the Gesta Friderici I. imperatoris in 1156, and which his chaplain Rahewin continued up to 1160[49]. However, as this was a work of contemporary history, there are fewer ideological elements in it. Yet the main elements of the ideology are still present as both Otto and Rahewin invent Frederick Barbarossa’s speeches on his Italian campaigns. The speeches show several important elements of the identity of Barbarossa’s court:
l) they considered themselves Eastern Franks and Germans, 2) Charlemagne conquered the impérium from the Langobards for the West Franks, while Otto the Great conquered it again from the Langobards for the East Franks[50]. While the political character of Frederick’s speeches and his goal to reestablish imperial rule in Italy is obvious, his source of legitimacy, the legacy of the Franks, was fervently denied by the Senate of Rome, which claimed that only the city of Rome may bestow the impérium Romanům upon a person, and that not even the pope could do so[51]. The papacy and many Italian authors, however, believed that the impérium was the pope’s to give[52]. Even pro-Hohenstaufen authors such as Otto Mořena[53] and the anonymous author of the Carmen de gestis Friderici I. in Lombardia held this view[54]. Frederick and his court, on the other hand, had a different view: the emperor was crowned by God while the pope was merely the physical instance through which God operated[55], just like God anointed David through his agent, the prophet Samuel[56].
The question is: what was at stake for both Conrad III and Frederick I? While the first could not force his opposition in Germany to submit, Frederick had practically no opposition there except in the 1180s. What they had in common was the plan to restore imperial rule over Italy and conquer the Kingdom of Sicily while giving out as few concessions to the papacy and the Byzantine Empire as possible[57]. Both Conrad III and Frederick I were elected as kings when another candidate was the legal heir of the previous ruler: Conrad succeeded Lothair III instead of his son-in-law Henry X of Bavaria, and Frederick succeeded Conrad III instead of Conrad’s seven-year-old son Frederick[58]. However, there is a difference between the two Hohenstaufen. While Conrad III died never having achieved unity in the empire, Frederick’s catastrophic Italian campaign of 1166–1168 produced unexpected results: half his court had died of the plague, including his young cousin, Frederick of Rothenburg. Barbarossa was now free to crown his own son, Henry VI, junior king in 1169[59].
This change is reflected in the works of Godfrey of Viterbo, which contains a narrative revised for the different situation of the 1180s. Godfrey’s position as tutor to Henry VI makes his work even more interesting, as most of his works were apparently written for the education of the young king[60]. A noticeable change in the narrative is that while Otto of Freising praised the elective principle of the imperial succession in the 1150s[61], already Godfrey of Viterbo’s first work, the Speculum regum, instructed Henry VI to look up to his ancestors, including Nimrod, whom God himself gave royal power, Jupiter, who was the first man to call himself a god, and Augustus, who founded the Roman Empire and almost proclaimed himself a god, but then had a vision of the Mother of God with Child[62]. The Speculum's story of Constantine the Great is a different case altogether: Henry VI is taught that Constantine was a base foreigner who robbed Rome of her impérium and gave it to the Greculi[63]. Moreover, he was an Arian heretic who introduced heresy to the whole world. Godfrey’s later works, including all the versions of the Pantheon, describe Constantine in line with Otto of Freising s Chronica[64].
Godfrey’s history of the Franks is an even more ideologically biased. In one version, Clovis was baptized even before Constantine the Great was. Clovis was, therefore, more virtuous and beloved of God, just like his people, the Franks, were[65]. In Godfrey’s other versions of Frankish history a more realistic chronology is observed[66]. The Carolingian overthrow of the Merovingians is portrayed as a natural development of a people who could not bear feeble rulers[67]. Godfrey retells the legend of Charlemagne, the main character in all of his works, differently each time. However, aside from the references to David’s anointment during Charlemagne’s coronation by God, the most striking element found in Godfrey’s works is the reworked genealogy of Charlemagne. His father remains Pepin the Short (751–758), who is described as a Frank, but his mother Bertrada becomes Berta, the granddaughter of Emperor Heraclius (610–641). As Godfrey states, Charlemagne united the two Trojan lineages, the Frankish and the Roman-Greek, into one, thereby becoming the rightful ruler of the impérium Romanům[68]. The rest of Godfrey’s Frankish and German history follows Otto of Freising’s model[69].
The views of history presented here were not necessarily believed in by anyone outside the court. Moreover, some 'German’ authors, that is, northern Germans/Saxons, do not mention these theoretical constructs[70].
The most likely conclusion as to why this is so is that there was no single unified German identity. While Miiller-Mertens proved that the elites of the various peoples we consider German today did have a sense of German identity as early as the 1110s[71], it seems that every author related himself firstly to his locality and region, and only then to the larger regnum Teutonicum, regnum Francorum and impérium Romanům. As the Hohenstaufen court followed an agenda of conquest in Italy and the restoration of imperial rights in general, it was only logical that the courtly histories would take up more elements of Frankish and Roman histories and identities. In Italian eyes it was much easier when it came to defining the empire: it had always been and would always be only Roman[72]. The opponents of the Hohenstaufen who appear as characters in the works of the Hohenstaufen supporters retain this distinction. For example, the Milanese are allowed to insult Barbarossa as merely a German in the Carmen de gestis[73].
To sum up, the imperial court espoused a German, Roman and Frankish identity. Roman because the impérium itselfwas Roman, Frankish because Charlemagne took the impérium away from the Greeks, and German because Otto the Great won the impérium from the Langobards, thereby excluding the French from Charlemagne’s legacy, the empire. While a German national identity was definitely in the background of this ideology, the imperial element is so much more present that it is more appropriate to conclude by saying that a Roman imperial identity existed at the court of the kings of Germany.
* * *
УДК 94(430).024
BE ДРАН СУДОВ СКИ. Магистрант, Центральный Европейский университет, Будапешт, Венгрия.
VEDRÁN SULOVSKY. МА student, Central European University, Budapest, Hungary. E-mail: vedransulovsky(o)hotmail.com
ГЕРМАНСКОЕ, РИМСКОЕ И ФРАНКСКОЕ: НАЦИОНАЛЬНЫЕ НАРРАТИВЫ ЭПОХИ РАННИХ ГОГЕНШТАУФЕНОВ (1138–1190) И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ПОЛИТИКУ
В средневековой Европе происходили те же процессы, что и в современной: когда наблюдалось столкновение национальных идентичностей, многие из которых актуализировались вслед за великим потрясением, последовавшим за падением Советского Союза. Особенно интересным представляется пример Священной Римской Империи, многонационального государства, колебавшегося между франкской, римской и немецкий идентичностями. В то время как некоторые правители, например, Карл Великий или Оттон Великий, отдавали предпочтение франкской идентичности, другие – такие, как Людовик Благочестивый или Оттон III, полагали, что только римское самосознание должно иметь значимость.
Однако, начиная с 1000 г. это оспаривалось итальянскими писателями, что итоге привело к отказу от Римского и имперского характера политики при конфликте за инвеституру в 1070 гг. С тех пор термин Teutonicus вышел на авангард европейской дипломатии для умаления будущих императоров Римской империи. Постепенно и немецкие авторы начали прибегать к нему, хотя первоначально его использовали папистские литераторы. Ко времени Конрада III (1138–1152) немецкая идентичность уже повсеместно воспринималась германскими авторами, однако римская и франкская не были полностью забыты.
В течение последующих 50 лет различные национальные нарративы были косвенно усвоены разными людьми. Если Конрад III и Фридрих I (1152–1190) высказывали более франкские политические взгляды, то римская коммуна и папство имели различные римским идентичности. Восприятие правителей среди других итальянских авторов существенно разнилось: сторонники империи называли императора Римским, остальные – немецким варваром. Он не мог быть франком, ибо к этому времени это однозначно означало среди итальянцев – француз. У немецких авторов, тем не менее, сомнений не возникало: они были и немцкими, и франкскими, и даже иногда римскими, в зависимости от ситуации.
Ключевые слова: Германский; Франкский; Римский; Конрад III (1138–1190); Фридрих I (1152–1190); Рим; папство; идентичность; со-идентичность; соперничающая идентичность.
GERMAN, ROMAN AND FRANKISH: THE NATIONAL NARRATIVES OF THE EARLY HOHENSTAUFEN ERA (1138–1190) AND THEIR INFLUENCE ON HIGH POLITICS
Just as modern Europe has contested national identities, some of which have been challenged in the great upheaval following the fall of the Soviet Union, so did Medieval Europe have many similar phenomena. A particularly interesting case is the Holy Roman Empire, as it was multi-national state which wavered between the Frankish, Roman and German identities. While some rulers, for example Charlemagne and Otto the Great, thought the Frankish identity to be the most important one, other, such as Louis the Pious or Otto III, believed that the Roman identity should be only relevant one.
This, however, had been contested by Italian writers since 1000, eventually leading to a renunciation of the Empire’s Roman and Imperial character by Gregory VII in the 1070s. Since then the term Teutonicus rose to the forefront of European diplomacy as a disparagement of the would-be Roman emperors. German authors slowly started using the term themselves, even though it was primarily used by pro-Papal writers at first. By the time of Conrad III (1138–1152), however, the German identity was commonly accepted by German writers, although the Frankish and Roman identities had still not been completely forgotten.
During the following half century, differing national narratives were implicitly accepted by various persons. While Conrad III and Frederick I (1152–1190) exhibited a more Frankish-based political worldview, the Roman Commune and the Papacy embraced two very different Roman identities. Among other Italian authors the rulers were perceived in markedly different fashions: imperialists called the emperor a Roman, while others called him a German barbarian. A Frank he could not be, as by this point this meant only the French – in Italian eyes. For German authors, however, no doubt existed: they were both German and Frankish, and sometimes even Roman, depending on the situation.
Keywords: German; Frankish; Roman; Conrad III (1138–1190); Frederick I (1152–1190); Rome, the Papacy; identity; coidentity; contested identity.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ (REFERENCES)
1. Anonymus. Carmen de gestis Frederici I. imperatoris in Lombardia, ed. Irene Schmale-Ott. MGH SRG 62. Hannover: Hahnsche Buchhandlung,1965. 125 s.
2. Anonymus. „Civis Mediolanensis anonymi Narratio de Longobardie obpressione et subiectione", Italische Quellen Uber die Taten Kaiser Friedrichs L, Italien und der Brief Uber den KreuzzugKaiser Friedrichs I, hrsg. Franz-Josef Schmale. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1986. S. 240–295.
3. Dendorfer Jurgen. „Konrad III. und Byzanz“, in Die Staufer und Byzanz. hrsg. Karl.-Heinz. Ruefi, Góppingen: Gesellschaft fur Staufische Geschichte, 2013. S. 58–73.
4. Engels Odilo. „Friedrich Barbarossa im Urteil seiner Zeitgenossen“, in Stauferstudien: Beitrage zur Geschichte der Staufer im 12. Jahrhundert, hrsg. Odilo Engels. Sigmaringen: Thorbecke, 1996. S. 225–245.
5. Godfrey of Viterbo. „Pantheon”, in MGH SS 22, Historici Germaniae saec. XII, 2, hrsg. Georg Heinrich Pertz und Georg Waitz, Hannover: Hahn, 1872. S. 107–307.
6. Godfrey of Viterbo. „Speculum regum“, in MGH SS 22, Historici Germaniae saec. XII, 2, hrsg. Georg Heinrich Pertz und Georg Waitz, Hannover: Hahn, 1872. S. 21–93.
7. Górich Knut. Friedrich Barbarossa: Fine Biographie. Munchen: С. H. Beck, 2011. 782 s.
8. Górich Knut. „Friedrich Barbarossa und Byzanz", Die Staufer und Byzanz, hrsg. Karl.-Heinz. Ruefi, Góppingen: Gesellschaft fur Staufische Geschichte, 2013. S. 74–85.
9. Hausmann Friedrich. „Gottfried von Viterbo: Kapellan und Notár, Magister, Geschichtsschreiber und Dichter", Friedrich Barbarossa. Handlungsspielráume und Wirkungsweisen des staufischen Kaisers, hrsg. Alfred Haverkamp. Sigmaringen: J. Thorbecke, 1992. S. 603-21.
10. Mierow Charles, ed. and trans. The Deeds of Frederick Barbarossa. New York: W. W. Norton & Company, 1966. 366 p.
11. Miiller-Mertens Eckhard. Regnum Teutonicum. Berlin: Akademie-Verlag, 1970. 416 s.
12. Otto Mořena. „Ottonis Morenae eiusdemque continuatorum Libellus de rebus a Frederico imperatore gestis", Italische Quellen Uber die Taten Kaiser Friedrichs I. in Italien und der Brief uber den Kreuzzug Kaiser Friedrichs I, hrsg. Franz-Josef Schmale. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1986. S. 34-239.
13. Otto of Freising. Chronica sive historia de duabus civitatibus, hrsg. Adolf Hofmeister, MGH SRG, Usum scholarum separatim editi 45. Hannoverae et Lipsiae: impensis bibliopolii Hahniani, 1912. 577 s.
14. Otto of Freising. „Ottonis Gesta Friderici I. Imperatori", MGH SRG, Usum scholarum separatim editi 46, Ottonis et Rahewini Gesta Friderici I. Imperatoris, hrsg. Georg Waitz und Bernhard von Simson. Hannoverae et Lipsiae: impensis bibliopolii Hahniani 1912. 385 s. P. 1–161.
15. Rahewin of Freising. „Rahewini Gesta Friderici I. imperatoris", MGH SRG in usum scholarum separatim editi 46, Ottonis et Rahewini Gesta Friderici I. imperatoris, Ed. Georg Waitz and Bernhard von Simson. Hannoverae et Lipsiae: impensis bibliopolii Hahniani. P. 162–346.
Гуситские грамоты и их перевод в «Книге императора Сигизмунда» Эберхарда Виндеке: распространение протонационального дискурса
Наумов Н. Н.
Гуситские войны представляют собой явление сложной природы, потому перед тем, как приступить к частному вопросу, которому посвящен мой доклад, я хотел бы схематично обрисовать, в каком виде представал перед учеными XIX–XXI вв. этот конфликт между Сигизмундом Люксембургским и его чешскими подданными. Франтишек Палацкий, признанный основателем чешской исторической науки, считал, что в 1419 г. «практически все чехи были едины в требовании реформы в церкви, а также мести и восстановления поруганной национальной чести»[74] – под последним он подразумевал месть за сожжение чешского проповедника Яна Гуса в Констанце в 1415 г. и закрепление права на использование чешского языка в проповеди, законодательстве и судопроизводстве. С точки зрения «Истории чешского народа в Чехии и Моравии» – национальной истории, написанной Палацким в середине XIX в. – именно чех-гусит, т. е. чех – сторонник церковной реформы, воевал с Сигизмундом и его вассалами из венгерских и немецких земель.
Марксистская историография XX в.[75] вывела на первый план социальный момент, несколько затененный у Палацкого. Крестьянин-чех, чешская городская беднота и служилое дворянство воевали против Сигизмунда, поддерживаемого немецкоязычным городским патрициатом и крупной, породненной с немецкими родами знатью. В чешской историографии XIX–XX вв. налицо понимание гуситских войн как прямолинейного процесса: борьбы чеха с немцем, реформатора-гусита с консерватором-католиком, ущемленного с угнетателем.
Однако это представление об одномерном и прямолинейном характере гуситских войн – войн «бедных чехов-гуситов против богатых немцев-католиков» – было подвергнуто основательной критике в работе западногерманского ученого Фердинанда Зайбта «Hussitica. К структуре революции» (1965 г.)[76]. Он предположил, что религиозный, национальный и социальный факторы действовали одновременно (gleichzeitig) и иногда разнонаправленно, а не строго однонаправленно (zugleich)[77]. Зайбт показал, что гусизм как стремление к церковной реформе получил отклик и в немецких землях. При этом различные локальные и социальные структуры Чешского королевства предпочли сохранить свою приверженность католичеству и лояльность Сигизмунду, вне зависимости от своего языка. Нынешняя чешская историография благодаря спорам между Зайбтом и чешскими марксистами, осознав сложность и многонаправленность гуситских войн как явления, обратила внимание и на другую сторону конфликта – чешских сторонников Сигимунда – но теперь, в противоположность «старой историографии», стремится затушевать, умолчать или даже отрицать присутствие этнического конфликта[78].
Однако представление о связи между религиозным и национальным характером Гуситских войн (пусть Зайбт и ясно продемонстрировал ее относительность), возникло у Франтишка Палацкого неслучайно. Конечно, этот историк жил в «век национализма», и идея «национального» витала в воздухе, когда он в конце 1840-хгг. сочинял свой труд. Но он был также знатоком и издателем множества документов конца XIV – первой половины XV в., и определенно существовало нечто, что подтолкнуло его к этой идее. «Тогда уже сильно привыкли употреблять слова «чех» и «еретик» как синонимы»[79], – так Палацкий обобщает антигуситский дискурс того времени, проводившийся в иностранных источниках. Это взаимоотнесение этнического/языкового с одной стороны, и воззрений на церковь – с другой, а также оценка других народов, исходящая из такого понимания, присутствует и в гуситской полемической литературе, особенно в т. н. гуситских манифестах – посланиях, в которых гуситы обращались к жителям отдельных поселений/всего Чешского королевства/целого христианского мира, заявляя о своем учении и требуя их поддержать.
Одно из подобных посланий было составлено 5 ноября 1420 г., через четыре дня после того, как Сигизмунд со своим имперско-венгерским войском и верными ему чехами потерпел поражение в битве при Вышеграде. Послание известно в старочешских и средневерхненемецких вариантах и исходит от совета и общины города Праги, а также от гуситских дворян – предводителей гуситских отрядов, победивших в сражении. Адресат послания различается:
1) Чешский вариант приведен в «Гуситской хронике» Лаврентия из Бржезовой с пояснением, что это письмо «пражане после своей победы под Вышеградом написали и отправили баронам Богемии»[80]. Здесь определенно имеется ввиду чешско-моравская знать, участвовавшая в битве на стороне Сигизмунда. Из предыдущих сообщений Лаврентия следует, что чехи-лоялисты понесли большие потери: автор перечисляет поименно многих благородных и обвиняет в их смерти короля, который, дескать, намеренно определил чехам самую невыгодную позицию в сражении[81]. Этот эпизод упомянут и в манифесте, призванном привлечь на сторону мятежников оставшихся в живых чешских союзников Сигизмунда Люксембургского.
2) Немецкий вариант известен в виде грамоты, хранящейся в Нюрнбергском государственном архиве[82], а также приведен в «Книге императора Сигизмунда» Эберхарда Виндеке[83]. Грамота была послана жителям города Кааден (чеш. Кадань), расположенного в западной и в значительной мере немецкоязычной части Чешского королевства. Виндеке также добавляет, что пражские гуситы направили это письмо «господам и князьям, и городу Каадену и прочим городам», т. е. не исключает, что адресатом была и чешско-моравская знать. Этот город также сохранял верность Сигизмунду, что было отмечено самим королем в письме от 19 апреля 1420 г.
Грамота представляет собой письмо-жалобу, содержание которого можно представить в следующих цитатах: 1) «Сигизмунд Венгерский… позабыв о своем происхождении, отвратив от себя образец доброты и милосердия всех своих предков, предался неслыханной жестокости, и уже причиняет ее короне Чешского королевства пожарами, мерзким насилием над девицами и женщинами, убийством взрослых и детей»;
2) «И это… под защитой Римской церкви; берет к себе на помощь бесправно выданный папой против нас кровавый крест, никак не основанный на христианском порядке, чтобы чешский язык (народ), гонимый безвинно по всему свету, он смог своими самыми что ни на есть постыдными делами и еретичествами погубить и возвысить чужеземцев, заселив ими города прогнанных чехов»;
3) «Показал он это еще в день Всех Святых у Вышеграда, когда обозвал предателями баронов, рыцарей и господ чешского языка (народа) и послал их вперед, но придти на выручку к ним не захотел, не посмел или не смог, так что привел к смерти до пятиста самых благородных. Мы горько жалеем, что они, кровные нам чехи, были отвращены с истинной веры, и отвращены ради ослабления нашего чешского языка (народа)»;
4) «Немцев и венгров, злейших врагов нашего языка (народа) – он жалеет и ставит выше чехов, и все для того, чтобы чехи, сами себя с обеих сторон убивающие, ослабели, и тогда, ослабевшие, легко при помощи немцев и венгров были истреблены. Так и слышали из проклятых уст этого короля, сказавшего, что хотел бы пожертвовать венгерской землей, чтобы на чешской земле не было ни одного чеха»;
5) «Потому, милые друзья! Из любви и сострадания мы предупреждаем, чтобы вы пожалели сами себя и свой родной язык (народ), который этот то жестокосердец своими позорными обвинениями намеревается оставить на растерзание…»;
6) «Нас от спасения хочет отвратить и привести ко своей еретической вере, провозглашенной в Констанце, и погибели, и никакого ответа – ни устного, ни письменного – часто от него испрашиваемого не хотел нам дать. А если вы все-таки захотите ему помогать, видя его явные жестокости и погибель страшную и беззаконную для этой земли: тогда мы посчитали бы, что и вы стремитесь к уничтожению чешского языка (народа). И нам тогда придется выступать с помощью Божьей против вас, как против явленных врагов Божьих и чешского языка (народа)»[84].
Из содержания видно, что манифест, составленный сразу после битвы, в которой полегло много чешских союзников Сигизмунда, был обращен именно к той части чешско-моравской знати, которая уцелела и сохранила верность королю. Автором чешского варианта считается сам Лаврентий из Бржезовой, канцлер Нового Пражского места[85]. Немецкий вариант тоже был создан гуситами, судя по тому, что он известен и в виде отдельной грамоты к городу Каадену, хранящейся в Нюрнбергском государственном архиве, а не только в составе рукописей «Книги императора Сигизмунда».
Чешские тексты манифеста в разных вариантах «Гуситской хроники» не имеют существенных различий, но немецкий текст некоторых рукописей «Книги императора Сигизмунда» содержит очевидное разночтение и с чешским вариантом, и с прочими немецкими. Его можно наблюдать в следующей таблице:
Сопоставление этих двух столбцов делает для исследователя очевидными следующие отличия: 1) Ганноверская рукопись дополняет чешскую формулу до той, которая была принята в рассматриваемую эпоху в немецкой дипломатике и соблюдается в остальном тексте «Книги»: konig Sigemont von Ungern («Сигизмунд, король Венгрии»). Ганноверская рукопись считается наиболее близкой к утраченному оригиналу[86]. Вполне естественно предположить, что Эберхард Виндеке и его писцы автоматически применили здесь стандартную форму, пусть даже и создали этим усложненную конструкцию; 2) Наиболее существенное отличие: немецкий текст рукописей Н, VI говорит о «венгерской жестокости» Сигизмунда в то время, как чешский текст – о «неслыханной». Прочие манускрипты «Книги» (G и V2) используют слово «жестокость» без всяких эпитетов.
Как технически могло получиться, что жестокость короля приобрела этнический контекст? У меня есть два возможных объяснения: 1) эпитет появился во время преобразования чешского текста в немецкий, что было осуществлено самими гуситами; 2) это описка, которую допустил сам автор, Эберхард Виндеке, либо его писцы.
1. Обратим внимание на то, как пишутся старочешские слова «жестокость» (ukrutnost) и «венгерский» (uherský). По длине и, что очень важно, по внешнему виду первых двух букв – и и k / h, пишущихся с помощью долгой черты, их вполне можно перепутать, если переписчик вдруг ослабил свое внимание. К тому же, выше по тексту уже упоминался эпитет «венгерский»: «на Сигизмунда Венгерского» жаловались составители манифеста. Тем не менее, во всех рукописях «Гуситской хроники», которую переписывали чешские переписчики, в этом месте ошибок нет. Это значит, что переводил немец, причем, согласно предположению, немец-гусит. Для него было непривычно видеть постпозитивное определение, используемое в чешском варианте («ukrutnost neslýchanú», доел, «жестокость неслыханную). Для того, чтобы проверить это предположение, следует взглянуть на послание к городу Каадену, хранящееся в Нюрнбергском государственном архиве.
2. Точно так же похожи по написанию средневерхненемецкие слова «неслыханный» (ungehorte) и «венгерский» (ungersche). Это значит, что ошибка могла произойти и при переписывании немецкого текста вышеупомянутого послания к Каадену, тем более, что Виндеке особым образом выделяет в рубрике этот город, поскольку сам является приближенным Сигизмунда, пусть и не столь высокого ранга. Некоторые свидетельства указывают на то, что он был близок и к Каспару Шлику, придворному канцлеру императора. Это объясняет, как автор смог вставить в «Книгу» множество документов (например, переписку Сигизмунда с польским королем и магистром Ливонского ордена) и даже те письма, которые обвиняют Сигизмунда в чем-либо – жалобы Вацлава, его брата, прежнего короля Чехии. Точно так же к нему могло попасть и данное послание гуситов.
Я склонен придерживаться последней версии. Есть возможная причина того, что «венгерское» засело в сознании писца «Книги императора Сигизмунда». Венгры, в целом редко упоминающиеся в «Книге», вдруг появились в повествовании как раз при описании рассматриваемой битвы при Вышеграде: «После произошедшего римский король был в большом гневе, и, проехав промеж чехов, сказал им: "Вы, чехи, поголовно еретики и предатели; если бы вы остались с нами, то благочестивых людей и господ бы не зарубили, и сегодня мы были бы уже в Праге”. Тогда чехи стали на него напирать и говорили, что желают убить короля. Тогда набросились венгры и толпой оттеснили короля от чехов. Тогда чехи, забеспокоившись, не осмелились тронуть короля. Венгры пожелали напасть на чехов. Но король был в большой нужде и попросил венгров, чтобы они сохраняли с чехами мир»[87]. Эберхард Виндеке описал это событие через 17 лет; оно врезалось ему в память, так как это было столкновение, в котором чуть не погиб его патрон и благодетель.
О чем может говорить этот случай? Описка с одной стороны случайна, с другой – характерна. Немец-писец, был ли он гуситом или же католиком, усвоил и по-своему воспроизвел тот дискурс, который характерен для современной ему гуситской Чехии. Как в самом манифесте немцы и венгры обличаются как еретики и «злейшие враги чешского языка», так и здесь уставший писец, пусть непроизвольно, через описку, но связал жестокие (быть может и оправданные для католика и лоялиста) поступки короля с местом его правления, с чертами того народа, которого он вел против гуситов – венграми.
* * *
УДК 94(430+437) «1419/1437»
НАУМОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ. Аспирант, Московский государственный университет, Москва.
NIKOLAY NAUMOV. Postgraduate student, Moscow State University, Moscow.
E-mail: nn-naumov(a)mail.ru
ГУСИТСКИЕ ГРАМОТЫ И ИХ ПЕРЕВОД В «КНИГЕ ИМПЕРАТОРА СИГИЗМУНДА» ЭБЕРХАРДАВИНДЕКЕ: РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПРОТОНАЦИОНАЛЬНОГО ДИСКУРСА
В статье будет проведено сравнение старочешского оригинала одного из гуситских манифестов с его средневерхненемецким переводом, представленным в «Книге императора Сигизмунда» Эберхарда Виндеке. По некоторым неточностям немецкого варианта заметно, что его составитель усвоил и по-новому воспроизвел черты, характерные для этно-конфессионального дискурса гуситской Чехии. Тематика доклада лежит в русле проблемы зарождения этноконфессионального и протонационального дискурса в эпоху Позднего средневековья (XIV–XV вв.). Выводы, которые следуют из сравнения указанных грамот, подкрепляют следующую гипотезу: протонациональные аспекты, едва различимые у Эберхарда Виндеке, немецкого автора (ок. 1380 – ок. 1440), в значительной мере объясняются влиянием гуситского этноконфессионализма. Именно это явление, доходившее до двора Сигизмунда Люксембургского в виде грамот и манифестов, а также атмосфера раскола, в которой оно родилось (Великая схизма), порождали в мышлении современников Эберхарда Виндеке конфессиональные и даже этноконфессиональные мысли и идеи.
Ключевые слова: Эберхард Виндеке; гуситские грамоты и их переводы; «Книга императора Сигизмунда»; этно-конфессиональный и протонациональный дискурс.
HUSSITE LETTERS AND THEIR TRANSLATION IN THE EBERHARD WINDECICS “BOOK OF THE EMPEROR SIGISMUND”: THE SPREADING OF PROTONATIONAL DISCOURSE
This paper compares the original Hussite letter written in Old Bohemian and the Middle High German translation of it presented in the “Book of the Emperor Sigismund”. Some inaccuracies in the German version demonstrate that the translator understood, adopted and reproduced in a new way some typical features of the ethno-confessional discourse wide-spread in Bohemia during the Hussite revolution. The subject is related to the issue of the ethno-confessional and protonational discourse and its probable origin during the Late Middle Ages (the 14th – 15th centuries). The conclusions that could be made from the comparison of these letters, confirm the following hypothesis: the protonational aspects, however slightly they may be presented in the mentioned work of Eberhard Windeck, the German author (c. 1380 – c. 1440), are largely explained by the influence of the Hussite ethno-confessionalism. This phenomenon, which infiltrated indirectly into the court of the emperor and king (Sigismund of Luxembourg) in the form of letters and declarations, and the atmosphere of dissidence, in which it was born (the Great Schism), generated the confessional and even ethno-confessional aspects in the thinking of the contemporary people such as Eberhard Windeck.
Keywords: Eberhard Windeck; Hussite letters and their translations; «Book of the Emperor Sigismund»; ethno-confessional and protonational discourse.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Лаврентий из Бржезовой. Гуситская хроника. М.: Академия наук СССР, 1962. 330 с.
2. Bartoš F. М. Z politické literatury doby husitské // Sborník historický. 1957. T. V. S. 21–30.
3. Macek J. Husitské revolučné hnutí. Praha: Naše vojsko, 1952. 208 s.
4. Eberhart Windeckes Denkwurdigkeiten zur Geschichte des Zeitalters Kaiser Sigmunds // Hrsg. von Dr. W. Altmann. Berlin, 1893. 591 s.
5. Nurnberger Staatsarchiv / Ansbacher Kriegsakten / Fasz. I, N. 6.
6. Palacký F. Archív Český, čili staré písemné památky České a Moravské. Díl III. Svazek I. Praha: Kronberger i Riwnáč, 1844. 579 s.
7. Palacký F. Dějiny národu Českého w Čechách a w Moravě dle půwodních pramenů. Díl III/5. Částek I. Praha: Knihkupectví J. G. Kalve a České museum, 1850. 542 s.
8. Seibt F. Hussitica. Zur Struktur einer Revolution. Habilitationsschrift, Kóln, Graz, Bohlau, 1965. 205 s.
9. Seibt F. Hussitenzeit ais Kulturepoche // Historische Zeitschrift. 1962. Band 195, Heft I.S. 21–62.
10. Smahel F. Husitské Čechy: struktury, procesy, ideje. Praha: Lidové noviny, 2001. 758 s.
11. Wyss A. Eberhard Windecke und sein Sigmundbuch // Centralblatt fiir Bibliothekwesen. 1894. Jahrgang 11, Heft 10–11. S. 433–483.
REFERENCES
1. Bartoš František “Michálek. Z politické literatury doby husitské”, Sborník historický 5 (1957). S. 21–30.
2. Eberhart Windeckes Denkwurdigkeiten zur Geschichte des Zeitalters Kaiser Sigmunds, hrsg. Wilhelm Altmann. Berlin, 1893. 591 s.
3. Lavrentij iz Brzhezovoj, Gusitskaja hronika. Moscow: Akademija nauk SSSR Publ., 1962. 330 p. (in Russian)
4. Macekjosef. Husitské revolučné hnutí. Praha: Naše vojsko, 1952. 208 s.
5. Nurnberger Staatsarchiv, Ansbacher Kriegsakten, Fasz. I, N. 6.
6. Palacký František. Archív Český, čili staré písemné památky České a Moravské. Díl III. Svazek I. Praha: Kronberger i Řiwnáč, 1844. 579 s.
7. Palacký František. Dějiny národu Českého w Čechách a w Moravě dle půwodních pramenů. Díl III/ 5. Částek I. Praha: Knihkupectví J. G. Kalve a České museum, 1850. 542 s.
8. Seibt Ferdinand. “Hussitica. Zur Struktur einer Revolution”. Habilitationsschrift. Kóln, Graz, Bohlau, 1965. 205 s.
9. Seibt Ferdinand. “Hussitenzeit ais Kulturepoche”, Historische Zeitschrift 195 (1962). S. 21–62.
10. Smahel František. Husitské Čechy: struktury, procesy, ideje. Praha: Lidové noviny, 2001. 758 s.
11. Wyss Arthur. “Eberhard Windecke und sein Sigmundbuch”, Centralblatt für Bibliothekwesen 11 (1894). S. 433–483.
Национальное и корпоративное в нарративах раннестюартовских цивилистов XVI–VII вв.
Паламарчук А. А.
Период правления в Англии династий Тюдоров и Стюартов, начавшийся в 1485 г. и завершившийся событиями Великого мятежа 1640-х, является уникальной эпохой британской истории. Помимо ярких и широко известных событий политической, религиозной и культурной истории уникальной чертой данного периода является поиск английской национальной идентичности в условиях композитарной монархии. Задачей обеих династий, сменившихся на престоле, было собирание, удержание и последующая интеграция целого ряда этнотерриториальных корпораций, каждой из которых были свойственны специфические административно-правовые и культурные традиции, а контроль принадлежал более или менее устойчивым группам локальных элит. При этом и Тюдоры, и Стюарты представляли не-английские регионы (Уэльс и центральную Шотландию соответственно), что не упрощало для них процесс династического строительства.
Тюдоро-стюартовский период был также периодом заметных социальных трансформаций. Одной из самых значимых трансформаций в контексте процессов становления национальной идентичности было становление профессиональных корпораций, сради которых лидирующее место занимали юристы, медики, герольды, а после Реформации – духовенство Церкви Англии. Реформация, в результате которой католическая Церковь на территории Англии утрачивает свои функции единственного и неоспоримого гаранта богоугодного, законного и справедливого правления, привела к тому, что на эти функции стали претендовать иные корпорации, прежде всего юридические.
В постреформационный период юридические корпорации в Англии были представлены четырмя судебными иннами (Линкольнз Инн, Иннер Темпл, Миддл Темпл и Грейз Инн), объединявшими юристов общего права, и Общиной докторов, в которую входили доктора цивильного права. Изданный Генрихом VIII запрет присуждать в английских университетах степени по каноническому праву нанес мощный удар по английским канонистам (впрочем, доктора канонического права изначально не составляли самостоятельного профессионального объединения, поскольку принадлежали к более крупным корпорациям – церковным или университетским). Объединения юристов, как и другие социопрофессиональные группы в тюдоровской и раннестюартовской Англии проходили динамичный процесс внутренней интеграции и консолидации, сходный с процессом консолидации этнотерриториальных корпораций[88]. На интеллектуальном уровне он сопровождался, во-первых, необходимой систематизацией и кодификацией профессионального знания и практик; во-вторых, поскольку обе корпорации претендовали на статус подлинно национальных, оптимальным образом соответствовавших духу английского народа, столь же желательна была историзация правового знания в национальном ключе.
Охвативший юридические корпорации в конце XVI столетия многоуровневый корпоративный конфликт, проявлявшийся на самых низших своих ступенях как стремление юристов обеспечить собственные карьерные и финансовые интересы, на высшем уровне постепенно приобрел политическое измерение, косвенным образом охватив весьма значительную часть «политического класса», начиная от самого монарха и заканчивая провинциальной знатью.
Создававшиеся в юридической среде нарративы служили не только важным инструментом внутреннего корпоративного строительства, о чем говорилось выше, но и средством аргументации в межкорпоративных спорах. В долгосрочной перспективе одним из ключевых факторов, повлиявших на исход корпоративного конфликта стал даже не объем контроля над юрисдикциями институтов, а восприятие и использование цивилистами и юристами общего права проблематики «национального».
Практически все крупные сочинения как цивилистов, так и юристов общего права представляли собой звенья одной полемической цепи и обретали широкий резонанс не только внутри профессионального сообщества, но и в более широкой среде, прежде всего среди парламентской элиты. При этом проблематика «национального» становилась той сквозной темой, которая сообщала характерные оттенки использовавшимся раннестюартовскими теоретиками идеям и концепциям.
Важной задачей, стоявшей перед обеми корпорациями-соперниками, о чем уже говорилось выше, было продемонстрировать подлинно английский характер той правовой системы, в рамках которой развивалась их деятельность. При этом самостоятельные «истории корпораций» были написаны английскими юристами сравнительно поздно. Лишь после Реставрации вышел в свет труд антиквария и герольда Уильяма Дагдейла «Origines Juridiciales»[89], посвященный, среди прочего, институциональной истории судебных иннов, однако аналогичные работы, связанные с корпорацией цивилистов, не появились вплоть до XIX столетия. При этом сама организация текстов многих цивилистских трактатов позволяет сделать вполне определенные выводы о том, каким образом формировалось их представление о роли собственной корпорации в истории права и английского права в частности. Томас Ридли[90], Артур Дак[91], Уильям Фулбек[92] и Томас Крейг[93]считали необходимым включать в свои трактаты обширные вводные главы, в которых с разной степенью детализации освещался основополагающий для цивилистов текст – Кодекс Юстиниана (его структура, история составления), а также давался очерк античной истории, призваный продемонстрировать роль права в развитии Римской империи. В силу хорошо известных аналогий сказанное об античном Риме и административно-правовой организации Империи непосредственным образом соотносилось с современными британскими реалиями.
Характерные для цивилистов установки формулирует Уильям Фулбек в трактате, орентированном не только (и, возможно, не столько) на профессиональных практикующих юристов, сколько на студентов, изучающих право и на более широкий круг образованных джентльменов. Предисловие к трактату он открывает аллюзией на текст Сенеки: «как гончая ищет зайца, вол – доброе пастбище, а аист – ящерицу, так… и те, кто изучает общее, каноническое и цивильное право найдут пищу соответственно своим аппетитам»[94]. Словом, правовые системы представляют собой автономные области, ориентированные на различные нужды и запросы. При этом Фулбек недвусмысленно определял цивильное право как явление более совершенное, признавая, со ссылкой на Бартоло, рациональность параллельного существования других правовых систем, ибо «вещи, созданные не слишком совершенными, могут оказаться полезными, поскольку способны побудить человека к поиску истины»[95]. Во многом предвосхищая мнение Артура Дака о том, что развитие права является основой исторического процесса, Фулбек полагает, что повторяющийся цикл расцвета, стабильного существования и упадка государств совпадает с циклом развития и деградации права: «государства, пришедшие к высотам процветания, обрели расцвет и изобилие благодаря совершенствованию конституций, учреждению и соблюдению законов, тогда как отсутствие, изменение или уничтожение совершенных законов приводило к запустению, падению и неминуемому крушению многих владений и монархий»[96]. Приводимый Фулбеком обширный очерк античной истории подтверждает высказанную выше мысль.
Рим – «чудо из чудес» – достигает своего величия в равной степени силой оружия, но также благодаря праву – точнее, благодаря активному экспорту собственного права на покоренные территории. К идее права как инструменту экспансии в раннестюартовский период обращались не только цивилисты, но и юристы общего права (одним из самых последовательных приверженцев этого тезиса был Дж. Дэвис)[97] с одной лишь разницей: цивилисты полагали собственную правовую систему наиболее гибким и потому более успешным инструментом управления. Со ссылкой на текст «О войнах римлян» Джентили[99] Фулбек представляет идеальным мужем Полибия, который воинское искусство сочетал со знанием права, и характеризует его как идеального юриста, который отваживался решать споры между сильными мира сего [100].
«Совершенная конституция», которая обеспечивает процветание государства, возникает тогда, когда обычаи, сами по себе добрые, благодаря «мудрому правлению магистратов» изменяются, корректируются и адаптируются к изменчивому ходу истории, препятствуя разложению общины. С точки зрения Фулбека, цивильное право, в своих истоках тесно связанное с правом каноническим (сакральным по своей природе) сохранило в себе весь миротворческий и интегрирующий потенциал, который оно выработало еще в период существования Римской империи.
Английское цивильное право является органичным продолжением этой традиции, хотя на преемственность между собственно правом Империи и английским вариантом цивильного права отрицательным образом повлияла череда завоеваний. Например, одним из значимых с его точки зрения элементов преемственности является институт суда присяжных, истоки которого Фулбек возводит к римским децимвирам (нельзя не отметить здесь, что именно институт присяжных для юристов общего права являлся едва ли не самым «исконно английским» явлением, знаменующим независимость «английской конституции» от внешних влияний и заимствований). Поэтому, согласно метафоре автора, английское право подобно «саду, в котором можно найти как цветы, так и сорняки»[101].
В то время как Фулбек завершает исторический очерк анитчным периодом, сэр Артур Дак гораздо большее внимание уделяет проблеме преемственности между правом Града, средневековыми и современными правовыми практиками[102]. В целом развитие европейского права в его трактате «Об использовании и авторитете цивильного права во владениях христианских государей» может быть представлено как древо с многочисленными ветвями, в котором право Римской империи выступает в качестве ствола, а его более поздние региональные варианты представляют собой ветви. Два наиболее мощных «ответвления» – это каноническое право и так называемое «право феодов».
Дак придерживается мнения, что право является наибольшим и самым ценным наследием Империи[104]. «Бог дал римлянам Империю для того, чтобы там возникло цивильное право, а затем там же расцветало христианство»[105]. Право – уникальный дар, «привилегия, которую Бог даровал римлянам»[106]. Поскольку оно является священным даром, то носит универсальный характер и может применяться в любых странах и в любые эпохи[107]. Дак отнюдь не отрицает значимость римских завоеваний, в правовом закреплении которых решающую роль сыграли римские «юрисконсульты». «Преимущество римского права не только в содержании самих законов, но и в механизме их действия через магистратов»[108]. Более того, именно благодаря тому, что народы, некогда покоренные Римом, познакомились с цивильным правом и распространили его в своих пределах, впоследствии они смогли обрести независимость и превратиться в самостоятельные монархии Средневековья[109].
То, что Британия принадлежала некогда к Римской империи и унаследовала традицию цивильного права непосредственно от римских юристов и судей Дак предлагает считать «проявлением милости Божией к этому [английскому] народу»[110]. Именно тот факт, что народы, населявшие Британские острова (прежде всего англичане и шотландцы, в меньшей степени – ирландцы) сохраняли наследие римских правоведов, помог им не исчезнуть в последовательных волнах многочисленных завоеваний, а, напротив, впитать и облагородить «варварские обычаи» саксов, данов и нормандцев (к «варварским обычаям» Дак возводит истоки общего права Англии).
Тильда и Беда – знаковые для английской культуры персонажи – включаются в круг тех, кто в период всеобщего варварства высказывался «в пользу разума и права», а англо-саксонские короли – Инэ, Оффа, Эдмунд, Эдуард Старый, Этельред и даже скандинав Кнут, по мнению сэра Артура, были великими законодателями, «много заимствовавшими из римского права»[111]. Немало способствовал сохранению римского права Вильгельм Завоеватель, благодаря которому возобновились контакты британцев с континентальными правоведами.
Единственный из своих коллег по Общине докторов, сэр Артур Дак относительно подробно реконструирует средневековую историю развития цивильного права в Англии. Она начинается в 1149 г., когда в Англию прибывает магистр Вакарий, ученик Ирнерия Болонского. Примечательно, что историю прибытия Вакария в Англии Дак заимствует у французского эрудита Андре Дюшена: «Вакарий… совершенный муж, ломбардец по рождению, преподавал право в Англии в 1149 г. Богатые и бедные спешили отовсюду, чтобы учиться у него. Вакарий показал англичанам способ изучения римского права, также как Плацентии научил этому французов в академии в Монпелье»[112]. Другая интересная деталь – приведенное выше высказывание Дюшена Дак подкрепляет столь же лестным мнением о роли Вакария Джона Сэлдена, представителя общего права[113].
Дак полностью связывает средневековую историю английского права с университетом Оксфорда, подчеркивая, что обучались там как клирики, так и миряне, а студентам, изучавшим правовые материи, «завидовали богословы и студенты артистического факультета»[114]. «В те времена и клирики, и миряне с великим рвением предавались изучению законов, ибо это вело к приобретению богатства и высокого положения в обществе»[115]. К средневековым знатокам цивильного права в Англии Дак относит Иоанна Солсберийского, Петра Блуасского, Геральда Камбрийского, Александра Неккама, Стивена Аэнгтона, Элреда из Риво[116]. Дак стремится продемонстрировать не только длительную и прочную преемственность между сменявшими друг друга оксфордскими профессорами, но и подчеркнуть не прерывавшуюся веками связь британских юристов с континентом. Так он особым образом подчеркивает эпизод, когда Эдуард I приглашает в Оксфорд Аккурсия-младшего, сына автора Глоссы и называет его своим «возлюбленным секретарем»[117]. «Ученейшие доктора права» были приглашены Эдуардом I Плантагенетом для разработки соглашения с Шотландией после смерти Александра III и установления правильного (с точки зрения англичан) порядка наследования шотландской короны.
Согласно версии Дака, монархи династии Плантагенетов неизменно благоволили цивилистам, которые, со своей стороны, обеспечивали интересы английской короны в вопросах наследования (переговоры Генриха II с папским престолом) и помогали сохранять правовую автономию по отношению к Апостольской столице. С другой стороны, с помощью короны цивилисты оказывали сопротивление тем изменениям, которые время от времени пытался навязать короне Парламент, епископат или недовольные вассалы[118]. Именно благодаря покровительству, которым английские монархи одаривали цивилистов, они смогли превзойти всех других государей Европы, а итальянские и французские цивилисты завидуовали материальному положению и карьерным возможностям своих английских коллег. Отношение Дака к общему праву скорее снисходительное: он хвалит представителей иннов как «способных юрисконсультов», но добавляет, что Гланвил, Брактон, Бриттон и автор «Флеты» составили свои комментарии, ориентируясь на способ комментирования римских законов Ульпианом и Павлом. Гланвил и Брактон были прекрасно знакомы с римским правом и пользовались при составлении своих трактатов текстом Юстиниана[119].
Таким образом, интеллектуальные разработки цивилистов, стремившихся к осмыслению специфики английского варианта своей правовой системы и собственной корпоративной истории, имели вполне определенную иную тенденцию. Реконструируя историю деятельности цивилистов в Англии, они ставили целью продемонстрировать коренившиеся в истории тесные связи между цивильным правом и интересами английской монархии. Выработаные ими концепции предполагали, что никакая отдельно взятая национальная система не могла содержать в себе полноту нормы, а была способна отражать лишь ее конкретно-историческое проявление. При этом цивильное право обладало, по их мнению, исключительным потенциалом к интеграции и рационализации всего разнообразия традиций и практик – как собственно судебных, так и управленческих. Понимание цивилистами «национального» приводило их к убеждению, что залогом успешного развития композитарной монархии, подобной державе Стюартов, было сохранение региональных правовых и культурных автономий, а цивильное право, основанное на непреходящих законах разума, в этой системе служило бы не столько доминантой, сколько медиатором, обеспечивающим коммуникацию между разнообразными композитами и институтами. Подобное видение проблемы, востребованное английской монархией особенно при Генрихе VIII и Якове I, стремительно утрачивало актуальность при Карле I и в ходе политической полемики начинало постепенно отождествляться его оппонентами с «антианглийской» политикой.
* * *
УДК 94 (420).06
ПАААМАРЧУК АНАСТАСИЯ АНДРЕЕВНА. К. и. н., старший преподаватель, Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург.
ANASTASIA PALAMARCHUK. PhD, Senior Lecturer, Saint Petersburg State University, Saint Petersburg.
E-mail: a.palamarchuk(2)spbu.ru
НАЦИОНАЛЬНОЕ И КОРПОРАТИВНОЕ В НАРРАТИВАХ РАННЕСТЮАРТОВСКИХ ЦИВИЛИСТОВ XVI–XVIIВВ.
Статья посвящена нарративам, создававшимся в период правления первых Стюартов представителями английского юридического сообщества, в частности юристами цивильного права. В позднетюдоровский и раннестюартовский периоды одним из главных приоритетов правящей династии было собирание и административно-правовая интеграция композитов. Поиск путей выстраивания национальных идентичностей, прежде всего английской, был не только предметом дискуссии современников-интеллектуалов, но и важной составляющей политической полемики. Одновременно раннестюартовский период стал временем становления и внутренней консолидации социопрофессиональных сообществ. Корпорации судебных иннов и Община докторов, находившиеся в состоянии длительного конфликта, создали целый ряд полемичесих по сути нарративов, не только разрабатывавших проблематику национального, но и обосновывающих роль каждой из профессиональных корпораций в истории английской нации.
Ключевые слова: цивильное право; общее право; нарратив; судебные инны; Община докторов; Стюарты; Англия.
THE “NATIONAL” AND THE “CORPORATE” IN THE EARLY STUART CIVILIAN NARRATIVES
The article contains a study of the narratives created in the Early Stuart period by several members of the English legal community, in particular by Common law judges and by civil lawyers. During the Late Tudor and Early Stuart epoch one of the key priorities for a ruling dynasty was to assemble the composites and to integrate them administratively and legally. Possible alternative ways of constructing national identities, namely of the English national identity, were not only a point of a ceaseless discussion for the English intellectuals, but also an important component in political polemics. Simultaneously the Early Stuart period was a time in which several social-professional communities emerged and consolidated. The members of the Inns of Court and Doctors’ commons – legal corporations experiencing continuous rivalry – created numerous polemical narratives where not only national problematics was discussed, but also the leading role of the corresponding corporation in the history of the English nation was established.
Keywords: Civil law, Common law, narrative, Inns of Court, Doctors’ commons, the Stuarts, England.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Паламарчук А. А, Федоров С. E. Антикварный дискурс в раннестюартовской Англии. Спб.: Алетейя, 2013. 210 с.
2. Паламарчук А. А. Цивилисты в раннестюартовской Англии. Юридическая корпорация в поисках национальной идентичности // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2. История. Вып. 4. 2012. С. 60–68.
3. Паламарчук А. А. Цивильное право в раннестюартовской Англии: институты и идеи. Санкт-Петербург.: Алетейя, 2015. 312 с.
4. Brundage J. A. The Medieval Origins of the Legal Profession. Vol. 1. Canonists, civilians and courts. Chicago: Chicago University Press, 2008. 610 p.
5. Craig Th. Thomae Craigi de Riccarton Jus Feudale. Lipsiae: apud J. W. Gleditsch et filium, 1716. 851 p.
6. Davies J. A discovery of the true cause why Ireland was never brought under obedience of England / / Historical Tracts of Sir John Davies, Attorney general of Ireland and Speaker of the House of Commons in Ireland. Dublin: printed for W. Porter, 1787. P. 1–227.
7. Duck A. De l’Usage et de l’Autorite du Droit Civil Dans les Etats des Princes Chretiens. Traduit du Latin. Paris: au Palais, 1689. 470 p.
8. Dugdale W. Dugdale Origines Juridiciales, or, Historical Memorials od the English laws, courts of Justice.. Inns of court and Chancery. London: printed for Ch. Wilkinson, 1680.490 p.
9. Fulbecke W. A Parallel or Conference of the Civil Law, the Canon Law and the Common Law in this Realme of England. London: printed by A. Islip, 1601–1602. 109 p.
10. Gentili A. Alberici Gentilis De Armis Romanis Libri Duo. Hanoviae: apud Guilielmi Antonii. 1612. 360 p.
11. Horn N. Romisches Recht als Gemeineuropeisches Recht bei Artur Duck // Studien zur Europáischen Rechtsgeschichte. Frankfurt: W. Wilhelm, 1972. S. 171–180.
12. Marzec L. Artur Duck, De Usu et Authoritate Juris Civilis Romanorum in Regno Galliarum.
Przeg4dbazybibliograficznej // Zeszyty prawnicze. 2008. № 8.1. S. 141–150.
13. Marzec L. De Usu et Authoritate Juris Civilis Romanorum – podrz^dna rozprawa czy dzielo swiatowej romanistyki? // Zeszyty prawnicze. 2006. № 6.1. S. 145–157.
14. Marzec L. Prawo rzymskie w dawnej Anglii w šwietle pogl^dów Artura Ducka // Zeszyty prawnicze. 2006. № 6.2. S. 117–136.
15. Ridley Th. A View of the Civile and Ecclesiastical Law. London: Printed by Adam Islip, 1607. 563 p.
16. Santos F. J. A. Jus commune’ vs ‘Common law’ en el siglo XVII: el caso de Arthur Duck // Anuario da facultade de dereito da universidade da coruna. 2003. № 7. P. 63–104.
17. Wijffels A. Arthur Duck et le ius commune européen // Revue d‘histoire des facultés de droit et de la science juridique. 1990 № 10–11. P. 193–22.
REFERENCES
1. Brundage James. The Medieval Origins of the Legal Profession. Vol.l. Canonists, civilians and courts. Chicago: Chicago University Press, 2008. 610 p.
2. Craig Thomas. Thomae Craigi de Riccarton Jus Feudale. Lipsiae: apud J.W. Gleditsch et filium, 1716. 851 p.
3. Davies John. “A discovery of the true cause why Ireland was never brought under obedience of England” in Historical Tracts of Sir John Davies, Attorney general of Ireland and Speaker of the House of Commons in Ireland. Dublin: printed for W. Porter, 1787. P. 1–227.
4. Duck Arthur. De YUsage et de YAutorite du Droit Civil Dans les Etats des Princes Chretiens. Traduit du Latin. Paris: au Palais, 1689. 470 p.
5. Dugdale William. Dugdale Origines Juridiciales, or, Historical Memorials od the English laws, courts of Justice.. Inns of court and Chancery. London: printed for Ch. Wilkinson, 1680.490 p.
6. Fulbecke William. A Parallel or Conference of the Civil Law, the Canon Law and the Common Law in this Realme of England. London: printed by A. Islip, 1601–1602. 109 p.
7. Gentili Alberico. Alherici Gentilis De Armis Romanis Lihri Duo. Hanoviae: apud Guilielmi Antonii. 1612. 360 p.
8. Horn Norbert. “Romisches Recht als Gemeineuropeisches Recht bei Artur Duck” in Studien zur Europaischen Rechtsgeschichte. Frankfurt: W. Wilhelm, 1972. S. 171–180.
9. Marzec Lukasz. “Artur Duck, De Usu et Authoritate Juris Civilis Romanorum in Regno Galliarum. Przeglądbazybibliograficznej”, Zeszyty prawnicze 8.1 (2008). S. 141–150.
10. Marzec Lukasz. “De Usu et Authoritate Juris Civilis Romanorum – podrz^dna rozprawa czy dzielo swiatowej romanistyki?”, Zeszyty prawnicze 6.1 (2006). S. 145–157.
11. Marzec Lukasz.. „Prawo rzymskie w dawnej Anglii w swietle pogl^dów Artura Ducka”, Zeszyty prawnicze 6.2 (2006). S. 117–136.
12. Palamarchuk Anastasija, Fyodorov Sergej. Antikwarnyj diskurs w rannestuartowskoj Anglii. Sankt-Peterburg: Aleteia Publ., 2013. 210 p. (in Russian)
13. Palamarchuk Anastasija. ’’Tsiwilisty w rannestuartowskoj Anglii. Yuridicheskaja korporatsija w poiskah natsionalnoj identichnosti”, Vestnik Sankt-peterburgskogo universiteta. Serija 2, Istorija 4 (2012). P. 60–68. (in Russian)
14. Palamarchuk Anastasija. Tsiwilnoe prawo w rannestuartowskoj Anglii: instituty i idei. Sankt-Peterburg: Aleteia Publv 2015. 312 p. (in Russian)
15. Ridley Thomas. A View of the Civile and Ecclesiastical Law. London: Printed by Adam Islip, 1607.563 р.
16. Santos Fransisco Andres. “’Jus commune’ vs ‘Common law’ en el siglo XVII: el caso de Arthur Duck”, Anuario dafacultade de dereito da universidade da coruna 7 (2003). P. 63–104.
17. Wijffels Alain. “Arthur Duck et le ius commune européen”, Revue ďhistoire desfacultés de droit etde la science juridique 10–11 (1990). P. 193–22.
Nationhood and Ethnicity at the Frontier: A Study of Western Hunan from Pre-modern to Early Modern China
Peng Lijing
This paper is a brief account of the construction of the ethnic identity of the Hmong, or in modern Mandarin ‘Miao* in pre-modern historical narratives. The research area is West Hunan (see Map l[120]), where the special historical and geographical environment bespoke the long-term conflicts between minority ethnic groups and dominant imperial forces.
In this paper, I will argue that a close examination of the historical documents does not support the view that the Hmong ethnic group was from the beginning a distinctive unity from other ancient Southern ethnic groups, but suggests that the people known as the Hmong today started to distinguish their ethnicity from the others only since around the 14th century. Furthermore, I also propose that the crystallization of the Hmong ethnic identity and the concept of nation was catalyzed by a series of wars in Ming and Qing dynasties (from the 14th to the 19th century) between central government and local communities.
Map 1. Location of West Hunan (yellow) within Hunan Province of China
In this paper, when the term ‘the Han’ is referred to, it does not denote the current Han ethnic group (or Han Zu 汉族) in the modern Chinese nation. It refers to a vaguely defined criterion in differentiating ancient Chinese people. Before the twentieth century, in the very long imperial history, ‘the Han’ roughly refers to those who conformed to Confucian morality and at the same time traced their sovereignty to the ancient Huaxia Chinese (华夏)[121]. Other ethnic groups, including the Hmong, are regarded as different from the Han. This Hmong ethnicity research also gives us a perspective about the construction of current Chinese nationalism. The current Chinese nationalist ideology traces its legitimacy to the ancient Han identity. And 'the Han’ had never been a well-defined community; they were defined by their relations with non-Han people. In other words, we only know the meaning of being 'the Han’ by looking into the demarcation and categorization of non-Han people in every historical epoch, and how these people are imagined today through historical narratives[122]. In some dynasties the sovereignty went to non-Han rulers. For example, in the Qing dynasty, the rulers were Manchu. However, the expansion of central government’s power to the Southern area was still justified by Confucian politico-moral theory. The Hmong s ethnic identity was constructed both by the central government and by local South-western communities, signifying both sides’ political and economic interests[123].
In the next part I will give a very brief introduction about the earliest historical narratives.
As early as Han and Jin Dynasties (202 BC–420 AD), the peoples living along the vales and glens of areas in south-western China around today’s Hunan Province (see Map 1) were already designated by the mainstream Huaxia Chinese people as Ba or Man (巴人, 蛮人). It was thought by the Huaxia Chinese that among these alien tribes, those who inhabited the northern half were descendents of Lin Jun (廪君, a heroic ancestor), while those in the southern half descended from Pan Hu (盘瓠). Pan Hu was a mythological figure with canine features, or being a divine hound himself. Ancient Chinese myths tell that he was given the hand of the daughter of Emperor Gao Xin (高辛帝), who belongs to the mainstream Huaxia Chinese, and from that couple were derived all the barbarian tribes in the mountains. After the 3-rd century AD, the success of expansion of Han culture ensured the Han authority in economic, political and cultural aspects in the South[124]; and the pattern of expansion was formed: Non-Han people were assimilated into the Han culture mainly through the acknowledgement of political administration of central imperial government, leaving the mountainous areas and settling in plains; while the resistants were forced to move to deeper mountains[125]. During the Nanbei Dynasties period (420–589 AD), many Huaxia Chinese fled southward from their homeland in Northern China and occupied the plains; and the ‘descendents of Pan Hu’ at this time referred more clearly to the mountain tribes in Western Hunan[126]. Researchers generally considered them to be speakers of language(s) mainly of the Miao-Yao (Hmong-Mien) language family and a few of the Tai-Kadai family and the Tibetan-Burmese branch of Sino-Tibetan.
Western Hunan locals living amid Huaxia Chinese during Tang Dynasty (618–907 AD) had already been assimilated to Huaxia in all aspects of life. Yet those inhabiting the vales and mountains kept their own languages, distinct customs and communities[127]. After Tang Dynasty, the range of ‘Descendents of Pan Hu’ in the mind of mainstream Huaxia gradually expanded to include indigenous populations of more southern and south-eastern regions.
In the above historical documentations we can see that before the 10th century, 'the Hmong in classical Chinese archives designates either one or several southern ethnic groups known as ‘the descendants of Panhu\ These mountain tribes were not assimilated into Confucian culture, or to put it the other way, not being under direct control of the sovereignty of Chinese dynasties. It is not until the 14th century that the military expansion of the central government demanded direct political control of the South-western area including today’s West Hunan.
In the next section I am going to summarise the historical narratives in regard to the Hmong from the 14th to the 19th century. To my mind, this is the period when the ethnic identity was gradually constructed:
In many areas of China where local people formed considerable resistance against the spread of the power of the central government, a certain degree of autonomy remained while the local governing heads paid allegiance to the central government. It is called the Tusi Institution (Tusi zhidu 土司制度, lit. native chieftain institution). The local chieftainship was similar to the feudal lordship in Medieval Western Europe. Since the Tusi institution was established in West Hunan, the people under Tusi administration were thus indirectly governed by the central government, but the majority of the Hmong remained Taw barbarians’ outside the dynasty’s jurisdiction. Since the 14th century, Hmong people had appeared as a threatening local power. In the periods when the Han or the other ruling ethnic groups had evident economic development and population boom, or had to migrate and expand their settlements as dictated by the development policies of the central government, their confrontation with Hmong people usually led to fierce warfare. The military blockade line which was intended for the whole Hmong territory gradually advanced into the Hmong heartland during the Ming Dynasty (1368–1644), and finally formed a military defence line against the Hmong in the Wanli period (1573–1620). Later, the famous Hmong Frontier Wall (Miao jiang bianqiang 苗疆边墙, currently known as The South Great Wall) was built along this defence line[128]. The construction of the South Great Wall took over four centuries, through the process of which the central imperial government ideologically claimed that Raw Hmong beyond the wall to be an ungovernable population unworthy of including into the local autonomy governance connected to the central bureaucratic system. However, Tusi also had subtle but solid relationships with Raw Hmong, especially in economic and military communications. Some local chieftains developed military skills and improved their weapon manufactory through learning from Raw Hmong[129]. West Hunan had the longest surviving local chieftainship in Chinese history. In the mean time, the Nation in the mind of the Hmong was almost identical to the Tusi administration. Tusi were allowed by the central government to have their own army, which were not part of the imperial army and had no military obligation towards the government except on occasions of foreign invasion, when they should follow the central government's commandments. The Tusi army was civilian at time of peace but enlisted when wars broke out. Some Hmong people joined the Tusi army and fought against invasions under central commandership as well, such as in the battles against the Japanese pirates (wokou 倭寇) who plundered the coastline of South-eastern China during the 14th to 16th century.
West Hunan entered the central government’s consideration only during Ming Dynasty (1368–1644). The first formal government set up here was the Guardianship (shoubei 守备) established in 1513. Afterwards, as the geographic and strategic importance of this place increased, accompanied by the more frequent riots and conflicts between different ethnic groups, the level of administrative institution became ever higher accordingly. The Tusi institution was abolished in 1707, and the government of Fenghuang Ting, which belonged to the hierarchy of centralised administration, was established two years later. In the early 18th century Qing rulers used two different policies and strategies to construct imperial rule in West Hunan, applying to different communities recognized with separate identities. To the communities which were under the control of Tusi (Cooked Hmong), the state political and juridical institutions of Qing were applied and replaced the native chieftainship. To the communities living outside the control of Tusi, who were mainly Hmong communities beyond the South Great Wall (Raw Hmong), certain specific census registers, conventional regulations, land policies and tax policies were applied alongside the state institutions[130]. These specific policies implied that the Qing Empire recognized the region as the frontier rather than part of the nation.
At this stage, the Hmong representatives and lower officials played an important role in forming the perception of the culture of these communities as accepted by central government, and in mediating the relationship between Qing central government and local communities. The Qing administration of Southern Xiangxi in this period, especially the land policies, led to the tragic confrontation between Hmong people and Qing State. In forming the truce agreements and other similar official negotiations, local communities gradually formed a self-recognition of a collected identity. Thisprocess also included very complicated interactions among difference local forces, and among different communities who were collectively referred to as the Hmong. As a result, the Hmong identity was officially constructed from the nation's perspective and selfconsciously constructed by local communities in West Hunan.
These archives suggest that from the 14th to the 19th century the Hmong identity was specified and officially recorded mainly due to the military and political confrontations between the central government and the local forces in West Hunan.
* * *
УДК 94(512.22) «13/19»
ЛИЦЗИН ПЭН. PhD, Национальный университет Ирландии в Мейнуте, Мейнут, Ирландия. LIJING PENG. PhD, National University of Ireland, Maynooth.
E-mail: sunnyleafl984(a>gmail.com
НАЦИОНАЛЬНОЕ ЕДИНСТВО И ЭТНИЧНОСТЬ НА ГРАНИЦЕ: ИЗУЧЕНИЕ ЗАПАДНОГО ХУНАНЯ В КОНТЕКСТЕ ДОМОДЕРНОЙ И НОВОЙ ИСТОРИИ КИТАЯ
Каспар Хирши определяет «нацию», противопоставляя многополярность национального биполярности империи. Подобно ему, Лен Скейлз также выдвигает тезис о сложности до-модерных идентичностей. Таким образом, в этом исследовании предпринимается попытка рассмотреть изменения в обществе в Западном Хунане – регионе, остававшемся в течение веков многонациональной границей Китайской империи. В статье анализируются характеристики многополярного национального единства и до-модерной этничности в истории Западного Хунаня в поздней империи Китая (XIV – начало XX). Также здесь исследуется вопрос о том, как они повлияли на развитие национализма в Западном Китае в период Республики (1912–1949), и то, как они формировали республиканское гражданское самосознание и идентичность меньшинств.
На основании описаний военных действий, образовательных институтов и трансрегиональных торговых сетей природа национального китайского единства и изменения, которые они претерпевали, анализируются через отношения между местными сообществами (в основном, на примере этнического сообщества Хмонг) и центральным правительством империи. Местные интеллектуальные и военные элиты оказывались в центральных правительственных структурах после сдачи гражданских и военных экзаменов или через службу в национальной армии.
Сменяющие друг друга императорские режимы способствовали интеграции местных сообществ путем включения местных божеств в национальный пантеон и спонсирования издания местных газет. С помощью государственных ритуалов и официальных документов на самом широком имперском уровне постепенно формировалась национальная идентичность. Многополярные этнические идентичности возникали в результате урегулирования с центральным правительством вопросов, касающихся использования земель, налогов и квот на получение дипломе о сдаче гражданского экзамена. Эти до-модерные формы национального единства и этничности служили важным основанием и источником непрекращающегося влияния на построение национализма в Западном Хунане в последние годы существования Китайской империи и последующего за этим периода республики.
Ключевые слова: до-модерное национальное единство; этничность; Западный Хунань; национальные нарративы; признание идентичности.
NATIONHOOD AND ETHNICITY AT THE FRONTIER: A STUDY OF WESTERN HUNAN FROM PRE-MODERN TO EARLY MODERN CHINA
Caspar Hirschi defines “nation” in terms of the multipolarity of nationality in contrast to the bi-polarity of empire. Similarly, Len Scales also suggests the complexity of pre-modern identities. In response, my research aims at probing into the societal changes of Western Hunan – a region which has been a multi-ethnic frontier of the Chinese Empire for centuries. In this paper I investigate the characteristics of multi-polared nationhood and premodern ethnicity in the local history of Western Hunan in late imperial (14th to early 20th century) China. I also look into their impact on the development of nationalism in Western Hunan in the Republican period (1912–1949), which took the form of shaping Republican citizenship and minority ethnic identity.
Drawing from accounts about a series of military activities, educational institutions and transregional commercial networks, the nature and changes of Chinese nationhood is examined through analyzing the relationship between indigenous communities (mainly the Hmong ethnic group) and the central imperial government. Local intellectual and military elites entered central governmental institutions through civil and military service examinations, or through serving in the national army. The successive imperial regimes advanced the integration of local communities by incorporating local deities into the national pantheon and sponsoring local gazetteer publication projects. Through state rituals and official documentation at an empire-wide level, a national identity was gradually formed and shaped. Multi-polared ethnic identities have emerged as a result of negotiating with the central government over issues concerning land use, taxation and the quotas of civil service examination degrees. These premodern forms of nationhood and ethnicity served as an important foundation and a source of continuous influence in the construction of nationalism in Western Hunan in the final years of the Chinese empire and the following Republican period.
Keywords: Pre-modern nationhood; ethnicity; West Hunan, national narratives; identity recognition.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ (REFERENCES)
1. Fiskesjó Magnus. “On the Raw and the Cooked Barbarians of Imperial China”, Inner Asia 1 (1999). P. 139–168.
2. Fiskesjo Magnus. “The Southern Great Wall and the Question of the Miao Barbarians”,
Conference Paper Presented on the Fourth International Conference on Sinology June 20–22, 2012 Taipei, Taiwan. /~icosas/download/ ScholarSummary/291.pdf (date of access: 12.06.2015).
3. Luo Xin. “Wanghua Yu Shanxian: Zhonggu Zaoqi Nanfang Zhuman Lishi Mingyun Zhi Gaiguan”, Lishi Yanjiu 2 (2009). P. 4–20. (in Chinese).
4. Mullaney Thomas S. Coming to Terms with the Nation: Ethnic Classification in Modern China. Berkeley: University of California Press, 2010. 232 p.
5. Shin Leo Kwok-yueh. The Making of the Chinese State: Ethnicity and Expansion on the Ming Borderlands. Cambridge: Cambridge University Press, 2011. 270 p.
6. Xie Xiaohui. “Diguo Zhi Zai Miaojiang”, Journal of History and Anthropology 11 (2013). P. 51–88. (In Chinese).
О «главном мифе» национальных историй (домодерные этнонациональные общности)
Овчинников А. В.
В современных постсоветских национальных историях главным действующим персонажем повествования выступают ассоциируемые с этнонациональными общностями народы, которые на протяжении тысячелетий формируются, занимают определенные территории, наделяются особыми качествами, создают свои государства, вступают друг с другом в разнообразные, часто враждебные отношения. После распада СССР «народы» окончательно оттеснили на второй план классы и сословия, которые на страницах учебной, научной и популярной литературы оказались поглощены национально-ориентиро-ванным дискурсом. В большинстве случаев представления о народах как о главных субъектах истории не подвергаются методологическому осмыслению и принимаются как данность, что является еще одним основанием для атрибуции национальной истории как мифа. Вместе с тем, национальная история как важная, если не основная, составляющая идеологий молодых постсоветских государств нуждается в академической «маскировке», суть которой сводится не к поиску истины, а к повышению престижности, используемой для обоснования политических решений. Этот фактор обуславливает наличие государственного заказа на наукообразные национальные исторические повествования и объясняет то, что можно назвать «главным мифом национальных историй». Содержание этого мифа сводится к констатации существования этнонациональных народов в традиционных домодерных обществах.
Авторы национальных историй не склонны к рефлексии ключевых понятий своих текстов, но иногда встречаются исключения, предоставляющие редкий случай методологического анализа основных положений нарратива. Одним из таких исключений выступает монография казанских историков Д. М. Исхакова и И. А. Измайлова «Этнополитическая история татар» (II – середина XVI вв.) (Казань: «Школа», 2007. 356 с.). Первый из авторов – профессиональный этнолог, защитивший по этой специальности докторскую диссертацию, второй – профессиональный археолог. Судя по названию и содержанию, отражающему непрерывную, диапазоном более чем в полторы тысячи лет, и разворачивающуюся на широких пространствах Евразии историю татар, книга представляет собой обычный мифический нарратив. Отличает ее от подобных произведений, например, среднеазиатских или закавказских, теоретическое введение и попытки методологических штудий в основном тексте.
Центральным положением авторов выступает утверждение о том, что «вне всякого сомнения, главным субъектом истории являются люди, объединенные в конкретную этническую общность (народ, нацию)»[131]. Усомниться в этой «аксиоме» заставляют хотя бы следующие данные: в середине XX в., отмеченного бурным развитием транспорта, средств связи и систем образования, по данным ЮНЕСКО до 70 % населения Земли не могло этнически идентифицировать себя вне зоны своего компактного проживания, например, деревни. Базовая категоризация у них опиралась «на сознание принадлежности к определенной семье, клану, роду»[132]. Показательно складывание национального самосознания у населения развивающихся стран, оказавшихся в одном государстве в результате действий внешних сил (колониальных держав). Такая ситуация в определенной мере повторяет реалии древних или средневековых обществ, государственные структуры которых почти всегда возникали в результате завоеваний и существовали благодаря военной силе. Рассмотрим пример Анголы, общество (общность?) которой до сих пор сохраняет родоплеменные отношения, но при этом государство стремится к консолидации всех родов и «предэтнических групп» и формированию самосознания «ангольцы». В посвященном анализу этой проблемы диссертационном исследовании констатируется, что «ангольцы» еще далеки от осознания себя в качестве таковых: их самосознание продолжает определяться родовой мифологией, а также особенностями внутри-родовых и межродовых отношений. Однако у учащейся молодежи, проживающей в крупных городах, хотя и сохраняются глубинные традиционные родовые ценности, но уже происходит интеграция культур разных ангольских родов и чувствуется влияние мировых культур (особенно португальской). В целом, общее для жителей Анголы самосознание (знание о том, что они живут в стране «Ангола», а их называют «ангольцы») только начинает складываться; происходит это через наиболее активных представителей родов, проживающих на традиционных территориях[133]. Данная «постколониальная» ситуация в случае Анголы отличается от реалий доиндустриальных обществ тем, что политическая элита стремится унифицировать население в одно «национальное целое», что нехарактерно для власть имущих древности и Средневековья.
Индивидуум, которого можно условно назвать «простым человеком», частью «безмолвного большинства» традиционного общества, делил окружающих людей не на «народы», а на родственников (дальних или близких) и неродственников. Мир «неродственников» был чужим и опасным и начинался сразу же за пределами своей общины или группы взаимодействующих общин. Отсюда понятно, почему доиндустриальные общества дискретны, многокультурны, не обладают языковым единством и, как показывают примеры истории, легко распадаются в результате внешнего воздействия и внутренних усобиц. Базовыми социально-политическими, экономическими и культурными единицами традиционного социума являются семья и община. Общинную и семейную идентичности ни в коем случае нельзя путать с этничностью, т. к. последняя предполагает наличие чувства культурного единства у неродственников.
Вернемся к монографии Д. М. Исхакова и И. Л. Измайлова. По ходу повествования авторы пытаются доказать существование особого булгарского[134] «этноса». При этом используются характеристики, относить которые корректно можно только к модерным нациям: «для иностранных наблюдателей булгары были единым народом»[135]; наличие исторических мифов; особое самосознание, выражающееся в унифицированной культуре мусульманского типа[136].
То, что внешние наблюдатели видели в булгарах единый народ, еще не доказывает существования общего самосознания, т. к. неразличающий взгляд извне мог классифицировать население только по выгодным для себя основаниям, не принимая во внимание мнение самих классифицируемых. В булгарских исторических мифах, о которых пишут Д. М. Исхаков и И. Л. Измайлов, главным действующим лицом была правящая династия, а не народ (выделено мною. – А. О.) – образ, который не смог сложиться в привычном для нас понимании. В отличие от эпохи модерна, эти мифы вряд ли были известны большей части населения, так как на тот момент просто не существовало таких тотальных механизмов трансляции, как СМИ и обязательное образование[137].
Отдельно стоит коснуться тезиса об «унифицированной культуре мусульманского типа», который служит доказательством существования средневекового булгарского «этноса». Действительно, в настоящее время широко распространено мнение о том, что наличие одной исповедуемой религии в средневековом обществе якобы позволяет видеть в нём этническое целое, а религиозные чувства – считать частью этно-ориентированного мировоззрения. Факт исповедования одной религии является решающим для тех исследователей, которые видят, например, в конфессиональных общностях средневековой Европы протонациональные объединения.
Антропологи, занимавшиеся изучением религии, еще в начале XX в. отмечали, что ее суть в традиционных обществах состоит, в первую очередь, в обрядах, а не верованиях. А. Рэдклифф-Браун констатировал, что в европейских странах, особенно после Реформации, утвердилось мнение о вероучении как основной части религии, которая определяет обряды.
В реальности верования и обряды развиваются параллельно, «но в этом развитии именно действие или потребность в действии контролирует или определяет действие, а не наоборот»[138]. Важной считалась социальная функция обрядов, их способность поддерживать общественную стабильность, что объясняет устойчивость обрядов и изменчивость доктрин[139]. В массе своей люди выбирали не догматы, а ритуалы, которые должны были быть социально эффективными, т. е. направленными на благополучие ближайшего социального окружения человека – семьи и общины (следует напомнить, что секретарь посольства багдадского халифа Ахмед ибн Фадлан в 922 г. говорил с местным булгарским правителем не о высоких богословских материях, а о вполне конкретных, вплоть до мелочей, обрядах). Отсюда вариативность даже монотеистических религий в традиционных обществах, когда представления о верованиях у христианских и мусульманских интеллектуалов мало совпадали с низкой полуязыческой культурой тысяч крестьянских общин.
Религия в традиционном обществе не выполняет столь важные для национализма культурно-объединяющие функции. Социально-политическое единение является плодом воображения распространителей религии и результатом стремления вновь обращённых не разубеждать в этом вышестоящих с целью получения новых привилегий или сохранения старых. Религиозное разделение традиционных обществ представляется лишь внешней классификацией, не затрагивающей самосознание большинства населения. Например, «попытки различения религий в традиционной Индии не привели к религиозной дифференциации, во-первых, из-за своей несистематичности и немасштабности (они не были постоянными, не охватывали все общество), и, во-вторых, из-за особенностей развития религий, которые ещё не превратились в организацию или общественно-религиозное движение»[140].
«Бог» оказывается включенным в феодальную (социальную, а не этническую по своей сути) иерархию, выполняя роль верховного сюзерена. Получая от него власть, правящая семья обязуется нести определенные повинности, выражающиеся в строительстве и украшении храмов, регулярных пышных обрядах и т. д. Одним членам августейшего семейства сделать это сложно, и поэтому естественны и обращение к нижестоящим по феодальной лестнице, и стремление всеми возможными путями, в том числе насильственными, включить их в орбиту «правильной веры». Сопровождающая эти процессы религиозная унификация не является тотальной культурной унификацией, которую можно наблюдать в национальных государствах. Внедрение в традиционное общество монотеистической религии (например, внедрение ислама как в случае с волжскими булгарами) не приводит к формированию единого самосознания у населения крупных территорий. Эпоха средневековья дает многочисленные примеры войн между приверженцами одной мировой религии, подчиняющихся разным сюзеренам.
Положение о религии как об «этноопределяющем» факторе, скорее всего, является следствием поздней национализации мировых религий, их органического вкрапления в доктрины национализма (см., например, дискурсы русского православия, татарского ислама, испанского католицизма и т. и.).
В случае с традиционным обществом мы видим, как его политическая и интеллектуальная элита, а также сторонние наблюдатели (путешественники, торговцы, дипломаты) дифференцируют массу основного населения по поверхностным, часто ситуативным критериям, при этом оставляя без внимания мнение самого «безмолвного большинства». Действенных способов навязать престижное знание безграмотным, живущим в замкнутых мирках людям о них самих, заставить искренне поверить в национальный миф, как это случится в эпоху Модерна, пока не было. Но, «если на смену самоидентификации человека приходит его принудительное причисление к тому или иному общественному классу или группе, национальной или религиозной общности, то оно уже не имеет культурной природы в строгом смысле этого слова, и потому основанные на нем различия нельзя рассматривать как обусловленные культурными факторами»[141].
Подводя промежуточные итоги исследования, можно констатировать, что изучение «главного мифа» национальных историй имеет значительные научные перспективы, заключающиеся не только в новой интерпретации известных источников, но и в возможностях осмысления научного знания как части исторически обусловленной и динамично меняющейся определённой политико-культурной среды.
* * *
УДК 94(47)+323.17
ОВЧИННИКОВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ. К. и. н, доцент, Институт социальных и гуманитарных знаний, Казань.
OVCHINNIKOV ALEXANDER. PhD, Associate Professor, Institute of Social and Humanitarian Knowledge, Kazan.
E-mail: ovchinnikov8_831@mail.ru
О «ГЛАВНОМ МИФЕ» НАЦИОНАЛЬНЫХ ИСТОРИЙ (ДОМОДЕРНЫЕ ЭТНОНАЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЩНОСТИ)
Исследуется научная обоснованность практики апелляций к понятиям «народ», «этнос», «национальность» в посвященных домодерным эпохам нарративах национальных историй Татарстана. Автор проводит разграничение между семейно-клановой (родовой), территориальной, религиозной и, собственно, этнической идентичностью. Ставится вопрос о потенциальной возможности существования в традиционных обществах представлений о народах в современном («российском») смысле этого слова. По материалам средневековых источников исследуется механизм классификации населения, большое место в анализе отводится классификаторам (от рядового члена общины до путешественников, интеллектуалов-летописцев и т. д.), делившим интересовавший их массив населения по важным для себя критериям. Обосновывается вывод, что выделяемые ими группы населения нельзя назвать этническими в привычном для нас представлении. Затем рассматривается имеющее место быть в текстах национальных историй (как академическом, так и публицистическом вариантах) механизм «этнизации» встречаемых в источниках наименований различных групп населения и превращения их в «этнонимы». Отсылки к особому «средневековому этносу» рассматриваются как попытки найти этничность там, где ее нет. Особое внимание уделяется феномену религиозной идентичности в домодерньгх обществах. Показывается принципиальное отличие «религиозности» от этничности. Главным в традиционных религиях являются не догматы, а согласие на выполнение обрядов, что обеспечивает, прежде всего, политическое единство. Не систематизируемые и не контролируемые государством культурные последствия хрупкого и, как показывают многочисленные примеры, относительно недолговременного политического единения имели в традиционном мировоззрении второстепенное, побочное значение. Следовательно, общая религия не рождала представлений об общей культуре. Сама мысль о религии как «этническом маркере», видимо, имеет истоки в интеллектуальных конструкциях эпохи модерна, когда национализм не только победил религию, но и включил ее в орбиту своего влияния, породив феномен «национальных религий». В заключение статьи приводится мысль о том, что продолжать искать «черную кошку в черной комнате» (этничность в домодерных обществах) исследователей заставляют не столько политические факторы, сколько их собственные усвоенные в семье и школе мировоззренческие представления.
Ключевые слова: домодерные общества; идентичность; национализм; национальные истории; религия; этничность.
CONCERNING THE «MAIN MYTH» OF NATIONAL HISTORIES (PRE-MODERN ETHNО-NATIONAL COMMUNITY)
In the article the author investigates the scholarly validity of the practice of appeals to the concepts of «peoples»,» ethnicity» and «nationality» in the narratives of national history of Tatarstan dedicated to pre-Modern epochs. The author distinguishes between the family-clan (tribal), territorial, religious, and ethnic identity per se and raises the question of whether it was possible that the perceptions of «peoples» in the modern («Russian») sense of this term existed in traditional societies. Based on the materials of medieval sources, the mechanism of classification of the population is investigated. A greater part of the analysis is dedicated to the classifiers (from an ordinary member of the community, travelers, intellectuals to chroniclers, etc.), who divided larger groups of population according to the criteria important for them. As a result, the author concludes that these groups cannot be considered ethnic in conventional terms. Then the author examines the mechanism of «ethnization» of the names of various groups encountered in the sources and their conversion into «ethnonyms» in the academic and journalistic texts of national histories. The references to a specific «medieval ethnic group» are regarded as attempts to find ethnicity where it does not exist. The author draws particular attention to the phenomenon of religious identity in pre-modern societies and reveals a fundamental difference between «religiousity» and ethnicity. Dogmas are not the most important part in traditional religions, but rather the consent about the performance of rituals, which maintains primarily political unity. Being not systematized and controlled by the state, cultural implications of fragile and short-lived political union took the second place in the traditional worldview. Consequently, common religion did not engender perceptions about shared culture. The very idea of religion as «ethnic marker», apparently, has origins in the intellectual structures of the modern epoch, in which nationalism not only won religion, but also included it in its orbit of influence, thus giving rise to the phenomenon of «national religions». In conclusion, the article carries the idea that continuous attempts of the researchers to seek «a black cat in a dark room» (ethnicity in pre-modern societies) are determined not only by political factors, but also by their own ideological views stemming from family backgrounds and school lessons.
Keywords: pre-modern societies; identity; nationalism; national history; religion; ethnicity.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Иноземцев В. А. Испытание культурой // Сейла Бенхабиб. Притязания культуры: Равенство и разнообразие в глобальную эру. М.: Логос, 2003. С. VII–XXX.
2. Исхаков Д. М., Измайлов И. Л. Этнополитическая история татар (II – середина XVI вв.). Казань: РИЦ «Школа», 2007. 356 с.
3. Канжунгу Ожвалду Жозе. Особенности самосознания африканцев в контексте родовых традиций и современных тенденций образования этноса (на материалах изучения менталитета ангольцев): Автореф. дис. канд. псих. наук. М., 2011. 24 с.
4. Овчинников А. В. «Народы» в реалиях традиционной культуры: объективная реальность или «главный миф» национальных историй? // Вестник Казанского технологического университета. 2014. Т. 17. № 18. С. 307–312.
5. Рэдклифф-Браун А. Р. Структура и функции в примитивном обществе. Очерки и лекции. М.: Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 2001. 304 с.
6. Султанов И. Р. Право народов на самоопределение и опыт его реализации: политико-правовой анализ: дис. канд. полит, наук. М., 2001. 214 с.
7. Топычканов П. В. Формирование статуса религиозных меньшинств Южной Азии во второй половине XX – начале XXI веков (на примере Индии и Пакистана): дис. канд. ист. наук. М., 2009. 305 с.
REFERENCES
1. Inozemcev Vladislav. “Ispytanie kul’turoj”, in Sejla Benhabib (ed.), Pritjazanija kul’tury. Ravenstvo i raznoobrazie v global’nuju jeru. Moscow: Logos Publ., 2003. P. VII–XXX. (in Russian).
2. Iskhakov Damir, Izmajlov Iskander. Jetnopoliticheskaja istorija tatar (II – seredina XVI vv.). Kazan’: RItZ “Shkola” Publ., 2007. 356 p. (in Russian).
3. Kanzhungu Ozhvaldu Zhoze. “Osobennosti samosoznanija afrikancev v kontekste rodovyh tradicij i sovremennyh tendencij obrazovanija jetnosa (na materialah izuchenija mentaliteta angol’cev”. Abstracts of Diss., Moscow Pedagogical University, 2011. 24 p. (in Russian).
4. Ovchinnikov Alexandr. “«Národy» v realijah tradicionnoj kul’tury: ob‘jektivnaja reaPnosť ili «glavnyj mif» nacional’nyh istorij?”, Vestnik Kazanskogo tehnologicheskogo universiteta 17 (2014). P. 307–312. (in Russian).
5. Redkliff-Braun Al’fred Reginal’d. Struktura ifunkcii v primitivnom obshhestve. Ocherki i lekcii. Moscow: Izdatel’skaja firma «Vostochnaja literatura» RAN Publ., 2001. 304 p. (in Russian).
6. Sultanov Il’shat. “Právo narodov na samoopredelenie i opyt ego realizacii: politiko-pravovoj analiz”. Diss., Russian Presidential academy of state service, Moscow, 2001. 214 p. (in Russian).
7. Topychkanov Petr. “Formirovanie statusa religioznyh men’shinstv Juzhnoj Azii vo vtoroj polovině XX – nachale XXI vekov (na primere Indii i Pakistana)”. Diss., Moscow State University, 2009. 305 p. (in Russian).
II. Вариации национализма: политические и конфессиональные координаты
Идея патриотизма и ее итальянские истоки[142]
Юсим М. А.
Слово «патриотизм» возникло впервые в Европе, и Италия вместе с Грецией является его родиной. Однако у всех народов и у всех людей есть свои «патриотизмы», то есть любовь к тому месту, где они родились.
Во всяком случае, само это слово и связанные с ним представления входят в арсенал европейской культуры, и по мере ее утверждения в Новое время они распространились и в других регионах мира. Поскольку сегодня идея патриотизма в своих разных приложениях (национальный вопрос, суверенитет, право наций на самоопределение, «воспитание патриотизма») довольно актуальна, мне кажется интересным исследовать, какое значение и с какими вариациями вкладывается в это слово и как по-разному может пониматься патриотизм.
Что касается Италии, то достаточно сослаться уже на этимологию понятия «патриотизм», которое восходит к латинскому слову «patria», то есть «отечество» и в широком смысле означает любовь к отечеству («к отеческим гробам», по выражению поэта), готовность отстаивать его интересы, его территорию, часто даже ценой собственной жизни («Dulce et decorum est pro patria mori»).
Эти пункты были разработаны в древнеримской идеологии и так или иначе связаны с республиканским строем, потому что отечество – это все-таки общее достояние, хотя позднее появились такие варианты, как «престол-отечество», «за царя и отечество», дополняющие «жизнь за царя». Это уже два варианта политического понимания патриотизма: патриотизм как отстаивание интересов народа – «блага народа», общего блага (например, патриотизм солдат Французской революции – «вперед, сыны Отчизны милой», кстати, явно подражающий античному идеалу) и монархический патриотизм вассально-служилого толка (который мог вдохновлять как раз противников упомянутых санкюлотов).
Если углубляться в нюансы, то, пожалуй, окажется, что «патриотизмов» – бесчисленное количество, то есть как минимум столько, сколько есть отечеств, мест обитания коллективных индивидов, не говоря уже об изменениях наполнения понятия «патриотизм» в истории со сменой эпох и поколений и собственно о различиях в социальной, политической, культурной, художественной, конфессиональной и прочих его трактовках.
Если отталкиваться от самых общих смыслов и возводить понятия к более широким классам, то применительно к патриотизму получается, что это одно из проявлений самого основного чувства, присущего всему живому – ощущения «Я», эгоизма, которое определяет наши поступки со всевозможными преломлениями. В случае патриотизма это – чувство причастности к коллективу, рождающееся в человеческих обществах на этнической и политической почве; это одна из высших ценностей, вытекающая из инстинкта продолжения рода, одного из главных инстинктов эгоизма, наряду с самосохранением.
Патриотизм – одна из высших моральных ценностей, при этом патриотизм, как чувство национальной обособленности, у разных народов бывает выражен с прямо противоположным знаком, поэтому к общечеловеческим ценностям его можно относить, наверное, с большой натяжкой.
Не буду углубляться дальше в общие рассуждения, связанные с патриотизмом. Сказано достаточно, чтобы понять, что изучение патриотизма может и должно сопровождаться историческими исследованиями зарождения и бытования этого понятия в разных местах и в разное время.
Как я уже упомянул, современное понимание патриотизма восходит к раннему Новому времени и связано с появлением в Европе национальных государств или гражданских наций, объединенных более или менее ограниченной территорией, собственной властью, правительством, административной системой, законами, языком и произрастающими на его почве культурными феноменами.
В таком, более узком, понимании идея патриотизма довольно молода и насчитывает от силы две-три сотни лет; применительно к XVI–XVII вв. правильнее говорить о ее зарождении и формировании, поскольку она сменяет более ранние, средневековые представления о гражданском (человеческом, цивилизованном) обществе, этносе и власти, из которых тоже вытекал своего рода патриотизм или любовь к своим корням.
Поскольку в Италии раньше всего стали происходить перемены, ведущие к Новому времени, и не только и не столько в экономической и социальной сферах, сколько в первую очередь в духовной, логично предположить, что и в части патриотических идей итальянцы оказались «впереди всей Европы». Действительно, в Италии не был полностью забыт ни римский республиканизм, ни тем более величие Римской империи, которое так или иначе пытались возродить на протяжении Средневековья. Но к этому добавилось и центральное положение Рима как столицы западного христианства.
Общеизвестно, что по меньшей мере до Ренессанса, а возможно и до начала XIX в. в раздробленной Италии локальный патриотизм преобладал над общеитальянским (что дает о себе знать и по сей день). Население Апеннинского полуострова делилось на «нации» в средневековом смысле этого слова («нация» как «жители более или менее самостоятельных исторических областей» – венецианцы, флорентинцы, ломбардцы); но «нацией» называли и семью. Еще более важной была принадлежность к городу, потому что все города, даже самые мелкие, постоянно враждовали и вели войны между собой.
Патриотические нотки в суждениях об Италии в целом можно найти и у Данте, и у Петрарки, но на рубеже XVI в. эта тональность усилилась – вероятно, с началом Итальянских войн, которые, правда, не привели к созданию итальянской нации в современном смысле слова, но стали предпосылкой ее формирования. Обычно этот процесс связывают с эпохой Рисорджименто, но, говоря об истоках, вспоминают именно начало заката Возрождения, и прежде всего Макиавелли и Гвиччардини.
Опираясь на их тексты, я хочу указать некоторые характерные черты этого специфического итальянского ренессансного патриотизма.
Во-первых, это отнесение всех неитальянцев к варварам. Французы (галлы) прежде всего выступают в этой роли (понятно почему – началом Итальянских войн послужил приход Карла VIII в 1494 г.), но это также и немцы, испанцы и прочие народы.
Можно счесть эту военную тематику другой особенностью итальянского патриотизма того времени, правда, патриотизм исторически всегда связан с войнами, и эта черта не очень специфична. Патриотические идеи питались войной, все современные нации рождались в войнах, и чаще всего в качестве объединителей выступали монархи, искоренявшие врагов внешних и внутренних.
Во всяком случае, осуждение наемничества, широко известное по трудам Макиавелли, прямо вытекает из противопоставления корыстных и ненадежных «солдат» народной «милиции» ополчению.
От этого можно перейти к следующей черте, связанной тоже со стереотипом, восходящим к античности, но широко распространившимся позднее – стереотипом «неиспорченного дикаря», представляющим собой обратный по отношению к «варварству» принцип, принцип верности природе, основанный на идее порочности городской цивилизации, на предпочтении простых и отчасти грубых нравов изнеженности и утонченности и т. п. Этот мотив представлен у Макиавелли, но он, сопоставляя язычество с христианством, ограничивается призывами истолковывать последнее в духе доблести, не оставляя мир на растерзание «мерзавцам». Это все же аргумент в пользу «варваров» и в укор итальянцам.
Отсюда, кстати, четвертая сторона итальянского патриотизма, связанная с религией. У Макиавелли, как и у Гвиччардини, много критических замечаний в адрес папства: он один из первых упрекнул пап в том, что они сами не могли, а другим не дали объединить Италию. Это, действительно, особенность итальянского патриотизма (которая проявила себя и в эпоху Рисорджименто), потому что в Средние века и до них верования служили духовной опорой для народов, и, прежде всего, в их противостоянии другим. Христианский монотеизм, в частности, вырос из этнической религии евреев. Христианская вера могла служить знаменем для этноса во многих случаях, от протестантизма до православия, но в Италии случилось иначе. Католицизм имел изначально универсалистские претензии (начиная с названия), но исторически он сыграл роль национальной итальянской религии. Теперь можно, наконец, перейти к пятой особенности, которую вполне можно было бы и следовало бы, вероятно, считать первой и основополагающей для общеитальянского патриотизма, – к римскому наследию. Воспоминание о величии Рима, о временах империи, когда Италия диктовала свою волю всей ойкумене, всегда служат фоном для патриотических всплесков в текстах итальянских писателей; этот мотив прослеживается и в других вышеперечисленных пунктах. Варварам противопоставлялись римляне, у которых до поры до времени. была своя «народная», т. е. как бы мононациональная армия (Макиавелли предлагает заменить наемное войско ополчением).
Стереотип испорченности цивилизации также восходит к римским писателям. Даже локальный патриотизм опирался на римский – Флоренция как дщерь Рима.
Церковь, наконец, это Римская церковь, один из образов Рима, второй или пятый, а Рим – глава мира (Roma – caput mundi).
Шестая черта – культурное строительство на основе литературы, раннее (с XIV в. Ренессанс) итальянское движение, но и общеевропейское. Искусственное строительство культуры по утраченному образцу. Культура всегда подражательна, она произрастает на готовой интеллектуальной почве. Она цитатна. Творчество подражает природе или прежним образцам, классике. В Италии создание национальной культуры началось параллельно возвращению к античной литературе, прежде всего, латинской.
О нарративах – я бы хотел проиллюстрировать то, как отразились вышесказанные особенности итальянского осмысления национальной идеи в языке XVI в., на паре примеров из Гвиччардини. Это самые характерные черты – отношение к варварам и понятие отечества.
1. О выборах папы Адриана (голландца) в 1522 г. История Италии, кн. 14, гл. 12: «В итоге единогласным решением Адриан был избран папой, хотя сами участники голосования не смогли бы объяснить, по какой причине в годину таких тревог и опасностей для Церкви они избрали понтификом варвара из далекой страны, в пользу которого не говорили ни прежние заслуги, ни договоренности с другими кардиналами, едва знавшими его по имени; он никогда не бывал в Италии и не имел намерений или надежд когда-либо ее увидеть». Здесь прочитывается удивление и восприятие Италии как центра мира, по крайней мере, христианского. И церковь здесь отождествляется с ней.
История Италии, кн.15, гл. З. О том же папе: «По кратковременности своего правления или по его неопытности он оставил по себе бледную память, но курии кончина папы была необыкновенно приятна, ибо ее члены желали видеть на его троне итальянца, или хотя бы особу, воспитанную в Италии».
2. Об отечестве. История Италии, кн. 14, гл. 13 (О защите Милана от французской армии). «Но на удивление действенными оказались и проповеди монаха ордена св. Августина Андреа Барбато, который при большом стечении народа призывал жителей защищаться и освободить отечество от ига злобных варваров… он также говорил о подвигах их предков, которые покрыли себя славой перед всей Италией, о том, что люди должны оберегать свое отечество, ведь если язычники только ради славы добровольно шли на смерть, то как же должны поступать христиане, памятующие о том, что павшим при защите столь святого дела помимо земного признания уготована вечная жизнь в царстве небесном…». Сначала монах вспоминает о временах Ломбардской лиги, противостоявшей Фридриху Барбароссе, но затем приводит в пример и язычников, прежде всего римлян времен республики.
В заключение характеристики итальянского патриотизма, имевшего все-таки республиканский оттенок и связанного с понятием общего блага, надо сказать, что именно он повлиял на новоевропейский круг соответствующих идей – достаточно напомнить о риторике Французской и Американской революции, к которым римская символика перешла скорее через посредничество итальянского Ренессанса.
Вместе с тем крайний национализм (фашизм) победил именно в тех странах, которые оставались слишком долго верны универсалистским традициям, а проще говоря, долго не объединялись; в них долго накапливалось чувство национально-политической ущемленности, которое проявилось в XIX–XX вв., но прорывается в разных местах с прежней силой и в наше время.
* * *
УДК 94(450) «1492/1914»+172
ЮСИМ МАРК АРКАДЬЕВИЧ. Д. и. н., ведущий научный сотруднник, Институт всеобщей истории РАН, Москва.
MARK YUSIM. PhD, Leading Research Fellow, Institute of World History of the The Russian Academy of Sciences, Moscow.
E-mail: youssimm(a)mtu-net.ru.
ИДЕЯ ПАТРИОТИЗМА И ЕЕ ИТАЛЬЯНСКИЕ ИСТОКИ
Есть слово «патриотизм» и идея патриотизма, которые близки, но не тождественны друг Другу. Слово восходит к античности и распространилось как термин европейской культуры; идея «любви к родине» вытекает из природы феномена, сегодня именуемого «идентичностью», точнее, из этнической самоидентификации.
И как слово, и как явление патриотизм историчен, то есть многообразен в своем историческом бытовании, его наполнение связано с важнейшими чертами жизни народов. Прежде всего, с политикой: есть республиканский патриотизм полисного толка, есть монархический вассально-служилый патриотизм. В традиционных обществах патриотизм был по преимуществу конфессиональным, этническая принадлежность заслонялась вероисповедной. Другие элементы отдельных культур – язык, литература, искусство, в меньшей степени наука и знание, также взращивали патриотизм и питались от него.
Комплекс современных представлений о патриотизме зародился при переходе от Средних веков к Новому времени одновременно с формированием общеевропейских культурных ценностей эпохи Возрождения. В Италии строительство национального самосознания началось очень рано, но в то время не получило завершения в силу особенностей исторического развития страны. Среди них следует назвать воспоминания о римском величии в сочетании с величием католического Рима, следы античного республиканизма в итальянских городах, сам факт расцвета ренессансной культуры с оглядкой на древность. Общеитальянскую идею обсуждали в своих трудах два выдающихся политика и писателя Ренессанса, Н. Макиавелли и Фр. Гвиччардини.
Их сочинения отражают характерные черты тогдашнего итальянского патриотизма: восприятие всех иностранцев как «варваров», преобладание локального патриотизма над общенациональным, осуждение военного наемничества, критическое отношение к Церкви, свободолюбие, противопоставление неиспорченной старины и цивилизации, языковой и культурный диалог с античностью.
Ранний итальянский национализм не получил политического подкрепления в лице единого государства, что отразилось в порожденных этой неудовлетворенностью национальных движениях XIX–XX вв.
Ключевые слова: патриотизм; национальная идея; Италия; Рим; Макиавелли; Гвиччардини.
THE IDEA OF PATRIOTISM AND ITS ITALIAN ROOTS
The term “patriotism” and an idea of patriotism are close to each other but not identical. The word, going back to Antiquity, was later disseminated as a concept of European culture; the idea of love to the country is derived from a phenomenon, nowadays called “identity”, or rather from ethnic self-identification.
Both the word and the phenomenon are historically determined, i. e. multiform in their historical being; their content is interrelated with most important features of nation’s life. First of all, with politics: there is a republican patriotism of the city-state kind, there is a monarchical patriotism which supposes service to the sovereign.
In traditional societies patriotism was mainly confessional; national identity was overshadowed by the religious one. Other elements of particular cultures such as language, literature, art and, to a lesser extent, scientific knowledge bred patriotism too and were nurtured by it.
The set of modern ideas of patriotism was born in the transition from Middle Ages to Modern Times, together with the development of common values of Renaissance Europe. In Italy the construction of national self-consciousness began very early, but it was not completed because of the peculiarities of the historical evolution of the country. It is worth mentioning memories of the grandeur of Rome coupled with the authority of catholic Rome, traces of ancient republicanism in Italian cities and the mere fact of the of Renaissance culture looking back to Antiquity. The all-Italian idea was discussed in the works of two outstanding politicians and writers of Renaissance, N.Machiavelli and Fr. Guicciardini.
Their writings reflect characteristic features of contemporary Italian patriotism: perception of all foreigners as “Barbarians”, prevalence of local patriotism over the national one, condemnation of mercenary troops, criticism of the Church, love of freedom, the contraposition of uncorrupted old time and civilization, linguistic and cultural dialogue with Antiquity.
The early Italian nationalism was not sustained by a unified nation state, the fact which manifested itself in national movements and corresponding political consequences in XIX–XX centuries.
Keywords: patriotism; national idea; Italy; Rome; Machiavelli; Guicciardini.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ (REFERENCES)
1. Guicciardini Francesco.’’Storia d’ltalia”, A сига di Silvana Seidel-Menchi. Torino: G. Einaudi, 1971. in 3 Vol. 1960 p.
2. “Machiavelli, Niccolo”. “” (date of access: 01.06.2015).
Языковой и этнокультурный фактор в формировании фламандской национальной идеи в XIX–X в.
Осколков П. В.
Существует несколько теорий формирования национальной идентичности и ее «опорной идеи». Классической является теория саморазличения Иоганна Гердера; его идеи продолжал Иоганн Готлиб Фихте: «Черты, которые позволяют этому народу называть себя просто народом, противопоставляя себя другим племенам»[143]. Объективные критерии должны вести к детерминизму «идентитета и нации»[144]. Формирование «фламандской идеи», на наш взгляд, соответствует теории самор азличения.
Слово «Фландрия» произошло от восточногерманского vlieden («бежать»). Около 800 г. в хрониках встречается слово vlaming, от фризского vlame – «побег»[145]. Предположительно, бежали фламандцы от некоего наводнения. Сейчас топоним «Фландрия» употребляется в узком значении (Фламандское графство, провинции Восточная и Западная Фландрия) и в широком (земли, населенные народом, говорящим на южных диалектах нидерландского языка). Мы будем придерживаться последнего. Также в филологической среде не принято наименование «фламандскийязык». Фламандский – усредненная норма южных диалектов нидерландского языка, аккумулирующая наиболее характерные и общие для них отличительные черты и находящаяся между упомянутыми диалектами и литературным нидерландским. В конституции Бельгии государственным языком назван нидерландский.
Во времена Высокого Средневековья «саморазличать» фламандцам приходилось себя преимущественно с франкоговорящими соседями. Пик противостояния пришелся на конец XIII-начало XIV вв. – борьбу графа Фландрии Ги де Дампьера против французского короля Филиппа IV. Вскоре после триумфального визита последнего в Брюгге местные органы управления ввели новый налог, дабы покрыть затраты на прием королевской свиты. Стихийный протест против магистрата и французского наместника Жака де Шатильона возглавил ткач Питер де Конинк. На рассвете 18 мая 1302 г. около четырех тысяч французов и «коллаборационистов» были убиты[146]. Событие вошло в историю под именем Брюггской заутрени.
Попадавшиеся восставшим горожане должны были произнести по-фламандски шибболет «Щит и друг» (scilt ende vrient). Так впервые был использован принцип отделения фламандцев от франкоязычных оккупантов по языковому признаку (французы не могли произнести фразу без акцента), что можно расценивать как начало языкового противостояния. Однако, поскольку коллаборационисты и члены городского совета были убиты, будучи фламандцами, принцип шибболета, возможно, стоит рассматривать как более позднее наслоение.
400 лет спустя фламандцы впервые почувствовали на себе административное языковое давление со стороны франкофонов. С 15 декабря 1792 г. в завоеванных революционной Францией Южных Нидерландах была учреждена оккупационная администрация. Фламандский перестал использоваться в администрации, в судах и школах нидерландоязычных департаментов, таблички с названиями улиц и вывески на фламандском снимались, а публикации и театральные постановки на этом языке были запрещены[147].
С 1815 по 1830 гг. и фламандцы, и валлоны находились в оппозиции к Объединенному королевству Нидерландов, куда территория современной Бельгии вошла по решению Венского конгресса. Фламандцы не считали, что говорят на одном языке с северянами; фламандское духовенство воспринимало «голландский» как «троянского коня» кальвинизма[148]. И фламандский, и валлонский католический клир практически единогласно проголосовал против новой конституции, отказывавшей церкви в официальном статусе. В результате взаимного ожесточения двух частей Королевства разразилась революция, и в 1830 г. Бельгия получила независимость.
Шарль Рожье, один из «архитекторов» бельгийской государственности, в 1831 г. заявил: «Основной принцип эффективной административной работы – использование единственного языка, и совершенно очевидно, что единственным языком бельгийцев должен быть французский»[149]. Армия была объявлена франкоязычной, законы публиковались только на французском языке. Утверждая, что французский – самый распространенный язык в Бельгии, руководство имело в виду бельгийскую элиту. Однако во Фландрии в 1846 г. количество франкофонов составило 3,2 %[150]. В целом в Бельгии количество франкофонов не превышало одной пятой населения (в Валлонии для большинства населения родным был валлонский диалект/язык).
К моменту провозглашения независимости в Бельгии было пять нидерландоязычных провинций. Бельгийское государство ограничивало возможности употребления фламандского языка в существенных сферах, «заполняя» пробел организацией фольклорных фестивалей. Это позволяло представить фламандский «музейным экспонатом», но и давало «любителям фламандского» возможность объединяться. В таких условиях начало формироваться Фламандское движение. Оно зарождалось как объединение энтузиастов, испытавших влияние исторического романтизма и общеевропейской тенденции культурной эмансипации меньшинств. Фламандское движение никогда не существовало в форме единого института, это была идеология, выраженная в практических действиях. В 1840-е гг., когда нормализация отношений с Нидерландами снизила накал страстей вокруг призывов к распространению фламандского/нидерландского языка, активисты стали писать петиции против необходимости нанимать переводчика при обращении в суд и за ввод фламандского языка пока еще только в школьное обучение. С 1860-х гг. они стали требовать административной и культурной автономии.
В 1869 г. была произнесена первая речь на нидерландском в бельгийском парламенте[151]. 22 мая 1878 г. в Бельгии был принят закон, согласно которому во фламандской части страны указы и постановления государственных органов должны составляться или на фламандском языке, или на обоих (нидерландском и фламандском). Впрочем, в брюссельском аррондисмане, тогда почти полностью фла-мандоязычном, использование фламандского языка так и не стало законодательной нормой[152]. В 1898 г. нидерландский был провозглашен, наряду с французским, официальным языком бельгийской нации.
Примерно через месяц после начала Первой мировой войны германский канцлер фон Бетман-Хольвег дал указание оккупационной администрации в Брюсселе оказать поддержку Фламандскому движению: с улиц фламандских городов исчезли франкоязычные таблички, осенью 1916 г. был впервые переведен на нидерландский язык обучения Гентский университет, под руководством ученого Аугуста Вормса в 1917 г. был создан Совет Фландрии, признанный в качестве фламандского правительства. В планах содержались рекомендации «уступить» франкоязычную Бельгию Франции, а Фландрию вместе с Нидерландами включить в состав Германии как графство или герцогство[153].
Если во время войны на фламандских коллаборационистов смотрели с недоумением, вскоре после ее окончания они стали героями. Это было связано с тем, что бельгийское правительство отменило все уступки национальным требованиям фламандцев, сделанные оккупантами, а также с положением фламандских солдат на фронте. В 1913 г. был принят закон об использовании в армии фламандского языка, однако в 1914–1918 гг. он не соблюдался. Фламандцы составляли почти 90 % солдат и нижних чинов бельгийской армии[154], в то время как офицерский корпус был укомплектован преимущественно валлонами. Последние отдавали на французском приказы, которых не понимали солдаты-фламандцы.
Правительство Бельгии заявило о невозможности перевода Гентского университета на нидерландский язык обучения после войны одновременно с таковым переводом, осуществленным немецкой администрацией. Это вызвало возмущение т. н. «Фронтового движения», однако открытое письмо королю Альберту I вызвало лишь репрессии. Последовал окончательный разрыв с иллюзией сосуществования
Фламандского движения и унитарного бельгийского государства. Была образована Фронтовая партия, которая в 1921 г. впервые приняла участие в выборах, а в 1929 г. получила 11 мест в парламенте[155]. В октябре 1933 г. сформировался Фламандский национальный союз, лидеры которого заявляли: «Фландрия – один из важнейших участков на фронте борьбы между латинством и германством»[156].
Когда в 1940 г. Бельгия была оккупирована Германией, фюрер склонялся к разделению Бельгии, при котором Фландрия, как германская земля, получила бы гражданское управление вместе с Нидерландами, а Валлония, вместе с Францией, – военное[157]. Но ряд факторов склонил чашу весов в пользу установления военного режима на всей территории Бельгии.
В послевоенные годы поляризация общества персонифицировалась вокруг Леопольда III. Присутствие короля, насильственно вывезенного в Германию, не устраивало социалистов; его обвинили в предательстве. Премьер-министр Ван Аккер заявил: «Фламандская, католическая часть населения – за короля, остальные – против. Возвращение короля может привести к разделению страны»[158]. 12 марта 1950 г. правительство Эйскенса провело референдум по вопросу о возвращении короля. Результаты: 72 % голосов «за» во Фландрии и 42 % в Валлонии. В национальном масштабе перевес (57 %) получили сторонники короля[159]. Регионально-этническая поляризация общества впервые столь резко проступила в цифровых данных. Несмотря на поддержку Фландрии, король отрекся от престола из-за давления правительства и валлонской улицы[160]. Разочарование фламандцев вылилось в образование в 1954 г. новой фламандской националистической партии, «Народного союза».
В 1960-е гг. правительство Лефевра-Спаака попыталось снизить напряженность между валлонами и фламандцами путем принятия новых языковых законов. Они были направлены на закрепление одноязычия каждой провинции; что подразумевало официальное определение языковой границы. Именно тогда возникли проблемы с некоторыми коммунами в т. н. Брюссельской периферии: преимущественно франкоязычные; они находились во фламандском окружении. В 1963 г. был достигнут компромисс: Фландрия и Валлония становились одноязычными; регион Брюссель-Столица двуязычным; а из десятков административных единиц во Фламандском Брабанте франкоязычные школы «переехали» в соседние валлонские провинции.
Фламандское движение также потребовало разделения по языковому принципу Левенского католического университета; находившегося во Фландрии. Франкоязычная профессура оказала этому сопротивление: в случае переезда франкоязычного отделения в Брюссель ему бы пришлось конкурировать с местным Свободным университетом[161]. Фламандские преподаватели и студенты выдвинули лозунг «Долой валлонов». В 1968 г. Левен стал ареной физического противостояния между фламандскими и валлонскими студентами и профессорами. Университет был разделен на две части; в 1970 г. эта же судьба постигла Свободный университет Брюсселя.
В 1970 г. правительство Эйскенса пересмотрело конституцию страньц установив протофедералистскую структуру; которая закладывала основу современного состояния (при этом страна официально оставалась унитарной): были созданы три региона (по экономическому принципу) и три сообщества (по культурно-языковому принципу). Согласно декрету от 10 декабря 1973 г. нидерландский язык стал официальным языком Фламандского сообщества. Сообществам была предоставлена культурная и языковая автономия.
Таким образом; мы видим, что; обладая большим опытом противостояния более крупным соседним языкам и находясь долгое время в «подавленном» состоянии; нидерландский язык в Бельгии стал одним из основных факторов культурной; экономической и административной «эмансипации» Фландрии. Упомянутое «подавление» породило ответную реакцию; которая оказалась весьма успешной и привела к выполнению почти всех целей движения за национальную автономию, за исключением создания мононационального государства. Наряду с языком свою роль сыграла неотделимая от него этнокультурная самобытность, в условиях Бельгии принявшая также религиозное и политическое измерение.
* * *
УДК 94(493) «18/19»+ 323.17
ОСКОЛКОВ ПЕТР ВИКТОРОВИЧ. Магистрант, Московский государственный институт международных отношений МИД РФ, Москва.
OSKOLKOV PETR. МА student, Moscow State Institute of International Relations, Moscow.
E-mail: petro školko v(a)yandex.ru.
ЯЗЫКОВОЙ И ЭТНОКУЛЬТУРНЫЙ ФАКТОР В ФОРМИРОВАНИИ ФЛАМАНДСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ В XIX–XX ВВ.
Планируется рассмотреть роль языкового и этнокультурного фактора в формировании фламандской национальной идеи с момента возникновения независимого Королевства Бельгия. В независимой Бельгии единственным официальным языком был объявлен французский, и фламандцы, составлявшие в некоторые годы до 55 % населения, чувствовали себя ущемленными. Фламандская культура в XIX в. сводилась бельгийским государством к культурным фестивалям и «обществам любителей фламандской словесности». Из последних сформировалось «Фламандское движение» – направление общественной мысли, ставившее своей целью поначалу лишь введение во Фландрии фламандского языка в делопроизводство и образование. Единый фламандский литературный язык в это время существовал лишь в проектах «языковых мечтателей», некоторые диалекты не были взаимопонимаемы (и остаются таковыми сейчас). Более того, для большинства энтузиастов фламандского языка и культуры в XIX в. фламандский язык не был родным.
Впоследствии «Фламандское движение» и накопленное его деятелями культурное наследие (эпические романы, повествующие о подвигах фламандских графов, монументальные памятники фламандским героям, зафиксированные на бумаге образчики фольклора) способствовали формированию институционального фламандского национализма, который уже в межвоенный период был представлен несколькими политическими партиями. Благодаря усилиям фламандских национальных партий, являющихся наследниками «Фламандского движения», во второй половине XX в. Фландрия постепенно получила административную, культурную и иную автономию, которая достигла своей высшей точки в 1990-е гг., когда Бельгия была официально объявлена федерацией. В качестве мотивов административного разделения Фландрии и Валлонии называлось не только экономическое неравенство, как это иногда представляется, но и глубокие культурно-мировоззренческие различия (извечное противостояние германцев и кельтов, усугубленное секуляризацией Валлонии и распространением в ней еще в конце XIX в. идей социализма, в то время как Фландрия оставалась в своей массе весьма консервативной).
Сейчас, когда политические партии-наследники «Фламандского движения» добиваются полной независимости Фландрии, можно с уверенностью сказать, что фламандский национализм по-прежнему опирается на сформированный фламандскими интеллектуалами XIX в. во многом мифологизированный и идеализированный образ фламандского этноса, определяющийся, прежде всего, через выраженную культурную, языковую и мировоззренческую инаковость.
Ключевые слова: Фландрия; Бельгия; Фламандское движение; языковой фактор; этнокультурный фактор; западноевропейский национализм.
LANGUAGE AND ETHNOCULTURAL FACTOR IN THE FORMATION OF FLEMISH NATIONAL IDEA IN XIX–XX CENTURIES
The article is dedicated to the role of linguistic and ethnocultural factors in the formation of the Flemish national idea from the moment of Belgian independence. In independent Belgium French was proclaimed the only official language, and the Flemings, who constituted up to 55 % of the population, felt offended. In the 19th century, the Flemish culture was reduced by the Belgian government to cultural festivals and the «unions of the amateurs of the Flemish language». On the basis of the latter, the «Flemish movement» was formed, i.e. the stream of the public thought that was at first aimed merely at introducing the Flemish language into the office-work and school system. The unified Flemish literary language existed at that time only in the projects of the «language dreamers», some dialects were not mutually understandable (and remain in the same condition nowadays). Moreover, in the 19th century, Flemish was not a mother tongue for most enthusiasts of the Flemish language and culture.
Afterwards the «Flemish movement» and its cultural heritage (epic novels describing the heroic deeds of the Flemish counts, monuments to the Flemish heroes, masterpieces of folklore) contributed to the formation of the institutional Flemish nationalism that was already represented in the interbellum with a couple of political parties. Thanks to the Flemish national parties, which inherited their ideas from the «Flemish movement», Flanders had gradually obtained administrative, cultural and other autonomy. This process reached its peak in 1990s, when Belgium was officially proclaimed a federation. The motives for the administrative split of Flanders and Wallonia included not only economic disparities, as it is sometimes presented, but also deep cultural and worldview differences (everlasting contest between the Celts and the Germans, deepened with the secularization and the spread of the socialist ideas in Wallonia in the late 19th century, while Flanders remained mostly conservative).
Nowadays, when the political heirs of the «Flemish movement» seek to gain full independence for Flanders, we may say that the Flemish nationalism is still based on the mythologized and ideology-driven image of the Flemish ethnos mostly characterised by distinct cultural, linguistic and worldview otherness.
Keywords: Flanders; Belgium; Flemish movement; linguistic factor; ethnocultural factor; West-European nationalism.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Намазова А. С. Бельгия. Эволюция государственности в XVIII–XX веках. М.: Наука, 2008. 391с.
2. Самоопределение и независимость Эстонии / Под ред. А. Бертрико. Таллинн: Avita Сор., 2001.347 с.
3. Свечин А. Эволюция военного искусства. М.: Академический проект; Жуковский: Кучково поле, 2002. 864 с.
4. Семиряга М. И. Коллаборационизм. Природа, типология и проявления в годы Второй мировой войны. М.: РОССПЭН, 2000. 863 с.
5. BeheydtL. Delen Vlaanderen en Nederland een culturele identiteit? // Vlaamse identiteit: mythe én werkelijkheid. Leuven: Acco, 2002. P. 22–40.
6. De Vries J. et al. Het verhaal van een taal. Amsterdam: Prometheus, 1993. 316 p.
7. Falter R. Belgiě: een geschiedenis zonder land. Antwerpen: De Bezige Bij Publ., 2011.463 p.
8. Luykx Th., Platel M. Politieke geschiedenis van Belgiě 1789–1985. Mechelen: Kluwer, 1985.1011р.
9. Reynebeau M. Het klauwen van de leeuw: De Vlaamse identiteit van de 12de tot de 21ste eeuw. Leuven: Van Halewyck, 1995. 306 p.
10. Vanneufville E. Histoire de Flandre. Fouesnant: Yoran embann., impr. 2009. 344 p.
11. Velaers J., Van Goethem H. Leopold III: de koning, het land, de oorlog. Tielt: Lannoo, 2001.1152 р.
12. Vos L. Van Belgische naar Vlaamse identiteit // Vlaamse identiteit: mythe én werkelijkheid. Leuven: Acco, 2002. P. 11–21.
REFERENCES
1. Beheydt Ludo. “Delen Vlaanderen en Nederland een culturele identiteit?” in Vlaamse identiteit: mythe én werkelijkheid. Leuven: Acco, 2002. P. 22–40.
2. De Vries Jan et al. Het verhaal van een taal. Amsterdam: Prometheus, 1993. 316 p.
3. Falter Rolf. Belgiě: een geschiedenis zonder land. Antwerpen: De Bezige Bij Publ., 2011.463 p.
4. Luykx Theo, Platel Marc. Politieke geschiedenis van Belgiě 1789–1985. Mechelen: Kluwer, 1985.1011р.
5. Namazova Alla, BePgija. Jevoljucija gosudarstvennosti v XVIII–XX vekah. Moscow: Nauka Publ, 2008. 391 p. (in Russian).
6. Reynebeau Marc. Het klauwen van de leeuw: De Vlaamse identiteit van de 12de tot de 21ste eeuw. Leuven: Van Halewyck, 1995. 306 p.
7. Samoopredelenie i nezavisimosť Jestonii, ed. A. Bertriko. Tallinn: Avita Cop. Publ., 2001. 347 p. (in Russian).
8. Semirjaga Mikhail. Kollaboracionizm. Priroda, tipologija iprojavlenija vgody Vtoroj mirovoj vojny. Moscow: ROSSPJeN Publ., 2000. 863 p. (in Russian).
9. Svechin Alexandr. Jevoljucija voennogo iskusstva. Moscow: Akademicheskij proekt Publ.; Zhukovskij: Kuchkovo pole Publ., 2002. 864 p. (in Russian).
10. Vanneufville Eric. Histoire de Flandre. Fouesnant: Yoran embann., impr. 2009. 344 p.
11. Velaers Jan, Van Goethem Herman. Leopold III: de koning, het land, de oorlog. Tielt: Lannoo, 2001. 1152p.
12. Vos Louis. “Van Belgische naar Vlaamse identiteit” in Vlaamse identiteit: mythe én werkelijkheid. Leuven: Acco, 2002. P. 11–21.
Поиск национальной идентичности в дискурсе каннадских интеллектуалов 1950-х–0-х гг
Еременко К. С.
В конце 1940-х – начале 1950-х гг. представители творческой элиты Канады очень позитивно оценивали перспективы «рождавшейся» буквально на их глазах канадской нации. В книге «От колонии к нации», впервые опубликованной в 1946 г., Артур Лоуэр предпринял попытку представить движение Канады от статуса зависимой территории Великобритании к статусу независимой нации североамериканского континента как эволюционный процесс, которому были свойственны естественность, линейность и постепенность. По свидетельству историка Дж. Брауна, в этот период страна демонстрировала «признаки культурной зрелости»[162]. «Канадцы сегодня, как никогда прежде, осознают, что Канада вступает в ряды других наций мира, – писал историк, – Они могут по-разному оценивать ее роль. Они могут по-разному смотреть на ее средства и ближайшие цели, но они воспринимают как данность тот факт, что у нее, как и у других наций, есть собственная роль…»[163]. Менялось отношение канадцев к достижениям своих соотечественников в различных сферах культуры. Малькольм Росс находил многочисленные свидетельства того, что Канада пробилась сквозь собственную «скорлупу культурного колониализма»[164].
Кроме того, как отмечали современники, канадцы буквально пристрастились к самоанализу, о чем можно было судить по огромному количеству книг, статей, опросов общественного мнения и дискуссий на радио, затрагивавших национальную тематику. Сам факт того, что канадцы все чаще задавали себе вопрос «Кто мы?», являлся подтверждением этого «национального пробуждения». Как утверждает У. Грининг, после окончания Второй мировой войны «настоящий канадский национальный дух, преодолевающий провинциальные и региональные границы», становился все более заметным, а канадцы постепенно утрачивали «свой глубоко укоренившийся комплекс неполноценности перед такими странами, как Великобритания, Франция и США»[165]. По его словам, выход в свет доклада Мэсси даже привел многих канадцев к осознанию того, что некоторые их политические, правовые и образовательные институты в отдельных аспектах превосходят аналогичные учреждения Соединенных Штатов и что они «достойны сохранения даже ценой значительных усилий и самопожертвования»[166].
Однако ко второй половине 1950-х гг. происходит явная смена общественного настроения: тенденции, наблюдающиеся в экономической и культурной жизни страны, заставляют канадцев все чаще выражать беспокойство по поводу потери своей национальной идентичности, которая еще не успела обрести определенную форму и потому была особенно подвержена опасным веяниям извне. «Потерять идентичность – вот что действительно нас пугает. Я полагаю, что эта идентичность является очень хрупкой и что ее укрепление целиком зависит от смелых свершений в будущем», – писал в 1957 г. известный канадский эколог Пьер Дансеро[167].
Кризисное состояние канадской идентичности очень часто объяснялось, исходя из ее внутренних особенностей. В печати и в публичных выступлениях стал обсуждаться «комплекс неполноценности», присущий канадцам как нации, приводились многочисленные факты того, что лучшие люди покидают страну в поисках славы, денег, комфортной жизни, как правило, обретая все это к югу от границы. «…Любят ли на самом деле канадцы свою страну? Я не думаю, что многие из них ее любят, – размышлял канадский писатель Хью Гарнер. – Мы, канадцы, страдаем самым большим комплексом неполноценности в мире»[168]. Некоторые полагали, что прямым доказательством существования этого комплекса служат постоянные рассуждения канадцев о собственной уникальности, столь характерные для начала 1950-х гг.
Тот факт, что канадскую национальную идентичность никак не удается описать или сформулировать в ясных позитивных терминах, вызывал особенно горячие дискуссии среди интеллектуалов. В прежние годы этому находился целый ряд объяснений: об идентичности зачастую рассуждали как о предмете едва уловимом и трудно объяснимом – «смутной, неосязаемой и беззвучной вещи, находящейся выше наших возможностей выражать и даже называть»[169], и в этом свете отсутствие четких представлений о том, что собой представляет канадская национальная идентичность, выглядело понятным и нормальным. «…Никто не может дать определение канадскому характеру, – размышлял Брюс Хатчисон. – Но ведь на самом деле ничто важное в жизни и не поддается определению. Если какое-то явление поддается определению, мы можем быть уверены – оно не слишком важно. Так что нам не нужно извиняться… за то, что мы не можем объяснить жизнь Канады как химическую формулу»[170]. Теперь же многие полагали, что эта неопределенность скорее является патологией и свидетельствует о кризисном характере канадской идентичности или же вовсе указывает на ее отсутствие.
Причины кризисного состояния национальной идентичности канадцев в этот период наиболее часто ассоциировались с воздействием внешних, а не внутренних факторов, а именно – с влиянием США. Звучали предостережения, что впереди Канаду ждет превращение в интеллектуальную и духовную колонию Соединенных Штатов. Известный канадский ученый Г. Иннис, анализируя бурное развитие американо-канадских экономических отношений, даже предложил в 1956 г. несколько преобразовать предложенную А. Аоуэром траекторию развития Канады. В новых условиях Г. Иннис полагал, что страна стремительно возвращается к статусу колонии, на этот раз – американской (colony-to-nation-to-colony)[171]. Сам Аоуэр также высказывал опасения по поводу того, что американское присутствие во всех сферах канадской жизни поставило его страну как самостоятельную общность на грань исчезновения, критиковал вялость и неспособность канадцев к защите собственной идентичности[172].
С начала 1960-х гг. констатация кризисного состояния канадской идентичности стала своего рода «топосом» общественного дискурса страны. Масштабы национального «самокопания» сами по себе очень скоро стали предметом внимания, в этом видели определенную патологию, которой давались разные названия – ипохондрия, нарциссизм и т. д. «Осмелюсь сказать, – писал М. Шарп, – ни в одной другой стране граждане не проводят столько времени, занимаясь самоанализом…Мы находим удовольствие в том, чтобы выставлять напоказ для себя и для всего мира нашу неуверенность в себе и смущение»[173]. Обращение к теме национальной идентичности в этом контексте начинало требовать вводных слов в виде извинений и дополнительных пояснений. Многие интеллектуалы в этот период выражали самые пессимистичные настроения по поводу будущего канадской нации. Так, известный журналист Р. Фулфорд констатировал в 1962 г.: «Мы столкнулись с духовным банкротством»[174]. А писатель X. Макленнан акцентировал внимание на драматичности выбора, перед которым оказалась канадская нация в начале 1960-х гг.: «Вопрос стоит не просто о выживании, но о качестве выживания: будет ли Канада процветать, являясь растущей творческой нацией, или же будет влачить жалкое существование, будучи незаметной и обидчивой „банановой республикой“ Севера»[175].
По замечанию Р. Кука, в 1965-1970-е гг. наблюдался настоящий поток книг, статей, радио– и телепередач, провозглашающих, что Канада умирает или, по крайней мере, неизлечимо больна. И произведением, символизировавшим начало этого потока, стал широко известный тогда и сегодня «Плач по нации» известного канадского философа Дж. Гранта. Удивительно, но именно благодаря этой книге, которая для Гранта была выражением «скорби о конце Канады как суверенного государства»[176]; выдающийся мыслитель снискал репутацию «отца» англоканадского национализма. Центральной идеей; вокруг которой строилось произведение Грант; была идея о том; что по вине либеральной партии и вследствие ее экономической политики Канада оказалась всецело во власти американской империи; что сделало невозможным исполнение Канадой своего предназначения – построения альтернативы Американской республике в северной половине континента.
Философ был убежден; что существование независимой Канады было напрямую связано с поддержанием традиций консерватизма. Долгие годы политическая культура этой страны формировалась под влиянием таких ценностей традиционного консерватизма; как право общества ограничивать индивидуальную свободу во имя общего блага. Это нашло выражение; в частности; в сфере экономической политики: канадцы гораздо чаще; чем американцы; принимали необходимость внедрения государственного контроля в экономическую жизнь; дабы защитить общественное благо от частной свободы.
Экономическое сближения Канады и США; превращение Канады «в страну филиальной экономики американского капитализма»[177]; создало условия; в которых канадская культура и канадские традиции постоянно подвергались влиянию «гомогенизированной культуры американской империи»[178] и оказались на грани исчезновения; как и сама нация. Пример Канады привел Дж. Гранта к размышлениям об угрозах национальному государству; которые таит в себе ничем не ограниченный капитализм; основным движущим мотивом которого является получение прибыли. По мнению философа; «капиталистическая система превращает национальные границы всего лишь в политическую формальность»[179]. «Когда все измеряется с точки зрения прибыльности; исчезают все традиции добродетели; в том числе и такая добродетель; как любовь к стране»; – заключал Дж. Грант[180].
Уже в первые полгода после своего выхода в свет книга разошлась тиражом в 7000 экземпляров, а в последующие два десятилетия было продано еще 50000 копий. И если старшее поколение отозвалось о книге как об излишне пессимистичной или сочло «плач» преждевременным, то воображение канадской молодежи, только начинающей включаться в общественную жизнь страны, было поражено этой влиятельной книгой. Будущий известный социолог Ч. Тэйлор назвал эту книгу «библией молодых канадских националистов»[181]. Тэйлору удалось очень красноречиво описать тот эффект, который произвела книга Гранта на целое поколение: «Каким-то образом он пробудил нас от летаргического сна и вселил в нас решимость опровергнуть его утверждение. Этот плач Иеремии звучал внушительно, но мы упрямо не хотели соглашаться с тем, что все безвозвратно потеряно»[182]. Многих привлекала энергия и гнев, которые скрывались за обдуманными и логически выстроенными строками этой книги. Молодой Дж. Лаксер, который станет одним из основателей движения «Ваффл», так вспоминал свои ощущения от прочтения этой «эпической поэмы» о Канаде: «Он говорил, что Канада умерла, и, говоря это, создавал страну»[183].
Действительно, сам того не желая, Грант, объявив о смерти канадского национализма, тем самым воскресил его. Оплакивание консервативных национальных традиций в то самое время, когда их значение угасало на фоне роста американского влияния и могущества, привлекло внимание широкой общественности к особенностям исторической судьбы канадской нации, продемонстрировав, что у канадцев, вопреки утверждениям либералов и континенталистов, было принципиально иное, чем у американцев, прошлое, а, следовательно, и будущее канадской нации могло быть отличным.
Так какую же роль была призвана играть в общественном дискурсе Канады постоянная констатация «кризиса» и «гибели» канадской нации и канадской национальной идентичности? Прав ли был Р. Кук, который назвал «сизифовым трудом» стремление каждого поколения канадских националистов упрочить основания канадского национализма? По словам канадского культуролога Джоди Берланд, Канаде удалось создать «подлинный канон стратегического изучения и описания своего непрекращающегося кризиса идентичности»[184]; но к чему были эти описания; если стремление преодолеть кризис скорее требовало действий? Судьба книги Дж. Гранта убедительно демонстрирует нам; что констатация кризиса национальной идентичности в Канаде – преднамеренно ли, непреднамеренно – становилась частью усилий по ее укреплению. То, что П. Резник назвал «постоянным чувством сомнения по поводу того, будет ли продолжать свое существование Канада – этот малонаселенный; раскинувшийся от моря до моря триумф истории над географией»[185]; подчас являлось главным стимулом для активизации усилий интеллектуалов; направленных не только на описание; но и на активную защиту своего национального своеобразия; в том числе и путем продвижения такого рода инициатив на уровень государственной политики.
* * *
УДК 94(71).06 + 323.17
ЕРЕМЕНКО КСЕНИЯ СЕРГЕЕВНА. К. и. и., старший преподаватель. Дальневосточный федеральный университет, Владивосток.
EREMENKO KSENIYA. PhD, Senior Lecturer, Far Eastern Federal University, Vladivostok.
E-mail: eremenko.ks(a)dvfu.ru
ПОИСКИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В ДИСКУРСЕ КАНАДСКИХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ 1950-60-Х ГГ.
В докладе предпринимается попытка проследить развитие комплекса представлений о статусе канадской нации и характерных чертах канадской национальной идентичности, сформировавшихся в интеллектуальном дискурсе Канады 1950-1960-х гг. Автор заключает, что рассуждения о своеобразии собственной нации привели канадских интеллектуалов к выводу о том, что принцип деления мира на нации как таковой не заключает в себе какого-либо позитивного содержания, а национальное существование само по себе не имеет значения: о ценности каждой конкретной нации и, следовательно, о том, стоит ли заботиться о её сохранении, можно судить лишь по тому вкладу, который она вносит или может внести в сокровищницу общечеловеческого опыта. Кроме того, анализ высказываний того периода по национальной тематике позволяет заключить, что образ канадской нации как мультикультурной мозаики начал формироваться в общественном дискурсе задолго до принятия мультикультурализма в качестве официальной идеологии и политики, и дискуссии интеллектуалов о статусе канадской нации в указанный период сыграли в конструировании этого образа важную роль.
Ключевые слова: Канада; национальная идентичность; дискурс; интеллектуалы; национальная идея; мультикультурализм.
THE SEARCH FOR NATIONAL IDENTITY IN THE DISCOURSE OF CANADIAN INTELLECTUALS IN 1950S-1960S
The paper traces the development of the concept of Canadian nation and the process of articulation of the main characteristics attributed to Canadian national identity in the intellectual discourse of Canada in 1950s-1960s. The author concludes that the discussions on the uniqueness of their own nation led Canadian intellectuals to the conclusion that the principle of dividing the world into nations and national existence in itself have no value: the value of each nation can only be seen in its contribution to the development of the mankind. The analysis of the essays and other texts on national issues produced in this period implies that the image of the Canadian nation as a multicultural mosaic began to emerge in public discourse long before multiculturalism was adopted as an official ideology and policy and that the intellectual debates on the status of Canadian nation played an important role in the construction of this image.
Keywords: Canada; national identity; discourse; intellectuals; national idea; multiculturalism.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ (REFERENCES)
1. Azzi Stephen. Walter Gordon and the rise of Canadian Nationalism. Montreal: McGill-Queen’s University Press, 1999. 300 p.
2. Brown George W. Canada in the making. Seattle: University of Washington Press, 1953. 151 p.
3. Dansereau Pierre. “Culture is what we are concerned with”, Canadian Commentator 1 (1957). P. 6.
4. Fulford Robert. “One Canadian’s plea for a new Canadian purpose” Macleans, October 6, 1962. P. 22, 68–70.
5. Garner Hugh. “The phony cult of canned Canadianism”, Macleans, May 21,1960. P. 8, 59.
6. Grant George. Lament for a Nation: the defeat of Canadian nationalism. 40th anniversary ed. Montreal: Ithaca McGill-Queen’s University Press, 2005. 99 p.
7. Greening William E. “Canada’s slow road to national maturity”, Culture 17 (1956). P. 242–250.
8. Hutchison Bruce. “The Canadian personality” in Our sense of identity: a hook of Canadian essays, ed. Malcolme Ross. Toronto: Ryerson Press, 1954. P. 39–48.
9. Innis Harold A. “Great Britain, the United States and Canada”, in Essays in Canadian economic history, ed. Harold Adams. Toronto: University of Toronto press, 1956. P. 394–412.
10. Lower Arthur R. M. “The question of the national television”, Canadian Forum, March 1955. Р. 273–275.
11. MacKey Eva. The house of difference: cultural politics and national identity in Canada. Toronto: Toronto University Press, 2002. 199 p.
12. MacLennan Hugh. “Can we stay Canadian?”, Canadian Library Journal 18 (1962). P. 242–244.
13. Resnick Philip. The European roots of Canadian identity. Toronto: University of Toronto Press, 2005. 125 p.
14. Ross Malcolm. The impossible sum of our traditions: reflections of Canadian literature. Toronto: McClelland and Stewart, 1986. 211 p.
15. Sharp Mitchell. “Learning to be a Canadian”, Queen s Quarterly 72 (1965). P. 304–312.
16. Taylor Charles. Radical Tories: The conservative tradition in Canada. Halifax: Goodread biographies, 1984.231 p.
Аятолла Али Хаменеи: «исламское пробуждение versus «арабская весна»
Баранов А. В.
Политические потрясения, начавшиеся с трагических событий в Тунисе в январе 2011 г., буквально как цунами прокатились по региону Ближнего Востока. Результатом стало кардинальное изменение политической карты региона и смещение политических центров силы. Ливия Муаммара Каддафи, Египет Хосни Мубарака, Сирия Башара Асада и Ирак Саддама Хусейна по тем или иным причинам ушли в прошлое. Попытки занять их место Саудовской Аравией и Катаром полностью провалились вместе с провалом организации вооруженного сопротивления режиму Башара Асада в Сирии.
Как следствие озвученных процессов, существует вероятность выхода на региональную политическую арену так называемых «внерегиональных» игроков, не принадлежащих к арабскому миру. И в первую очередь специалисты выделяют две страны – Турцию и Иран. Однако Турция, являющаяся одной из ведущих экономик региона, ослаблена внутренней конфронтацией между светскими сторонниками кемалистов и исламистами, что не позволяет занять ей соответствующее место в регионе и проводить сбалансированную внешнюю политику.
Иран, находясь под жестким давлением санкций со стороны США, продолжает развивать свою ядерную программу, демонстрируя при этом свою несгибаемую волю в стремлении активно участвовать в решении региональных проблем.
Интерес специалистов к Ирану и его ближневосточной политике не случаен. Тегеран активно «разыгрывает» в своих внешнеполитических комбинациях исламскую карту, делая ставку на уникальность и самобытность исламской культуры и цивилизации. В этом отношении можно полностью согласиться с утверждением Г. Мирского, подчеркнувшего: «Вполне естественно, что люди встают под знамя ислама: ведь это не только религия, но ядро и основа целой цивилизации. Четырнадцать столетий жители арабских стран жили, можно сказать, в «мусульманской атмосфере», в условиях полного доминирования исламских порядков. Коран определял и нравственные устои общества, и правовые отношения. «Исламский дух», вековые мусульманские традиции – это и есть, видимо, нечто наиболее органичное, наиболее адекватное даже для современных арабов, живущих в условиях модернизации»[186].
В этом отношении вполне вероятно, что, при известных условиях, влияние Ирана в регионе может серьезным образом измениться. Следовательно, анализ внешнеполитических концепций, формирующих внешнеполитическую доктрину данной страны на современном этапе, будет представлять огромный интерес для всех участников «ближневосточного концерта».
Спецификой политической системы Исламской Республики Иран является ее своеобразная модель «двоевластия» – сочетание религиозной и светской вертикалей власти при доминирующей роли первой. В данном случае стратегию развития страны – как внутреннюю, так и внешнюю – определяет фигура рахбара, или лидера. С 1989 г., со смертью основателя и главного идеолога Исламской Республики – имама Хомейни, этот пост занимает аятолла Сейед Али Хаменеи. В связи с этим многочисленные публичные заявления аятоллы Хаменеи можно рассматривать как декларацию стратегических подходов официального Тегерана, что и является основным источником для изучения современных внешнеполитических инициатив Ирана на международной арене.
Первое, что обращает на себя внимание при анализе характеристики происходящих в регионе процессов – это стойкое неприятие аятоллой Хаменеи общепринятого в западных СМИ термина «Арабская весна». С самого начала, а если быть точнее, с пятничной проповеди в Тегеранском университете 4 февраля 2011 г. аятолла Хаменеи охарактеризовал происходящее как «Исламское пробуждение»[187].
Термин «Арабская весна» не устраивает аятоллу Хаменеи по нескольким параметрам. Во-первых, термин характеризует движения исключительно в национальных и светских тонах, что неверно. По мнению аятоллы Хаменеи, основные лозунги движения окрашены в религиозные, исламские цвета. Выступая с большой речью в первый день 1390 г. (22 марта 2011 г.) в Мешхеде, он прямо заявил: «Новое движение, начавшееся в регионе, – это движение исламской уммы с исламскими целями и ориентацией»[188]. Во-вторых, термин «Арабская весна» предполагает заведомую локализацию движения в рамках одного региона, что также, по убеждению аятоллы Хаменеи, не отражает реального состояния дел. Он убежден, что воздействие этого движения выйдет далеко за рамки региона и распространится по всему миру. «Они воодушевят европейские народы на выступление против своих политиков и государственных деятелей, полностью находящихся под влиянием культурных и экономических схем США и сионистов»[189].
Далее, разбирая причины, приведшие к массовым антиправительственным выступлениям народов региона Магриба и Машрика (Северная Африка и Ближний Восток), аятолла Хаменеи обращает внимание на тот факт, что они являются не уникальными, но скорее, наоборот, универсальными.
При анализе причин движений, условно можно выделить два уровня: глобальный и региональный.
На глобальном уровне Хаменеи констатирует, что современный мир находится в стадии переходной модели. «В недавнем прошлом мы были свидетелями неудачи политики Холодной войны и последовавшей за ней политики унилатерализма»[190]. Последняя ассоциируется с претензиями США на роль единственной сверхдержавы современности. Однако, по мнению аятоллы Хаменеи, в реальности современного мира ни одна страна не может в одиночку контролировать мировое развитие. Свидетельством этому и являются провалы политики США на мировой арене.
Аятолла Хаменеи констатирует, что «сегодня Америка – самая ненавистная великая держава среди народов мира», что «лозунг «Смерть Америке» скандируют не только в Иране», а во многих странах мира, и Европа в данном случае не исключение. И это вызвано не столько воинственной риторикой Вашингтона, сопровождающейся актами прямой агрессии, сколько тем фактом, что именно США являются главным покровителем и спонсором Израиля, который Хаменеи именует не иначе, как «сионистское образование». Таким образом, только уничтожение «сионистского режима» в регионе способно нанести окончательное и сокрушительное поражение США на глобальном уровне. Отсюда у аятоллы Хаменеи появляются лозунги антиамериканизма и антисионизма, которые стали краеугольными камнями в основании его концепции «Исламского пробуждения».
Переходя к региональному срезу, аятолла Хаменеи обращает внимание в первую очередь на причины, приведшие к краху диктаторских режимов в регионе на волне массовых антиправительственных манифестаций. Он называет эти режимы «американскими марионетками», и это, по его мнению, являлось одной из главных причин для антиправительственных выступлений в этих странах. «Тунисский народ управляется американской марионеткой и правителем-предателем… прислуживание Мубарака перед Америкой стало главной преградой для Египта к процветанию»[191].
Сегодня, наблюдая за крахом целого ряда ближневосточных режимов, можно сделать вывод, что причина этого неизбежного финала крылась в том, что еще «в 1950-60-е гг. в регионе к власти пришли правительства, исповедовавшие материалистическую идеологию и практику, из-за этого они и попали в ловушку западных империалистических и колониальных сил»[192]. Расплата была неизбежна, так как народ устал от подобных экспериментов.
На проблеме кризиса западной цивилизации и ее системы ценностей аятолла Хаменеи останавливается довольно подробно, видя в этом одну из важнейших причин массовости антиправительственных манифестаций, направленных, в частности, и против той политики, которую проводили региональные режимы. По мнению аятоллы, власти оказались заложниками своей прозападной ориентации. Заявив о своей так называемой интеграции в мировую экономику, региональные страны превратились в периферию, зависимую от признанных центров мирового капиталистического хозяйства.
Таким образом, исход развития событий 2011 г., по мнению аятоллы Хаменеи, был логичным и неизбежным. Однако падение диктаторских режимов – это не завершение, а лишь начало движения народов региона по пути к независимому и самостоятельному развитию. И здесь перед ними открываются как минимум два возможных варианта выбора.
Первый связывается с реализацией принципов, озвученных; Западом в концепции «Арабской весны», – светские, демократические режимы с «рыночной» экономикой. По убеждению аятоллы Хаменеи, это будет означать сохранение движения по инерции, заложенной долгой ориентацией на Запад. Суть проблемы заключается в сохранении чувства, что «нам необходим Запад», чувства «нашей неполноценности по отношении к Западу»[193]. И аятолла Хаменеи с сожалением констатирует, что эти настроения еще очень сильны, особенно среди элиты, которая после свержения диктатур пошла на компромисс с Западом. В итоге в своем выступлении на Международной конференции «Экстремистские и еретические (такфир) течения» 26 ноября 2014 г. он причислил эти правительства к сторонникам такфира[194].
Альтернативой прозападной модели развития, следовательно, должна будет служить модель, которая на протяжении нескольких десятилетий уже реализуется в Исламской Республике Иран.
Иран стал первой страной, решившей порвать с унизительной зависимостью от Запада и свергнуть прозападный режим. «Не может быть сомнений в том, что Исламская революция в Иране стала очередным звеном событий, приведших к нынешней ситуации в Исламском мире», уверен Хаменеи. Иран, таким образом, стал образцом для подражания всем, кто стремится к достижению таких целей, как независимость, процветание, национальное достоинство. «Факт заключается в том, что иранский народ доказал возможность двигаться по пути прогресса без помощи со стороны Америки или другой какой-либо державы, и даже вопреки тем препятствиям, которые ими создаются»[195].
Помимо наглядного примера – существования Исламской Республики Иран, основным источником для Исламского пробуждения, по мнению аятоллы Хаменеи, будет служить ислам и священная книга мусульман – Коран. В этом отношении, что характерно, он всегда в своих выступлениях ссылается на аяты Корана, который предписывает правоверным мусульманам взять определение судьбы в свои руки, как сделал это иранский народ.
Поэтому мусульманские народы региона неизбежно обратятся к своим первоистокам, а именно – к идеалам ислама и Исламской революции. Характерной чертой Исламской революции в Иране было сохранение иранского народа и его первоначальных, исламских принципов и ценностей. Ислам является краеугольным камнем этих ценностей и принципов, легших в основу независимости, свободы, материального прогресса и национального единства.
Подлинную независимость и свободу народ может получить только на основе устойчивого экономического развития, когда нужно делать ставку на «внутренние ресурсы и возможности, а не оглядываться на другие страны».
Конечной целью Исламского пробуждения, по мысли аятоллы Хаменеи, будет являться возрождение единой мусульманской уммы. Для этого имеются все предпосылки: «Широкие возможности, отличное географическое положение, ценное историческое наследие, беспрецедентные экономические ресурсы исламских стран могут сыграть ключевую роль под знаменем единства в процветании мусульманских народов»[196].
Однако признание Ирана в качестве модели для всех исламских стран вовсе не означает, что в странах региона в результате победы движений Исламского пробуждения будут установлены государства по иранскому образцу. Эту идею отвергает и сам аятолла Хаменеи, заявляя, что: «Каждая нация имеет собственные национальные ценности, и, несмотря на общие корни мусульманских народов, нет определенного образца, которому они должны следовать в свете своих географических или иных предпочтений» [198].
Таким образом, как будут реализоваться данные модели развития, покажет уже ближайшее будущее, но факт остается фактом – ислам уверенно возвращается на политическую карту региона и мира.
* * *
УДК 327(55)
БАРАНОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ. К. и. н., доцент, Саратовский государственный университет имени И. Г. Чернышевского, Саратов.
BARANOV ALEXEY. PhD, Associate professor, Saratov State University, Saratov.
E-mail: baranovav(a)mail.ru
АЯТОЛЛА АЛИ ХАМЕНЕИ: «ИСЛАМСКОЕ ПРОБУЖДЕНИЕ» VERSUS «АРАБСКАЯ ВЕСНА»
Вследствие начавшейся «арабской весны», приведшей к серьезным трансформациям политическую структуру Ближнего Востока, в Иране восприняли ее как очередной этап Исламской революции, начавшейся еще в 1979 г. Однако, чтобы избежать критики со стороны мирового сообщества, Хаменеи выдвинул концепцию «Исламского пробуждения», стремясь тем самым, продемонстрировать, что это не стремление иранских властей революционизировать мусульманский мир Ближнего Востока. Наоборот, процесс был вызван внутренними причинами и самим ходом развития данных обществ.
Общий характер движений, охвативших регион, по словам Хаменеи, можно свести к трем основным лозунгам: антиамериканизм (антизападничество), антисионизм и народность (исламская демократия).
Первой страной, решившей порвать с унизительной зависимостью от Запада и свергнуть прозападный режим, по мнению Хаменеи, стал Иран.
Проблемы, остро вставшие перед исламским миром сегодня, уже решены в Иране, который вступил на путь Исламской революции еще в 1979 г.
Если другие народы воспримут опыт иранского народа, это принесет выгоду не только Ирану, но и региональным странам, т. к. будет образована единая мусульманская нация (умма). И в итоге во всех странах будет установлено Исламское правление.
Такое окончание массовых народных движений на всем Ближнем Востоке, по мнению Хаменеи, приведет не только к региональной, но и глобальной трансформации международной системы.
В связи с крахом американской политики глобальной гегемонии, мир превратится в многополярный. На месте Ближнего Востока возникнет единая исламская умма, которая вернется к своим культурным истокам. А это означает серьезную трансформацию региона, так как уход США, оставит один на один с исламским миром Израиль.
Исходя из возможных перспектив Исламского пробуждения, Хаменеи предупреждает мусульман, что их конечные цели не могут не вызывать неприятия и сопротивления со стороны тех, кто будет стремиться сохранить старый порядок вещей.
На практике это должно означать поддержку исламских партий там, где они уже пришли к власти в результате ее смены и проведенных парламентских выборов.
Иран должен придерживаться жесткой позиции в вопросе о недопущении вмешательства во внутрирегиональные дела внерегиональных сил, а тем более, выступать против военной интервенции в одно из мусульманских государств региона.
Ключевые слова: Ближний Восток; Иран; «Арабская весна»; «Исламское пробуждение»; «Исламская революция»; внешняя политика Ирана; Хаменеи.
AYATOLLAH ALI KHAMENEI: «ISLAMIC AWAKENING» VS «ARAB SPRING»
As a result of the outbreak of the «Arab Spring», which led to a major transformation in the political structure of the Middle East, it was considered a next stage of the Islamic Revolu-tion in Iran, which began in 1979. However, in order to avoid criticism from the international community, Khamenei put forward the concept of «Islamic awakening», seeking thereby to demonstrate that it was not the desire of the Iranian authorities to revolutionize the Muslim world in the Middle East. On the contrary, the process was caused by internal factors and by the course of events in the development of these societies.
The general character of the movements that swept over the region, according to Khamenei, can be summarized in three main slogans: anti-Americanism (anti-Western), anti-Zionism and Islamic democracy.
According to Khamenei, Iran became the first country that decided to break up with a humiliating dependence on the West and overthrow the pro-Western regime.
Challenges faced by the Islamic world today, were resolved in Iran, which embarked on the path of the Islamic Revolution in 1979.
If other nations perceive the experience of the Iranian people, it will be of benefit not only to Iran, but also to regional countries, because a single Muslim nation (umma) will have been formed, and eventually all countries will have established the Islamic government.
Such an end of mass popular movements throughout the Middle East, according to Khamenei, will lead not only to regional but also to global transformation of the international system.
In connection with the collapse of the American policy of global hegemony, the world will become multipolar. Unified Islamic Umma will be formed in the Middle East there, which will return to their cultural roots. This means a major transformation of the region, because the departure of the United States will leave Israel alone with the Islamic world.
Based on the possible prospects of Islamic awakening, Khamenei warns Muslims that their ultimate goals can cause rejection and resistance on the part of those who would seek to keep the old order of things.
In practice, this should mean support for Islamic parties where they have come to power as a result of its change and the holding of parliamentary elections.
Iran must adhere to its tough stance on the issue of avoiding interference in the affairs of the region of extra-regional forces, and, furthermore, it must oppose military intervention into any Muslim state of the region.
Keywords: the Middle East; Iran; Arab Spring; Islamic awakening; Islamic revolution; Ayatollah Ali Khamenei; foreign policy of Iran.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Встреча руководителей режима и гостей конференции исламского единства. URL: = 11413 (дата обращения -19.01.2014).
2. Мирский Г. И. Международные отношения на Ближнем Востоке // Азия и Африка в современной мировой политике. М.: ИМЭМО РАН, 2012. С. 77–95.
3. Friday prayers at Tehran University. URL: (дата обращения – 16.11.2012).
4. Imam Khomeini, father of Islamic Awakening. URL: . php?p=contentShow&id=9483 (дата обращения – 25.11.2012).
5. Meeting with young Muslims from 73 countries. URL: . php?p=contentShow&id=9066 (дата обращения – 28.11.2012).
6. Supreme Leader s Inaugural Speech at the 16th Non-Aligned Summit. URL: . ir/langs/en/index.php?p=contentShow&id=9708 (дата обращения – 30.08.2012).
7. Supreme Leader Meets with Teachers and Professors of North Khorasan. URL: . ir/langs/en/index.php?p=contentShow&id=10017 (дата обращения – 11.10.2012).
8. Supreme Leader s Speech in Meeting with Participants of International Congress on Takfirism. URL: = 12682 (дата обращения -25.11.2014).
9. US defeats in region to continue. URL: (дата обращения – 18.11.2012).
10. Vigilance movements to continue to very heart of Europe. URL: / index.php?p=contentShow&id=8049 (дата обращения – 04.05.2011).
REFERENCES
1. "Friday prayers at Tehran University”. (date of access: 16.11.2012).
2. “Imam Khomeini, father of Islamic Awakening”, (date of access: 25.11.2012).
3. “Meeting with young Muslims from 73 countries”, . php?p=contentShow&id=9066 (date of access: 28.11.2012).
4. Mirskij Georgij. “Mezhdunarodnye otnoshenija na Blizhnem Vostoke”, in Azija i Afrika v sovremennoj mirovojpolitike. Moscow: IMEMO RAN Publ., 2012. P. 77 – 95. (in Russian).
5. “Supreme Leader’s Inaugural Speech at the 16th Non-Aligned Summit”, leader.ir/langs/ en/index.php?p=contentShow&id=9708 (date of access: 30.08.2012).
6. “Supreme Leader Meets with Teachers and Professors of North Khorasan”. . ir/langs/en/index.php?p=contentShow&id=10017 (date of access: 11.10.2012).
7. “Supreme Leader’s Speech in Meeting with Participants of International Congress on Takfirism”. = 12682 (date of access: 25.11.2014).
8. “US defeats in region to continue”. . php?p=contentShow&id=7901 (date of access: 18.11.2012).
9. “Vigilance movements to continue to very heart of Europe”, / index.php?p=contentShow&id=8049 (date of access: 04.05.201l).
10. “Vstrecha rukovoditelej rezhima i gostej konferencii islamskogo edinstva”. . ir/langs/ru/index.php?p=contentShow&id= 11413 (date of access: 19.01.2014). (in Russian).
Подходы к репрезентации этнического многообразия Российской империи на рубеже XIX–X вв.
Панченко А. Б.
Великие реформы 1860-х гг. запустили множество процессов, направленных на модернизацию Российской империи, превращение ее в по-настоящему европейскую державу. Помимо трансформаций в социальной и экономической сферах, серьезные изменения должны были произойти и в области национального вопроса. Правительство оказалось перед альтернативой – создание национального государства (по образцу Франции) либо строительство полиэтничной империи, в которой народы могли обладать различными правами (отчасти по образцу Британской империи). Не останавливаясь на дискуссиях, связанных с решением этой дилеммы, хотелось бы обратиться к двум вариантам репрезентации существующего этнического многообразия, отражающим запрос общества на знакомство с народами империи, их особенностями, обычаями и традициями. Нами целенаправленно не рассматриваются работы по этнографии отдельных народов, опубликованные в специализированных научных изданиях (публикации Русского географического общества, «Известия» различных научных обществ и т. д.), поскольку они выходили крайне ограниченным тиражом и были рассчитаны скорее на профессионалов, нежели на широкую публику, а потому не могли формировать массовые представления.
Вне зависимости от избранной парадигмы, для представителей власти была очевидна необходимость в такой репрезентации этнического многообразия, которая бы не нарушала единства государства. Результатом этого стала организация этнографических музеев и многочисленные публикации, в популярной и научно-популярной форме описывающие народы империи. Однако власть не могла полностью контролировать этот процесс – появляется множество статей и брошюр, посвященных отдельным народам, в которых они были представлены вне имперского контекста.
Безусловно, первые попытки репрезентации этнического состава Российской империи предпринимались гораздо раньше (в 1773–1788 гг. были опубликованы заметки П. С. Палласа «Путешествие по разным провинциям Российского государства», в 1799 г. вышло «Описание всех в Российском государстве обитающих народов» И. Г. Георги, а в 1851 г. появилась «Этнографическая карта Европейской России» П.И. Кёппена), но они не были ориентированы на широкую публику, получив распространение только в научных кругах или среди представителей власти. Последним крупным проявлением этого направления стал великолепно иллюстрированный труд Г.-Т. Паули «Этнографическое описание народов России», вышедший к 1000-летию России (1862 г.; рукопись его была подарена императору Александру II в 1857 г.[199]) на французском языке.
В эпоху Великих реформ ситуация начала меняться – теперь необходимо было охватить гораздо более широкие слои населения, в том числе и малообразованные. Сделать это было возможным через смену механизмов репрезентации, перейдя от сложных письменных текстов (зачастую на французском или немецком языках) к визуальным образам и более легкой публицистике.
Итогом этого поворота стало проведение в 1867 г. Этнографической выставки в Москве, приуроченной ко II Славянскому съезду. По своему замыслу и масштабу реализации это было действительно знаковое событие. На протяжении более двух месяцев (с 23 апреля по 19 июня 1867 г.) двери выставки были открыты для всех желающих (коих было более 80 тысяч)[200]. По словам И. И. Шангиной: «Правительство, поддержавшее инициативу ученых, предполагало, что выставка должна продемонстрировать перед всем миром величие, могущество, обширность пространства Российской империи, единство ее народов под властью русского самодержца»[201]. Однако как попытка репрезентации этнического многообразия именно Российской империи этот проект обладал одним серьезным недостатком – помимо народов России, на выставке были представлены славянские народы, проживающие вне ее (в частности, в пределах Австрийской и Османской империй). По сути это была попытка совместить образы Российской империи как мозаичного целого и России как части (причем центральной) «Славянского мира». В силу этого эффект от проведения выставки оказался совершенно иной – она была воспринята как мероприятие не научно-просветительского, но политического характера[202].
Тем не менее, деятельность государства в этой сфере продолжилась – по окончании выставки ее экспонаты были переданы Московскому публичному Румянцевскому музею (под названием «Дашковский этнографический музей»), где они были доступны для всех желающих. В отличие от другого крупного общедоступного музея, в котором были представлены этнографические коллекции, – Кунсткамеры (в то время называвшейся Этнографическим музеем Академии Наук, позже – Музеем антропологии и этнографии, МАЭ) в Румянцевском музее основное внимание было уделено именно народам Российской империи, что делало его национальным. Кунсткамера же воспринималась скорее «музеем колоний».
В 1870-е гг. по инициативе отдельных личностей или городских обществ начали появляться местные или региональные музеи. Наиболее значительной их роль была на восточной окраине Сибири, где, в силу удаленности от академических центров, они заменяли и университеты, и научные общества. Одним из первопроходцев в этом деле стал член Казанского общества естествоиспытателей, решившийся переехать в Минусинск – Н. М. Мартьянов. Именно им был создан первый в Восточной Сибири местный краеведческий музей (открытие состоялось в 1877 г.), впоследствии ставший самым известным региональным музеем в России. Он был изначально задуман как средство ознакомления местной публики с регионом во всем его многообразии – от природных условий до археологии, от этнографии до промышленности. Важным было то, что Минусинский округ рассматривался как часть России, и представленные в музее коллекции должны были подчеркнуть это единство в многообразии. Аналогичная ситуация была и с прочими местными музеями, однако, как правило, их возможности были гораздо скромнее, что не позволяло отразить это многообразие в полной мере. И практически никогда в этих музеях не отражалось влияние русских на прочие народы, что делало их проводниками второй парадигмы.
Логичным итогом развития визуальной репрезентации Российской империи стало создание в 1902 г. Этнографического отдела Русского музея Александра III (ЭО РМ), первым заведующим которого стал бывший народник, а позже известный этнограф Д. А. Клеменц. Для него была очевидной необходимость создания центрального этнографического музея Российской империи, вокруг которого смогут объединиться все разрозненные региональные музеи. Одним из важнейших вопросов, возникших при организации ЭО РМ, было определение сферы его интересов (поскольку к тому времени уже функционировал МАЭ), по поводу которой существовало четыре мнения: общая этнография с преобладанием этнографии Российской империи; этнография только Российской империи; этнография Российской империи и сопредельных стран; этнография Российской империи и этнография славян[203]. После долгих дискуссий, ЭО РМ был создан как музей этнографии России, сопредельных стран и славян. В музее предполагалось уделять большее место экспонатам крупнейшего народа (русских, включавших в себя великороссов, малороссов и белорусов), показывая тем самым его влияние на остальные народы империи[204].
Однако ЭО РМ так и не был открыт для посетителей вплоть до распада империи (только однажды, в 1913 г., вскоре после того, как его здание было достроено, состоялось посещение его Николаем II и высшими чинами государства), в силу чего он не стал тем центром репрезентации единства всех народов страны под властью Романовых. Поэтому более значимым для формирования представлений об этносах Российской империи стали печатные издания. Среди публикаций о народах империи можно выделить две группы: научно-популярные издания, подготовленные известными учеными – этнографами и географами (например, серии «Россия. Полное географическое описание нашего отечества» и «Живописная Россия. Отечество наше в его земельном, историческом, племенном, экономическом и бытовом значении») – и просто популярно-познавательные брошюры для широкого крута читателей, авторами которых были как путешественники, так и «кабинетные» писатели. При этом далеко не всегда авторы стремились показать «инородцев» как граждан империи или частью русской нации, чаще всего речь шла просто о знакомстве читателей с этническим многообразием России.
Это расхождение, в первую очередь, проявилось по отношению к народам Сибири. Как указывает А. Ю. Дедовских, впервые внимание читающей публики к инородцам восточной окраины привлекли сибирские областники. Ими был поставлен вопрос о вымирании этих народов, вызванном негативным влиянием русских колонизаторов. Соответственно желательно было ограничить его, предоставив инородцам развиваться самостоятельно, не превращая их в русских. Публицисты либерального и консервативного направлений сходились в том, что русское влияние, напротив, является положительным. Они утверждали о необходимости русификации инородцев, превращении их в часть русской нации[205]. Из этого видно, что в среде российской интеллигенции также не было единства в представлениях о том, что собой представляет Россия – полиэтничную империю или национальное государство.
Интересное сочетание этих двух парадигм было представлено в небольшом очерке известного этнографа С. В. Максимова «О русских людях». Несмотря на название, в нем описывались все группы народов Российской империи с краткой историей их вхождения в состав государства. Но при этом говорилось: «Главный хозяин, властелин и обладатель Русской земли – племя славянское. Его составляют три главных отрасли: великорусская или Великороссияне…, около десяти миллионов Малороссов, и только три миллиона Белоруссов»[206]. Автором выстраивался определенный смысловой ряд: Россия = Русская земля, народы России = славяне (в первую очередь русские), прочие народы пока сохраняют свою уникальность, но в будущем должны обрусеть для их же блага.
Таким образом, можно говорить о существовании двух различных подходов к отражению этнического многообразия Российской империи. Причиной этого стало отсутствие четкого понимания того, каким образом должна быть построена Россия после Великих реформ – как национальное государство или империя.
В первом случае речь шла о репрезентации Российской империи как страны, хоть и населенной множеством народов, но не рассыпающейся на множество национальных областей (которые могли бы в будущем стать национальными государствами по образцу европейских). На это было направлено и музейное народоведение империи, закономерным итогом развития которого стали создание Этнографического отдела при Русском музее императора Александра III и издания, редактируемые членами Русского географического общества.
Вторая парадигма делала упор на многообразии народов России, каждый из которых по-своему уникален и должен эту уникальность сохранить, не поддаваясь русификаторским тенденциям. Особенно ярко это проявлялось при описании народов Сибири и Дальнего Востока, а также в экспозициях Кунсткамеры.
* * *
УДК94(47).08 + (=1.47)
ПАНЧЕНКО АЛЕКСЕЙ БОРИСОВИЧ. К. и. н., Старший преподаватель. Сургутский государственный педагогический университет, Сургут.
PANCHENKO ALEXEY. PhD, Senior Lecturer, Surgut state pedagogical university, Surgut.
E-mail: alexeypank(S)rambler.ru
ПОДХОДЫ К РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ЭТНИЧЕСКОГО МНОГООБРАЗИЯ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ НА РУБЕЖЕ XIX–XX ВВ.
Период, начавшийся после Великих реформ, ознаменовался попытками конструирования имперской идентичности по образцам европейских национальных государств. Параллельно этому в обществе рос интерес к этническому многообразию империи, к особенностям народов, ее населяющих. Возникла необходимость в такой репрезентации этнического многообразия, которая бы не нарушала единства империи. Результатом этого стала организация этнографических музеев и многочисленные публикации, в популярной форме описывающие народы империи.
Если первый процесс в основном контролировался государством, то второй был достаточно стихийным, а потому породил множество репрезентаций, находящихся в различных плоскостях. Далеко не всегда авторы стремились показать «инородцев» как граждан империи, чаще всего речь шла просто о знакомстве читателей с этническим многообразием России. Среди публикаций о народах империи можно выделить две группы – научно-популярные издания, подготовленные известными ученым этнографами и географами (например, серии «Россия. Полное географическое описание нашего отечества» и «Живописная Россия. Отечество наше в его земельном, историческом, племенном, экономическом и бытовом значении») и просто популярно-познавательные брошюры для широкого крута читателей, авторами которых были как путешественники, так и «кабинетные» писатели.
В первом случае речь шла именно о репрезентации Российской империи как единого целого, как страны, хоть и населенной множеством народов, но не рассыпающейся на множество национальных областей (которые могли бы в будущем стать национальными государствами – по образцу европейских). На то же было направлено и музейное народоведение империи, закономерным итогом развития которого стало создание Этнографического отдела при Русском музее императора Александра III.
Вторая парадигма, напротив, делала упор на многообразии народов России, каждый из которых по-своему уникален и должен эту уникальность сохранить, не поддаваясь русификаторским тенденциям, что особенно ярко проявлялось при описании народов Сибири и Дальнего Востока.
Таким образом, можно говорить о существовании двух различных подходов к репрезентации этнического многообразия Российской империи. Причиной этого стало отсутствие четкого понимания того, каким образом должна быть построена Россия после Великих реформ – как национальное государство или империя.
Ключевые слова: Российская империя; музееведение; популярная литература; идентичность; национализм.
APPROACHES TO REPRESENTATION OF ETHNIC DIVERSITY OF THE RUSSIAN EMPIRE AT THE TURN OF XIX–XX CENTURIES
The period that began after the Great reforms was marked by the attempts of constructing the imperial identity upon the models of the European nation states. At the same time interest in the ethnic diversity of the empire, features of the peoples inhabiting it grew in the society. The necessity in such a representation of ethnic diversity that would not break unity of empire arose. As a result, ethnographic museums a as well as numerous publications, describing people of the empire in the popular form, emerged.
The first process basically was supervised by the state, whereas the second one was spontaneous enough so it produced a set of images which were in different dimensions. Authors not always aspired to show «non-Russians» as citizens of the empire, but rather tried to get readers acquainted with Russian ethnic diversity. Among works about the peoples of the empire it is possible to distinquish two groups – popular science editions prepared by the well-known ethnographers and geographers (for example, sets «Russia. Full geographical description of our fatherland» and «Picturesque Russia. Our fatherland in its ground, historical, breeding, economic and household value») and simply popular-informative brochures for laymen, authors of which were both travellers, and «office» writers.
In the first case it was the representation of the Russian empire as a whole, as a country, which, in spite of being occupied by a number of peoples, was not scattered on national areas (which could become national states in the future – like European ones). The imperial museum ethnography was guided by similar aims and as a result the Ethnographic department of the Russian museum of the emperor Alexander III was created.
Conversely, the second paradigm placed emphasis on diversity of peoples in Russia, each of which is unique in its own way and should preserve its uniqueness, without giving in to the tendencies of Russification, the fact which was evident in the description of Siberia and Far East people.
Thus, it is possible to talk about the existence of two various approaches to the image of ethnic diversity of the Russian empire. It was due to the absence of accurate understanding how Russia after Great reforms should be constructed – as the nation– state or as the empire.
Keywords: Russian empire; museology; popular literature; identity; nationalism.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Жабрева А. Монументальное описание России. Народы страны в год ее тысячелетия // Паули Г.-Т. Этнографическое описание народов России. М.: Библиотека РУСАЛа, 2007. С. I–V.
2. Аедовских А. Ю. Сибирский «инородческий вопрос» на страницах российской журнальной прессы во второй половине XIX – начале XX вв.: дисс. канд. исторических наук. Омск, 2008. 241 с.
3. Максимов С. О русских людях. Рассказ второй. СПб.: Издание товарищества «Общественная польза», 1865.48 с.
4. Могилянский Н. М. Русские этнографические музеи и собрания. II Этнографический отдел Русского музея Императора Александра III // Живая старина. 1911. Кн. 4. С. 473–498.
5. Станюкович Т. В. Этнографическая наука и музеи (по материалам этнографических музеев академии наук). Ленинград: Наука, 1978. 286 с.
6. Шангина И. И. Славянский мир на Этнографической выставке 1867 года // Славянский мир. Этнографическая выставка 1867 года. М.; СПб.: Российский Этнографический музей, АО «Славия», Редакция журнала «Родина», Государственная Академия славянской культуры, 2000. С. 7–21.
REFERENCES
1. Ledovskih Anna. “Sibirskij “inorodcheskij vopros” na stranicah rossijskoj zhurnaPnoj pressy vo vtoroj polovině XIX – nachale XX w.: diss. kand. istoricheskih nauk”. PhD diss., Omsk state pedagogical university, 2008. 241 p. (in Russian).
2. Maksimov Sergei. О russkih ljudjah. Rasskaz vtoroj. Saint Petersburg: Izdanie tovarishhestva «Obshhestvennaja pokza» Publ., 1865. 48 s. (in Russian).
3. Mogiljanskij Nikolaj. “Russkie jetnograficheskie muzei i sobranija. II Jetnograficheskij otdel Russkogo muzeja Imperatora Aleksandra III”, Zhivaja starina 4 (1911). P. 473–498. (in Russian).
4. Shangina Izabella. Slavjanskij mir na Jetnograficheskoj vystavke 1867 goda, Slavjanskij mir. Jetnograficheskaja výstavka 1867 goda. Moscow; Saint Petersburg.: Rossijskij Jetnograficheskij muzej, AO «Slavija»,Redakcija zhurnala «Rodina», Gosudarstvennaja Akademija slavjanskoj kuktury Publ., 2000. P. 7–21. (in Russian).
5. Stanjukovich Taťjana. Jetnograficheskaja nauka i muzei (po materialam jetnograficheskih muzeev akademii nauk). Leningrad: Nauka Publ., 1978. 286 p. (in Russian).
6. Zhabreva Anna. Monumentalnoe opisanie Rossii. Národy strany v god ее tysjacheletija, hy Pauli Gustav-Teodorj Jetnograficheskoe opisanie narodov Rossii. Moscow: Bibliotéka RUSALa Publ, 2007. P. I–V. (in Russian).
Русский национализм и особенности его формирования в многонациональной империи в конце XIX – начале XX в.
Славнитский Н. Р.
Формирование русского национализма относится к середине XIX в. (и во многом связано с последствием поражений в Крымской войне). Вплоть до царствования Александра II в императорских манифестах использовался термин «наш народ». Так же продолжалось и в начале правления Александра Николаевича, к примеру, в манифесте об освобождении крестьян от крепостной зависимости указано «наших верноподданных»[207].
Но в этот же период все чаще стали появляться формулировки «народ русский», причем с самого начала под русскими подразумевались все подданные российского императора, независимо от национальности и вероисповедания. Отправной точкой этого, пожалуй, можно считать польское восстание 1863 г. Эта война фактически расколола российское общество. По словам В. Ф. Ковалика, «люди, допускавшие в принципе право на культурное самоопределение каждой нации, растерялись, когда началась гражданская война между двумя родственными народами; поддерживать поляков им казалось несовместимым с чувствами патриотизма, поэтому они, в большинстве, перешли на сторону правительства. Катков отлично воспользовался моментом и, выставив «русское знамя», успел в короткое время уловить в сети реакции массу колеблющихся умов. Политика, убитая наполовину реформами, была, таким образом, окончательно добита к величайшему удовольствию реакционеров, и самодур воскрес. В это время в реакционном лагере, к которому всегда принадлежало и правительство, начал складываться в определенную форму софизм, твердо усвоенный так называемыми государственными людьми, что экономические требования населения или отдельных классов его могут быть допустимы, как не угрожающие общественному порядку, политические же ни в каком случае, так как они ведут, в случае удовлетворения их, к революции»[208].
Именно в это время (и на такой почве) и стал формироваться русский национализм, который можно назвать «государственническим», причем он с самого начала рассматривался как неотъемлемая часть православия и русской православной церкви. Авторитет церкви в то время был еще очень высоким, и большинство представителей интеллигенции, даже если не являлись верующими, не заявляли об этом. Это можно проследить и по таким праздникам, как Новый год и Рождество: рождественские гуляния были массовыми и торжественными, тогда как новый год отмечался скромно, многие даже не обращали на него внимания. А следом за новым годом шел праздник Богоявления (Крещения), который также отмечался торжественной и массовой церемонией.
Ближе к концу столетия стал формироваться так называемый «русский стиль» (его также называют псевдорусским). Проявлялся он и в искусстве, и в архитектуре (особенно церковной – в те десятилетия в России появились сотни церквей, построенных в таком стиле), а также и в декоративно-прикладном искусстве (в частности, на выставке «Русский стиль», проводившейся ГМИ СПб, можно было увидеть много недешевых украшений, изображающих предметы деревенского обихода – рукавицы, сани, большое распространение также получили фигурки медведя).
А вот в начале XX в. стало оформляться доминирование светской составляющей над религиозной. Во многом это происходило из-за того, что авторитет церкви в обществе стал падать, хотя за ней по-прежнему признавали важное культурное значение. Заключительным аккордом стал крещенский парад в столице 6 января 1905 г. В тот день был произведен традиционный для таких праздников салют. Пушечная стрельба производилась со стен Санкт-Петербургской крепости, а также с Васильевского острова, откуда пальбу вела рота гвардейской конно-артиллерийской бригады. В одном из орудий по недосмотру офицеров (которые в момент заряжания дружно отлучились) оказался боевой заряд вместо холостого, и последовал выстрел картечью, «причем часть картечных пуль попала в самую Иорданскую часовню, в которой находился государь император и высочайшие особы, повредив при этом знамя Морского кадетского корпуса и причинив тяжелую рану на левый глаз стоящему на посту близ часовни полицейскому нижнему чину Петру Романову, а часть пуль ударилась в фасад Зимнего дворца, разбив в нем во многих окнах стекла»[209]. После этого празднования дня Богоявления прекратились. Кроме того, через три дня произошел расстрел рабочих в Санкт-Петербурге, что стало началом первой российской революции.
В годы революции 1905–1907 гг., по сути дела, русские националисты разделились на верующих (черносотенцев) и атеистов. Раздел произошел и в вопросе политического устройства – черносотенцы, как известно, были сторонниками неограниченной монархии, а вот националисты выступали за политические реформы и ограничение императорской власти.
Фактически националистические партии являлись либерально-национальными и по своим программам были очень близки к «октябристам», вместе с которыми и составили опору П. А. Столыпина в третьей Государственной думе (расходились они с ними именно в национальном и религиозном вопросах). Ведущим публицистом являлся обозреватель газеты «Новое время» М. О. Меньшиков, который не входил ни в какую партию. Предшественниками партии националистов стали праволиберальные образования, возникшие на протяжении 1905–1907 гг. в столице Российской империи, а также в некоторых региональных центрах: Тульский союз «За Царя и порядок» (В. А. Бобринский), Партия правого порядка (А. В. Половцов, В. Г. фон Эгерт) с отделами в Киеве (П. Н. Крупенский) и ряд других. Все эти партии выступали против революции и за сохранение самодержавия в его «конституционном» модусе[210].
Оформление националистической партии произошло в 1908 г., когда был создан Всероссийский национальный союз. Первым председателем его стал С. В. Рухлов. Целью союза объявлялось: содействие господству русской народности в пределах Российской империи, укреплению сознания русского народного единства, устройству русской бытовой самопомощи и развитию русской культуры, а также упрочению русской государственности на началах самодержавной власти царя в единении с законодательным представительством.
В социальном отношении в начальный период существования Всероссийского национального союза в нем доминировала умеренно-консервативная санкт-петербургская элита.
Ближайшими задачами партии объявлялись: развитие русского национального самосознания путем всеобщего образования, предоставление инородческим окраинам хозяйственного самоуправления, улучшение материального положения сельского духовенства и развитие церковной жизни «согласно канонам церкви», подъем сельско-хозяйственной промышленности, правовая и экономическая эмансипация крестьян, переход к хуторам и отрубам, уничтожение чересполосицы, удешевление мелкого кредита и развитие переселенческого дела, борьба с пьянством, социальное страхование, «ограждение свободы труда», развитие местного самоуправления. Финансировалась она в основном за счет частных пожертвований, при П. А. Столыпине ей также выделяли субсидии из секретных фондов министерства внутренних дел.
На первом съезде (1912 г.) была обновлена тактическая часть партийной программы, на основе которой затем была выработана предвыборная платформа: укрепление позиций русской православной церкви и материального положения православного духовенства, рост боевой мощи России, национально-религиозное и ремесленно-практическое направление в развитии народного образования, развитие мелкого кредита, «национализация» кредита и его удешевление, пересмотр законов в целях более действенной борьбы с еврейством. Съезд признал возможность предвыборных блоков «со всеми политическими партиями не левее октябристов», но при этом исключались соглашения с поляками – до тех пор, пока они «повинуются лозунгам», «проповедующим вражду к России». Блокирование с «инородцами, не проявляющими враждебности к России и русским», признавалось желательным при этом особо подчеркивалось стремление русских националистов к «береженью Государственной Думы».
Много внимания уделялось и возрождению великодержавного статуса Российской Империи: «либо мы Великая Держава, и в таком случае должны стремиться к обладанию мировой гегемонией, или, по крайней мере, к участию в ней, либо мы нация… усталая, обессиленная, падающая, вырождающаяся, неспособная достроить победно свой Третий Рим»[211].
Хотя к тому времени националисты стали терять свои позиции в Государственной думе (именно с этим, скорее всего, и были связаны попытки обновить программу). Но пик националистических настроений был еще впереди.
Пришелся он на лето 1914 г., начальные месяцы Первой мировой войны. В те дни, как известно, в столичных городах развернулись немецкие погромы, а в столичной печати – массовая анти-немецкая кампания. С момента объявления войны все подданные Германии и Австро-Венгрии в России были объявлены военнопленными (включая тех, кто родился и вырос в России), хотя надо сказать, что тут власти старались подходить осторожно. В частности, к славянским подданным Австро-Венгрии отношение было совершенно иным, чехов воспринимали в качестве своих (и многие из чехов, живших в России, выразили желание принять российское подданство и вступить в ряды армии).
А немцев и австрийцев уже в конце июля стали высылать в Вологду: 2 августа туда было выслано 87 человек, а на следующий день в Санкт-Петербургской крепости («русской Бастилии») уже появились новые заключенные – 43 германских и австрийских подданных, которые были арестованы как военнопленные[212]. Два дня спустя они тоже были высланы в Вологду. Позже таких военнопленных стали высылать и в другие города России.
Столичные журналисты старались следить за тем, как живут ссыльные в тех городах, и очень скоро в петроградских газетах стали появляться возмущенные статьи. В качестве примера приведем цитату: «Ничто не говорило о том, что это военнопленные. Поблизости – ни охраны, ни жандармов, Они свободно расхаживают взад и вперед, покупают газеты, читают. В той сутолоке, какая существует на вокзалах в эти тревожные дни, им при желании ничего не стоит убежать. Говорят, что в ближайшие дни их направят в уездные города Вятской, Вологодской и Архангельской губерний, где по всей вероятности, они будут чувствовать себя так же спокойно, как и здесь. И глядя на них, невольно вспоминались только что прочитанные в газетах ужасы обращения немцев – нес военнопленными, нет, а с мирными русскими туристами. Что будет с ними дальше, не знаю. Но во всяком случае это вопрос, о котором стоило бы подумать. Ведь русские деревни с объявлением войны опустели. Ушли из них все, кто только способен стоять под ружьем, ушли именно в то время, когда в деревне нужна более всего рабочая сила – в страдную пору»[213].
И по этим сообщениям бросается в глаза, что в православной глубинке к немцам и австрийцам, объявленным военнопленными, относились более спокойно. Видимо, «вирус национализма» захватил только столичные города. Пожалуй, это и стало одной из основных особенностей русского национализма – он затронул лишь небольшую часть общества, главным образом в крупных городах. А в небольших поселениях население оставалось православным, и несколько лет спустя на этой основе сформировались принципы интернационализма.
Антинемецкие погромы стали пиком и одновременно лебединой песней русских националистов (к тому времени сошли со сцены и черносотенные организации). В августе 1915 г. в партии произошел раскол, и В. А. Бобринский, В. В. Шульгин и другие образовали «прогрессивно-национальную группу», вошедшую в состав прогрессивного блока[214]. Ну а после февраля 1917 г. они, по сути дела, прекратили свое существование, хотя отдельные ее деятели (в первую очередь, В. В. Шульгин) попытались воссоздать националистическую организацию в Киеве и играли активную роль в консолидации антисоветских сил.
* * *
УДК 323.14(47) «18/19»
СЛАВНИТСКИЙ НИКОЛАЙ РАВИЛЬЕВИЧ. К. и. н., Государственный музей истории Санкт-Петербурга; Санкт-Петербург.
SLAVNITSKY NIKOLAY. PhD; Researcher; State Museum of History of St. Petersburg; Saint Petersburg.
E-mail: slavnitski(a)bk.ru
РУССКИЙ НАЦИОНАЛИЗМ И ОСОБЕННОСТИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ В МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЙ ИМПЕРИИ В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКА.
Доклад посвящен вопросу формирования националистических настроений и организаций в Российской империи; являвшейся многонациональной страной при доминирующем положении православной религии. Начало этому процессу было положено в царствование Александра II (причем с самого начала под русскими подразумевались все подданные российского императора, независимо от национальности и вероисповедания); а развитие его связано в царствование его преемников, наиболее ярко это выражено в появлении «русского стиля» в архитектуре (в том числе – церковной), декоративно-прикладном искусстве и сферах культурной жизни России. Национализм оказался таким образом тесно связан с православием (и в какой-то степени являлся продолжением славянофильских идей), однако светская составляющая в нем доминировала над религиозной.
Развернулись националистические организации после революции 1905–1907 гг., главным образом, в тот период, когда правительство возглавлял П. А. Столыпин. Пика же они достигли в начальный период Первой мировой войны, наиболее сильными появлениями таких настроений стали немецкие погромы в Петрограде и высылки германских и австрийских подданных из столичных городов. И эти же события показали, что националистические настроения затронули, по большей части, только население крупных городов, тогда как православная глубинка к этим идеям относилась довольно прохладно, что и стало одной из основных причин того, что русский национализм в тот период совершенно не прижился в российском обществе.
Ключевые слова: Россия; Первая мировая война; православная церковь; русские националисты.
RUSSIAN NATIONALISM AND THE FEATURES OF ITS FORMATION IN THE MULTINATIONAL EMPIRE IN THE LATE XIX – EARLY XX CENTURY
The period that began after the Great reforms was marked by the attempts of constructing the imperial identity upon the models of the European nation states. At the same time interest in the ethnic diversity of the empire, features of the peoples inhabiting it grew in the society. The necessity in such a representation of ethnic diversity that would not break unity of empire arose. As a result, ethnographic museums a as well as numerous publications, describing people of the empire in the popular form, emerged.
The first process basically was supervised by the state, whereas the second one was spontaneous enough so it produced a set of images which were in different dimensions. Authors not always aspired to show «non-Russians» as citizens of the empire, but rather tried to get readers acquainted with Russian ethnic diversity. Among works about the peoples of the empire it is possible to distinquish two groups – popular science editions prepared by the well-known ethnographers and geographers (for example, sets «Russia. Full geographical description of our fatherland» and «Picturesque Russia. Our fatherland in its ground, historical, breeding, economic and household value») and simply popular-informative brochures for laymen, authors of which were both travellers, and «office» writers.
In the first case it was the representation of the Russian empire as a whole, as a country, which, in spite of being occupied by a number of peoples, was not scattered on national areas (which could become national states in the future – like European ones). The imperial museum ethnography was guided by similar aims and as a result the Ethnographic department of the Russian museum of the emperor Alexander III was created.
Conversely, the second paradigm placed emphasis on diversity of peoples in Russia, each of which is unique in its own way and should preserve its uniqueness, without giving in to the tendencies of Russification, the fact which was evident in the description of Siberia and Far East people.
Thus, it is possible to talk about the existence of two various approaches to the image of ethnic diversity of the Russian empire. It was due to the absence of accurate understanding how Russia after Great reforms should be constructed – as the nation – state or as the empire.
Keywords: Russian empire; museology; popular literature; identity; nationalism.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Ковалик С. Ф. Революционное движение семидесятых годов и Процесс 193-х. М.: Издательство политкаторжан, 1928.
2. Коцюбинский Д. А. Русский национализм в начале XX столетия: рождение и гибель идеологии Всероссийского национального союза. М.: РОССПЭН», 2001, 528 с.
3. ПСЗ РИ. Изд. 2-е. Т. 36. Ч. 1. СПб., 1861. С. 130.
4. РГИА. Ф. 1280. On. 1. Д. 922. Л. 10–11.
5. РГИА. Ф. 1280. On. 1. Д. 1085. Л. 2, 3.
6. Санкт-Петербургские ведомости. 1914. № 174. 2 августа.
REFERENCES
1. Kocjubinskij Daniil, Russkij nacionalizm v nachale XX stoletija: rozhdenie i gibel’ ideologii Vserossijskogo nacional’nogo sojuza. Moscow: ROSSPJeN Publ., 2001. 528 p. (in Russian).
2. Kovalik Sergej, Revoljucionnoe dvizhenie semidesjatyh godov i Process 193-h. Moscow: Izdatel’stvo politkatorzhan Publ., 1928. (in Russian).
3. PSZ RI. Izd. 2-e. T. 36. Ch. 1. Saint Petersburg., 1861. P. 130. (in Russian).
4. RGIA. F. 1280. Op. 1. D. 922. L. 10–11. (in Russian).
5. RGIA. F. 1280. Op. 1. D. 1085. L. 2, 3. (in Russian).
6. Sankt-Peterburgskie vedomosti. August 2, 1914. (in Russian).
Изображение нации: восточный и западный национализм Николая Рериха
Даркина А. В.
XX век отмечен развитием идей эпохи Просвещения: социализма, либерализма, национализма. Зародившись под влиянием определенных общественно-политических сил, все эти идеологии в новом столетии претерпевают определенные трансформации. Национализм как политическая и гражданская идеология отныне подвергается существенному пересмотру; некоторые версии этого явления создаются заново. Национализм – явление многогранное и неоднозначное, поэтому сказать с полной уверенностью, к какому слою национализма принадлежит та или иная персона, чрезвычайно непросто. В данной статье мы попытаемся проанализировать то, к какому виду национализма – восточному или западному – принадлежат взгляды Николая Рериха.
Истоки национализма в его гражданской трактовке зарождаются у Н. К. Рериха, по-видимому, на базе его увлечения историей и смежными дисциплинами, и на протяжении всей жизни исследователь так или иначе возвращается к исторической трактовке националистических тенденций. По его мнению, чтобы понять особенности расселения и, следовательно, менталитета народов, «проведите линию от южнорусских степей и от Северного Кавказа через степные области на Семипалатинск, Алтай, Монголию и оттуда поверните ее к югу, чтобы не ошибиться в главной артерии движения народов»[215]. Риторике Н. К. Рериха присуща определенная мифологизация древних народов, которые возможно, способствовали становлению их собратьев как этноса в других, отдаленных, частях света: «В пределах Алтая можно также слышать очень значительные легенды, связанные с какими-то неясными воспоминаниями о давно прошедших здесь племенах. Среди этих непонятных племен упоминается одно под именем курумчинские кузнецы… Когда вы слышите об этих кузнецах, вы невольно вспоминаете о сказочных Нибелунгах, занесенных далеко на запад»[216] – при этом подчеркивается то, что прародина их предков – Восток, откуда потомки упомянутых общих предков по неизвестным причинам попадают на Запад, но никак не наоборот.
Восточное пересекается у Н. К Рериха с западным, преимущественно славянским: «Район Монголии и Центральной Гоби ожидает исследователей и археологов…каменные бабы, совершенно того же характера, как каменные бабы южнорусских степей»[217]; это касается некоторых обрядов: «На восходе солнца старший лама видел, как по вершинам гор загорелись гирлянды огоньков…вокруг главной ступы пошли танцы. Сущий русский хоровод. И песни тоже словно русские»[218]. Упоминается сходство культурных и религиозных особенностей: «Славный монастырь Санга Челлинг… Вот они, мои милые новгородские и ярославские дверки… Вот те же согбенные спины богомольцев, преданных вере»[219]. Иногда исследователь, обращаясь к географическим или культурным характеристикам, находит общее не только со славянским, но и западным в современном для него смысле слова: «Кто положил начало кашмирских каналов?…У ровного берега пошли бечевою. И желтые плесы напомнили Волгу или Миссисипи»[220]; или с западным, но тем, что было известно прежде: «Какой замечательный сюжет для театра: “продавцы ветров”. С тем же обычаем можно встретиться, знакомясь с обычаями Древней Греции»[221]. Еще один сюжет, который связывает восточное с западным – язык[222], а именно используемая людьми лексика: «”Сундук”, “караул”, “самовар”, “чай”… и много других слов странно и четко звучат в кашмирской речи. И плетеные лапти напоминают о других, северных путях»[223]. Вероятно, автор имеет в виду общность языкового происхождения европейцев и азиатов.
Едва ли у Рериха восточное возможно без западного – и наоборот, причем сравнению подвергаются примитивные народы Востока и Запада: «В 1921 году, когда я знакомился с индейскими пуэбло Новой Мексики и Аризоны, у меня неоднократно вырывались восклицания: ”Но ведь это же настоящие монголы”. По строению лиц, по некоторым подробностям одеяния, наконец, по посадке на коне и по характеру некоторых песен, все относило мое воображение за берега океана. Теперь же, когда мы изучали монголов внешней и внутренней Монголии, я невольно вспомнил об индейских пуэбло. Что-то несказуемое, основное, помимо всяких внешних теорий, связывает эти народы»[224]. Коренное азиатское население вынуждено было мигрировать в более благоприятные для проживания регионы, и их внешние черты прослеживаются в современных европейцах: «…Откуда, куда и как двигались гонимые ледниками и суровыми моренами прародители готов? Нет ли в застывшем обиходе северян-тибетцев древних черт их ушедших собратий? Удивительно… тот, черный и мрачный, с орлиным носом, разве он не палач Филиппа Второго?»[225].
Восточный национализм Н. К. Рериха неоднороден: «От Кучар к Карашару мы уже не расстаемся с буддийскими древностями…В этих горах уже находятся и постоянные и кочевые монастыри калмыков. Карашарские, олётские, хошктские наездники сменяют сартские мусульманские города»[226]. Географический, геополитический фактор не может быть исключен из понимания того, как мог складываться национализм применительно к Азии: «Идут встречные караваны. Всякие народы – ларды, балтистанцы [здесь и далее курсив оригинала – А. Д.], ладакцы, асторцы, яркендцы. Языки совершенно различны. Точно переселение народов»[227]. Вероятно, некий азиатский этнос сыграл негативную роль в формировании культурного наследия своих соседей: «Нагар – место древнее. Несколько старинных храмов. Когда-то здесь были, по словам китайских путешественников, буддийские вихары. Теперь и следа не осталось»[228]
Н. К. Рерих говорит о существовавшем запрете на восточный национализм и о том, как и кем он был преодолен: «Было время, когда по неведению и неразумию считалось неуместным называть себя азиатами. Но затем трудами многих просвещенных людей этот нелепый предрассудок сгладился»[229]. Однако в целом неясно, как политически неразвитые периферии будут интегрироваться в тело государства. Кроме того, в нарративах Н. К. Рериха представлены сюжеты, связанные с описанием восточного империализма: «Тибет присваивал себе духовное преимущество над своими соседями. Тибетцы смотрят свысока на сиккимцев, ладакцев, калмыков и называют монголов как бы своими обязанными подданными»[230]. Вслед за этим исследователь говорит про попытки периферийных (варварских) народов отделиться от империи: «[Якуб-Бек – А. Д.] полвека назад пытался освободить Туркестан от китайского владычества, но не сумел выбрать себе союзников»[231]. Существуют азиатские территории, которые в определенном смысле можно назвать европейскими: «Образуется новый Афганистан, возникает новый Китай, осознаёт себя Монголия, примет великое служение Тибет. Ничто не останавливается»[232] – в понимании заимствования этими территориями достижений и образцов европейской цивилизации.
Возможно, еще не все азиатские народы определились с осознанием себя (не)азиатами/европейцами: «Монголы и буряты хотят видеть разные страны, хотят быть и в Германии и во Франции. Любят Америку и Германию»[233]. Индия – территория, где соприкасаются разные европейские народы, однако коренные этносы могут затеряться или вовсе исчезнуть: «В Коломбо встречает швейцарский консул. Полицейский-ирландец. Француз-торговец. Грек с непристойными картинками. Голландцы-чаевики, итальянец-шофер. Где же, однако, сингалезы? Неужели все переехали в театры Европы?»[234]. И, тем не менее, тенденцию разобщенности, инаковости не только восточных и западных людей, но и самих азиатов необходимо преодолевать: «Так на красном ковре восемь мусульман, непрошено и нежданно, до полуночи славословят Христа и мироздание…Одно сознание!»[235]; «Одно и то же место имело и китайское, и монгольское, и тибетское имя, звучавшее совершенно особенно»[236].
Рериха-художника не оставляет идея заимствования восточного западной культурной традицией: «…племена северного Тибета хоры странным образом напоминают некоторые европейские типы. Ничего в них нет ни китайского, ни монгольского, ни индусского. Перед вами в искаженном виде проходят лики с портретов старофранцузских, нидерландских, испанских художников»[237]. В этом смысле воображение исследователя, находящегося на Востоке, сосредоточено в большей степени на западном. Он как будто специально пытается найти общее, смешивая в воображении попадающие в поле зрения элементы азиатской культуры.
Рерих-археолог указывает на культуру древневосточных народов, составивших некий фундамент современной восточной культуры. По его мнению, раскрыв эти тайны, тайны древности, человечество может выйти на принципиально новую ступень развития: «Лишь совсем недавно в области Карачи и Лагора были найдены остатки древних городов от 5000 до 6000 лет, показывающие на высокую древнейшую культуру суммарийских или эламских. Много цилиндров с надписями, напоминающими вавилонские, найдены в этих развалинах, и, когда их удастся прочесть, они, вероятно, дадут новую страницу человеческой жизни»[238].
Религия как элемент культуры, по-видимому, является не просто культур грегерским маркером идентичности азиатов и европейцев, но и фактором, помогающим определить национальную идентичность народа: «Казалось бы, что общего имеет старый буддизм с ранним христианством? Но уже Ориген, один из самых ранних писателей христианских, упоминает буддистов Британии. Конечно, проповедники царя Ашоки могли проникать даже к далеким британским островам. Культ змия Шотландии имеет аналогии с культом китайского дракона и со змием Индии»[239].
Восток не закрыт для Запада. Также верно и обратное: «Вместо мелких ссор отрицания история напоминает нам о поистине международных связях. Указывается как на исторический факт, что монгольский богдохан был спасен от болезни “явлением Николая”»[240]. Проблема, однако, заключается в другом, а именно в равнодушии людей, забывающих свою историю: «Мирные медлительные тюрки, совершенно забывшие о своем участии в шествиях Чингиса и Тамерлана»[241].
Едва ли Н. К. Рерих задумывается про так называемый «удаленный национализм»[242]: не у всех азиатских людей (хронологические рамки дневниковых записей Рериха ограничиваются приблизительно 1900–1930 годами) есть возможность оставлять территорию проживания и, переехав, влиять на политическую ситуацию своей родной страны, поскольку некоторые этносы до сих пор находятся на низшей ступени развития; не у всех развита даже письменность, не говоря уже об осознании себя частью данного этноса. В подобной ситуации «удаленными националистами» могут считаться, безусловно, образованные индусы – дети представителей высших каст, имевшие возможность учиться за рубежом (главным образом, в Великобритании) и влиять на процессы деколонизации Индии. Можно ли назвать самого Рериха «удаленным» националистом? Однозначного ответа на этот вопрос нет: с точки зрения влияния Н. К. Рериха на политическую ситуацию у себя на родине, в СССР, едва ли можно утверждать, что его авторитет был бесспорен[243]. Вероятно, Н. К. Рерих мог влиять лишь на культурную ситуацию в стране, при этом преимущественно опосредованно – через своих представителей в рериховских сообществах, не всегда существовавших официально.
Представляется, что национализм, по мнению Н. К. Рериха, должен быть именно гражданским, исходящим от самого народа, а не политическим, отражающим настроения правящих элит. На основании письменного творчества мыслителя сложно сделать прогноз относительно того, какие трансформации претерпит национализм в том понимании; в каком его описывает автор.
* * *
УДК 323.112+ 17
ДАРКИНА АННА ВЛАДИМИРОВНА. К. и. н., Воронежский юридический техникум, Воронеж.
DARKINA ANNA. PhD, Voronezh Law College, Voronezh.
E-mail: anna_darkina(a)mail.ru
ИЗОБРАЖЕНИЕ НАЦИИ: ВОСТОЧНЫЙ И ЗАПАДНЫЙ НАЦИОНАЛИЗМ НИКОЛАЯ РЕРИХА
Статья посвящена анализу восточного и западного национализма Николая Рериха. Выявлена динамика становления национальных идей исследователя. Предпринята попытка выявить, чего больше в его идеях – восточного или западного. Показаны точки пересечения восточного и западного национализмов, общее и особенное. Нарративные источники Н. К. Рериха предоставляют богатый материал для исследователя национализма. Показан базис его национализма (восточный основан на этико-философском мистицизме, а также традиции и предчувствии; западный – преимущественно на отрицании старого. Последнее, согласно Н. К. Рериху, дает почву для возникновения шовинистических идей, следовательно, этого следует остерегаться). Предпринята попытка выяснить, что представляет собой славянский слой генезиса национализма Н. К. Рериха – вероятно, это не только географические место пересечения, встречи восточного с западным, но и некое особое культурное «место памяти» европейцев и азиатов. Последнее представлено мифом, легендой, культурным артефактом (национальный костюм). Славяне – «перекресток» не только цивилизаций, но и ментальности восточного и западного (европейского). Рерих говорит о запрете на восточный национализм. Мог ли в связи с этим быть запрет на национализм западный/славянский? Рерих-примордиалист говорит о незыблемости нации – восточных и праславянских общностей. Нации, по его мнению, существовали с незапамятных времен – это, по-видимому, верно у него как для европейских, так и для азиатских национализмов. Могут ли люди сохранить свою идентичность, живя в границах империи? Важное условие для этого – сохранение самобытности народа (его культурных достижений). Подобное верно как для восточного, так и для западного человека. Как представлен Восток в западном сознании и Запад в восточном? Н. К. Рерих утверждает, что западное может быть весьма притягательно для восточного (образованного) человека, намекая на более раскрепощенную современную ему западную культуру и образ жизни. Восточный человек в силу влияния традиции может отставать по тем или иным параметрам от западного – главное препятствие, которое следует преодолеть.
Ключевые слова: национализм; изображение нации; Николай Рерих.
THE IMAGE OF THE NATION: EASTERN AND WESTERN NATIONALISM OF NICOLAS ROERICH
The article analyzes the Eastern and Western nationalism of Nicholas Roerich. The dynamics of the formation of researcher’s national ideas is revealed. The author makes an attempt to identify what prevailed in his studies – Eastern or Western nationalism. The intersection points of Eastern and Western nationalism as well as general and specific in them are shown. Narrative sources provide rich material for the researcher of nationalism. The author sheds light on the basis of Roerich’s nationalism (the Eastern is based on ethical philosophical mysticism, as well as on tradition and premonition whereas the Western one is based mainly on the negation of the old. The latter provides ground, according to Nicolas Roerich, for the emergence of chauvinistic ideas which should be avoided.) The author tries to find out about the genesis of Roerich’s Slavic nationalism: it’s probably not only the geographical position of intersection between the Eastern and the Western, but also some special cultural ‘lieu de memoire’ of Europeans and Asians. The latter is presented by a myth, a legend, a cultural artefact (national costume, for example). The Slavs represent not only crossroads of civilizations, but also the mentality of the Eastern and the Western (European). Nicolas Roerich tells us about a ban on Eastern nationalism. Could it be in this case a ban on Western/Slavic nationalism? Roerich as a primordialist speaks about the stability of the nation – the Eastern and Proto-Slavic communities. Nations, in his opinion, had existed from time immemorial – it seems true to him with respect to European as well as Asian nationalism. Can people preserve their identity living within the borders of the empire? One important condition of it is to preserve identity of the people (mainly their cultural achievements). It is equally true true for both Eastern and Western man. How is East presented in Western consciousness and vice versa? Nicolas Roerich argues that Western can hold an appeal to the Eastern (educated) person, hinting at the contemporary more unfettered Western culture and lifestyle. Oriental man in virtue of the influence of tradition may fall behind from Western man in certain parameters, and that is the main obstacle that must be overcome.
Keywords: nationalism; the image of nation; Nicolas Roerich.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Andersen Benedict. ‘‘Zapadnyj nacionalizm i vostochnyj nacionalizm: est’ li mezhdu nimi raznica?’’ (date of access: 12.02.2015) (in Russian).
2. Darkina Anna. “Nacional’noe v literaturnom tvorchestve Nikolaja Reriha”, Rossijskij zhurnal issledovanij nacionalizma
2 (2012). P. 87–91. (in Russian).
3. Rerih Nikolai. Altaj – Gimalai: dnevniki, stat’i. Moskow: Jeksmo Publ., 2010. 640 p. (in Russian).
REFERENCES
1. Andersen Benedict. ‘‘Zapadnyj nacionalizm i vostochnyj nacionalizm: est’ li mezhdu nimi raznica?’’ (date of access: 12.02.2015) (in Russian).
2. Darkina Anna. “Nacional’noe v literaturnom tvorchestve Nikolaja Reriha”, Rossijskij zhurnal issledovanij nacionalizma 2 (2012). P. 87–91. (in Russian).
3. Rerih Nikolai. Altaj – Gimalai: dnevniki, stat’i. Moskow: Jeksmo Publ., 2010. 640 p. (in Russian).
Политические языковые игры в русское[244]
Бараш Р. Э.
Весной 2014 г., с «крымской речью» В. Путина, постулировавшей, что «русский народ стал… самым большим разделенным народом в мире», «Крым – это исконно русская земля», а «Севастополь – русский город» в официальный и новостной российский дискурс вернулась забытая с середины 1990-х гг. тема «русской ирреденты» и защиты прав русских. Хотя в 1990-е гг., на заре «новых национализмов» постсоветских государств, появлялись многочисленные Интер-фронты, организации защиты прав русских и русскоязычных и возникла целая генерация «профессиональных» защитников прав русских и соотечественников, серьезной работы по наделению русских политической субъектностью ни в стране, ни за ее пределами Россия не вела. Так что провозглашенная властью «Русская весна» подняла со дна массового сознания целый пласт обид и надежд.
Непростое наследие советской национальной политики и статус «бездомного», пусть и «первого среди равных» народа, особенно на фоне сепаратизма национальных российских республик и массового оттока русскоязычного населения, давало о себе знать симпатиями русского большинства политикам правого толка (прежде всего, популистским лозунгам ЛДПР и КПРФ). Официальная же власть стояла на позициях многонациональности, избегая публичного дискурса этнической исключительности. Особенно по «русской теме». Концепт «Русского мира» (как и одноименный фонд) позиционировался как поддерживающий русскую культуру и цивилизацию, но, задуманный как механизм геополитической soft-power на постсоветском пространстве, был ориентирован на поддержку русскоязычных. Автор идеологемы, П. Щедровицкий, еще в начале 2000 г. говорил, что «Русский мир – сетевая структура больших и малых сообществ, думающих и говорящих на русском языке», подчеркивая таким образом его вне– и над-этнический характер[245]. Широкого культурного формата внешнеполитической трактовки «русскости» придерживалась и власть: в 2001 г. В. Путин говорил о «Русском мире» как выходящем далеко за этнические русские границы[246]. На конгрессе соотечественников в 2006 г. президент не только уравнял русских с «представителями других коренных национальностей России» в рамках культурного сообщества «соотечественников»[247], но и подтвердил; что русскость не центрирует русский мир (русский мир «объединяет не только многонациональный народ России; но и миллионы наших соотечественников за рубежом»). Годом позже; в 2007 г., В. Путин указал на отсутствие в концепции «Русского мира» реваншистской составляющей. Он назвал русский язык «живым пространством многомиллионного русского мира, который значительно шире; чем сама Россия» и подчеркнул; что русский язык как «общее достояние многих народов» «никогда не станет языком ненависти или вражды, ксенофобии или национализма»[248].
На нормативном уровне права русскоязычных предполагалось защищать через ФЗ о соотечественниках за рубежом; и дискурс начала 1900-х гг. о защите постсоветских русских постепенно растворился в покровительстве всем русскоязычным. К защите русских ФЗ о соотечественниках; как и инициативы ряда «профессиональных соотечественников от государства»; отношения не имел. Да и вопрос защиты русских постсоветского пространства в годы относительно стабильных дипломатических отношений с ближайшими соседями не поднимался (Харьковские соглашения; несмотря на критику на момент подписания украинской оппозицией; не оговаривали статус русского и русскоязычного населения Крыма). Но сформулированная предельно общо и без оборонительного (тем более наступательного) контекста; концепция «Русского мира» еще на заре «эпохи Путина» все же обозначала стратегическое «русское» направление российской дипломатии, артикулируя постимперские интенции российской метрополии «поглядывать» за национальными экс-«доминионами».
При этом властный дискурс гуманитарного протекционизма «Русского мира» не распространялся на внутриполитическое направление – единство новой русскоязычной гражданской нации зависело не от громких лозунгов, а от грамотной образовательной и социальной политики (здесь власть вряд ли могла похвастаться успехами). Статус русских в контексте непростых межнациональных отношений на Кавказе и в ряде национальных республик власть не решалась не только отстаивать, но и публично обсуждать. Постсоветские националисты вроде РНЕ, НБП, НПФ «Память» или евразийского движения А. Дугина занимали маргинальное положение в политическом пространстве.
«Русский вопрос» стал использоваться властью лишь в начале 2010-х гг. с ростом симпатий националистическим настроениям внутри России – в немалой степени из-за внимания СМИ к проблемам трудовой миграции и бюджетному федерализму (после Кондопоги). Некоторая попытка «сыграть на русскости» была предпринята властью 2007 г., когда «Единая Россия» заявила «Русский проект» под руководством Ивана Демидова. Проект позиционировался как лишенная «националистического» содержания попытка установить, что «стоит за определением «русский»[249] и запустить национальный «созидательный локомотив» развития России. Однако его старт накануне выборов в Госдуму в 2007 г. казался слишком очевидной попыткой «управляемого национализма» партии власти, направленной на «аккумуляцию» националистически настроенной части избирателей. Поскольку ни одна националистическая сила (ни «Народный союз», ни «Великая Россия») так и не были допущены к участию в выборах, разыграть «русский вопрос» в политическом пространстве власти не удалось. В отсутствии актуальных вопросов, связанных с национальными проблемами и статусом русских, в повестке «Единой России» (как обещанных шагов по поиску оснований русской идентичности) власти не удалось увлечь граждан «русской темой», хотя проект получил определенный резонанс.
Только после ряда «Русских маршей», ежегодно (начиная с 2005 г.) организуемых националистами, несмотря на запреты, и особенно после «Манежки» (2010 г.) «русский вопрос» стал фигурировать в официальном дискурсе власти. После того, как национальной темы на выборах 2011–2012 гг. коснулись почти все политические силы, В. Путин в программной статье «Россия: национальный вопрос» впервые заговорил о субъектности русских, назвав русский народ стержнем и скрепляющей тканью, отметив, однако, что самоопределение свое русские находят в том, чтобы скреплять своим культурным ядром русских армян, русских азербайджанцев, русских немцев, русских татар в полиэтническую цивилизацию[250]. Симпатии политическому национализму, таким образом, предполагалось погасить очередным признанием «старшинства русских» в семье теперь уже российских народов. Но о политической субъектности русских власть предпочитала не говорить. «Стратегия национальной политики» (2012 г.) лишь номинально признавала за русским народ объединяющую роль, благодаря которому «сформировалась уникальная цивилизационная общность – многонародная российская нация».
Тем не менее, присоединение Крыма под лозунгами «русской ирреденты» власть объясняла именно необходимостью обеспечения русской субъектности в сопредельных государствах. «Крымской речью» 18 марта 2014 г. В. Путин прямо обосновал права РФ на Крым «русским фактором»: «в Крыму – могилы русских солдат, мужеством которых Крым в 1783 году был взят под Российскую державу», а Севастополь – это Родина Русского Черноморского военного флота, заявил он. Вмешательство России во внутренние дела Украины после Майдана аргументировалось тем, что «на Украине и в Крыму живут миллионы русских людей», от участия в судьбе которых Россия «не могла уже отступить». Туже идею моральной оправданности (пусть и нелегитимной) защиты русских на «исторических территориях» президент озвучил в фильме «Крым. Путь на родину», снятом, если верить создателям, сразу после присоединения: «я говорил им [западным коллегами], что это [Крым] наша историческая территория, там проживают русские люди, они оказались в опасности, мы не можем их бросить»[251].
Наконец, связав широко востребованный «патриотами»-популистами 1990-х гг. тезис: «Русский народ стал одним из самых больших, если не сказать самым большим разделенным народом в мире» с идеей того, что «при оформлении распада СССР забыли и про Крым, и про главную базу Черноморского флота – Севастополь» В. Путин прямо обосновал «русификацию» внешней политики[252]. Спустя месяц после референдума В. Путин подтвердил недопустимость для России геополитического выдавливания из региона, «за который столько косточек русских положено в течение всех предыдущих веков» и особую значимость Севастополя как «города русской военно-морской славы»[253] именно историческими правами русских. Таким образом фактически было обосновано обратное применение принципа «jus sanguinis» («права крови») в отношении территории Крыма.
В «кровном обосновании» прав на Крым официальная власть не стеснялась драматических эскапад. Симптоматичным был отклик Марии Захаровой, заместителя директора Департамента информации и печати МИД РФ, на публикацию правительством ФРГ краткой версии истории Крыма, где коренным населением население полуострова обозначались крымские татары, украинцы, армяне, греки, немцы, но не русские. Обращая внимание на досадную оплошность, М. Захарова резко заявила: «Получается, что в Крыму никогда не было и сейчас нет никаких русских», а также довольно жестко интерпретировала отсутствие упоминания русских геополитическим противостоянием, длящимся со времен Холодной войны, и даже желанием физического исчезновения русских: «Возможно, правительство ФРГ… решило… напомнить, что мы – «проигравшая сторона», и поэтому русские, которым каждый раз удается выживать, постепенно должны исчезать из истории, хотя бы на бумаге?»[254]. Иными словами, проводилась идея агрессивной к русским внешнеполитической среды и буквально необходимости борьбы русских буквально за свое выживание, особенно в Крыму.
Несмотря на активные внешнеполитические шаги по «решению» «русского вопроса», российская власть не спешила с внутриполитическим обеспечением «русской субъектности». Известные прото-партии умеренных русских националистов «Национал-демократическая партия» (К. Крылов-В.Тор), «Новая сила» (В. Соловей), несмотря на поддержку «Русской весны», так и не были зарегистрированы Минюстом в «посткрымский год». Единственная зарегистрированная «русская партия» (помимо проправительственной «Родины»), «Российский общенародный союз», в марте 2015 г. столкнулась с попыткой Минюста приостановить деятельность. Более того: полярная оценка «Русской весны» серьезно расколола когда-то единый в своей оппозиционности к власти лагерь русских националистов. Не договорившись в своих оценках «Русской весны», националисты провели в Москве два «Русских марша»: сторонники традиционных антииммигрантских и антикавказских лозунгов во главе с критикующими «проект Новороссия» и аннексию Крыма Д. Демушкиным и В. Тором (в т. ч. под лозунгами «Русские против войны с Украиной» и «хватит кормить Донбасс») собирались в Люблине; тогда как «Новорусский марш», организованный идейными сторонками И. Стрелкова (Гиркина), состоялся в Щукине. И сама власть, у которой националисты на протяжении почти десяти лет «отнимали» идею «русского шествия», провела собственное официозное шествие-митинг «Мы едины!».
В отличие от внешней политики, внутри страны «русский фактор» разыгрывался противоположным образом – через предельное расширение «русского дискурса» и выхолащивание этнической интерпретации русскости. Через год после вхождения «русского Крыма» в состав РФ президент утвердил «Основы государственной культурной политики», где постулировалась «объединяющая роль в историческом сознании многонационального российского народа» русского языка и русской культуры, и «русское» таким образом уравнивалось с «российским». Обозначив в качестве целей «Основ» «передачу от поколения к поколению традиционных для российской цивилизации ценностей и норм, традиций, обычаев и образцов поведения», авторы документа интерпретировали русскость как синоним и антизападничества, и имперской логики «собирания российских земель» вокруг русского «культурного ядра».
На укрепление надэтнической трактовки русскости были направлены попытки уравнять русское и православное: Всемирный русский народный собор в ноябре 2014 г. принял декларацию русской идентичности, определив русскость через принадлежность к православной церкви и записав таким образом в русских всех прихожан церквей РПЦ МП, что, вероятно, должно было символизировать даже не языковую, а духовную близость жителей востока Украины русским братьям по вере. В этом смысле неслучайными кажутся слова протоиерея Всеволода Чаплина еще 2 марта 2014 г. о необходимости воссоединить «разделенный русский народ, который живет на своей исторической территории и имеет право на воссоединение в едином государственном теле». В дополнение к религиозной, была представлена еще и панславистская трактовка русскости. На страницах журнала «Эксперт» президент Института национальной стратегии и один из авторов журнала «Вопросы национализма» Михаил Ремизов[255]проговорил необходимость восстановления «общерусской идентичности восточных славян».
В «языковых играх» в русское не обошлось и без применения хорошо известной формулы «русский = советский»: в феврале 2015 г. Г. Зюганов призвал признать, что «антисоветизм есть форма русофобии, а воющий с советской историей – откровенный враг России». Советская интерпретация русскости вызвала категорическое неприятие у сторонников «православных корней» русской культуры и идентичности (резко критиковал заявления Г. Зюганова протоиерей Кирилл Каледа). Но сама полемика ярко демонстрировала, что спустя год после вхождения Крыма в РФ под лозунгами защиты «русских и русскости» основания русской идентичности многие «неравнодушные к теме» определяют если не с трудом, то точно не в «кровных» категориях. Интересно, что непосредственные представители «Русского мира» также имели достаточно эклектичное представление о содержании русскости, явно не замыкая его на этническом измерении. К примеру, П. Губарев в сентябре 2014 г. говорил, что русский национализм лишен этнической составляющей, и «в русском, в православном национализме русский народ рассматривается как народ-мессия… который должен спасти мир»[256].
В дискурсе власти через год «после Крыма» также не осталось былых призывов обеспечить русских правами. В декабре 2014 г. В. Путин в послании Федеральному Собранию[257] говорил уже о связи Крыма с многонациональной русской нацией, а вовсе не об особой его связи с русским народом («в Крыму… находится духовный исток формирования многоликой, но монолитной русской нации и централизованного Российского государства»). В годовщину вхождения РК в РФ Президент и вовсе дезавуировал идею «русской ирреденты» и «Русской весны», объяснив присоединение Крыма известным популистским приемом растворения претензий русских в разговорах о защите интересов многонациональных русскоязычных граждан сопредельных государств. Выступая на митинге в годовщину присоединения Крыма, 18 марта 2015 г., В. Путин говорил о том, что «в отношении Крыма речь [шла]… о миллионах русских людей, о миллионах наших соотечественников, которые нуждаются в нашей помощи и поддержке». Собственный же тезис о принадлежности Крыма русским «по праву крови» В. Путин развенчал миролюбивым тезисом о том, что «русские и украинцы – это один народ»[258].
Установки власти в отношении «русского вопроса» отражают данные социологических опросов. Спустя год «после Крыма» наибольшей популярностью предсказуемо пользовалась интерпретация русской идентичности через социализацию и воспитание в традициях русской культуры (в апреле 2015 г. с таким определением соглашались 48 % опрошенных, в октябре 2014 г. – почти столько же, 50 %). Биологическая интерпретация «русскости» через кровное родство хотя и оставалась второй по значимости, но почти не наращивала популярности – с октября 2014 г. доля сторонников увеличилась с 35 до 39 %. А вот доля симпатизирующих разнообразным конструктивистским интерпретациям «русскости» выросла заметно: за полгода серьезно увеличилось число тех, кто готов зачислить в русские всех русскоязычных (на 7 %, с 29 до 36 %), всех, кто любит Россию (на 5 %, с 23 до 28 %) или сам себя считает русским (на 6 %, с 22 до 28 %)[259].
Резюмируя, нужно согласиться с С. Простаковым, что и для советской, и для постсоветской власти национализм был важным инструментом манипулирования общественным мнением (отдельного рассмотрения заслуживают властные практики «управляемого национализма», как-то курирование радикалов вроде БОРНа или привлечение националистической молодежи в проправительственные организации представителей уличных праворадикалов)[260]. Но очевидно также, что многолетнее использование властью «русской темы» превратило концепт «Русского мира» в то, что Роджерс Брубейкер называл «этничностью без групп». Условная «русскость» превратилась в «слабую идентичность», некую субстанциальную сущность, которой приписывались конкретные интересы и даже действия[261]. «Русскость» сделалась бесконечно эластичным термином, лишенным конкретного аналитического содержания, но податливого для приписывания ему многообразных конструктивистких атрибутов (прежде всего под влиянием конъюнктуры). Та же податливость конъюнктурным изменениям подчеркивала очевидную искусственность декларируемой границы между русскостью и иными культурными традициями. В случае с правами «русского населения» постсоветских республик, о защите которых упорно твердила власть, искусственность таких прав становилась очевидной на том основании, что, подобно любой идентичности времен модерна, она актуализировалась не реальностью культурного своеобразия, а приписыванием ей ограниченного набора действий и определенных социальных значений[262] (применительно к русскости такими социальными значениями универсально уже выступали борьба за политические права и политическая субъектность). Одновременно, в полном соответствии с логикой «овеществления группы» (о которой писал Р. Брубейкер), используя лозунг обеспечения «русской субъектности», бизнес-деятели на ниве этнополитики[263] успешно использовали политическую фикцию единой группы для получения недолговременной, но мощной политической выгоды. В ситуации с «русским Крымом» такая реализация была однозначно успешна – по данным Левада-центра, спустя год после присоединения Крыма большинство (55 %) считали произошедшее защитой русского населения Крыма и Украины от ущемления прав[264]. А 47 %, признавая нелегитимность действий российских властей, полагали, что Россия вела себя достойно.
Но вот на вопрос о том, насколько подобные «языковые игры в русское», направленные на искусственную культурную автономизацию и замыкание русской идентичности, навязывание ей жертвенной логики самоопределения и милитаристского оборонительного дискурса, положительны для «русской субъектности», вряд ли можно ответить положительно.
* * *
УДК 323.2014(47)
БАРАШ РАИСА ЭДУАРДОВНА. К. полит, н., старший научный сотрудник, Институт социологии РАН, Москва.
RAISA BARASH. PhD, Senior Research Fellow, Institute of Sociology of the Russian Academy of Sciences, Moscow.
E-mail: raisabarash(a)gmail.com
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ЯЗЫКОВЫЕ ИГРЫ В РУССКОЕ
Весной 2014 г., с «крымской речью» В. Путина о том, что «русский народ стал… самым большим разделенным народом в мире», «Крым – это исконно русская земля, а Севастополь – русский город…», в официальный и новостной российский дискурс вернулась забытая с середины 1990-х гг. тема «русской ирреденты» и особых прав русских. В России 1990-х гг. в национальных республиках русские околонационалистические организации были вытеснены за периметр официальной политической повестки. Во всяком случае, о наделении русских политической субъектностью в середине 1990-х гг. речь в России не велась.
«Русский вопрос» все чаще стал использоваться властью с ростом симпатий правым настроениям внутри России – в немалой степени из-за неконтролируемой трудовой миграции и бюджетного федерализма. После «Русских маршей» и особенно «Манежки» в 2010 г. «русский вопрос» стал фигурировать в официальном дискурсе власти. В. Путин в программной статье «Россия: национальный вопрос» впервые заговорил о субъектности русских, назвав русский народ стержнем и скрепляющей тканью, отметив, однако, что самоопределение свое русские находят в том, чтобы скрепить своим культурным ядром полиэтническую цивилизацию, «скреплять русских армян, русских азербайджанцев, русских немцев, русских татар». Симпатии политическому национализму, таким образом, предполагалось погасить очередным признанием «старшинства русских» в семье теперь уже российских народов, тем не менее о политической субъектности власть предпочитала не говорить. Схожий смысл трактовки «русского вопроса» был закреплен и в «Стратегии национальной политики», одна из новелл которой, закрепляя за русскими особую роль через декларирование, что «благодаря объединяющей роли русского народа… сформировалась уникальная цивилизационная общность многонародная российская нация». Однако несмотря на многолетние игры с «русским вопросом» на высшем политическом уровне, о признании «политической субъектности» русских речи не идет – проекты младонационалистов вроде НДП и «Новой силы» получают отказ от государственной регистрации (несмотря на то, что многие правые политики с восторгом встретили «Русскую весну»). Во внешней политике «русский вопрос» сегодня прочно превратился в инструмент геополитического давления, тогда как во внутренней же политике реанимация представлений о русских как “старшем брате” в семье народов, власть выбивает почву из-под ног оппозиции, многообразных гражданских активистов, пытающихся задавать неудобные вопросы о нелегальной миграции, «бюджетном федерализме», росте цен, сворачивании инвестиционных проектов.
Ключевые слова: “русский вопрос”; русская идентичность; этносубъектность; ирредентизм.
POLITICAL LANGUAGE GAMES OF PLAYING RUSSIAN IDENTITY
In the spring of 2014 Russian ‘irredenta theme’ and the theme of the distinctive rights of Russians returned to the Russian official and news discourse together with the ‘Crimean speech’ by Vladimir Putin about the Russian people who ‘ have become… the most divided people in the world’, ‘Crimea is indigenously Russian land’. In Russia in 1990-s Russian nationalist ogranizations were forced out of official political agenda in national republics. At least, the issue of endowing ethnic Russians with political subjectivity was not raised in Russia in 1990-s.
Authorities began to more frequently resort to the ‘Russian issue’ together with the increasing sympathies to the right sentiments in, to a great extent, because of the uncontrolled labour migration and budget federalism. After ‘Russian marches’ and ‘Manezhka’ in 2010 ‘Russian issue’ appeared in official Russian discourse.Vladimir Putin in the programme article ‘Russia: nationalities question’ firstly touched on the subjectness of ethnic Russians, calling ethnic Russians the linchpin and the unifying fabric. At the same time he highlighted that ethnic Russians find their self-determination in binding by means of their cultural nucleus poliethnic civilization. Therefore, by acknowledging superiority of ‘ethnic Russians’ in the family of Russian peoples Russian authorities wanted to redeem the sympathies with political nationalism. However, the authorities avoided the issues of subjectness. A similar notion was conveyed in the ‘Stategy of national security’, one of the novels of which confirmed it, declaring that ‘ because of the unifying role of ethnic Russian people…. unique civilized community, multiethnic Russian nation has been formed’. Despite long-term language games with ‘Russian issue’ on the highest political level, Russian subjectness has not been recognized – the projects of young nationalist oranizations ‘National Democratic Party’ and ‘New Force’ were denied registration (in spite of the fact that a lot of Russian right-wing politicians met ‘Russian spring’ with admiration). In the foreign policy ‘ Russian issue’ firmly turned into the instrument of placing geopolitical pressure, whereas in the internal policy by reviving the perceptions about ethnic Russians as «elder brother» in the family of peoples the authorities are pulling the carpet away under feet of Russian opposition and various civic activists who try to ask awkward questions about illegal migration, budget federalism, increase in prices, cuts in investment projects.
Keywords: Russian issue; Russian identity; ethnic subjectness; irredentism.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Блум Я.-П. Этническая и культурная дифференциация // Этнические группы и социальные группы. Социальная организация культурных различий / под ред. Ф. Барта; пер. с англ. И. Пилыцикова. М.: Новое издательство, 2006. С. 91–104.
2. Брубейкер Р. Этничность без групп. М.: Издательский дом Высшей школы экономики, 2012. 408 с.
3. Вступительное слово на Всемирном конгрессе соотечественников, проживающих за рубежом 24.10.06. URL: (дата обращения – 19.05.2015).
4. Выступление Президента Российской Федерации В.В.Путина на Конгрессе соотечественников. 11.10.01. URL: 2002.kremlin.ru/events/330.html (дата обращения – 19.05.2015).
5. Концерт, посвящённый воссоединению Крыма и Севастополя с Россией. 18.03.2015 года. URL: (дата обращения – 19.05.2015).
6. Крым и расширение российских границ. URL: -03-2015/krym-i-rasshirenie-rossiiskikh-granits (дата обращения – 19.05.2015).
7. Мария Захарова. Keine Russen da. URL: echospb.ru/articles/266334/ (дата обращения-19.05.2015).
8. Обращение Президента Российской Федерации. 18.03.2014. URL: / events/president/news/20603 (дата обращения – 19.05.2015).
9. Отбой. 12.09.2014. URL: / (дата обращения– 19.05.2015).
10. Послание Президента Федеральному Собранию. URL: / president/news/47173 (дата обращения – 19.05.2015).
11. Послание Федеральному Собранию Российской Федерации 26.04.07. URL: www. kremlin.ru/events/president/transcripts/24203 (дата обращения – 19.05.2015).
12. Простаков С. «Мы – русские! С нами власть!» // Newtimes. 2015. № 10 (361), 30.03.2015. URL: (дата обращения – 19.05.2015).
13. Прямая линия с Владимиром Путиным. 17.04.2014. URL: kremlin.ru/events/ president/news/20796 (дата обращения – 19.05.2015).
14. Путин В. В. Россия: национальный вопрос // Независимая газета. 23.01.2012. URL: -01-23/l_national.html (дата обращения – 19.05.2015).
15. Путин угрожал Западу ядерным оружием из-за Крыма. 15.03.2015. URL: www.bbc. co.uk/russian/russia/2015/03/ 150315_putin_crimea_documentary (дата обращения – 19.05.2015).
16. Ремизов М. Реставрация «русского» // «Эксперт». 2014. № 48 (925), 24.11.2014. URL: expert.ru/expert/2014/48/restavratsiya-russkogo (дата обращения – 19.05.2015).
17. Российское общество в контексте новых реалий. Институт социологии РАН. URL: (дата обращения -19.05.2015).
18. Русский проект во Всемирной паутине. Иван Демидов: «Русские в России живут вечно и вечно только начинаются!». URL: vz.ru/politics/2007/5/17/82928.html (дата обращения – 19.05.2015).
19. Щедровицкий П.Г. Русский мир и Транснациональное русское. URL: old.russ.ru/politics/ meta/20000302_schedr.html (дата обращения – 19.05.2015).
REFERENCES
1. Blum Jan-Petter. “Jetnicheskaja i kul’turnaja differenciacija” in Jetnicheskie gruppy i social’nye gruppy. Social’naja organizacija kul’turnyh razlichij, ed. Frederick Bart, transl. I. Pil’shhikova. Moskow: Novoe izdatel’stvo Publ., 2006. P/ 91-104. (in Russian).
2. Brubejker Rogers. Jetnichnost’ bez grupp. Moskow: Izdatelskii dom Vysshej shkoly jekonomiki Publ., 2012. 408 p. (in Russian).
3. ‘‘Koncert, posvjashhjonnyj vossoedineniju Kryma i Sevastopolja s Rossiej. 18.03.2015 goda’’. (date of access: 19.05.2015) (in Russian).
4. ‘‘Krym i rasshirenie rossijskih granic’’. -03-2015/krym-irasshirenie-rossiiskikh-granits (date of access: 19.05.2015) (in Russian).
5. Marija Zaharova. ‘‘Keine Russen da’’. / (date of access: 19.05.2015) (in Russian).
6. ‘‘Obrashhenie Prezidenta Rossijskoj Federacii’’, March 18, 2014. (date of access: 19.05.2015) (in Russian).
7. ‘‘Otboj, September12, 2014’’. / (date of access: 19. 05. 2015) (in Russian)
8. ‘‘Poslanie Federal’nomu Sobraniju Rossijskoj Federacii, April 26, 2007’’. (date of access: 19.05.2015) (in Russian).
9. ‘‘Poslanie Prezidenta Federal’nomu Sobraniju’’. (date of access: 19.05.2015) (in Russian).
10. ‘‘Prjamaja linija s Vladimirom Putinym, April 17, 2014’’. (date of access: 19.05.2015) (in Russian).
11. Prostakov Sergei. ‘‘My – russkie! S nami vlast’!’’, Newtimes № 10 (361), March 30,
2015. (date of access: 19.05.2015) (in Russian).
12. ‘‘Putin ugrozhal Zapadu jadernym oruzhiem iz-za Kryma, March 15, 2015’’. (date of access: 19.05.2015) (in Russian).
13. Putin Vladimir. Rossija: nacional’nyj vopros, Nezavisimaja gazeta, January 23, 2012. -01-23/1_national.html (date of access: 19.05.2015) (in Russian).
14. Remizov Mikhail. Restavracija «russkogo», Jekspert № 48 (925), November 24, 2014.
-russkogo (date of access: 19.05.2015) (in Russian).
15. ‘‘Rossijskoe obshhestvo v kontekste novyh realij. Institut sociologii RAN’’. (date of access: 19.05.2015) (in Russian).
16. ‘‘Russkij proekt vo Vsemirnoj pautine. Ivan Demidov: «Russkie v Rossii zhivut vechno i vechno tol’ko nachinajutsja!»’’. (date of access: 19.05.2015) (in Russian).
17. Shhedrovickij Petr. ‘‘Russkij mir i Transnacional’noe russkoe’’. (date of access: 19.05.2015) (in Russian).
18. ‘‘Vstupitel’noe slovo na Vsemirnom kongresse sootechestvennikov, prozhivajushhih
za rubezhom, October 24, 2006’’. (date of access: 19.05.2015) (in Russian).
19. ‘‘Vystuplenie Prezidenta Rossijskoj Federacii V. V. Putina na Kongresse sootechestvennikov, October 11, 2001’’. (date of access: 19.05.2015) (in Russian).
III. Способы восприятия. Нарративные стратегии: художественная литература, искусство
Representing Female Communal Identity in Anglo-Saxon England: A Philological Approach at Two Old English Frauenlieder
Н. Bao
The only two female-voiced poems in the Old English Exeter Book, also known as ‘women’s songs’ (‘Frauenlieder’), are notorious for their cryptic nature. Since the context necessary for identifying the exact situation of each narrator has been lost to us, any plot-designing’ not directly based on manuscript and textual evidence seems to be editorial conjecture at the very best. Nevertheless, it would be difficult to analyse their theme and imagery satisfactorily, without also bringing into consideration the roles they play in effecting the narration. Therefore, in this paper I would venture to provide my own interpretation (and translation) of the two poems when examining their ways of representing female identity in Anglo-Saxon England (or the lack of one, without claiming this is the only way to understand them).
The Wife's Lament is full of claustrophobic sceneries, both physical and mental. According to 'Het mec hlaford min herh eard niman’ (line 15) and 'Heht mec mon wunian on wuda bearwe’ (line 27), the woman was commanded to dwell in a grove-sanctuary, which is described in details in three and a half terse, quick-paced, clangorous lines that follow immediately: 'Eald is Les eardsele, eal ic eom oflongad/sindon dena dimme, duna uphea/ bitre burgtunas, brerum beweaxne/ wic wynna leas (lines 29–32)’ (The dales are dark, the hills high/The enclosures biting, overgrown with briars /Habitation without joy)[265].
The choice of the phrase 'bitre burgtunas’(biting enclosures) is usually accounted for by the thorny briars that have overgrown the earthcave, but it could equally be the psychological result of the wife’s confined and perhaps suffocating condition, which allows her the sole relief of walking around the earth-cave under the oak tree 'on uhtan’ (in dawn). In fact, why 'on uhtan’ in particular? The hour of dawn being the moment when the wife particularly needs to breathe fresh air could be the traumatic sequence of her 'uhtceare’ (line 7, literally 'dawn anxiety’) in the past, when she used to worry about 'hwaer min leodfruma londes waere’(line 8, where in the land was my lord’) just before daybreak.
The briar, however, with its natural tendency to outreach, intertwine and cover, does contribute to the claustrophobic atmosphere of the narrator’s joyless dwelling. Leslie noted that 'Briars, thorns and brambles are similarly used as elegiac motifs in early Welsh and Irish poetry’[266], supplemented by Hall’s observation of the similarity between the 'eordscraef (earthcave) and the Green Chapel in Sir Gawain and the Green Knight[267]. Admittedly these are geographically or temporally remote examples of parallel, but they at least provide a context for such imagery of a desolate, hollow mound made worse by wild, unrelenting and enclosing bushes. This is also echoed in line 11 of the second poem, Wulf and Eacwacer (Tonne mec se beaducafa bogum bilegde’: 'the bold warrior laid his arms about me’), where 'bogum’ can mean 'with the forearms (usually of animals)’ as well as 'with shoots, sprouts, twigs of a seed, herb, shrub. In the latter case, we get the image, as we do in WL, of a woman being locked within plants.
The 'eordsele’ ('earth hall’) has been described by Hume to be an 'anti-hall’, a distorted reflection of the mead-hall in OE literature, the mead-hall being symbol of'a circle of light and peace’ and 'the social system associated with it’(Hume, 64)[268]. Nevertheless, a hall in OE poetry has always been a claustrophobic image – prone to be broken in, not at all immune to the lurking dangers and darkness that surround it. In fact, if we think about the first slaughter scene in Beowulf (lines 115–125) in which Grendel single-handedly destroyed 30 men who were feasting at the mead-table, or about the massacre scene in Cynewulf and Cyneheard in the Anglo-Saxon Chronicles, where Cynewulfs avenging followers locked themselves with their outnumbered enemies in a fortress to prevent the latter from escaping, we feel too vividly the anxiety about being 'trapped’ in a man-made structure.
The fact that the OE poet chose the same world ‘sele’ (hall) to describe both the wife’s dwelling (‘eorðsele’) and her lord’s imagined whereabouts (‘dreorsele’ in line 50, literally ‘sad hall’) suggests an intended parallel: both are ‘wic wyna leas’ (‘dwelling without joy’) combining hostility from both human design and the wild nature, together making a comfortless prison for its respective inhabitant. The wife shut in a claustrophobic, ‘biting enclosure’, seized with longing for her husband and anxious about his whereabouts can naturally and subconsciously envision him to be in a situation comparable to hers. ‘Sy æt him sylfum gelong/ eal his worulde wyn, sy ful wide fah/ feorres folclondes, þæt min freond siteð/ under stanhliþe, storme behrimed/ wine werigmod, wæter beflowen/ on dreorsele. Dreogeð se min wine/ micle modceare; he gemon to oft/ wynlicran wic’ (lines 45–52), according to my understanding, can be translated as this: ‘whether his worldly joy be dependent on himself’ (i. e. he is a free man capable of looking for his own happiness) or ‘whether he be very widely outlawed in a faraway country’ (so that he might easily be confined and guarded), ‘my friend’ will be forced to ‘sit under stony slope, frost-coated by the storm, surrounded by water, sad-spirited in a sad hall’ – a semi-cell that doesn’t even provide shelter from the violence of nature. In either case, he ‘will too often think about a more pleasant inhabitation’ (as ‘I’ now too often do), of the home where ‘we’ once shared as husband and wife.
According to the Wife-narrator, the couple had taken vows that death only could separate them, but now they are living widely apart (‘is nu swa hit no wære/ freondschipe uncer’); for some reason the husband chose not to reveal his whereabouts and his next plan to his wife, leaving the woman lamenting her fate alone. But near the end of the poem, the wife seems to have reached reconciliation with her bitter feelings, especially those against her husband: ‘a young man may have to be sad-hearted, his heart’s thought painful’, yet despite all that, he still must keep up a ‘cheerful appearance’ like a Stoic (lines 42-5). The same phrase ‘bliþe gebæro’ (heart care) which has in line 20 expressed the wife’s astonishment or disappointment at finding her husband to be a hypocrite (‘plotting murder with a cheerful appearance’) later in line 44 shows that the wife has understood, or thought she has understood, her husband’s contradictory behaviour: perhaps he is already doing his best to be united with her again, or perhaps the murder part has been an unjustified conjecture on her part in the first place– in her grief-stricken situation she could have been unfair to him. These thoughts are immediately followed by the two relenting and sympathizing subjunctive lines, and end by a heart-rending aphorism ‘Wa bið þæm þe sceal/ of langoþe leofes abidan’ (lines 50-1,’Woe be to those who must/Wait for their beloved in longing’), bringing the poem to a perfectly elegiac end.
The second OE elegy, Wulf and Eadwacer equally abounds of claustrophobic imagery. ‘Wulf is on iege, ic on oþerre./ Fæst is þæt eglond, fenne biworpen.’ (lines 4–5, ‘Wulf is on one isle, I am on another./ Fast is that island set among the fens’). An island – a small piece of land surrounded by the vast ocean, or by marshes, as the first island here – is in itself a confining locale. The person confined on an island is doubly locked, as in a ‘fast’ prison. As if this is not enough, a third powerful image of ‘engulfing’ and ‘trapping’ is twice implied in the repeated line of ‘willað hy hine aþecgan gif he on þreat cymeð’(line 7): if Wulf comes to the island, ‘they’ will wish to receive him, but more likely to kill or consume him as animals do their prey. The etymology of ‘aþecgan’ can be traced to ‘þicgan’ (‘to take’, usually food) and ‘þecgan’ (‘to take, to consume’), and even, according to Klinck, to ‘þeccan’ (‘to cover’, often describing the action of fire)[269]. Despite the nuance between the meanings of these verbs, the central image of enclosing a prey to the point of threatening to swallow it is obvious.
The narrator’s lover Wulf, possibly a former warrior-leader, has lost a battle to Eadwacer (literally ‘keeper of wealth’), and was exiled from his home island to a remote one. Eadwacer desires Wulf’s ex-lover as a consort. Ironically, Eadwacer again ‘aþecgan’ the narrator when he wraps his arms around her in sexual intercourse, the imagery made all the more powerful by the abovementioned plant image implied by ‘bogum’.
Trapped both in Eadwacer’s embrace and on the island, the narrator’s longing for Wulf is hopeless, and she can only ‘reotugu sæt’ (‘sit mournfully’). The verb ‘sit’ appear three times in all in WL and W&E, each time in a claustrophobic environment where the inhabitant is immobilised by various hostile forces. In a desperate protest against her current situation, she bitterly warned Eadwacer that ‘a wolf shall carry our wretched whelp to the woods’(lines 6–7). The ending line of aphorism ‘þæt mon eaþe tosliteð þætte næfre gesomnad wæs,/ uncer giedd geador’ (lines 18-9, ‘Man very easily may tear apart /what was never joined, our song together’) gives a hint to the possible fate of the ‘wretched whelp’, as well as points out that their life together may not last.
In both poems, the passivity and immobility of the female lamenters are in sharp contrast to the geographical and spiritual mobility seen in most OE male elegies. It is as if both female lamenters are locked in an eternal present, in the same place, in what Belanoff called the ‘hereness’ and ‘nowness’ of women’s poetry[270]. In WL, the wife, once bereft of her husband, loses all linear mobility and is reduced to walking around the earthcave whenever not sitting in misery: a cyclical movement that leads her to nowhere; and her thoughts, be it resentful or reconciling, is solely about the husband. In W&E, the narrator is doubly locked on the island and in her master or capturer’s arms, but depicted as feeling both pain and pleasure in her enemy’s embrace, ‘wæs me wyn to þon, wæs me hwæþre eac lað’(line 12). In each poem, the female narrator describes her life’s activities and emotional turbulences as pivoting around a man: it is a man who causes her present imprisonment; it is also a man that she hopes will release her from it. Such description can be autobiographical, if we read these poems historically. For instance, seen in the light of Viking invasions of tenth-century England, WF may well reflect women’s real anxiety of being raped or killed, and the historically possible practice of hiding themselves in earthcaves. Likewise, considering the usually political nature of tenth-century aristocratic marriages, the adulterous fantasy the heroine of W&E habours for an enemy should not be seen as melodramatic, especially if we believe that she is taken by her current master against her will and forced to become an enemy of her previous lover. However, according to the reality presented in these poems, are we to understand that a married Anglo-Saxon woman had no alliances whatsoever except those of her husband? Had she no communal identity, except as the wife or consort of a man in his people? Why is there a complete absence of any mention of female-female relationship? Scheck reminds us that King Alfred’s daughter, Æðelflæd, Lady of the Mercians, managed to ward off a Danish infiltration, and that Anglo-Saxon women were able to rule just as effectively on some occasions and engage in important ways in political affairs, and could keep as well as sell property[271]. We are also to remember that Beowulf, probably slightly earlier in composition, in spite of depicting a predominantly male Anglo-Saxon heroic society with its social-economic values, does include a heroine, the Danish princess Hildeburh, who was portrayed predominantly as an active ‘freoðowebbe’ (peace-weaver) rather than a passive ‘geomoru ides’ (mournful lady). These all prompt us to ponder about the motivation and rationale behind such an archetype of ‘mournful ladies’ and their ‘modceare’ (heartsorrow) in these two poems. They may be genuine representation of female desperation and loss, but can they not also be male-authored manipulation of a fictional female identity through rhetoric?
Being the only extant female-voiced poems written in Old English, WL and W&E are often taken to be authored by female, a theory increasingly supported by scholars of recent decades, partly as a counter-reaction of previous ready assumption of male authorship of any anonymous medieval text. However, such an authorship theory can also backfire as automatic assumption – after all, the allusive and often disjunctive narrative structure and enigmatic syntax of these poems allow various interpretations of their plots, but provide no concrete evidence as to the gender of the author. Those arguing for female authorship often take the narrator’s speech, sometimes fierce and revengeful, to be evidence of female strength that goes beyond endurance. For example, Straus claims that ‘telling her story from her own point of view is a positive act for the speaker, the means by which she attempts to control the way the events of her life will be seen’[272]. Nevertheless, such strength, if it can be called so, is overwhelmed by the ubiquitous depiction of claustrophobic sceneries, and the narrator’s immobility and impasse as a prisoner locked in these sceneries, both temporally and spatially, both physically and mentally.
They may suggest female fear about actual enclosure, but they can also be suggestive of male anxiety about the need for female enclosure, especially when read in the context of late Anglo-Saxon England and its monastic reforms which increasingly witnessed the practice of active female religious enclosure, i.e. living as an anchoress, symbolically dead to the world[273]. Even the mental reconciliation of the wife with her husband at the end of WL may well be male fantasy, or patriarchal prescription about how a woman in wretched situation should guide her feelings. The pleasurepain in a forced sexual intercourse described in W&E can be voicing genuine feelings, but can equally be male fantasy about the temperament of women: frail, hesitant, always harboring conflicting emotions, unable to be resolute and responsible for their own actions. In other words, they can be reflective of male unacceptability of ‘female autonomy’ in a patriarchal society embracing heroic and martial ideals[274].
By no means do I claim to champion a particular conclusion about the authorship and meaning of these two Old English elegies. On the contrary, a thorough philological examination of the poems only makes it harder to reach any such conclusion. What I wish to stress, however, is the possibility of male appropriation female voice in Anglo-Saxon England, or, in Scheck’s words, male attempt to ‘present skewed remembrances of an earlier time in which women were perceived to be completely dependent upon and subject to their male guardians’[275].
* * *
УДК 94(363.2)+82(091)
ХУИИ БАО. Аспирант, Университетский колледж Дублина, Дублин, Ирландия.
HUIYIВАО. Postgraduate Student, University College Dublin, Ireland.
E-mail: eliza_day531(S)hotmail.com
РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ЖЕНСКОЙ КОММУНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В АНГЛО-САКСОНСКОЙ АНГЛИИ: ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ДВУМ СТАРОАНГЛИЙСКИМ ЖЕНСКИХ ПЕСНЯМ
В статье исследуются две известных древнеанглийских элегии, где присутствуют женские голоса – Плач жены и Вульф и Эдвакер. Автор стремится подчеркнуть женскую коммунальную идентичность или скорее, ее отсутствие, в англосаксонской Англии, как это отражено в этих двух женских песнях. Будучи единственными прямыми женскими голосами в древнеанглийском поэтическом корпусе, Плач жены и Вульф и Эдвакер сообщают важную информацию о положении английских женщин в раннее Средневековье. Они также поднимают принципиальные вопросы о надежности гендерно-этнических вымышленных нарративов, принимающих форму автобиографии: в какой мере эти элегии отражают реальное положение и самоидентификацию женщин в англосаксонской Англии? Могут ли они быть использованием женских образов автором-мужчиной, являя собой лишь текстовое воплощение маскулинных стереотипов, против которых, как кажется, они восстают?
Используя филологический анализ этого иносказательного нарратива с разобщенной структурой и сложным синтаксисом, мы стремимся воссоздать точную картину женской коммунальной идентичности X в. на фоне преобладания англосаксонского героического маскулинного общества. Мы особенно концентрируемся на женских клаустрофобных образах в обеих элегиях и их значения для женского физического и духовного заключения (тупика) и равным образом для маргинального социального и культурного положения женщины. Природа “modceare” (сердечного горя) каждого рассказчика женского пола будет пристально изучены. Мы попытаемся ответить на вопросы метанарратива о том, могут ли эти голоса быть использованием женского голоса автором-мужчиной с целью воссоздать то, что Шек называет “искаженной памятью о более раннем времени, в которое женщины воспринимались абсолютно зависимыми от опекунов мужского пола”, через сравнение свидетельств современной староанглийской беллетристики, как Беовульф, где женщина характеризуется как активная “freodowebbe» (носительница мира), а не пассивная “geomoru ides” (скорбная дама).
Ключевые слова: англо-саксонский; коммунальная идентичность; беллетристика; древнеанглийский; раннее Средневековье; женские элегии.
REPRESENTING FEMALE COMMUNAL IDENTITY IN ANGLO-SAXON ENGLAND: A PHILOLOGICAL APPROACH AT TWO OLD ENGLISH FRAUENLIEDER
This article examines the only two extant female-voiced Old English elegies, Wife's Lament and Wulf and Eadwacer, and attempts to map out the female communal identity, or rather, the lack of one, in Anglo-Saxon England as expressed in these two frauenlider. As the only unmediated women’s voices in the Old English poetic corpus, WL and W&E provide significant clues to the position and condition of English women in the Early Middle Ages. But they also raise crucial questions about the reliability of the gendered-ethicized fictional narratives adopting an autobiographic perspective: To what an extent do these elegies represent the real situation and self-identification of women in Anglo-Saxon England? Can they be male-authored manipulation of female subjects, which are the very textual incarnation of the masculinist stereotypes against which they seem to protest?
Through a philological investigation into the allusive and often disjunct narrative structure and enigmatic syntax of these two poems, I hope to reconstruct a coherent picture of female communal identity around the tenth century, against the backdrop of a predominantly male Anglo-Saxon heroic society. My particular focus is on the claustrophobic imageries in both elegies, their implication for women’s physical and spiritual imprisonment or impasse, as well as women’s marginalized social and cultural position. I will also look closely at the nature of the “modceare” (heart-sorrow) of each female narrator. I will try to answer meta-narrative questions about whether these can be male appropriation of female voice to manifest what Scheck calls “skewed remembrances of an earlier time in which women were perceived to be completely dependent upon and subject to their male guardians”, comparing evidences from contemporary OE fiction such as Beowulf, which characterize the female as active “freodowebbe” (peace-weaver) rather than passive “geomoru ides” (mournful lady).
Keywords: Anglo-Saxon; communal identity; fictional narratives; Old English; Early Middle Ages; female elegies.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ (REFERENCES)
1. Belanoff Pat. “Ides…geomrodegiddum: the Old English Female Lament”, in Medieval Woman’s Song: Cross-cultural Approaches, ed. Anne Lingard Klinck and Ann Marie Rasmussen, Philadelphia: PENN, University of Pennsylvania press, 2001. P. 29–46.
2. Hall Alaric. “The Images and Structure of The Wife’s Lament”, Leeds Studies in English 33 (2002). P. 1–29.
3. Hume Kathryn. “The Conception of the Hall in Old English Poetry”, Anglo-Saxon England 3 (1974). P. 63–74.
4. Klinck Anne Lingard. “Animal Imagery in Wulf and Eadwacer and the Possibilities of Interpretation”, Papers on Language & Literature 23 (1987). P. 5–6.
5. Scheck Helene. “Seductive Voice: Rethinking Female Subjectivities’’ in The Wife’s Lament and Wulf and Eadwacer, Literature Compass 5 (2008). P. 220–227.
6. Straus Barrie R. “Women’s Words as Weapons: Speech as Action in The Wife’s Lament”, in Old English Shorter Poems: Basic Reading, ed. Katherine O. O’Keeffe. New York: Garland, 1994. P. 335–356.
7. The Cambridge Old English Reader, ed. Richard Marsden. Cambridge, UK; New York, NY: Cambridge University Press, 2004. 532 p.
8. Three Old English Elegies: The Wife’s Lament, The Husband’s Message, The Ruin, ed. Roy F. Leslie. Manchester: Manchester University Press, 1961. 86 p.
Сюжет о Локрине и его эволюция в английской литературной традиции от Гальфрида Монмутского до Суинбернае
Бурова И.
Историей потомка Энея Локрина является хроника Гальфрида Монмутского[276], в которой повествуется о том, как Локрин правил Лоегрией, отомстил врагам за гибель младшего брата, правителя соседней Альбы, и забыл о долге, предпочтя взятую в плен Эстрильд законной супруге Гвендолен, дочери правителя Корнуолла. Из-за этого Гвендолен объявила мужу войну, в которой одержала победу, обеспечив переход власти к сыну Мэддену. Локрин погиб в бою, а Эстрильд и ее дочь от Локрина по приказу Гвендолен были утоплены в реке. Гальфрид весьма приблизительно датирует эти события, соотнося их со временами пророка Самуила и Гомера[277], весьма разнесенными современной хронологией истории.
Предание о войне между Локрином и Гвендолен обладает потенциальным аллегоризмом в контексте последних лет правления английского короля Генриха I, который после трагической гибели единственного сына назвал своей наследницей дочь, что впоследствии привело к борьбе за корону между двоюродными братом и сестрой, Стефаном и Матильдой. Гальфрид Монмутский со всей очевидностью симпатизировал не только легендарной Гвендолен, но и исторической Матильде, Domina Anglorum, поскольку был уроженцем Южного Уэльса, поддерживавшего дочь короля Генриха так же, как Корнуолл – Гвендолен. Исторические миссии обеих королев – легендарной Гвендолен и исторической «гневливой»[278] Матильды – обнаруживают удивительное сходство: обе восторжествовали над своими родственниками мужского пола, нарушившими определенные этические нормы, восстановили порядок в государстве и передали бразды правления сыновьям[279].
Легенда о Локрине не была забыта средневековыми авторами, однако пик интереса к ней пришелся на елизаветинскую эпоху. Приводя этот сюжет в «Хрониках Англии, Шотландии» (1577), Р. Холиншед датировал начало истории Локрина 1874 г. от сотворения мира и завершил ее двадцатью годами позднее, т. е. заметно отодвинул события вглубь истории, не отрицая при этом троянские корни Локрина. У Холиншеда Локрин и его жена оказываются «кузенами», отец Гвендолен Кориней получает статус «герцога Корнуолла», пленница Эстрильд становится дочерью некого скифского короля. На момент встречи с ней Локрин связан обещанием жениться на Гвендолен и решается нарушить слово только после смерти могущественного Коринея. Холиншед лишь упоминает, что Локрин женился на Эстрильд: судьба этой героини его не интересует, как и тот факт, что она родила Локрину дочь. Внимание автора сосредоточено на Гвендолен, изображенной в качестве невинной жертвы, за которую вступаются «друзья и родные» из Корнуолла. Ей не приписывается ни одного жестокого деяния, благодаря чему она превращается в безусловно положительную героиню, руководствующуюся лишь стремлением обеспечить соблюдение законности в государстве.
Почти одновременно начинается разработка сюжета о Локрине в художественной литературе[280]. К нему обращаются Э. Спенсер, М. Дрейтон, Дж. Хиггинс, Т. Лодж. Также этот сюжет лег в основу «Печальной трагедии Локрина» (1595), вплоть до 1773 г. считавшейся драмой Шекспира[281].
«Печальная трагедия Локрина» открывается сценой передачи власти: умирающий Брут завещает корону Локрину, настаивая на его браке с дочерью правителя Корнуолла Гвендолен. Однако такой союз желателен для Локрина не только по политическим соображениям: он влюблен в свою невесту до такой степени, что просит соединить их узами брака прямо в день похорон своего отца, ставя собственное желание выше традиции траура по покойному. Это изначально бросает тень на его статус положительного героя, ибо елизаветинцы дорожили обычаем траура по усопшим: кормилица Джульетты как само собой разумеющееся предполагает, что та будет оплакивать смерть Тибальта вместе с остальными домочадцами; Оливия в «Двенадцатой ночи» отказывается принимать герцога Орсино, ссылаясь на траур по любимому брату; Гамлет сурово осуждает мать за поспешный повторный брак и т. д.
Второй и третий акты трагедии посвящены боевым действиям: сначала гунны одерживают победу над Альбанактом, затем Локрин, мстя за брата, истребляет врагов. В четвертом акте, Локрид, увидев Эстрильд, влюбляется в нее и забывает о Гвендолен. Наконец, пятое действие пьесы, решенное в духе вошедшей в моду «трагедии мстителя», изображает триумф Гвендолен и гибель Локрина, Эстрильд и их дочери.
В драме акцентируются события личной жизни героев, получают разработку образы женщин и детей Локрина. Героини-соперницы Гвендолен и Эстрильд уравниваются в социальном статусе: они королевы, жены великих правителей (Эстрильд изначально является женой предводителя гуннов Хумбера). Определяющие черты характера «положительной» Гвендолен – постоянство, благородная гордость, чувство долга. «Отрицательная» Эстрильд, напротив, непостоянна и корыстна, так как сразу после смерти Хумбера, не обременяя себя трауром, с легкостью отвечает на любовь Локрина, пообещавшего сделать ее королевой Лоэгрии. Ее цель – богатство и власть, она – авантюристка, покушающаяся на то, что по праву принадлежит Гвендолен. Отдав свое предпочтение Эстрильд, Локрин делает трагический выбор в пользу зла и тем самым подписывает себе приговор. Противостояние двух королев подчеркивается образами Мэдэна и Сабрен, детей Локрина, которые, оставаясь, в сущности, равнодушными к отцу, поддерживают своих матерей. Таким образом, «Печальная трагедия Локрина» оказывается пьесой о конфликте двух королев, законной и незаконной.
Аллегорические картины, предваряющие каждое действие, настраивают на восприятие всей пьесы как поучительного иносказания. Иносказательный смысл пантомимы перед первым актом – лев преследует медведя, но появляется охотник, который убивает льва – предваряет ключевые события сюжета: Хумбер погубил Альбанакта, но сам погиб от руки Локрина; Эстрильд попыталась занять место Гвендолен, но была уничтожена. Определяющую роль в этой сценке играет охотник, олицетворяющий мщение. Мотив мести доминирует и в остальных пантомимах. Второму акту предшествует сцена мести Финея, оскорбленного тем, что Кефей отдал Андромеду в жены Персею. Финей выступает как правая сторона и, соответственно, вызывает ассоциацию с Гвендолен, мстящей Локрину, нарушившему гармонию и в собственной семье, и в королевстве. В третьей аллегорической картине изображается месть агрессору: маленькая змейка ужалила крокодила, караулившего очередную жертву, и оба животных нашли смерть в водах реки. Омфала, избивающая дубинкой порабощенного Геракла, символизирует наказание, заслуженное Локрином. Наконец, в последней пантомиме Медея убивает изменника Ясона и свою счастливую соперницу, дочь коринфского царя Креонта.
Новый аллегоризм пьесы подчеркивается введением в число действующих лиц богини мщения Аты, которой делегируется роль Пролога, постоянно комментирующего действие. В финале пьесы Ата, вполне в духе ренессансного понимания истории как рода моральной философии, обучающей на примерах, интерпретирует сюжет о Локрине как образец вероломства, узурпации власти и гордыни, призванный предостеречь тех, кто, потакая страстям, сеет смуту в Англии. Заключительный монолог Аты раскрывает причины, по которым анонимный драматург обратился к старому сюжету: очевидно, что автор рассматривал противостояние Гвендолен и Эстрильд в борьбе за Локрина – Англию как аналогию противостояния Елизаветы I и Марии Стюарт.
Прочтение сюжета о Локрине как аллегории современных событий было предложено и «джентльменом-католиком» Томасом Лоджем, единственным елизаветинским автором, который выразил симпатию Эстрильд-Марии, изобразив ее жертвой, преследуемой свирепой Гвендолен-Елизаветой.
Линия морального оправдания Гвендолен, дополненная искренним сочувствием к Локрину и Эстрильд, была продолжена Алджерноном Чарлзом Суинберном, чья драма «Локрин» (1887) выросла на основе пятого акта «Печальной трагедии Локрина». Изобразив конфликт между двумя ипостасями героя, человека долга и человека чувства, Суинберн превратил Локрина если не в положительного, то хотя бы вызывающего сочувствие героя: его брак с Гвендолен был заключен исключительно из соображений блага для государства, и Локрин познал любовь лишь тогда, когда встретил Эстрильд. Гвендолен изначально страдала, не находя в муже ответной пылкости чувств, а появление соперницы лишь побудило ее дать волю своему гневу, по-гомеровски ставшего стержнем сюжета трагедии.
Суинберн существенно переосмыслил характеры действующих лиц. В псевдошекспировской пьесе Эстрильд действует под влиянием корысти, стремясь стать королевой. У Суинберна она воспринимает смерть похитившего ее Хумбера без сожалений, видя в Локрине избавителя, вызволившего ее из плена; ее образ приобретает романтический лиризм и психологическую глубину. Второстепенный в «Печальной трагедии Локрина» образ Сабрен, дочери Локрина и Эстрильд, у Суинберна дается в развитии, эволюционируя от пасторального к героическому. Суинберн значительно увеличил и роль Мэдэна, который в старой драме произносил всего одну реплику (Акт V, сц. 2) и вторично выходил на сцену как статист (Акт V, сц. 4). «Детские» роли в «Локрине» Суинберна не только рождают ощущение трагической зависимости судеб детей от судеб родителей, но и позволяют лучше понять образы матерей, по-новому раскрывающихся в общении с сыном и дочерью.
Сохранив пятиактную структуру трагедии, Суинберн выровнял акты и по объему, и по делению на сцены, отказался от фигуры Пролога и аллегорических сцен-эпиграфов, сократил количество персонажей до семи, укрепил единство и сократил время действия, придав ему большую динамику при усилении камерности характера. Драматург отказался от деления героев на правых и виноватых, показывая всех как жертв обстоятельств и страстей. Суинберн изображает Локрина человеком чести, вынужденным вести двойную жизнь. Побочная семья служит для него источником тихих радостей, которых он лишен в законном браке, и его поведение не кажется преступным, поскольку любовь к Эстрильд лишь пробуждает в нем лучшие качества.
В старой пьесе любовь изображалась в традициях гуманизма как недуг, но для героев Суинберна она – способ и смысл жизни, поэтому новый «Локрин» из трагедии мести превращается в любовную трагедию, основанную на легендарно-историческом сюжете.
Итак, каждая эпоха видела в сюжете о Локрине новый смысл. При этом определяющая его тема преодоления внешней агрессии и внутренних раздоров неизменно оказывалась важной в периоды имперского строительства: Матильда Английская передала права на английский престол сыну, объединившему под своей рукой Англию, Нормандию, Анжу, Мэн и Тур, а также провозгласившему себя сувереном Ирландии. Елизавета I окончательно подчинила Ирландию и начала колонизацию заокеанских территорий. Наконец, при Виктории Британская империя превратилась в колосс, «над которым никогда не заходит солнце».
Рассказанная Гальфридом история в традиционно мужском мире средневековья была историей Локрина, но при этом описывала первый, пусть и легендарный, случай, когда повелительницей Англии стала женщина. Очевидное обострение интереса к данному сюжету в периоды, когда трон Англии занимали королевы в своем праве, представляется исторической закономерностью.
* * *
УДК 94(420) +82 (091)
БУРОВА ИРИНА ИГОРЕВНА Д. и. и., профессор, Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург.
BUROVA IRINA. PhD, Professor, Saint Petersburg State University, Saint Petersburg.
E-mail: irinaburova(a)hotmail.com
СЮЖЕТ О ЛОКРИНЕ И ЕГО ЭВОЛЮЦИЯ В АНГЛИЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ ТРАДИЦИИ ОТ ГААЬФРИДА МОНМУТСКОГО ДО СУИНБЕРНАЕ
В докладе анализируются четыре текста, в которых приводится и/или разрабатывается сюжет о короле Локрине (хроники Гальфрида Монмутского, Р. Холиншеда, псевдо-шекспировская трагедия «Печальная история о Локрине» и трагедия А. Ч. Суинберна «Локрин»). Рассказ о легендарном британском короле Локрине, современнике пророка Самуила, успешно отразившем внешнее нашествие, но обрекшем страну на междоусобную войну, впервые появляется в «Истории бриттов» Гальфрида, откуда, претерпевая ряд изменений, переходит в «Хроники Англии, Шотландии и Ирландии» Р. Холиншеда. Связанные с сюжетом о Локрине события – отражение внешней агрессии, приход к власти королевы, внутренние мятежи и их подавление – актуализируют его в елизаветинскую эпоху и предопределяют появление приписанной У. Шекспиру «Печальной трагедии о Локрине» (1595). В этой пятиактной драме, снабженной аллегорическими прологами к каждому действию, легендарный сюжет также приобретает иносказательный характер, превращая пьесу в произведение агитационного характера, превозносящее успех королевы Елизаветы I, ее триумфальную победу над внутренним врагом и прочащее незавидную участь всем, кто выступает против этой современной Гвендолен. Суинберн, также писавший своего «Локрина» в эпоху правления великой королевы и опиравшийся на текст «Печальной трагедии», сместил акценты с политического противостояния на личную драму героев, продолжая традицию морального оправдания Гвендолен, но и не отказывая в сочувствии Локрину и его возлюбленной Эстрильд. При этом интересно отметить, что обращение к сюжету о Локрине в истории британской литературы каждый раз оказывается связанным с женским правлением (Гальфрид писал в годы правления Генриха I, назначившего преемницей дочь, в канун войны Стефана и Матильды, Холиншед и псевдо-Шекспир были елизаветинцами, а Суинберн – викторианским джентльменом) и успехами в строительстве империи.
Ключевые слова: английская история; легендарная история Британии; Локрин; Гальфрид Монмутский; Рафаэль Холиншед; Алджернон Чарльз Суинберн; Псведо-Шекспир; эволюция сюжета.
THE STORY OF LOCRINE AND ITS EVOLUTION IN THE ENGLISH LITERARY TRADITION FROM GALFRIDUS MONEMUTENSIS TO SWINBURNE
The paper deals with the four texts telling or developing the story of King Locrine (the chronicles of Galfridus Monemutensis and R. Holinshed, pseudo-Shakespearean ‘The Lamentable Tragedy of Locrine’ and ‘Locrine’, a tragedy by A. Ch. Swinburne). For the first time the story about a legendary British king Locrine, a contemporary of the Prophet Samuel, who succeeded in beating back a foreign attack but doomed his country for sectarian war, appeared in Galfridus ‘The History of the Kings of Britain’ from which, with certain changes, it was borrowed for the ‘Chronicles of England, Scotland and Ireland’ by R. Holinshed. The events connected with the story of Locrine (the repulsing of the foreign aggression, a queen’s coming to power, internal riots and their suppression) boosted the story in the Elisabethan age and predetermined the appearance of ‘The Lamentable Tragedy of Locrine’ (1595) attributed to W. Shakespeare. In this five-act play with an allegoric prologue for each part, the legendary story also acquired a parabolic quality making the tragedy into a propaganda vehicle glorifying Queen Elisabeth I’s success, her triumph over her enemies from within and predicting a pitiable lot for those who dare oppose this modern Guendolen. Swinburne who also wrote his ‘Locrine’ in the age of a great queen ruling the country and who based his work upon the text of‘The Lamentable Tragedy’, deemphasized political conflict to highlight the personal tragedies of characters, following the tradition of moral justification of Guendolen but also feeling empathy for Locrine and his beloved Estrild. It is also worth mentioning that in the history of British literature addressing the story of Locrine has invariably been connected with a woman’s reign (Galfridus wrote his book during the rule of Henry I who named his daughter the heir to his throne, on the eve of the Civil War of Stephen and Matilda, Holinshed and Pseudo-Shakespeare were Elisabethans while Swinmburne was a Victorian gentleman) and considerable achievements in building up the empire.
Keywords: English history; legendary history of Britain; Locrine; Galfridus Monemutensis; Raphael Holinshed; Algernon Charles Swinburne; Pseudo-Shakespeare; subject evolution.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Гальфрид Монмутский. История бриттов. Жизнь Мерлина. М.: Наука, 1984. 287 с.
2. Ashley L. R. N. Authorship and Evidence: A Study of Attribution and the Renaissance Drama Illustrated by the Case of George Peele (1556–1596). Genève: Droz, 1968. 181 p.
3. Chibnall M. The Empress Matilda: Queen Consort, Queen Mother and Lady of the English. Oxford, UK; Cambridge, Mass., USA: Blackwell, 1992. 227 p.
4. Supplement to the edition of Shakespeare’s plays: In 2 vols. Vol. 2. London: C. Bathurst, 1780. 608 p.
REFERENCES
1. Ashley Leonard. R. N. Authorship and Evidence: A Study of Attribution and the Renaissance Drama Illustrated by the Case of George Peele (1556–1596). Genève: Droz, 1968. 181 p.
2. Chibnall Marjorie. The Empress Matilda: Queen Consort, Queen Mother and Lady of the English. Oxford, UK; Cambridge, Mass., USA: Blackwell, 1992. 227 p.
3. Gal’frid Monmutskij. Istorija brittov. Zhizn’ Merlina. Moscow: Nauka Publ., 1984. 287 p. (in Russian).
4. Supplement to the edition of Shakespeare’s plays: In 2 vols. Vol. 2. London: C. Bathurst, 1780. 608 p.
Historical Narrative of Modernization and Representation of Political Identities in Ottoman-Turkish Literature
Ş. Başlı
Transformation of the Ottoman Empire into a modern nation-state during the late XIX and early XX centuries refers to a long-debated process. Clarified by the motto of creating 'a unified mass with no privileges and social classes’[282]; the official Republican modernization policy stresses uniformity of the young 'nation’ as opposed to the multi-ethnic and multi-religious structure of the imperial society. This motto embraces the nationhood as the main constituent ofidentity at the expense of obliterating the legacy of Ottoman modernization process. It labels the 'nationhood’ as the source of modernization; and implies the existence of a realm outside 'modernity’ to absorb ethnicity; gender, religion and tradition. Rather than conceiving the identity formation as a process of ongoing (re) establishment; the 'modern’ national identity basically grounds itself upon three discursive mechanisms: first; the acknowledgement of the analogy between the political and literary histories of Ottoman-Turkish modernization; secondly; the establishment of the myth of'progress’ and 'development’; and its representation through literary production and criticism; and thirdly; the periodization of literary history in accordance with its political counterpart and dissemination of specific imagery about the very act of literary production.
The historical narrative of XIX century Ottoman society is centered on the political modernization of the empire[283]; and on the analogy between the political reforms of modernization and the transformation of classical Ottoman literature (Divan). The emergence of new literary forms and genres and new aesthetic debates; therefore; seem to be the direct consequences of Empire’s political exposure to the Western influence. The main reason for this analogy was the fact that individual novels such as Akabis Story[284], Felátun Bey and Rakim Efendi[285], The Awakening[286], The Carriage Affair[287], The Fresh or The Kosher?[288] mostly dealt with various aspects and many socio-cultural ambiguities of modernization process. The literary history of the birth of the Ottoman novel is supported by the common assumption that the Ottoman intellectuals highlighted the question of what is the proper model for modernization’ in addition to the identity crises resulted from the wide-ranging transformation of the Ottoman society[289]. XIX century– reforms and modernization movement, which came to the fore by the declaration of the Firman[290], exploited the literary field as the basic domain for consolidating paradigm of'modernity’ in the XIX century Ottoman context. Accordingly, modernization was a transition from one particular 'circle of civilization’[291] to the other, namely from the Eastern to the Western, and these two 'circles’ were mutually exclusive, monolithic entities.
The visible influence of Cartesian dualism in the concept of modernity introduced a specific historical narrative and a certain mode of representing political identities. The former depends on attributing symbolic value to literature as the latter cultivates different binary oppositions like East-West, traditional-modern, old-new, Ottoman-Europe and Ottoman-Turkish Republican. Namik Kemal’s famous criticism in 'Introduction to Celaleddin Harzemshah’[292] to distinguish clearly the 'old’/’traditional’ literature from the 'new’/’modern’ is the essential foundation of conceiving ‘old’ and new' as mutually exclusive entities and of creating a hierarchy between them. He paves the way for opposing Ottoman classical and ‘realist’ literatures against each other on the basis of their aesthetic value. The definition of‘realism’ and positioning Ottoman classical and ‘new’ literatures against each other, therefore, gain prominence from the point of representing political identities in addition to depicting concrete images of the ‘proper against the ‘super modernization models[293]. The duality of figurative narrative structure of Ottoman classical poetry as opposed to the European realism’s literal narrative has a central role in the identification of binary oppositions.
Divan poetry, thus, is equated with Eastern phantasmagoric narrative, lacking the ability of providing an accurate picture of the world. The novel in turn symbolizes Western ability of grasping the world as it is due to positivism[294]. The dualities of poetry-prose (novel), phantasmagoric-realistic, figurative-literal had been established and followed by dualities between the terms of Eastern, Islamic epistemology, tradition, and old versus the terms of Western, scientific epistemology, modern and new. The contrast, for instance, between the ‘old’ poetic style of Ottoman classical literature and the ‘new’ poetic understanding formed under the influence of Western literature, underestimation of their common aesthetic techniques, styles and structures, and their conception as two different aesthetic domains started to underline the ‘progress’ of literary reforms in the XIX century. It was soon identified with the success of political reforms of Tanzimat era, and the critical discourse was dominated by the idea that the field of literary production is the mirror of political conditions. This brings us to the second discursive mechanism, the myth of progress and development, which is strongly tied to the logic of binary oppositions.
The XIX century literary debates on the aesthetic criteria of ‘proper’ literature signify the essential paradigm shift in the field of literary production[295]. Attracting many Ottoman intellectuals, this debate intrinsically became the field of defining social, cultural, political 'modernity' in the Ottoman context[296] through the clarification of aesthetic criteria which separate the 'modern' from the 'traditional', the 'old' from the 'new', the backwardness' from the 'progress'. The discussions on 'the classical literature', the matter of prosody, the content of proper poetry and introduction of fresh concepts such as 'liberty', 'justice' and 'reason' were among the focal points of the 'new Ottoman poetry' debate. Accordingly, the Ottoman classical poetry became the symbol of political backwardness, childishness and underdevelopment of the Empire whereas characteristics of being realistic, mature, and progressive were symbolically equated with the success of Ottoman modernization, i. e. Tanzimat era.
The dualistic paradigm and the myth of 'progress and development' sustained itself in the XX century since binary oppositions between the Ottoman Empire and the Republic as well as the Eastern and the Western, the 'imperial' and the 'national' identities also defined in terms of their representations in literary works and criticism[297]. The birth of the novel in the Ottoman-Turkish context provides an excellent opportunity to explore how the myth of progress and the separation among classical period of the Ottoman Empire, XIX century Ottoman and XX century Republican modernities were distinguished from each other through the utilization of historical narrative of literary progress and modernization. The historical narrative of XIX century Ottoman literary transformation declares The Love Affair between Tal’at and Fitnat to be the 'first novel of European style' novel, The Awakening to be the first 'novel of literary value' and The Carriage Affair to be the first 'realistic and European-like' novel[298]. There is, yet, Akabis Story which was not mentioned in the core texts of literary history although it was the first serialized novel, in Ottoman language written in Armenian script, in historical timetable, in addition to The Forbidden Affair published in 1900 and considered to be the first novel produced by the 'imaginary faculties of a genuine novelist'[299] to bridge the gap between the mere replicas of incapable Ottoman novelists and the genuine talent of a modern novelist, Halit Ziya, who continued his literary endeavor in the Republican period as well[300]. The penetration of Ottoman classical literature, the inability of XIX century novelists to get rid of literary and technical influence of Ottoman classical poetry became the aesthetic criteria of defining an 'authentic' novel based on premises of French realism and of determining the imitative nature of the old/the traditional/the Ottoman/the Eastern against authenticity of the new/the modern/ the Republican/the Westernized novels. It helps to set up strict borders and to stress the differences rather than commonalities between the terms of such series of binary oppositions. Historical narrative of the birth of Ottoman-Turkish novel turns into the basic realm of determining and maintaining political identities of the empire and the young nation-state. This ultimately results in a linear, teleological understanding of history spreading itself between the point of origin (Divan poetry) and the final destination ('authentic' novels of Westernized realism), and furthermore, the myth of progress and development both in the political and literary realms becomes visible.
Historical periodization of the literary and political progress, on the other hand, is of vital importance as it provides the substance which fuels the historical narrative of modernization. The age of 'modern'/ 'new' literature was subdivided into periods, each being identified with the degree of authenticity and achievement, paradigms and purposes of successive periods. The degree of aesthetic achievement and 'authenticity' increases, and the paradigm shifts in consecutive periods. The first period had essentially instrumentalized literary production for the sake of promoting various formulas of'proper' modernization[301]. 'Servet-i Fiinun', was influenced by the 'scientific' education provided in newly established Ottoman military schools of medicine[302], and the purpose was to determine the real cause of social and political backwardness and to show how it must be scientifically dealt with[303]. The 'Fecr-i Atť distinguished itself by claiming the superiority of its aesthetic quality, and declared literary production as a 'personal and a meritorious’ activity[304]. 'Republican Literature’ had similar characteristics, but put a rather strong emphasis on the differences between the backwardness and imitative characteristic of Ottoman versus the genuine progress, the correct understanding and development of the Republican modernizations. The image of the 'novelist’ or the 'intellectual’ fabricated through various novels was important, and differed in each period. The novelist adopted the role of a teacher, a doctor, a sophisticated individual, a political forerunner and a 'modern’ intellectual in consecutive periods. This imagery provided the qualities of the properly 'modernized’ subjects of the Empire and citizens of the young Republic.
* * *
УДК 94(560) + 82(091)
СЕЙДА БАШЛИ. PhD, Доцент, Университет Артуклу Map дин, Мар дин, Турция.
ŞEYDA BAŞLI. PhD, Assistant professor, Mardin Artuklu University, Department of Turkish Language and Literature, Mardin, Turkey.
E-mail: seyda.basli(o)gmail.com
ИСТОРИЧЕСКИЙ НАРРАТИВ МОДЕРНИЗАЦИИ И РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ПОЛИТИЧЕСКИХ ИДЕНТИЧНОСТЕЙ В ОСМАНСКО-ТУРЕЦКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
Процесс превращения Османской империи в современное национальное государство в XX в. связано с многочисленными дискуссиями. Девиз создания «единого народа без привилегий и социальных классов» разъясняет официальную республиканскую политику модернизации, которая подчеркивает однородность молодой «страны» в противоположность многонациональной и мультирелигиозной структуре имперского общества. Этот девиз подразумевает государственность главным элементом идентичности, а наследие Османской империи, достигшей пика модернизации в XIX в., нивелируется. «Государственность» маркируется как источник современной идентичности, что подразумевает существование сферы помимо «современности» (modernity), включающей этническую принадлежность, пол, религию и традицию. Современные дискуссии по множественным современностям (multiple modernities), с другой стороны, сосредотачиваются на взаимодействии между государственностью, этнической принадлежностью, религией и полом, чтобы найти ту точку зрения, которая помогла бы исследователю понять их взаимоотношения. При этом формирование идентичности рассматривается как процесс продолжающихся учреждений и воспроизведений и как сфера постоянного столкновения различных, порой конфликтующих, элементов. Государственность, этническая принадлежность, религия и пол, поэтому уникально разграничивает формирование идентичности друг относительно друга в постоянном процессе преобразования.
В статье мы сконцентрируемся на историографии, осмысляющей османскую и турецкую литературу, с целью критически сравнить различные этапы процессы модернизации и пред-модернизации с точки зрения осмысления таких концепций как «государственность», «этническая принадлежность» и «современность». Обсуждение затрагивает различные периоды, включая первые дипломатические миссии посольства в XVII в. («Sefaretname») вплоть до движения ‘национальной литературы’ в XX столетии. Следовательно, становится возможным проследить отношения между ранними представлениями национального самосознания и стимулировать обсуждение теоретической структуры «множественных современностей» на примере османо-турецкого опыта.
Ключевые слова: османская модернизация; турецкая модернизация; национальное самосознание; множественные современности.
HISTORICAL NARRATIVE OF MODERNIZATION AND REPRESENTATION OF POLITICAL IDENTITIES IN OTTOMAN-TURKISH LITERATURE
Transformation of the Ottoman Empire into a modern nation-state in the 20th century refers to a long-debated process. The motto of creating ‘a unified mass with no privileges and social classes’ clarifies the official Republican modernization policy that stresses uniformity of the young ‘nation’ as opposed to the multi-ethnic and multi-religious structure of the imperial society. This motto embraces the nationhood as the main constituent of identity at the expense of obliterating the legacy of Ottoman modernization process, which reached at its climax in the 19th century. It labels the ‘nationhood’ as the source of modern identity, and implies the existence of a realm outside ‘modernity’ to absorb ethnicity, gender, religion and tradition. The contemporary debate on ‘multiple modernities’, on the other hand, focuses on the interaction between nationhood, ethnicity, religion and gender in order to develop a critical perspective that could understand the relationship among them. It conceives the identity formation as a process of ongoing (re)establishment and as a realm of a constant encounter among various, sometimes conflicting, constituents. Nationhood, ethnicity, religion and gender, therefore, uniquely demarcate the identity formation in relation to each other in a constant process of transformation.
The article would concentrate on the historiography of Ottoman and Turkish literatures to develop a critical comparison between pre– and early modernization processes in terms of their specific conceptualizations of ‘nationhood’, ‘ethnicity’ and ‘modernity’. The discussion would cover various periods beginning from the first embassy legations (‘Sefaretname’s) in the 17th century up to the 20th century literary movement of‘national literature’. It would be possible, hence, to trace the relationship between pre– and early representations of national identity, and to stimulate a discussion on the theoretical framework of‘multiple modernities’ from the point of Ottoman-Turkish experience.
Keywords: Ottoman modernization; Turkish modernization; national identity; multiple modernities.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ (REFERENCES)
1. Başlı Şeyda. Osmanlı Romanının İmkânları Üzerine. İstanbul: İletişim Yayınları, 2010. 431 s.
2. Çağlar Behçet Kemal. & Çamlıbel Faruk Nafiz. ‘‘10th Year Anthem’’, 1933. URL: ‘‘%C4%B1l_Mar%C5%9F%C4%B1’’. (Date of access: 30.05.2015)
3. Dino Güzin. Tanzimattan Sonra Edebiyatta Gerçekçiliğe Doğru. Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1954. 55 s.
4. Dino Güzin. Türk Romanının Doğuşu. İstanbul: Cem Yayınevi, 1978. 197 s.
5. Ecevit Yildiz. Türk Romanında Postmodernist Açılımlar. İstanbul: İletişim, 2001. 240 s.
6. Ekrem Recaizade Mahmut. Araba Sevdası. İstanbul: İnkılap Kitabevi, 1985 [1890]. 239 s.
7. ‘Fecr-i Ati Edebi Beyannamesi’. ‘‘-i-ati-encumen-i-edebisi-beyannamesi-1909/’’ (Date of access: 30.05.2015)).
8. Finn Robert P. Türk Romanı İlk Dönem, 1872–1900. trans. Tomris Uyar, İstanbul: Agora Kitaplığı, 2003 [published in 1984 in English]. 246 s.
9. Holbrook Victoria R. The Unreadable Shores of Love. Austin, Texas: University of Texas Press, 2003. 233 p.
10. Issı Ahmet Cüneyt. ‘‘Türk Edebiyatının Romanla Tanışması’’, Hece 65/66/67 (2002). S. 16–20.
11. Kemal Namik. Bahar-ı Daniş Mukaddemesi. Önertoy, 1987. 56 S.
12. Kemal Namik. ‘‘Mukaddeme-i Celal’’, in Tanzimat Sonrası Osmanlıca Metinler, ed. O. Önertoy. Ankara: DTCF Yayınları, 1987. 96 S.
13. Kemal Namik. The Awakening. Ankara: Akçağ Yayınları,1997 [1876].
14. Mardin Şerif. Jön Türklerin Siyasi Fikirleri 1895–1908. İstanbul: İletişim Yayınevi, 1992. 330 s.
15. Mardin Şerif. ‘‘Tanzimat’tan Sonra Aşırı Batılılaşma’’, Türk Modernleşmesi Makaleler 4, ed. Mardin Şerif. İstanbul: İletişim Yayınları, 2003 [1991].
16. Mithat Ahmet. Felâtun Bey and Râkım Efendi / ed. T. Şimşek. Ankara: Akçağ Yayınları, 1998 [1876]. 223 s.
17. Moran Berna. Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış. İstanbul: İletişim Yayınları, 2004. 256 s.
18. Murad Mehmet. Turfanda mı yoksa Turfa mı? İstanbul: Pariti Yayınları, 2004 [1891]. 319 s.
19. Tanpınar Ahmet Hamdi. XIX. Asır Türk Edebiyatı Tarihi. İstanbul: Çağlayan Kitabevi,2001. 637 s.
20. Tanpınar Ahmet Hamdi. ‘‘Roman ve Romancıya Dair Notlar I’’ in Edebiyat Üzerine Makaleler. İstanbul: Dergah Yayınları, 2000 [1969]. S. 65–68.
21. ‘‘Tanzimat Firman’’. (Date of access: 30.05.2015).
22. Vartan Pasha. Akabi Hikayesi İlk Türkçe Roman, ed. Andreas Tietze. İstanbul: Eren Yayıncılık ve Kitapçılık, 1991. [1851]. 152 s.
Формирование современного ирландского национального героя в общественном сознании
Джафарова И. Н.
Формирование положительных и отрицательных образов в общественном сознании через газетные материалы играло огромную роль в привлечении масс на ту или иную сторону. В случае Ирландии времен Гражданской войны (1922–1923 гг.) особенно показательным является пример председателя Временного Правительства и главнокомандующего ирландской национальной армией Майкла Коллинза (1890–1922 гг.). Он стал необычайно популярным в тот момент, когда страна остро нуждалась в национальном герое: в способном государственном деятеле, храбром генерале. А внезапная смерть Коллинза в засаде у Белнабла 22 августа 1922 г. на пике его популярности лишь сделала его героизацию еще более заметной.
За последние 90 лет в ирландской историографии сформировался обширный пласт работ, посвященных этому ирландскому деятелю. В отношении смерти М. Коллинза исследователи долгое время ограничивались поиском виновных и реконструкцией событий засады у Белнабла[305]. Однако, в рамках данной темы, более интересной задачей представляется воссоздание панорамного взгляда на личность М. Коллинза и события в Ирландии на основе изучения образа, созданного прессой после его смерти. Используя в качестве первоисточника газетные материалы как центральных (например, «Фриманс Джорнал», «Айриш Индепендент») и региональных ирландских газет (Коннахт Телеграф», Донегал Ньюс»), так и британских газет («Йоркшир Пост», «Спектейтор»), можно выделить несколько направлений формирования из личности М. Коллинза ирландского национального героя. Хронологические рамки данного исследования ограничены первым месяцем (август-сентябрь 1922 г.) после смерти Коллинза.
Стоит отметить, что реальный жизненный путь Майкла Коллинза сам по себе был благодатной основой для создания газетами романтического образа командира, вышедшего из простых ирландцев, добившегося высоких постов и уважения в своей стране и за ее пределами. Почти в каждой газете после его смерти публиковалась краткая биография, где отмечался его вклад в дело независимости Ирландии в качестве министра финансов, председателя Временного Правительства, военного руководителя.
Газеты были единоглоасны в восприятии личности Майкла Коллинза и оценке его потери как величайшей трагедии для страны. На фоне того, что десятью днями ранее умер президент Дойл Эрен Артур Гриффит, смерть следующего по важности государственного деятеля стала настоящим шоком для всей Ирландии. Средства массовой информации постоянно делали акцент на чистоте ирландской крови убитого лидера, в отличие от которого его политические оппоненты даже не являлись ирландцами, управляя при этом всеми, словно марионетками[306]. Все это выгодно оттеняло сторонников Коллинза и Временного Правительства в Гражданской войне с республиканцами. Благодаря интервью политиков и публицистов[307] в газетах создавался положительный политический облик Коллинза, а тот факт, что с него писались посмертные картины, навряду с расположением его могилы на кладбище Гласневин, являющемся основным местом захоронения общественных деятелей националистического толка с 1832 г., помещал его в ряд с другими великими ирландскими деятелями[308].
Коллинза выделяла высокая степень лояльности к нему среди ирландцев, их поддержка. Его любили публика и газеты, так как он был «человеком, выигравшим войну». Такая любовь и поддержка наглядно видны в небывалой для Дублина массовой похоронной процессии, фотографии которой разошлись по всем региональным изданиям. При этом стоит учесть, что за последнее десятилетие такие церемонии не были редкими для Ирландии. Поддержка видна и на примере многочисленных интервью рядовых ирландцев из разных регионов. Они остались под впечатлением после появления заголовков «Трагическая случайность»[309] и «Величайший и храбрейший»[310], которые
облетели весь остров. Газеты показывали, что простые ирландцы очень эмоционально восприняли эту новость: «Учителя женской школы в графстве Голуэй расплакались. Было страстное негодование и горечь духа, какие редко бывают в жизни»[311]. В интервью родственников[312] Коллинз был представлен как простой человек, один из ирландцев, погибших в Гражданской войне, семье которого нужно посочувствовать. Через такие статьи передавалась не столько информация, по сути своей незначительная, сколько определенный эмоциональный настрой, необходимый для положительного восприятия личности Коллинза и его приемников. Еще более трагичным для народа стало осознание того, что лидер государства был убит своими же собратьями в засаде у Белнабла, в своем родном графстве Корк.
Другой громкий заголовок затрагивал религиозные чувства ирландцев: «Его последние слова “Простите их”»[313]. Если не принимать во внимание несовместимость ранения Коллинза с возможностью сказать последние слова, то в отношении создания положительного образа главнокомандующего этот факт сыграл не последнюю роль. Образ, созданный газетами, должен был заставить читателей воспринимать эти слова Коллинза как акт христианского прощения его оппонентов в войне. Поездка Коллинза с небольшой охраной в Корк воспринималась как пренебрежение собственной безопасностью ради примирения с мятежными отрядами ИРА. Неудивительно, что подобные факты восполняли общественную потребность в образе героя, способного на самопожертвование ради общезначимой цели – мира. Более того, основной эффект от этих заголовков должны были почувствовать на себе военные, которые могли проникнуться желанием мстить своим же соотечественникам за убийство их лидера.
В связи с тем, что, на момент смерти, М. Коллинз являлся, в первую очередь, главнокомандующим Национальной Армии, необходимо учитывать силу эффекта, произведенного смертью лидера и оказаашего влияние на военных. Во-первых, у военнослужащих с главнокомандующим существовала некая внутренняя эмоциональная связь. Для военных Коллинз был первым среди равных: в одном из интервью офицером, находящемся под его подчинением утверждалось, что «он любил каждого солдата в наших рядах, он был человеком на миллион»[314]. Смерть командира стала тяжелым ударом, особенно для военных из его близкого окружения, которые испытывали чувство коллективной вины. Во-вторых, тот факт, что офицеры генштаба не смогли защитить своего командира, снижал веру в силу Национальной Армии как среди военных, так и гражданских. В-третьих, постоянные сообщения в газетах о смертях как простых ирландцев, так и руководителей государства, вкупе с разрушениями дорог, мостов, ж/д полотна подрывали боевой дух вооруженных сил Свободного Государства.
Начальник штаба Ричард Малкахи призывал служащих в армии сохранять спокойствие и соблюдать дисциплину, не предпринимая никаких действий, которые можно было бы расценить как репрессии. Малкахи делал акцент на том, что все они, и, в первую очередь, – он сам, защитники Ирландского Свободного Государства, во многом теперь – наследники Коллинза, «его яркой силы, нрава, его блестящей храбрости»[315], Все это создавало некую преемственность, что делало вполне закономерным скорое назначение генерала Р. Малкахи на пост главнокомандующего Национальной Армии в качестве преемника[316]. Весь следующий месяц в ирландских газетах активно писали о нем как об одном из самых достойных стать заменой Коллинзу, о том, что они оба являются такими людьми, которые делают все возможное для блага Ирландии[317]. Такие заявления показывали, насколько армия созданного ирландского государства была слаба и зависима от сильного лидера в лице Коллинза. Газеты же старались создать такой образ положения дел, при котором был бы максимально сохранен боевой дух военных. Вкупе с восхвалениями Коллинза как командира, сыпались обвинения на Иррегулярных (вооруженные формирования противников Временного Правительства – республиканцев) в безрассудном поведении[318].
Таким образом, благодаря газетам в общественном сознании был подведен итог жизни Коллинза. Симпатизирующие Временному Правительству ирландские издания создавали положительный облик Коллинза, представляя его с разных сторон: политик, гражданин, католик, военный. Он стал источником вдохновения для своих соотечественников и опроверг широкое мнение британцев о неспособности ирландцев управлять собственной страной. Смерть М. Коллинза ослабила позиции Временного Правительства[319] в Гражданской войне и продемонстрировала всем государственным институтам тот вред, который могла бы нанести стране партизанская кампания их противников. Эти положительные оценки были необходимы новому руководству Ирландского Свободного Государства для укрепления власти, что внесло свою лепту в дело сплочения ирландцев вокруг сторонников Англо-Ирландского Договора, которые в дальнейшем смогли одержать победу в Гражданской войне.
В последующие годы, из-за изменчивости политической обстановки в стране, изменялось и отношение к М. Коллинзу, представляемое в газетах. С приходом к власти оппонентов Коллинза по Гражданской войне (Фианна Файл) в конце 1930-х гг. его репутация начала страдать. В газетах 1940–1950 гг. о М. Коллинзе упоминалось лишь раз в год в связи с годовщиной его смерти[320]; новые поколения ирландцев даже не знали о таком человеке. Так, например, историки Т. П. Кутан и Т. Р. Дуайер признавались, что во времена их детства (1940–1950 гг.) существовало табу на имя М. Коллинза[321], что подтверждается отсутствием каких-либо упоминаний о нем в газетах. Следовательно, положительный образ, созданный в 1920-х гг. под напором неудобных для современной власти фактов, просто начал исключаться из общественного сознания. И, пока политические деятели, участвовавшие в Гражданской войне, оставались у власти, увидеть более объективный взгляд на Коллинза не представлялось возможным. В 1970-х гг. с уходом политических деятелей, участвовавших в Гражданской войне иявлявщихся оппонентами М. Коллинза, его образ был реабилитирован. В эти последние 40 лет, когда идеологические разногласия Гражданской войны затихли, среди ирландцев сложилась стойкая оценка М. Коллинза как национального героя[322], в основу чего легло ранее рассмотренное его восприятие, сложившееся после его смерти и отраженное в газетах. Таким образом, сложившийся еще в 1922 г. героический образ Коллинза стал не только популярной частью истории современной Ирландии, но и частью национального самосознания каждого ирландца.
* * *
УДК 94(417)+ 070.15
ДЖАФАРОВА ИРИНА НАДЫРОВНА. Аспирант, Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова, Ярославль.
IRINA DZHAFAROVA. Postgraduate Student, Р. G. Demidov Yaroslavl State University, Yaroslavl.
E-mail: djafarova.irina(a)gmail.com
ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОГО ИРЛАНДСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ГЕРОЯ В ОБЩЕСТВЕННОМ СОЗНАНИИ
Формирование положительных и отрицательных образов в сознании народа через газетные материалы играло огромную роль в привлечении масс на ту или иную сторону. В случае Ирландии времен Гражданской войны (1922–1923 гг.) особенно показательным является пример председателя Временного Правительства Майкла Коллинза (1890–1922 гг.). Он стал необычайно популярным в тот момент, когда страна остро нуждалась в национальном герое: в способном государственном деятеле, храбром генерале. А внезапная смерть Коллинза в засаде у Белнабла на пике его популярности лишь сделала его героизацию еще более заметной.
Сам жизненный путь Майкла Коллинза был благодатной основой для создания газетами романтического образа командира, вышедшего из простых ирландцев, добившегося высоких постов и уважения в своей стране и за ее пределами. Он стал источником вдохновения для своих соотечественников и опроверг широко распространенное мнение британцев о неспособности ирландцев к управлению собственной страной. Газеты и после его смерти поработали над положительным образом Коллинза.
В последующее время из-за изменчивой политической обстановки в стране изменялось и отношение представляемое в газетах к Коллинзу. С приходом к власти противников Коллинза по Гражданской войне (Фианна Файл) его репутация пострадала, так как в их глазах он был предателем революции и республики, а при правлении сторонников Коллинза (Фине Гэл) его образ был реабилитирован. В последние десятилетия, когда идеологические разногласия Гражданской войны затихли, слодилась стойкая оценка Коллинза как национального героя.
По мнению историков, Майкл Коллинз является единственной политической и военной фигурой времен Первой мировой войны, которая сохранила свою популярность в Европе. Это отражено в посвященных его личности статьях в современной ирландской прессе, биографиях, кинематографе, даже в изображениях его на плакатах, именным виски, в ежегодном чествовании в день его смерти. Таким образом, сложившийся героический образ Коллинза стал не только популярной частью истории независимой Ирландии, но и частью национального самосознания каждого ирландца.
Ключевые слова: Майкл Коллинз; Ирландская Гражданская война; ирландские газеты; национальный герой.
FORMATION OF THE MODERN IRISH NATIONAL HERO IN THE PUBLIC CONSCIOUSNESS
The formation of positive and negative images in the minds of people by means of the materials of the newspapers played a huge role in attracting the masses to one side or another. In the case of Ireland during the Civil War (1922–1923) the figure of the Chairman of the Provisional Government, Michael Collins (1890–1922), is an illustrative example. He became enormously popular in the moment when the country was in dire need of a national hero: a capable statesman, brave general. An unexpected death in an ambush in Collins Béal na Bláth (County Cork) at the height of his popularity only made his glorification even more pronounced.
The life path of Michael Collins was a fertile basis for creating the romantic image of the commander who was of common Irish background and achieved high positions and respect at home and abroad. He became a source of inspiration for his countrymen and refuted the widespread British opinion about the inability of the Irish to govern their own country. The newspapers worked on a positive image of Collins after his death.
In the subsequent time due to volatile political situation in the country, attitude towards Collins, represented in the newspapers, changed. Upon Collins’s opponents in the Civil War (Fianna Fail) coming to power, his reputation suffered as he was deemed a traitor of the Revolution and the Republic, according to them, whereas during the reign of Collins’ supporters (Fine Gael) he was rehabilitated. In the last decade, in which the ideological differences of the Civil War died out, the firm perception of Collins as a national hero was established.
According to the historians, Michael Collins is the only political and military figure of the First World War, who has retained its popularity in Europe. This is reflected in the articles dedicated to his personality in modern Irish press, biography, filmography, even in his images on posters, in the name of whiskey, in the annual commemoration of the day of his death. Thus, the prevailing heroic image of Collins became not only a popular part of the history of independent Ireland, but also a part of national identity of every Irishman.
Keywords: Michael Collins; Irish Civil War; Irish newspapers; national hero.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ (REFERENCES)
1. Anglo-Celt. August 26, 1922. 10 p.
2. Coogan Tim Pat. Michael Collins: The Man Who Made Ireland. New York: Roberts Rinehart Publishers, 1996. 480 p.
3. Connacht Tribune. August 26, 1922. 8 p.
4. Connacht Tribune. September 9, 1922. 8 p.
5. Dwyer T. Ryle. Michael Collins and the Civil War. Cork: Mercier Press, 2012. 320 p.
6. Feehan John. M. The Shooting of Michael Collins: Murder Or Accident? Ballinlough, Cork: Royal Carbery Books, 1991. 138 p.
7. Freemans Journal. August 24, 1922. 12 p.
8. Freemans Journal. September 7, 1922. 12 p.
9. Irish Independent. August 25, 1922. 14 p.
10. Irish Independent. September 7, 1922. 16 p.
11. Irish Independent. August 21, 1939. 16 p.
12. Irish Independent. August 26, 1940. 16 p.
13. Irish Independent. March 1, 1990. 14 p.
14. Kilkenny People. August 24, 1958. 8 p.
15. Nenagh Guardian. September 2, 1922. 8 p.
16. Southern Star. September 9, 1922. 10 p.
17. Southern Star. August 31, 2013. 10 p.
18. Spectator. August 25, 1922. 32 p.
19. Weekly Irish Times. August 26, 1922. 12 p.
20. Yorkshire Post and Leeds Intelligencer. August 24, 1922. 12 p.
Образ Т. Г. Шевченко в украинской национальной мифологии
Баринов И. И.
Эпоха европейского Модерна характеризовалась рядом феноменов, в том числе «пробуждением» национального сознания большинства народов Европы. Исключение не составляли и предки современных украинцев. Подобные перемены поставили перед частью малороссийских и галицийских интеллектуалов проблему структурирования национального сознания. В качестве его конституирующего стержня были задействованы различные методы, в том числе обращение к романтизированному прошлому в рамках истории, традиций, фольклора, которые, будучи пропущенными через призму художественной культуры, превращались в национальные мифы. Этот принцип оформления национальной идеологии был достаточно распространен в Европе как рассматриваемого времени, так и более раннего периода.
Другой проблемой для украинофилов стал подбор той личности, которая была бы одинаково хорошо знакома и уроженцам Галиции, и выходцам из малороссийских губерний России. Примером такого выбора стал украинский поэт Тарас Шевченко. За достаточно короткий срок этот деятель искусств превратился в один из центральных образов национальной идеологии, сыгравших свою роль как в определении поля идентичности, так и в маркировании образа «Враг/Чужой».
Специалист по украинской литературе Екатерина Байдалова справедливо заметила, что жизнеописание Шевченко представляет собой яркий пример «аксиологически актуализованной рецепции биографии»[323]. Действительно, в различных традициях поэт наделяется неотчуждаемым набором качеств (в советское время – качествами борца «против царизма», в националистическом дискурсе – «против москалей»). Относительно его личности до сих пор идут неутихающие дебаты, из-за чего может показаться, что существует две жизни Шевченко – как реального человека, и как метафизического образа, который в зависимости от ситуации наполняется разными смыслами, порой противоположными. К примеру, сразу же после ранней смерти Шевченко (поэту было всего 47 лет), его образ начал наделяться романтизированными эпитетами. Так, появившиеся в скором времени его биографии за авторством Леонарда Совиньского (1861) и Гвидо Баттальи (1865) характеризовали Шевченко как «путеводную звезду Украины», которая теперь «руководствуется его идеей», идеей автора, обратившего на себя «внимание всего славянского мира»[324].
В этой связи следует выяснить, насколько перцепции шевченковской биографии соотносятся с реальными фактами его жизни, ставшими некоей основой для создания вышеозначенного образа поэта. Здесь можно выделить несколько ключевых моментов.
Во-первых, основные представители литературы, которую мы привыкли обозначать как украинскую, являлись выходцами из помещичьих семей – наследников казацких старшин, – в число которых входят как современники Шевченко, так и люди старшего поколения: Котляревский, Квитка-Основьяненко, Гоголь, Гребёнка. Их представления складывались на стыке существовавших в то время великоросских и малороссийских реалий. Так, Гоголь и Гребёнка окончили Нежинский лицей, аналогичный пушкинскому Царскосельскому; Котляревский учился в духовной семинарии и был хорошо знаком с русской и латинской книжностью. Окружавшая их малоросская действительность, которую они затем воспроизводили в своих произведениях, носила скорее черты рустикальной экзотики и фольклорной романтики. Из-за указанной специфики эта рефлексия порой носила вторичный характер: литературоведы отмечают, что Гоголь переосмыслял Малороссию через романтические категории, уже употреблявшиеся ранее у русских авторов[325]. Известный украинский литературный критик того времени Пантелеймон Кулиш писал об «Энеиде» Котляревского как о неком бурлеске, пародии на украинскую жизнь[326].
Шевченко же происходил из крепостной семьи, учился грамоте у местного сельского священника и в дальнейшем был самоучкой. Та идентичность, в рамках которой формировался будущий поэт, помимо крестьянской специфики перекликалась с фольклорным наследием о казачьей Украине и, соответственно, с мифами о казаках как носителях демократии, свободолюбивых пахарях-воинах. Среда, в которой рос Шевченко, была для него смыслом существования: еще при жизни поэта, в 1860 г., журнал «Отечественные записки» подчёркивал, что для Гоголя описание Малороссии – художественный приём, тогда как для Шевченко – его стихия[327].
Во-вторых, указанные представители украинской литературы были, с одной стороны, тесно связаны с Россией, с другой – по-прежнему соотносились с малоросской действительностью. Это положение выразилось в знаменитой фразе Гоголя о том, что он не отдавал предпочтения «ни малороссиянину перед русским, ни русскому перед малороссиянином». Шевченко же обрушивался с критикой на представителей элиты, так и не определившихся со своей великорусской или малороссийской идентичностью[328], относя себя к украинцам, то есть, в данном значении, к тем, кто не принял ни ассимиляции, ни компромисса в виде «малороссийства». Как считает Юрий Барабаш, один из наиболее видных шевченковедов, ключевой структуро– и смыслообразующей единицей творчества Шевченко являлась бинарная оппозиция: к примеру, «паны – люди», «девушка – москаль-соблазнитель», «казак – свинопас», «украинское – малороссийское»[329].
Примечательно, что эти мифопоэтические структуры включали в себя различные мифологические элементы. Среди них вычленялись и элементы казачьего наследия (как источника сильнейшей традиции национальной романтики), и экспрессия Святого Писания, которая придавала размышлениям Шевченко мессианские черты. Хотя Кулиш именует поэта первым историком Украины, здесь речь идет не об историографии, которая опирается на факты и причинно-следственные связи, а об историософии. Она представляет историю как сакральное и мистическое знание, личное духовное переживание. Сами по себе факты имеют смысл только в том случае, если заключают в себе что-то экзистенциальное. По мнению Барабаша, Украина для Шевченко выступает как «парадигмальное понятие», в котором сконцентрирована сущность его мировидения, а также «онтологический феномен» и «конечный пункт эмоциональной рефлексии»[330]. Топос Украины вписывается в мировую историю, в том числе в ее библейской версии, и реалии, связанные с Украиной, сакрализуются через сплавление народных мифов с реальными событиями[331].
Для зарождавшегося украинского национального движения творчество Шевченко оказалось подобно откровению. После смерти поэта его имя было окутано символическим ореолом, важное место в котором занимала его могила в Каневе близ Киева. Как отмечает Дженни Альварт, современный немецкий исследователь биографии и творчества Шевченко, формирование механизма почитания национального героя в украинском случае было схоже с болгарским поэтом Василом Левским. Обнаружение могилы Левского и вовлечение его личности в общенациональной дискурс автор соотносит с образом могилы Шевченко[332]. Важно отметить, что речь здесь идет не столько о реальной, сколько метафоричной могиле из знаменитого стихотворения «Заповiт», где Шевченко просит похоронить себя «серед степу широкого, на Вкраїні милій». Продолжая оценивать место Шевченко в складывающейся национальной мифологии, Альварт выделяет концепт литературы как посредника в создании дискурсов памяти, когда она воспринимает внетекстуальную действительность и облекает ее в свой контекст. По словам исследователя, литературные тексты способны производить мир смыслов, формируя некую виртуальную реальность, которая, в свою очередь, способна катализировать определенные версии прошлого в коллективной памяти[333].
С 1880-х гг. имя Шевченко и его произведения прочно входят в политические практики украинского национального движения. Названное в его честь научное общество стало своего рода символом единения областей будущей Украины, в то время еще находившихся в составе разных государств. Постепенно формировались эпитеты по отношению к Шевченко, остающиеся неизменными вот уже сто лет. Так, в 1915 г. активист национального движения Лонгин Цегельский в статье «Тарас Шевченко как национальное знамя» сравнивал «барда и пророка украинского народа» с Гомером и Моисеем, подчеркивал значение поэзии Шевченко, которая «пробуждает картины родины» для новых поколений украинцев[334]. В 2010 г. социологические опросы на Украине показали, что 97,7 % населения страны относятся к Шевченко позитивно. На этом фоне украинский писатель и публицист Юрий Андрухович назвал поэта «нашим всем», подчеркивая его значение как общенационального, а не только украинского, символа[335]. При этом Шевченко по-прежнему наделялся такими характеристиками, как «отец» и «спаситель» нации, «гарант государственности»[336].
Мы можем наблюдать, как на основе историософских суждений, которые абсорбирует художественная литература, может конституироваться важная часть национальной мифологии. В случае с Украиной этот процесс институализируется в виде рефлексии произведений Тараса Шевченко и образа самого поэта в соответствующем вышеописанном ключе.
* * *
УДК 94(477)
БАРИНОВ ИГОРЬ ИГОРЕВИЧ. К. и. н., старший научный сотрудник, Институт международных отношений РАН, Москва.
IGOR BARINOV. PhD, Senior Research Associate, Ilnstitute of World Economics and International Relations of the Russian Academy of the Sciences, Moscow.
E-mail: barinovnoble(S)gmail.com
ОБРАЗ Т. Г. ШЕВЧЕНКО В УКРАИНСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ МИФОЛОГИИ
Эпоха европейского Модерна характеризовалась рядом феноменов, в том числе «пробуждением» национального сознания большинства народов Европы. Исключение не составляли и предки современных украинцев. Подобные перемены поставили перед частью малороссийских и галицийских интеллектуалов проблему структурирования национального сознания. В качестве его конституирующего стержня были задействованы различные методы, в том числе обращение к романтизированному прошлому в рамках истории, традиций, фольклора, которые, будучи пропущенными через призму художественной культуры, превращались в национальные мифы. Этот принцип оформления национальной идеологии был достаточно распространен в Европе как рассматриваемого времени, так и более раннего периода.
Другой проблемой для украинофилов стал подбор той личности, которая была бы одинаково хорошо знакома и уроженцам Галиции, и выходцам из малороссийских губерний России. Примером такого выбора стал выдающийся украинский поэт Тарас Шевченко. За достаточно короткий срок этот деятель искусств превратился в один из центральных образов национальной идеологии, сыгравших свою роль как в определении поля идентичности, так и в маркировании образа «Врага/Чужой».
Ключевые слова: Тарас Шевченко; Украина; национальная мифология; поля идентичности.
THE IMAGE OF Т. G. SHEVCHENKO IN THE UKRAINIAN NATIONAL MYTHOLOGY
A number of phenomena, including the «awakening» of the national consciousness in Europe and «constructing» of nations, characterizes the era of European Modernity. The ancestors of modern Ukrainians were also involved in this process, so intellectuals from Little Russia and Galicia faced the problem of «nation building». Different methods were used as its linchpin such as reference to the romanticized past in the framework of history, traditions, folklore. Having come through the perspective of artistic culture, they turned into national myths. Such a prinicple of the formation of the national ideology was widespread during the period in question as well as prior to it.
Another problem of the Ukrainophiles was the choice of a person, who would have been equally familiar both to the natives of Galicia, and to the people from the Little Russian provinces of Russian Empire. An outstanding Ukrainian poet Taras Shevchenko was the example of such a choice. In a sufficiently short time period this man of art had become one of the central characters of the national ideology and played a major role both in determining the «field of identity», and in marking the image «Enemy/Alien».
Keywords: Taras Shevchenko; Ukraine; national mythology; the fields of identity.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Байдалова Е. В. «Лицом к лицу лица не увидать?» Исследования жизни и творчества Тараса Григорьевича Шевченко // Славяноведение. 2014. № 6. С. 70–74.
2. Барабаш Ю. Я. Т. Г. Шевченко. Семантика и структура поэтического текста. М.: ИМЛИ РАН, 2011. 432 с.
3. Задорожнюк Э. Г. Тарас Григорьевич Шевченко и идея славянского единения // Славяноведение. 2014. № 6. С. 58–69.
4. Петров Н. И. Очерки истории украинской литературы XVIII века. Киев: Типография Корчакъ-Новицкаго, 1884. 152 с.
5. Проза Гоголя. Поэтика нарратива / отв. ред. В. М. Маркович. СПб: Изд. дом Санкт-Петербургского гос. ун-та, 2011. 218 с.
6. Русские об Украине и украинцах / отв. ред. Е. Ю. Борисёнок. СПб: Алетейя, 2012. 454 с.
7. Alwart J. Mit Taras Sevčenko Staatmachen. Erinnerungskultur und Geschichtspolitik in der Ukraine vor und nach 1991. Kóln: Bóhlau Kóln, 2012. 248 s.
8. Battaglia G. Taras Szewczenko, žycie i pismajego. Lwów: Nákladem redakcji «Tygodnika naukowego», 1865. 57 s.
9. Cehelskyj L. Taras Schewtschenko ais nationales Banner // Ukrainische Nachrichten. 1915. № 25. s. 2–3.
REFERENCES
1. Alwart Jenny. Mit Taras Sevčenko Staatmachen. Erinnerungskultur und Geschichtspolitik in der Ukraine vor und nach 1991. Kóln: Bóhlau Kóln, 2012. 248 s.
2. Bajdalova Ekaterina. “«Licom k licu lica ne uvidať?» Issledovanija zhizni i tvorchestva Tarasa Grigor’evicha Shevchenko”, Slavjanovedenie 6 (2014). P. 70–74. (in Russian).
3. Barabash Jurij. T.G. Shevchenko. Sémantika i struktura pojeticheskogo teksta. Moscow: IMLI RAN Publ, 2011.432 p. (in Russian).
4. Battaglia Gwido. Taras Szewczenko>, žycie i pismajego. Lwów: Nakladeni redakcji «Tygodnika naukowego», 1865. 57 s.
5. Cehelskyj Lonhyn. “Taras Schewtschenko als nationales Banner”, Ukrainische Nachrichten 25 (1915). s. 2–3.
6. Petrov Nikolaj. Ocherki istorii ukrainskoj literatury XVIII veka. Kiev: Tipografija Korchak-Novickago Publ., 1884. 152 p.(in Russian).
7. Proza Gogolja. Pojetika narrativa, ed. Vladimir Markovich. Saint Petersburg: Izdatel’skij dom Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo universiteta Publ., 2011. 218 p. (in Russian).
8. Russkie oh Ukraine i ukraincah, ed. Elena Borisjonok. Saint Petersburg: Aletejja, 2012.454 p. (in Russian).
9. Zadorozhnjuk Jella. “Taras Grigor’evich Shevchenko i ideja slavjanskogo edinenija”, Slavjanovedenie 6 (2014). P. 58–69. (in Russian).
Образы прошлого ойротов (алтайцев) в советском общественно-политическом дискурсе 1930-х гг.[337]
Самушкина Е. В.
Одной из важных проблем современного дискурса является анализ механизмов формирования исторической памяти человеческих сообществ и ее символов[338]. В момент революций, перехода от одного типа общества к другому можно наблюдать процесс выстраивания новой символической системы, мемориальным образам которого присваиваются официальные представления о значении государства, нации.
1 июня 1921 г. ВЦИК принял постановление об образовании Ойротской автономной области. Советской власти было необходимо создать собственные революционные ритуалы и символы. Подтверждение своей легитимности советская власть искала в традициях, освященных временем. Новой властью предлагалась также отличная от традиционной версия исторического процесса, в которой главной идеей было противопоставление старого и нового мира. Так, в статье директора Институа национальностей при ЦИК СССР С. М. Диманштейна, редактора журнала «Революция и национальности», определяются задачи историков-марксистов. Согласно партийному деятелю, история представляет огромный интерес, так как именно в ней черпаются примеры классовых столкновений, и на основе их анализа делаются выводы, необходимые для современной политической жизни[339]. По мысли партийного лидера, наряду с общей концепцией Истории СССР, необходимо создание национальной истории краев и областей. Предполагалось сформировать у молодого поколения национальных окраин единое видение исторического процесса посредством выделения реперных точек истории, к которым были отнесены революционные восстания народов против царизма и «помещичье-буржуазной верхушки», братские взаимоотношения между трудящими различных национальностей, а также сведения о национально-освободительном движении народов СССР. Особенно ярко в учебниках истории предполагалось показать образы Ленина и Сталина[340].
Видение исторических процессов, сложившееся в Центре, транслировалось местными партийными функционерами, научной и творческой интеллигенцией. Дореволюционная история Ойротии представлялась временем упадка и деградации. Появлялись статьи, в которых авторы воспевали революцию, противопоставляя ее темному безвременью царской власти. Согласно публикациям, алтайский народ оказался на грани гибели в результате царской колонизации. Так, в газете «Красная Ойротия» было напечатано выступление на ноябрьском пленуме обкома ВКП(б) Секретаря Западно-Сибирского крайкома ВКП(б) Р. И. Эйхе, посвященное прошлому трудящихся в дореволюционной Ойротии. В речи своего выступления советский партийный работник подвергает критике картины родового быта. С позиций марксизма-ленинизма он размышляет о классовом расслоении в регионе, подчиненном положении автохтонного населения: «Тот, кто рисует прошлое Ойротии как какую-то сельскую идиллию, как национальное согласие, как равенство и единство интересов трудящихся и баев в прежней Ойротии, – тот враг трудящихся Ойротии… Эти басенки – специальная дымовая завеса, чтобы спрятать от трудящихся звериное лицо эксплуататоров. Каждый, кто хоть немного интересуется экономическим и политическим прошлым Ойротии, найдет богатейший материал о неслыханной эксплуатации, которую испытывали на своей спине трудящиеся Ойротии, о классовом расслоении среди алтайцев»[341].
В Ойротии, осознавая реальную конкуренцию со стороны института родовых старейшин, на уровне общественно-политического и научного дискурсов попытались его дискредитировать, рассмотрев этот феномен через призму классовой теории. Родовые старейшины – зайсаны – представлялись проводниками царской колониальной политики, угнетателями народных масс. Полемизируя с областниками, отдельными представителями советской науки, историк Л. П. Потапов отмечал, что мысль о солидарности внутри рода, внушаемая со стороны старейшин рядовым алтайцам, задерживает развитие классового самосознания. Среди неблагоприятных политических последствий исследователь отмечает распространяемую в общественном дискурсе идею о связи успехов коллективизации с ценностями взаимопомощи, приобретенными в результате деятельности данного института[342].
Еще одним символом уходящего мира становится кочевой образ жизни этнических групп советского союза. В журнале «Революция и национальности» за 1932 г. появляется программная статья «Оседание – важнейший этап ликвидации национального неравенства». По мнению автора, переход от кочевой жизни к оседлой является одной из важнейших мер в области национально строительства во многих республиках, показателем ленинской политики в области ликвидации неравенства. Отмечается, что, проводя идею об особом хозяйственно-бытовом укладе, местные националисты пытаются тем самым сохранить социальное неравенство, препятствовать прогрессивному развитию этнических культур[343].
Одной из центральных категорий, используемых для описания периода революции и гражданской войны, является понятие «труд». На первый план при описании различных сфер жизни выходит представление о преобразующей деятельности, в том числе в области фольклора и истории. Главным становится не изучение или интерпретация фактов, а конструирование новой реальности, в том числе и образов прошлого. В газете «Красная Ойротия» за 1933–1937 гг. неоднократно печатаются рассказы простых алтайцев из различных районов. Содержание этих текстов практически идентично. Начинаются повествования с описаний тяжелой жизни полной лишений дедов и отцов, самого героя до революции, затем переход – к счастливой жизни под руководством советской власти, полной трудовых свершений, надеждой на светлое будущее в братской семье народов, заканчиваются письма демонстрацией готовности защищать сложившийся строй от внутренних и внешних врагов[344].
Наряду с политизированными текстами, клеймящими классовых врагов, появляются нарративы, посвященные трансформации культуры автохтонного населения, в которых описывается переход от старой жизни язычника-алтайца, влачившего свое существование в темноте в прямом и переносном смысле, к новой жизни в советском обществе: «Все дальше и дальше – к белкам – уходят дымные юрты, чтоб уйти, наконец, в предание… В цветисто-гортанную речь все чаще и чаще вплетается крепкое, русское слово… Все больше меж юрт голубелось крестов. А теперь, когда зык красный звенит над Алтаем, когда воюют красное знамя с бубном шаманьим – скоро, скоро это время будет, когда из нежно-гортанных песен навсегда уйдут азиатская лень и безысходная тоска. Не закачаемся под хрип топшура в конусной юрте, где старый алтаец тянет всю ночь ветхую сказку. Тянет длинную, мшалую нитку легенд. Скоро, скоро то время будет, когда неувидиммы намного тоя, не взглянем в глаза лошади, полные боли и слез глаза, раздираемой в жертву Эрлику. Это время – близко. Ибо, как же могут ужиться трактор с шаманом?.. Алтай умрет. И на месте его будет другой, новый, с новым ритмом, новыми мыслями, желаниями. И вот для этого нового – старое надо запомнить! Ради нового надо бросить на бумагу и богов, заплесневевших, как старые сосны, и пьяные песни свадеб, и многое другое»[345].
Отражением культурной памяти этнической группы, по мысли советских литераторов и ученых, является фольклор. Данный жанр становится устной хроникой народной жизни и подменяет историографию в общественно-политическом дискурсе[346].
Исследователь литературы, фольклора и быта Сибири М. К. Азадовский отмечал, что фольклор в дореволюционный период сознательно недооценивали. Это было целенаправленное пренебрежение по отношению к прошлому народа, мешавшее прогрессу исторических и литературоведческих дисциплин. Для советской власти фольклор стал воплощением национальной культуры, одним из элементов культурного строительства. Изменился и статус народного певца, который стал не только объектом изучения специалистов, но и публичной фигурой, удостоился внимания политической элиты. М. К. Азадовский писал: «Национальная фольклористика в этом случае знаменует не отказ от общего пути культурного развития, но осознание своего пути вхождения в общечеловеческую культуру – социалистическую по своему содержанию, национальную по форме – как гласит известная формула товарища Сталина, являющаяся вместе с тем и определяющим моментом национальной политики партии и советской власти»[347]. Основной темой произведений советского фольклора является, по мысли ученого, дружба народов, населяющих страну. С помощью нового фольклора осуществляется изучение прошлого страны, жанру возвращается ощущение утраченной народности. Обращаясь к созданию образа новых героев, сказители представляют новый образ народа, страны и коммунистической партии. Народное творчество, посвященное В. И. Ленину и И. В. Сталину, является художественной летописью, «б которой ярчайшими красками мастерски записана и изображена славная история социалистической революции, героическая борьба коммунистической партии, великая мощь нашей советской родины»[348]. Как отмечает литературовед А. Л. Дымшиц, центральный мотив дореволюционного фольклора – поиск героя – становится неактуальным. Эпос народов СССР, главными фигурами которого становятся советские вожди, знаменует собой переход к новому этапу, характеризующемуся приходом героев-победителей, давших счастье народам советской страны[349].
На страницах «Красной Ойротии» высказывается мысль о том, что именно фольклор представляет истинное представление автохтонной этнической группы о своем прошлом. Ойротская литература, в том числе фольклорные произведения, помогают в борьбе с пережитками традиционной культуры, родовыми институтами, воспитывают тюркоязычное население в патриотическом духе. Необходимы новые песни, сказки, легенды, отражающие советскую действительность[350]. Центральными образами фольклора становятся советские политические деятели В. И. Ленин и И. В. Сталин.
Таким образом, основной задачей фольклористов в 1930-е гг. является не столько изучение фольклора, сколько создание его новых форм. При помощи данного жанра литературы репрезентируются новые символы советской действительности. Сказители транслируют коллективный опыт, тем самым легитимизируя действительность, советские версии прошлого. В общественно-политическом дискурсе конструируется некий эпический ландшафт, где время и пространство лишаются всякого смысла.
* * *
УДК 94(571.6)
САМУШКИНА ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА. Научный сотрудник, Институт археологии и этнографии СО РАН, Новосибирск.
SAMUSHKINA EKATERINA. Research associate, Institute of Archeology and Ethnography of the Siberian Division of the Russian Academy of Sciences, Novosibirsk.
E-mail: khakassie(o)yahoo.com
ОБРАЗЫ ПРОШЛОГО ОЙРОТОВ (АЛТАЙЦЕВ) В СОВЕТСКОМ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ 1930-Х ГГ.
В статье на основе анализа архивных документов, центральной и региональной прессы, а также фольклорных источников будут представлены особенности советского этнополитического дискурса в Ойротской автономной области 1930-х гг. На основе рассмотрения источников можно выделить следующие идеологемы: мотив жертвы, колонизационная парадигма в отношениях автохтонного тюркоязычного населения с Российским государством, акцент на классовом расслоении внутри группы, критика родового строя алтайцев и традиционных форм хозяйствования, образ семьи, дружбы народов, конструирование образа политического лидера с использованием фольклорных мотивов. Делается вывод о том, что в региональной прессе 1930-х гг. конституируется разрыв с этническим прошлым, традициями, традиционными социальными институтами. Показано изменение культурной парадигмы: ставка делается на «нового человека», устремленного в будущее, не связанного с прошлым и, по сути, лишенного этнических корней. Одной из центральных категорий для описания периода Революций и Гражданской войны является категория «трудящийся народ». На первый план при рассмотрении различных сфер жизнедеятельности выходит представление о преобразующей деятельности, в том числе в области фольклора и истории. Происходит конструирование новой реальности, в том числе образов прошлого.
Ключевые слова: этничность; модернизация; образы прошлого; этнонациональный дискурс; историческая память; фольклор.
THE IMAGE OF THE PAST OF OIROTS (ALTAI PEOPLES) IN THE SOVIET SOCIO-POLITICAL DISCOURSE
The article addresses the problem of formation of ethnic and national identity among the native peoples of Altai. This research is based on the original materials of central and regional media, archival records as well as folklore data. The author analyzes ethno-political discourse during the Soviet period of history and outlines the processes of formation of Altai people’s collective memory and identity under the Soviet regime. On the basis of careful analysis of Soviet ethnopolitical discourse the following ideologemes were specified: victim’s motive; colonization paradigm in the relationships between the native Turkic speaking people and Russian government; focus on the class stratification within this ethnic group; criticism of the clan system of Altai people and traditional forms of economic management; images of family; Soviet ethnic cohesion; construction of the image of the political leader with the help of folklore themes. The author comes to conclusion that official media in the 1930s constituted the break from ethnic past, traditions, and traditional ethnic institutes. People’s solidarity based on social and class principles became the main function of the Soviet normative social culture. It was a cultural paradigm shift: there was a focus on a “new” man, who was not connected with the past, looked in the future and in fact did not have any ethnic roots. The idea of a working nation became one of the main categories used in the description of revolution and civil war period. In consideration of different spheres of life (including the folklore and historical past) people’s productive activities came to the fore. The new reality was formed, including the images of the past.
Keywords: ethnicity; modernization; images of the past; ethnonational discourse; cultural memory; folklore.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Азадовский M. Новый фольклор // Советский фольклор. Сборник статей и материалов. 6. М.-Л.: Издательство АН СССР, 1939. С. 10–11.
2. Алтайчинов П. С. Биография. Путь к расцвету области. // Красная Ойротия. 1936. № 7. 11 января. С. 3.
3. Артог Ф. Типы исторического мышления: презентизм и способы восприятия времени // Отечественные записки. Журнал для медленного чтения. 2004. 5. Режим доступа: -oz.ru/2004/5 (последнее посещение: 21.03.2010).
4. Диманштейн С. М. История народов СССР и положение на фронте исторической науки // Революция и национальности. 1936. 3. С. 13–25.
5. Дымшиц А. Ленин и Сталин в фольклоре народов СССР // Советский фольклор. Сборник статей и материалов. 6. М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1939. С. 84–123.
6. Кардамонов Г. И. Прошлое – темная ночь, настоящее – солнечный день // Красная Ойротия. 1936. 104. 21 июля. С. 2.
7. Коптело в А. Песни алтайского народа // Красная Ойротия. 1936. 150. 18 октября. С. 2.
8. Потапов А. П. Разложение родового строя у племен Северного Алтая: материальное производство. М., Л.: Гос. соц. – эк. изд-во. 1935. 120 с.
9. Франция – память / Нора П., Озуф М., де Пюимеж Ж., Винок М. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 1999. 325 с.
10. Хмелевский В. Легенды племени Туба // Сибирские огни. 1927. 2. С. 53–63.
11. Эйхе Р. И. Невозвратно ушло в прошлое двойное рабство трудящихся Ойротии // Красная Ойротия. 1936. № 12–13. 24 января. С. 3.
12. С. М. Оседание – важнейший этап ликвидации национального неравенства // Революция и национальности. 1932. 7. С. 33–39.
13. Юстус У. Возвращение в рай: Соцреализм и фольклор // Соцреалистический канон / под общ. ред. X. Гюнтера и Е. /\обренко. Спб.: Академический проект, 2000. С. 70–86.
REFERENCES
1. Altajchinov S. “Biografija. Puť k rascvetu oblasti”, Krasnaja Ojrotija. January 11,1936. P. 3. (in Russian).
2. Azadovskij Mark. “Novyj foFklor”, Sovetskij foVklor. Sborník statej i materialov. Leningrad, Moscow: IzdateFstvo AN SSSRPubl., 1939. P. 10–11.(in Russian).
3. Artog Fransua. “Tipy istoricheskogo myshlenija: prezentizm i sposoby vosprijatija vremeni”, Otechestvennye zapiski. Zhurnal dlja medlennogo chtenija 5 (2004). -oz.ru/2004/5 (date of access: 21.03.2010) (in Russian).
4. Dimanshtejn Semyon. “Istorija narodov SSSRi polozhenie na fronte istoricheskoj nauki”, Revoljucija i nacional’nosti 3 (1936). P. 13–25. (in Russian).
5. Dymshic Aleksandr. “Lenin i Stalin v forklore narodov SSSR”, Sovetskij foVklor. Sborník statej i materialov. Leningrad, Moscow: IzdateFstvo AN SSSRPubl., 1939. P. 193–208. (in Russian).
6. Francija – pamjať, ed. P’jer Nora, Mona. Ozuf, Zherar de Pjuimezh, MisheF Vinok. Saint Petersburg: IzdateFstvo Sankt-Peterburgskogo universiteta, 1999. 325 p. (in Russian).
7. Hmelevskij V. “Legendy plemeni Tuba”, Sibirskie ogni 2 (1927). P. 53–63. (in Russian).
8. Jejhe Robert. “Nevozvratno ushlo v proshloe dvojnoe rabstvo trudjashhihsja Ojrotii”, Krasnaja Ojrotija. January 24, 1936. P.3, (in Russian).
9. Justus Ursula. “Vozvrashhenie v raj: Socrealizm i foFklor”, in Socrealisticheskij kanon, ed. H. Gjunter and Evgenij Dobrenko. Saint Petersburg: Akademicheskij project Publ., 2000. P. 70–86. (in Russian).
10. Kardamonov G. “Proshloe – temnaja noch’, nastojashhee – solnechnyj den”, Krasnaja Ojrotija. July 21, 1936. P. 2. (in Russian).
11. Koptelov Afanasij. “Pesni altajskogo naroda”, Krasnaja Ojrotija. October 18, 1936. P. 2. (in Russian).
12. Potapov Leonid. Razlozhenie rodovogo stroja и piemen Severnogo Altaja: material’noe proizvodstvo. Moscow, Leningrad.: Gosudarstvennoe sociaFno-jekonomicheskoe izdateFstvo Publ., 1935. 120 p. (in Russian).
13. S. M. “Osedanie – vazhnejshij jetap likvidacii nacionaFnogo neravenstva”, Revoljucija i nacionaVnosti 7 (1932). P. 33–39, (in Russian).
Образ врага в системе межличностных отношений мужских персонажей (на материале русских народных волшебных сказок Сибири и Дальнего Востока о богатырях)
Краюшкина Т. В.
Устное народное творчество по праву можно считать энциклопедией представлений этноса о межличностных отношениях. Весьма продуктивной является русская народная волшебная сказка. Она транслирует значительное количество моделей взаимоотношений людей, присущих русскому этносу. В статье будет исследован один из аспектов негативных межличностных отношений между богатырем и его врагом. В сказках о богатырях изображается несколько типов врагов: одни из них принадлежат к иному миру (это например; змеи) и сразу позиционируются как враги, с которыми богатырь пришел сражаться; с другими представителями иного мира конфронтация может возникать не сразу (как; например; с колдуном или волшебником; к которому герой нанимается в услужение и нарушает один из его запретов). Также враги могут вести как себя представители нашего мира; не вступающие в открытое противостояние с героем; но при этом расправляющиеся с ним исподтишка (братья героя или царские зятья; с которыми потенциально существует борьба за наследование царского престола их тестя).
Кроме обозначенных типов существуют враги Земли Русской, с которыми богатырь обязан вступить в бой и очистить от них страну, освободить народ. В этом плане показательна группа богатырей, пришедших в русскую народную волшебную сказку из былин. Из былин же перешли и те, с кем они сражаются: татары, осаждающие Чернигов, и Соловей-Разбойник, поселившийся в Брянских лесах, Калин-царь и жители Сорочинского царства (сарацинами в былинах именовали мусульман). Странники, исцеляющие Илюшу и наделяющие его с помощью студеной колодезной воды силушкой богатырской, советуют ему, как следует правильно использовать приобретение. В совете прослеживается бескомпромиссная позиция русского народа в отношении врага, передаваемая от старшего поколения младшему, при этом подчеркивается ценность чужой жизни: «Бейся с врагами-недругами. Понапрасну невинную кровь не лей ‘…’»[351] (65 °C* Илья Муромец).
Враг, с которым сражается былинный богатырь, прежде всего – враг Земли Русской. Описывается несметное войско неприятеля, осадившее Чернигов, и отсутствие активной реакции на происходящие события черниговских жителей: «Черниговцы заперлись в золотой каменный собор. Богу молятся, смерти дожидаются. Три царевича стоят под Черниговым, с каждым сорок тысяч силы»[352]. Именно посланным Богом богатырем и позиционируется Илья Муромец. Он в одиночку побеждает все вражеское войско. Его битва с татарами начинается сразу после того, как сердца героя касаются гнев и обида: «Илья тут разгневался, разобиделся. Схватил, выдернул с корнями дуб и давай помахивать по татарам»[353]. Показательно соблюдение кодекса чести русским богатырем в отношении пленных – трех татарских царевичей.: Илья не может взять их с собой, а убийство пленных – бессчетный поступок, поэтому он отпускает царевичей домой вестниками: рассказать о наличии у Руси богатырей-защитников.
Чаще в сказках описывается бой богатыря не с целым войском, а с отдельным противником. Им может быть Соловей-Разбойник, захвативший русскую территорию и не дающий русским свободно по ней передвигаться. Соловей пытается причинить вред и Илье своим свистом и шипением, от которого «человек замертво падает[354]», но у Ильи даже «русы кудри не дрогнули»[355]. Соловей, снедаемый любопытством, выглядывает из гнезда, желая увидеть того, кто не побоялся его свиста, и падает, пронзенный в глаз стрелой Ильи. После Илья привязывает Соловья к торокам и отправляется в Киев к князю Владимиру. Любопытна модель поведения пленного: он отказывается подчиниться князю, желающему услышать его свист (т. е. он не включает себя в существующую на Руси иерархию, игнорирует ее), слушается только богатыря, пленившего его, но при этом враг и плененным пытается вредить русским: он свистит во всю мощь, отчего все падают. Илья наказывает врага смертью за непослушание. По логике русского народного этикета, отраженной в сказке, в общении с пленным врагом должна действовать модель поведения, согласно которой прощать можно лишь единожды: «Ты не послушал меня <…>. Хватит тебе людей сиротить, детей хватит невинную кровь проливать, за все я с тобой рассчитаюсь»[356]. Именно к этому сводится функция русского богатыря: защищать от врага слабых, сберегать семьи и жизнь подрастающего поколения. По сути, именно в этих функциях сосредоточено ценностное представление русского народа: ценнее всего дети, а сбережение жизней их родителей необходимо, прежде всего, для передачи опыта нации подрастающему поколению.
Богатырь может биться с врагом, в том числе защищая и собственную жизнь: важно при этом то, что в обозначенной ситуации первым нападает враг, а герой защищается. Так, Добрыня нарушает запрет матушки купаться в Пучай-реке. Обращает на себя внимание следующий факт: в русских народных волшебных сказках змей зачастую знает, кто тот богатырь, который убьет его. Змей Горыныч выказывает свое неверие по отношению к пророчеству: «Зря мне люди пророчили, что победит меня Добрыня <… >»[357] (СУС аналогий не дает). Добрыня, оставшийся безоружным, спасает свою жизнь хитроумным способом: песком, насыпанным в греческую шапку, бьет Змея Горыныча по голове. И враг, чтобы спасти свою жизнь, предлагает богатырю побрататься и установить договор: «Во все наши поколения будем друг друга слушаться»[358].
Одной из разновидностей службы Земле Русской является помощь главе государства в решении его семейных проблем. Змей Горыныч уносит племянницу князя. Князь ищет спасителя, в это время Алеша Попович сообщает князю о братании Добрыни и Змея. Так богатырь против своей воли отправляется спасать Забаву, потому что, по логике окружающих, «он у своего названного брата и без боя возьмет Забаву Путятишну»[359]. В бою Добрыня побеждает Змея и отрубает ему все головы.
Весьма популярным в русских народных волшебных сказках является мотив боя богатыря небылинного происхождения со Змеем (причина боя – защита царевны, отданной Змею на съедение). В текстах четко прописывается модель поведения богатыря с врагом: уточнение (предстоит бой или мир), словесная угроза, очередность нанесения ударов, честность физических действий во время самой битвы, необходимость использовать словесную хитрость, если враг превосходит богатыря физически. Показательны переговоры во время боя, где дерущиеся предупреждают свои действия словами: «Начали сближаться; налетел змей, ударил мечом – ранил в плечо до самой кости <…>. Разбежались вновь на другой край.
– Держись, – говорит змей, – держись, сражаюсь!
– Держусь, защищаюсь!»[360] (300А Бой на калиновом мосту). В сказках описывается бой богатыря и врага не только на мечах, но и рукопашная схватка. Богатырь никогда не совершает убийства исподтишка, но становится жертвой своих братьев-предателей.
Значимо в русской сказке разделение битвы (боя) с врагом и избивания врага, причем жестокого. Последнее возникает между персонажами, принадлежащими нашими миру и изначально антагонистами не являющимися. Это своего рода восстановление справедливости: обиженный наказывает обидчика. Так, Добрыня Никитич, о мнимой смерти которого его побратим Алеша Попович распустил слух, возвращается домой и попадает на свадьбу Алеши и своей жены (ее туда привели силком). Настасья Микулишна прилюдно признает Добрыню мужем. «А Добрыня Никитич берет Алешу Поповича за желты кудри и начал таскать о каменный пол. Тут расстервился, хотел поднять и ударить о каменный пол, тут богатырю Алеше Поповичу конец бы пришел <… >»[361] (СУС аналогий не дает), но его жизнь спасает Илья Муромец, апеллируя, что может быть Алеша «еще когда пригодится русским людям»[362]. Любопытна модель поведения других богатырей, присутствующих на свадьбе: в избиении или в защите избиваемого они участия не принимают.
Это, видимо, тоже составляющая этикета русских богатырей во взаимоотношениях с врагом.
Подобная модель поведения – наказание избиением, порой до смерти, встречается и в русских народных волшебных сказках о богатырях небылинного происхождения. Богатырь наказывает своих братьев и подговорившего их антагониста, не состоящего с ними в родстве, смертью за предательство. Значим следующий факт: если братьев герой прощает и оживляет с помощью чудесных капель (после, чаще всего, возникает паттерн женитьбы на царевне), то антагониста герой сжигает: чужак остается непрощенным. Таким образом открывется отношение русского народа к врагу.
Немаловажен в отношении братьев-врагов назидательный момент, обозначенный после оживления одного из наказанных: «А это твой брат. Так и ты был. Гляди, третьего [антагониста] сожег, а вы, глупцы, были <… >»[363] (301А, В «Три подземных царства»). В сказке наказание (впрочем, это весьма редкий мотив) может быть незаслуженным: брат наказывает брата смертью (при этом братья не являются противниками) за предполагаемую связь с его женой. За убийством следует раскаяние: «Что я наделал? Я же век камнем бы лежал. Брат мне мою жизнь спас»[364] (567 «Чудесная птица»), брат оживляет убитого и просит у него прощения.
Русская народная волшебная сказка отражает особый ракурс в восприятии врага: таковым может позиционироваться и герой, но при соблюдении ряда условий. Богатырь приезжает на чужую территорию, там проживают его родственники (замужняя сестра и зять). Муж рассказывает жене о красивом богатыре и его коне, которых он видел вне своего локуса. Жена, таким образом, подает информацию, чтобы ее муж не принял гостя за врага: она сначала сообщает, что этот конь у них во дворе, а потом именует приезжего нашим: «Да неужели наши к нашим не ездят? <… > Да есь у меня родимый брателько <… >»[365] (301А, В «Три подземных царства» и 552А «Животные-зятья»). Герой в сказочной действительности не позиционируется врагом антагониста (т. е. богатырь не оценивается отрицательно); он – средоточие нормы (даже идеала); через призму которой/которого оцениваются все прочие персонажи.
Произведенный анализ позволяет сделать ряд выводов. В русской народной волшебной сказке отражена система представлений нашего этноса о враге. Так; врагом может быть чужой (принадлежащий иному миру; житель другого государства); при этом чужой ведет себя открыто как враг и таковым его богатырь и воспринимает. Такая разновидность врагов всегда соблюдает кодекс чести; богатырский этикет во время битвы. Если чужой первым начинает действовать исподтишка и поэтому у богатыря отсутствует возможность открытого боя; то и богатырь действует тем же способом. Враждебность чужого может быть направлена на народ; государство; или правителя страны. Так называемый «враг из своих» скрывает себя и убивает богатыря только исподтишка (поскольку богатырь всегда превосходит его физически; и победа в открытом бою будет не на стороне врага); тем самым демонстрируя двойную модель поведения. К этой категории врагов принадлежат братья героя, его зятья или антагонист; претендующий на невесту (жену) богатыря. Потенциальным врагом может быть богатырь; пришедший на территорию хозяина; если не будет выявлено его родство с владельцем локуса. Тогда потенциальный враг становится дорогим гостем.
* * *
УДК 159.922.4+ 398.21
КРАЮШКИНА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА. Д. филол. и., Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН, Владивосток.
KRAYUSHKINA TATIANA. PhD, Institute of History, Archeology and Ethnography of the Peoples of the Far East of the Far East Division of the Russian Academy of the Sciences, Vladivostok.
E-mail: kvtbp(a)yandex.ru
ОБРАЗ ВРАГА В СИСТЕМЕ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ МУЖСКИХ ПЕРСОНАЖЕЙ (НА МАТЕРИАЛЕ РУССКИХ НАРОДНЫХ ВОЛШЕБНЫХ СКАЗОК СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА О БОГАТЫРЯХ)
Статья будет выполнена в русле одного из актуальных направлений фольклористики – этнопсихофольклористики. В качестве материала исследования выбраны региональные источники: русские народные волшебные сказки Сибири и Дальнего Востока, зафиксированные преимущественно в XX в. Цель статьи – выявление комплекса традиционных представлений о враге в свете межличностных отношений (между мужскими персонажами). В этом плане показательны волшебные сказки о богатырях. В текстах представлены две основных группы образов богатырей, с которыми бьется герой: принадлежащие либо иному, либо нашему миру. В статье будет показано, по какому критерию определяется принадлежность персонажей к группе врагов, какова их модель поведения, каким образом они взаимодействуют с героем сказки. В результате планируется выявление системы представлений о враге, свойственной традиционному мировоззрению русского этноса.
Ключевые слова: враг; межличностные отношения; русские народные волшебные сказки; богатыри.
THE IMAGE OF THE ENEMY IN THE SYSTEM OF INTERPERSONAL RELATIONS BETWEEN MALE CHARACTERS (BASED ON RUSSIAN FOLK FAIRY TALES OF SIBERIA AND THE FAR EAST ABOUT THE BOGATYRS)
The article is written in accordance with one of the important directions of folklore – ethno – psycho-folklore studies. Regional sources are selected as research material: Russian folk fairy tales of Siberia and the Far East, recorded mainly in the twentieth century. The purpose of the article – the identification of the complex traditional ideas about the enemy in the light of interpersonal relationships (between male characters). In this context fairy tales about bogatyrs are indicative. The two main groups of images of bogatyrs, with whom the hero fights, are represented in the texts: belonging either to earthly or underworld. It will be shown in the article what criterion defines characters belonging to the group of enemies, what their pattern of behavior is, how they interact with the hero of the tale. As a result, the system of perceptions about the enemy will be revealed, which is a traditional worldview inherent in the Russian ethnos.
Keywords: enemy; interpersonal relations; Russian folk fairy tales; heroes.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Русские народные сказки Сибири о богатырях / сост. Р. П. Матвеева. Новосибирск: Наука. Сибирское отделение, 1979. 303 с.
2. Русские сказки Сибири и Дальнего Востока: волшебные и о животных / сост. Р. П. Матвеева, Т. Г. Леонова. Новосибирск: Наука. Сибирская издательская фирма, 1993. 346 с.
3. Сказки Васюганья / сост. М. Н. Мельников. Новосибирск: Издательство Пединститута, 1983. 61 с.
REFERENCES
1. Russkie narodnye skazki Sibiři o bogatyrjah, ed. Rufina Matveeva. Novosibirsk: Nauka. Sibirskoe otdelenie Publ., 1979. 303 p. (in Russian).
2. Russkie skazki Sibiři i DaYnego Vostoka: volshebnye i o zhivotnyh,ed. Rufina Matveeva, Taťjana Leonova. Novosibirsk: Nauka. Sibirskaja Izdatel’skaja firma Publ., 1993. 346 p. (in Russian).
3. Skazki Vasjuganja, ed. Mikhail Mel’nikov. Novosibirsk: Izdatel’stvo Pedinstituta Publ., 1983. 61 p. (in Russian).
Образ врага в прозическом фольклоре хантов и восточных славян
Трухан Н. В.
Ханты – один из древних народов Западной Сибири, широко расселившийся по Обско-Иртышскому бассейну от линии Демьянка-Васюган на юге до Обской губы на севере.
Фольклор хантов – уникальный памятник, отразивший всю сложность и своеобразие культуры, связанной древними корнями со многими финно-угорскими народами, проживающими в Европе.
Сказочная традиция народа восходит к глубокой древности и сохраняет архаические сюжеты, связанные с народными мифологическими, религиозными, обрядовыми, культурными традициями. Поэтический строй хантыйских сказок, их оригинальный язык и стиль опираются на первичную образность народной речи и свидетельствуют о высоком уровне развития художественного народного мышления.
Изучение мировоззрения в фольклоре народа помогает реконструировать материальную и духовную культуру, а так же интерпретировать ее. Это придает научную значимость данной теме. Определение и объяснение причинно-следственных связей, различных социальных явлений, отраженных в фольклоре, обосновывают познавательную значимость темы.
Изображения духов, влияющих на охоту и рыбную ловлю, как и представления о них, тесно связаны с духами социального ранга, т. е. семейным, родовым духом людей всей реки и даже божествами, иерархически стоящими над всеми хантами.
По представлениям ханты весь мир делится на три части: Верхний (небесный), Средний (земной) и Нижний (подземный) миры. Мэнгки – это первые люди, неудачно созданные Нумторумом из лиственницы и убежавшие в лес, считается, что они живут там до сих пор. Это великаны, внешне похожие на людей, но с заостренными головами, которых может быть от одной до семи. Тела их неуязвимы: слабое место человек может обнаружить лишь при помощи сверхъестественных сил; победить такого великана можно только хитростью. Часто мэнки описываются как людоеды и оборотни. Они большие и сильные, но глупые и неумелые[366].
В сказке «Бабушка Сясими и внук Имихилы» мы можем наблюдать встречу внука с таким злым лесным духом Менгком и восприятие им духа в образе врага, мешающего ему заниматься ловлей рыбы.
«Отпустил лодку Менгк. Имихилы тянет дальше свою лодку. А она опять стала тяжелой. Оглянулся – тот же злой лесной дух Менгк. Имихилы схватил весло, ударил его по шее»[367]. Эта ситуация повторилась три раза.
В последующих действиях Имихил встречает еще двух Менгков, двухголового и трехголового. Они его просили отнести рыбу домой, и в ответ жены избивали Имихила. Имихил с помощью хитрости убил всех Менгков и наказал по возвращении домой всех жен злых лесных духов за злобу и жадность. Мы видим, что представление хантов в отношении врагов – это принцип «око за око»[368].
В другой сказке «Айпох» обнаруживается иной пример восприятия чужого-врага. Айпох женился на красавице Павле; после свадьбы молодые жили душа в душу, но через некоторое время жена заболевает и умирает. «Поздно вечером, зайдя в дом, увидал седого старика, который, опершись на золотой посох, от которого исходили лучи, сказал ему:
– Что ты так грустишь? Что же ты так убиваешься? – спросил старик. – Умершего человека не вернуть, он, как ты, больше жить не будет. Но вижу, ты сильно любишь свою жену. Вот тебе волшебная книга и золотая лучина. Завтра, только Большая Медведица появится на ночном небе, иди на могилу жены и окопай ее вокруг, а сам при свете золотой лучины прочитай всю волшебную книгу толщиной с ладонь и большой палец. Успеешь все сделать до исчезновения Большой Медведицы – увидишь, что будет»[369].
На следующий день Айпох сделал, как велел ему старец. Павла пробудилась от долгого сна и стали они дальше жить да радоваться.
Но вот недолго продлилось их счастье Павла влюбилась в иностранца, и, напоив мужа сонной водой, сбежала со всем имуществом мужа, оставив его в одном нижнем белье. Через некоторое время он нашел свою жену в чужом городе, но Павла, боясь, что он ее убьет, обвиняет героя на суде перед царем. Айпоха отвели на плаху и отрубили голову. Но его оживил все тот же старец, который помог воскресить жену, и сказал ему:
«– Я тебя оживил, – сказал старец, – теперь иди и соверши суд по справедливости».
Айпох приказал привязать бывшую жену за ноги и за руки к необученным лошадям и разорвать.
Слуги исполнили его приказ: пусть больше такие коварные жадные женщины на свет не рождаются.
Айпоха народ царем избрал, он женился на царской дочери и, наверное, и до сих пор где-то живет»[370].
Здесь уже другое представление как «своя» жена, но умершая и воскресшая, стала «чужой»: влюбилась в другого и ушла с ним – стала предателем, а значит – врагом. А с врагами поступают обычно, руководствуясь все тем же правилом «око за око».
В мифах и сказках даются подробные описания, своего рода инструкции, правильного поведения. Фольклор, наряду с реальным бытом, прививал понятия о нравственных ценностях и этике. В фольклоре очевидно проступают представления об отсутствии резкой грани между человеком, животными, душами, духами, божествами.
Фольклор как способ устанавливать контакты между человеческими индивидами и коллективом служит одним из наиболее активных средств общения между людьми, поколениями и народами.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что фольклорное творчество хантов органически связанно с системой верований и восприятия мира, в котором чужака, как врага, нужно превзойти, обхитрить и воздать по заслугам. В фольклоре даются указания, как поступать человеку.
В восточнославянских народных волшебных сказках (в сборнике А. Н. Афанасьева преобладают сказки, зафиксированные на территории Малороссии) представлены образы врагов, принадлежащих нашему или иному миру. В первом случае это могут быть братья героя, вступающие с ним в отношения соперничества. Во втором случае – Баба Яга, Змей Горыныч, мачеха-ведьма. Восточнославянская сказка являет две модели поведения врагов, которые строятся на принадлежности обозначенных образов иному или нашему миру. В зависимости от этого выстраивается и модель поведения героя (или героини) в отношении врага. Обращает на себя внимание тот факт, что в восточнославянских сказках герой никогда первым не нападает, он защищает своих близких и себя от врага.
В сказке об Иване-царевиче и о сером волке пред нами предстает картина предательского отношения родных братьев Ивана-царевича, которые из зависти убивают его.
«В то самое время братья Ивана-царевича, Дмитрий и Василий царевичи, ездя по разным государствам и не найдя жар-птицы, возвращались в свое отечество с порожними руками; нечаянно наехали они на своего сонного брата Ивана-царевича с прекрасною королевною Еленою. Увидя на траве коня златогривого и жар-птицу в золотой клетке, весьма на них прельстилися и вздумали брата своего Ивана-царевича убить до смерти. Дмитрий-царевич вынул из ножон меч свой, заколол Ивана-царевича и изрубил его на мелкие части; потом разбудил прекрасную королевну Елену и начал ее спрашивать…»[371].
Если же мы возьмем образ Баба-Яги, то встретим неоднозначного персонажа, выступающего чаще всего в образе отрицательной героини. Но иногда она помогает (даже по доброй воле) положительным героям. Баба-Яга – популярный персонаж фольклора восточных и западных славян, старуха, наделенная магической силой, ведунья. По своим свойствам ближе всего к ведьме.
Баба-Яга живет в лесу, в избушке на курьих ножках, иногда окруженной частоколом из человеческих костей. В сказке «Баба-Яга» она для одного героя – падчерицы, прошедшей испытание у Баба-Яги, выступает положительным персонажем, дающим советы и в финале вознаграждающим падчерицу, а вот для человека корыстного – для дочери Мачехи – она предстает уже в другом образе: Яга пришла, рассердилась. В другой раз опять тоже; яга изломала ее, да косточки в короб и склала»[372]. Здесь уже образ чужого-врага, при котором срабатывает правило об обязательном выполнении условий, поставленных Бабой-Ягой. Подобные примеры можно увидеть и в других сказках про Бабу-Ягу: например, в сказке «Василиса Прекрасная» злая мачеха и сестры «<…> завидовали красоте Василисы и мучали ее всевозможными работами, чтоб она от трудов похудела, а от ветру и солнца почернела; совсем житья не было!». А когда пришло время выдать замуж Василису: «Мачеха злится пуще прежнего, всем женихам отвечает: «Не выдам меньшой прежде старших!», – а проводя женихов, побоями вымещает зло на Василисе»[373], чтобы извести Василису со свету, дочери мачехи отправляют ее к Баба-Яге за огнем, зная: «<…> никого она к себе не подпускала и ела людей, как цыплят». Когда Василиса пришла к Баба-Яге за огнем, та ей сказала: <… > ты наперед да поработай у меня, тогда и дам тебе огня; а коли нет, так я тебя съем!». Так Василиса несколько дней пробыла у Баба-Яги, ничем ее не рассердила, спросила у нее: <… > как успеваешь ты исполнять работу, которую я задаю тебе?
– Мне помогает благословение матери, – отвечала Василиса.
– Так вот что! Убирайся же ты от меня, благословенная дочка! Не нужно мне благословенных.
Вытащила она Василису из горницы и вытолкала за ворота, сняла с забора один череп с горящими глазами и, наткнув на палку, отдала ей и сказала:
– Вот тебе огонь для мачехиных дочек, возьми его; они ведь тебя за этим сюда прислали»[374]. Вернулась Василиса в дом мачехи, они ей рассказали, как она ушла, у них не было в доме огня. «Внесли череп в горницу; а глаза из черепа так и глядят на мачеху и ее дочерей, так и жгут! Те было прятаться, но куда ни бросятся – глаза всюду за ними так и следят; к утру совсем сожгло их в уголь; одной Василисы не тронуло»[375]. Так мы видим, что Баба-Яга, являющаяся врагом для всех людей, которых она съедала, не стала трогать благословенную Василису, но воздала злом на зло мачехе и ее дочерям. Но и сама мачеха и ее дочери предстают в образе врага для Василисы, желая ей смерти.
Подводя итог сравнительного анализа комплексов народных представлений о врагах неродственных этносов – хантов и восточных славян – можно выделить разное отношение народов к врагу: обнаруживаются как общие черты, так и отличия. Отличия: во-первых, представители чужого мира проникают в мир ханты в образе духов; во-вторых, для традиционных представлений значимо соперничество между нашим миром и миром добрых и злых духов. В-третьих, столкновение реализуется на разных территориях, а также представления связаны с системой верований и восприятия мира чужого как врага, которого нужно превзойти, обхитрить и дать ему то, что он заслужил. В восточнославянских сказках герой никогда первым не нападает: он защищает своих близких и себя от врага или надеется на милость судьбы, которая поставила его в сложную ситуацию. Общим для обоих народов является справедливое возмездие «око за око». Таким образом, фольклор хантов и восточных славян содержит системы представлений о врагах, присущие языческому мировосприятию.
* * *
УДК 398.21
ТРУХАН НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВА. Аспирант, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН, Владивосток.
TRUKHAN NATALIA. Postgraduate Student, Institute of History, Archeology and Ethnography of the peoples of the Far East of the Far East Division of the Russian Academy of Sciences, Vladivostok.
E-mail: Truhan77nv(a)gmail.ru
ОБРАЗ ВРАГА В ПРОЗАИЧЕСКОМ ФОЛЬКЛОРЕ ХАНТОВ И ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН
Статья посвящена сравнительному анализу комплексов народных представлений неродственных этносов – хантов и восточных славян – о врагах. Представления о своих/чужих является базовым для традиционной культуры. Особенностью статьи является то, что в качестве материала для исследования выбраны не академические, а популярные издания: литературно обработанные В. М. Санги произведения прозаического фольклора хантов и волшебные сказки из сборника А. Н. Афанасьева. Произведенный анализ прозаического фольклора хантов позволяет сделать следующие выводы: во-первых, представители чужого мира проникают в мир хантов в образе духов; во-вторых, для традиционных представлений значимо соперничество между нашим миром и миром добрых и злых духов; в-третьих, столкновение реализуется на разных территориях. Для представлений хантов особую роль играет понятие возмездия, «око за око». Фольклорное творчество хантов органически связанно с системой верований и восприятия мира “чужого” как врага, которого нужно превзойти, обхитрить и дать ему то, что он заслужил. В фольклоре даются указания, как поступать человеку в той или иной ситуации. В восточнославянских народных волшебных сказках (в сборнике А. Н. Афанасьева преобладают сказки, зафиксированные на территории Малороссии) представлены образы врагов, принадлежащих нашему или иному миру. В первом случае это могут быть братья героя, вступающие с ним в отношения соперничества. Во втором случае – Баба Яга, Змей Горыныч, мачеха-ведьма. Восточнославянская сказка являет две модели поведения врагов, которые строятся на принадлежности обозначенных образов иному или нашему миру. В зависимости от этого выстраивается и модель поведения героя (или героини) в отношении врага. Обращает на себя внимание тот факт, что в восточнославянских сказках герой никогда первым не нападает, он защищает своих близких и себя от врага. Таким образом, фольклор хантов и восточных славян содержит системы представлений о врагах, присущих языческому мировосприятию.
Ключевые слова: образ; враг; фольклор коренных народов хантов и восточных славян.
THE IMAGE OF THE ENEMY IN THE PROSAIC FOLKLORE KHANTY AND EASTERN SLAVS
The article is dedicated to the comparative analysis of a set of people’s perceptions of unrelated ethnic groups – the Khanty and the eastern Slavs – about the enemies. Understanding of us/them is the basis of traditional culture. The peculiarity of the article lies in the fact that non-academic and popular publications were selected as the material of the study: prose works of folklore edited by V. M. Sangi and Khanty fairy tales collected by A. Afanasyev. The analysis of Khanty prosaic folklore has led to the following conclusions: first, representatives of the other world penetrate earthly world in the image of Khanty spirits; secondly, the rivalry between earthly world and the world of good and evil spirit is vital to traditional notions; thirdly, the collision between two sides occurs in different territories. The concept of retribution, «an eye for an eye» plays a special role in the views of Khanty. Folklore works of Khanty is connected with the system of beliefs and perception of the world of an alien as an enemy that must be transcended, outwitted and given what he deserved. In folklore instructions are given on how to behave in a particular situation. In East Slavic folk fairy tales (in the collection by A. N. Afanasyev tales, recorded in the territory of the Ukraine, prevail) the images of the enemies belonging to earthly or other world are presented. In the first case it can be brothers of the hero who enter the relationships of rivalry whereas in the second case – Baba Yaga, Zmey Gorynych, witch– stepmother. Slavic fairy tales reveal two types of enemies’ behaviour that are based on belonging of the represented images to earthly or other world. The model of a hero’s (heroine’s) behaviour in relation to the enemy is formed depending on this. It is worth mentioning that in the Slavic fairy tale the hero is never the first to attack but rather protects his family and himself from the enemy. Thus, folklore of the Khanty and the Eastern Slavs contains a system of ideas about enemies inherent in pagan worldview.
Keywords: image; the enemy; folklore indigenous peoples Khanty and Eastern Slavs.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Антология фольклора народностей Сибири, Севера и Дальнего Востока./Составление, предисловие и примечания В. М. Санги. Красноярск: Красноярское Книжное Издательство, 1989. 67 с.
2. Восточнославянские волшебные сказки: для учащихся сред. и ст. классов/сост., подгот. текстов, вступ. ст., комемент., слов. Т. В. Зуевой; пер. с укр. и белорус, яз. Т. В. Зуевой, Б. И. Кирдана. М: Просвещение, 1992. 124 с.
3. Кулемзин В. М., Лукина Н. В. Материалы по фольклору хантов. Томск: Издательство Томского университета, 1978. 216 с.
4. Народные русские сказки А. Н. Афанасьева в трех томах, том 1/Издание подготовили Л. Г. Бараг и Н. В. Новиков. М.: Книжное Издательство «Наука», 1985. 336 с.
REFERENCES
1. Antologija fol’klora narodnostej Sibiri, Severa i Dal’nego Vostoka, ed. Vladimir Sangi. Krasnojarsk: Krasnojarskoe Knizhnoe Izdatelstvo, 1989. 67 p. (in Russian).
2. Kulemzin Vladislav, Lukina Nadezhda. Materialy po fol’kloru hantov. Tomsk: Izdatel’stvo Tomskogo universiteta Publ., 1978. 216 p. (in Russian).
3. Narodnye russkie skazki A. N. Afanas’eva v treh tomah, tom 1, ed. Lev Barag and Nikolsj Novikov. Moskoe: Knizhnoe Izdatel’stvo «Nauka» Publ., 1985. 336 p. (in Russian).
4. Vostochnoslavjanskie volshebnye skazki: dlja uchashhihsja srednikh i starshih klassov, ed. Tat’jana Zueva; trans. Tat’jana Zueva and Boris Kirdan. Moscow: Prosveshhenie Publ., 1992. 124 p. (in Russian).
Лица на банкнотах: символика оформления таджикской национальной валюты
Болашенкова Е. А.
В 2000 г. в Таджикистане была введена новая национальная валюта – сомони. Она пришла на смену таджикскому рублю, использовавшемуся в течение пяти лет: с 1995 по 2000 гг. Вплоть до 1995 г. в обращении был советский рубль: из всех бывших союзных республик Таджикистан перешел к собственной валюте последним.
Введенные в независимом Таджикистане деньги получили свое название в честь эмира Исмаила Самани (тадж. Исмоили Сомони) – основателя государства Саманидов, правившего в Мавераннахре с 892 по 907 гг.
Помимо изображения самого Исмаила в оформлении валюты используются портреты восьми других человек (ныне покойных), живших в разных эпохах с разбросом в тысячелетие и оставивших след в разных областях деятельности. Для понимания того, что именно в жизни каждого из них могло показаться руководству современного Таджикистана принципиально важным; какие их черты оказались отвечающими сегодняшним ценностям, необходимо изучить биографию каждого из представленных на банкноте деятелей.
Сомони состоят из ста дирамов. Если слово «дирам» – это видоизмененное «дирхем», восходящее, в свою очередь, к общеближневосточному «драхма», то название «сомони» напрямую напоминает таджикам об их собственной, национальной истории и идентичности. Поиск и популяризация именно национальных (а не общевосточных или общемусульманских) героев – одна из ярчайших особенностей постсоветского Таджикистана.
Исмаил Самани (849–907) не был основоположником самой династии, однако именно с ним историки связывают приход к ее величию[376].
Основанное им государство позиционируется в наши дни как первое национальное государство таджиков (сегодня, после распада СССР; Таджикистан вновь оказывается в состоянии молодого национального государства, только что обретшего независимость, что можно рассматривать в качестве исторической аналогии). За годы правления он значительно расширил его территорию, а также успешно отразил несколько набегов кочевников на северные рубежи государства[377]. Исмаил вошел в историю как образец справедливости и беспристрастности, как правитель, почитаемый населением и популярный у народа. Сохранилось множество рассказов о его честности, милосердии, храбрости и простоте привычек[378].
Исмаил Самани изображен на двух банкнотах (100 сомони и 50 дирам). На банкноте в 100 сомони представлен его плечевой портрет в короне на фоне Мавзолея Саманидов в Бухаре. На банкноте в 50 дирамов эмир изображен в полный рост, верхом на коне, с мечом в поднятой правой руке и круглым щитом в левой. Иконография Исмаила Самани в постсоветское время представляет большой интерес и заслуживают отдельного изучения. Корона на голове Исмаила кажется сегодня неким каноническим элементом, однако не исключено, что в данном случае представлено явление, названное Э. Хобсбаумом «изобретенной традицией», и образ Исмаила связывался с такой короной далеко не всегда. Возможно, оказала влияние и распространенная (но, скорее всего, ложная[379]) этимология, возводящая название народа «таджик» к иранскому корню taj («корона», «венец»).
Выбору личности Исмаила Самани для изображения на купюре, вероятно, способствовало в том числе и то, что эмир выступает своего рода ориентиром и эталоном правителя лично для президента Э. Рахмона[380]. Можно провести еще одну параллель: Исмаилу удалось удержать власть и сохранить стабильность в непростые времена; нечто подобное произошло уже в постсоветские годы: Рахмон возглавил государство в разгар тяжелейшей гражданской войны 1992–1997 гг., сумел ее остановить и остается главой республики по сей день.
На банкноте в 1 сомони изображен поэт Мирзо Турсунзаде (1911–1977). Темы его стихов и рассказов были связаны с успехами советской власти, а также с событиями революции и гражданской войны. Турсунзаде стал одним из организаторов движения афро-азиатской солидарности, более двадцати лет возглавлял Советский Комитет солидарности стран Азии и Африки, лично побывал более чем в тридцати странах. Много внимания он уделял и теме дружбы народов, и теме исторических судеб Востока, общественно-политическим особенностям восточных стран и национально-освободительному движению. На банкноте также можно разглядеть земной шар, повернутый к зрителю стороной Евразии и северной половиной Африки, служащий фоном для портрета Турсунзаде. Особенное место в деятельности Турсунзаде занимало изучение национального фольклора: не забывая об общесоветской принадлежности таджиков, Турсунзаде прилагал значительные усилия для сохранения богатого наследия предков и привлечения внимания к многовековой народной культуре.
Шириншо Шотемур (1899–1937), государственный деятель, изображен на банкноте в 3 сомони. Шотемур выступил одним из организаторов создания самостоятельной Таджикской Советской Социалистической Республики (первоначально советскому Таджикистану отводился статус автономной области, затем – автономной республики в составе Узбекской ССР) и отдал немало сил претворению этой задачи в жизнь. Он категорично поднимал этот вопрос в своем обращении к Политбюро в 1929 г., подчеркивая его значимость для интересов таджикского народа. В 1930 г. Шотемур был избран вторым секретарем ЦК Таджикистана. В 1937 г. он был арестован по обвинению (как теперь признано – сфабрикованному) в участии в антисоветской националистической организации, приговорен к смертной казни и расстрелян. В 1956 г. Шотемур был реабилитирован. Уже нынешним президентом Э. Рахмоном, то есть спустя полвека, Шотемур был посмертно награжден орденом «Дружба» (в 1999 г.).
На банкноты в 5 сомони помещено изображение писателя Садриддина Айни (1878–1954), влияние которого на таджикскую культуру трудно переоценить. Айни принадлежал к джадидскому движению. В 1917 г. он оказался в тюрьме, откуда был освобожден русскими солдатами. Айни участвовал в установлении советской власти в Бухаре, а затем, уже при новом режиме, занимался литературной деятельностью. Он составил антологию «Образцы таджикской литературы». Одной из главных задач этой работы стало обоснование единства персидской и таджикской литератур. Айни продемонстрировал, как классическая поэзия на фарси зарождалась именно в Средней Азии и именно в таджикской среде. Айни подчеркивал, что великие средневековые поэты – наследие в равной мере как персов, так и таджиков. Он активно использовал выражение «персидско-таджикская литература»; нередко ему приписывают изобретение самого это термина.
Мир Саид Али Хамадони (1314–1384) – поэт, мыслитель и философ, изображен на банкноте в 10 сомони. Хамадони принадлежал к суфийскому ордену Кубравийя. Он более двадцати лет путешествовал по мусульманскому миру, трижды совершив за это время хадж, и проповедовал свое учение.
В Кулябе существует мемориальный комплекс Хамадони, датируемый XIV в. Сегодня он является местом почитания как местных жителей, так и целенаправленно приезжающих в Куляб паломников. Выбор Хамадони, вероятно, связан прежде всего с Кулябом, который является родиной нынешнего главы государства.
На банкнотах в 20 сомони помещено изображение Абу Али Ибн Сины (Авиценны) (980-1037) – врача, ученого и философа. Слева от портрета Ибн Сины можно различить змею – символ медицины. Деятельность на этом поприще принесла ему наибольшую славу. Однако он оставил значительный след и в ряде других областей: астрономии, механике, химии, философии, поэзии, музыке. Ибн Сина жил во времена династии Саманидов, он – один из ярчайших представителей «золотого века». Он занимал пост придворного врача Саманидов, а в течение некоторого времени – и пост визиря. Несмотря на то, что родился он на территории нынешнего Узбекистана, умер на территории нынешнего Ирана и в этих же землях провел многие годы своей жизни, несмотря на то, что свои научные труды он писал преимущественно на арабском языке (lingva franca средневекового мусульманского Востока), в современном Таджикистане он почитается наряду с национальными героями.
Бободжан Гафуров (1908–1977), изображенный на банкнотахв 50 сомони, в истории Таджикистана остался сразу в двух ипостасях: как государственный деятель (с 1946 по 1956 гг. он занимал пост первого секретаря ЦК Компартии ТССР; дважды избирался членом ЦК КПСС) и как ученый-историк (доктор наук, академик АН СССР и директор Института Востоковедения АН СССР).
Гафуров считал, что для полной консолидации таджиков в единую нацию необходимо создание национальной истории. Среди его трудов необходимо выделить в первую очередь фундаментальные работы «История таджикского народа» и «Таджики. Древнейшая, древняя и средневековая история» (обложку последней с надписью «Тоцикон» можно заметить на заднем плане банкноты). Начальной точкой своих исследований он выбрал эпоху палеолита и сложения в Средней Азии первобытно-общинного строя, чем смог наглядно продемонстрировать древность таджикского народа.
На банкнотах достоинством в 200 сомони изображен Ну арату ало Махсум (1881–1937) – политический деятель начала прошлого века, который, как и Шириншо Шотемур, внес немалый вклад в образование Таджикской СССР. Позади портрета Махсума можно увидеть флаг со словами «Tojikistoni Ozod!» – «Свободный Таджикистан!». Сейчас часто говорится о том, что именно с этим человеком связано начало новейшей истории Таджикистана, подчеркивается значение его личности. Так, в 2006 г. было торжественно отпраздновано 125-летие Н. Махсума, а в 2011 г. – его 130-летие. Однако долгое время его имя пребывало в забвении: в сталинские годы Махсум был репрессирован, на что указывает дата его смерти, такая же, как у Шотемура – 1937 г.
Наконец, на самой крупной банкноте (500 сомони) изображен Абу Абдуллах Руд аки (858–941) – основоположник персидско-таджикской классической поэзии. Рудаки жил во времена Саманидов. На сегодняшний день историки, литературоведы и лингвисты единогласно признают, что формирование пер си дско-таджикской литературы и самого языка связано именно с Рудаки. В молодости Рудаки был приглашен в Бухару ко двору саманидского эмира Насра ибн Ахмеда, где провел почти сорок лет в почете, славе и богатстве; ближе к концу жизни он попал в опалу. Тем не менее, огромное творческое наследие Рудаки осталось в истории и веками вдохновляло последователей. Своим учителем считали его Хайям, Фирдоуси, Саади, Низами, Джами, Руми и другие.
В заключение стоит упомянуть о практике официальной героизации. В 1996 г. в республике было учреждено звание «Герой Таджикистана». За прошедшие два десятилетия звания удостоились шесть человек. Один из них – сам президент Эмомали Рахмон (в 1999 г.), остальные пятеро получили награду посмертно. Это Б. Г. Гафуров (1997 г.), С. Айни (1998 г.), М. Турсунзаде (2001 г.), Н. Махсум и Ш. Шотемур (2007 г.). Иными словами, избраны были пять деятелей новейшей истории, так или иначе проявивших себя во времена образования и дальнейшего существования Таджикистана как самостоятельной союзной республики. Каждый из них внес определенный вклад в укрепление национального самосознания таджиков: действуя в сфере политики (Махсум, Шотемур, Гафуров) либо искусства и науки (Айни, Турсунзаде, Гафуров).
* * *
УДК 737.116
БОЛАШЕНКОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА. Аспирант, Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) Российской Академии наук, Санкт-Петербург.
BOLASHENKOVA EKATERINA. Postgraduate Student, Peter the Great Museum of Anthropology and Ethnography, Russian Academy of Sciences Saint Petersburg.
E-mail: bolashenkova(o)mail.ru
ЛИЦА НА БАНКНОТАХ: СИМВОЛИКА ОФОРМЛЕНИЯ ТАДЖИКСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЫ
В 2000 г. в Таджикистане была введена новая валюта, пришедшая на смену таджикскому рублю, – сомони. На новых денежных знаках представлены изображения девяти выдающихся людей, живших в разные исторические эпохи и проявивших себя в различных областях деятельности. Мы попытаемся ответить на вопрос, почему же именно их изображения были выбраны для оформления новой национальной валюты в изменившихся исторических условиях. Для этого необходимо не только определить их роль в истории Таджикистана, но и понять, что значат они для Таджикистана сегодняшнего.
Ключевые слова: постсоветский Таджикистан; национальная валюта; сомони; банкноты; исторические личности.
FACES ON BANKNOTES: SYMBOLISM IN THE DESIGN OF TAJIK NATIONAL CURRENCY
In 2000, a new currency – somoni – was introduced in Tajikistan instead of the former Tajik rouble. The new banknotes and coins show images of nine outstanding people (Ismail Šamani, Mirzo Tursunzade, Shirinsho Shotemur, Sadriddin Ayni, Mir Sayyid Ali Hamadani, Avicenna, Bobojon Ghafurov, Nusratullo Mahsum, Abu Abdollah Jafar Rudaki) who lived in different epochs and represented different spheres. The author tries to find out why these particular images were chosen for designing the new national currency in the changing historical circumstances. It is crucial, therefore, not only to determine their roles in history of Tajikistan, but also to understand what they mean for Tajikistan today.
Keywords: post-soviet Tajikistan; national currency; somoni; banknotes; historical characters.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Бартольд В. В. История Туркестана // Бартольд В. В. Сочинения. В 9 т. Т. II. Ч. 1. М.: Наука, 1963. С. 109–166.
2. Бартольд В. В. Таджики (из «Энциклопедии ислама») // Бартольд В. В. Сочинения. Т. II. Ч. 1. М.: Наука, 1963. С. 469–470.
3. Blakkisrud H., Nozimova S. History writing and nation building in post-independence Tajikistan // Nationalities Papers. Vol. 38. 2010. P. 173–189.
4. Bosworth C. E. Sāmānids // Bosworth C. E., Donzel E. van, Heinrichs W. P., Lecomte G. (eds.). The Encyclopaedia of Islam. Vol. VIII. Leiden: Brill, 1995. P. 1025–1029.
5. Frye R. N. The Sāmānids // The Cambridge History of Iran / ed. by R. N. Frye. Vol. 4. Cambridge: Cambridge University Press. 2008. P. 136–161.
REFERENCES
1. Bartol’d Vasilij. ‘‘Istorija Turkestana’’, in II vol. Part 1 of Bartol’d Vasilij. Sochinenija. Moscow: Nauka Publ., 1963. P. 109–166. (in Russian).
2. Bartol’d Vasilij. ‘‘Istorija Turkestana’’, in II vol. part 1 of Bartol’d Vasilij. Sochinenija. Moscow: Nauka Publ., 1963. P. 469–470. (in Russian).
3. Blakkisrud Helge, Nozimova Shahnoza. ‘‘History writing and nation building in postindependence Tajikistan’’, Nationalities Papers. Vol. 38. (2010). P. 173–189.
4. Bosworth Clifford Edmund. ‘‘Sāmānids’’, in VIII vol. of The Encyclopaedia of Islam, ed. Clifford Edmund Bosworth, Emeri van Donzel, Wolfhart Heinrichs, Gérard Lecomte. Leiden: Brill, 1995. P. 1025–1029.
5. Frye Richard N. ‘‘The Sāmānids’’, in 4 vol. of The Cambridge History of Iran, ed. Frye Richard N. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. P. 136–161.
IV. Проблемы протонационального и национального историописания
История земли или история народа? Проблема присвоения чужого прошлого на примере английской средневековой исторической традиции
Калмыкова Е. В.
Тезис о том, что мифологизированные и/или героизированные представления о прошлом играют существенную роль в складывании коллективной идентичности (не только этнической, но и политической, религиозной, социокультурной и т. д.), усиливая сплоченность «своих» против «чужих», в настоящее время настолько очевиден, что не нуждается в специальном обосновании. Как правило, коллективные представления о прошлом носят казуальный и персонифицированный характер. Выхваченные из линейного повествования несистематизированные в хронологическом порядке эпизоды, связанные с примерами достижений и выдающихся поступков конкретных персонажей или отдельных групп, не только вдохновляют потомков на аналогичные свершения, но также формируют представления о коллективных характеристиках, якобы присущих всему народу. Как бы парадоксально это не звучало, но избирательность и даже хаотичность в отношении исторических событий не означает игнорирования линейности. Эта линейность задается, во-первых, «точкой отсчета» – мифами об истоках (о происхождении народа или государства), и, во-вторых, – представлениями о врожденности и преемственности черт национального характера.
В английской историографической традиции довольно рано сложилось представление, сохранившее свою актуальность до сих пор, о четко выделяемых периодах в средневековой истории острова: бриттском, римском, англосаксонском, датском и нормандском, рубежами которых являлись завоевания. Между тем, до середины XII в., когда Гальфрид Монмутский представил читателям свой провокационный труд, посвященный древнейшему периоду в истории Британии, английские историографы были вынуждены были начинать историю острова с появления на нем римлян. Ориентируясь главным образом на «Церковную историю народа англов» Беды Достопочтенного, хронисты оказывались под влиянием предложенной им англосаксонской идентичности. Возникновению ассоциации предков своего народа с завоевателями, а не с покоренными бриттами, также способствовала информационная лакуна – практически полное отсутствие рассказов о доримской Британии.
Быстро завоеванная популярность труда Гальфрида[381], затмившая не только его современников, но и Беду, как нельзя лучше свидетельствует о страстном желании англичан знать «правду» о древнейшей истории родного острова. Даже если современники Гальфрида не были готовы воспринимать «Историю бриттов» в качестве рассказа о предках своего народа, а популярность этому сочинению обеспечивали другие факторы (соответствие эстетическим вкусам эпохи, интересом к приключениям и т. и.), именно с XII в. начался многомерный и разносторонний процесс «освоения» и «присвоения» истории бриттов историками и элитами Англии. Так, уже в середине века прославленный английский богослов Иоанн Солсберийский подчеркнул синонимичность этнонимов «англичане» и «бритты» [382].
Важную роль в этом процессе играла политическая пропаганда. Английские короли возводили свою генеалогию и к нормандским герцогам, и к правителям англов, и к легендарным Артуру и Бруту. Тематические турниры, праздники и торжества также работали на репрезентацию английских королей классического и позднего Средневековья как потомков и наследников легендарных бриттских правителей. По моему мнению, можно говорить о том, что инициатива в деле присвоения бриттского прошлого и стирании «этнических границ» была за правящей элитой. Инспирированные настроениями при дворе пропагандистские сочинения (поэмы, проповеди, обращения) также формировали обывательское представление о единой истории. Не в ученых кругах монастырских хронистов, но в рыцарской среде появляются первые тексты, в которых англичане и бритты являются синонимичными названиями одного народа[383]. Пересказывая историю о легендарной царевне Альбине и ее сестрах, появившихся в Британии еще до Брута, английский рыцарь Джон Хардинг заметил, что, видимо, от них английские женщины унаследовали жажду власти[384]. На рубеже XIV–XV вв. появляются первые исторические сочинения, в которых прослеживается тенденция понимания повествования о прошлом Англии как истории территории (страны), в то время как этническая (или квазиэтническая) история отступает (хотя, конечно, не полностью), перестает быть структурообразующим элементом исторического дискурса (в отличие от более раннего периода). В этом плане показательны изменения, произошедшие в названиях исторических трудов: если раньше в них преобладали названия этносов («История бриттов», «История англов», «Церковная история народа англов» и пр.), то с XIV в. чаще всего встречаются истории государства («История Англии», «Английская хроника» и пр.).
Любопытным отражением описанной выше тенденции, направленной на присвоение бриттского прошлого английскими средневековыми хронистами, стали сочинения бретонских авторов. В середине XIV в. придворные историографы Жана IV регулярно обращались к теме истории суверенной Бретани, демонстрируя исключительное благородство бретонской крови. Полностью восприняв изложенную Гальфридом Монмутским историю бриттов, заселивших сначала Британию, а потом и Арморику, бретонские хронисты подчеркивали, что их народ не имеет ничего общего с французами. Однако и в англичанах они отказывались видеть «братьев по крови», именуя их не иначе как саксами. Например, по мнению секретаря герцога Гильома де Сен-Андре и его анонимного современника, только бретонцы являются истинными бриттами, а герцог Жан де Монфор – прямым потомком Брута[385].
К числу исключительных заслуг легендарных бриттских правителей средневековые авторы относили принятие христианства. В первой половине VI в. Гильда Премудрый признавал приход римлян величайшим благом для бриттов, поскольку завоеватели принесли на остров свет истинной веры[386]. Совершенно очевидно, что для Гильды разделение на «своих» и «чужих» определялось не этническими, а религиозными характеристиками. Сожалея о пороках соотечественников, Гильда, тем не менее, не мог воспринимать вторжение германцев как благо: для него они однозначно были врагами, бедой, посланной в наказание грешникам, равносильной вспыхнувшей ранее эпидемии чумы.
Два века спустя Беда Достопочтенный, невольный автор мифа о крещении Британии в середине II в. при короле Луции, расставил акценты иначе. Признавая вслед за Тильдой англов злом, точнее карой, посланной бриттам «Божьим промыслом в наказание за нечестивые дела» (главным из которых был отказ проповедовать христианство завоевателям), именуя зажженный ими огонь «мщением Божьим тому погрязшему в грехе народу, подобно огню халдейскому, что сжег стены Иерусалима»[387], Беда четко ассоциировал себя и своих покровителей с англами. Даже язычника короля Эдильфрида, который «теснил бриттов сильнее, чем все прочие правители англов», Беда именовал «славнейшим», сравнивая его с царем Саулом[388]. Для Беды англы хороши еще до принятия христианства; благочестивый монах даже был готов одобрить массовое убийство христиан-бриттов язычниками-англами[389].
Работая над своим сочинением, Гальфрид смог найти компромисс в оценках, убрав все негативные характеристики состояния христианской веры у бриттов в эпоху англосаксонского завоевания. Даже отказ бриттских епископов присоединиться к миссии Августина Гальфрид объяснял не гордыней, а благородными патриотическими чувствами: нежеланием проповедовать тем, кто «стремился отнять у бриттов родину». Также по его мнению убитые по приказу Эдильфрида христиане, приняв мученический венец, удостоились
Царствия Небесного[390]. Не допуская видимых противоречий с текстом Беды, он предложил читателям иную трактовку истории, стерев конфликт между крестителем англов и бриттским духовенством. Благодаря этой переоценке, английские средневековые историографы получили возможность утверждать, что их предки приняли христианство раньше других народов[391].
Проблема бриттской и англосаксонской идентичности в контексте обращения предков в христианство снова стала актуальной для англичан после Реформации. Стремясь отмежеваться от всего римского и папистского, протестантские авторы не только переместили акцент на бриттскую христианизацию, но и смогли также добавить новые эпизоды к старому мифу: например, рассказы о прибытии в Британию Иосифа Аримафейского и его спутников в середине I в. Разногласие бриттских епископов и Августина Кентерберийского также трактовалось в пользу «бриттских предков»: принимая веру непосредственно от учеников Христа, бритты якобы не признавали над собой власть римских понтификов.
Позиция католиков второй половины XVI – начала XVII вв. по этому же вопросу выглядит более сложной и интересной. Католических авторов можно условно разделить на две группы. Представители первой, более малочисленной, такие как Томас Стэплтон и Ричард Верстеганиз, принципиально разводили бриттскую и англосаксонскую историю. Для этих авторов важно было подчеркнуть, что история крещения бриттов, в какой бы форме этот народ ни принял христианство, никак не связана с религиозной историей англичан, предками которых были англосаксы, обращенные в истинную веру римскими проповедниками[392]. Между тем, представители второй, более многочисленной, группы католических авторов, среди которых были Томас Фицгерберт, Джон Мартиалл, Томас Хардинг, Роберт Парсонс, Ричард Брутон, были склоны включать бриттский период в общую историю английского народа. По мнению этих авторов, совершенно очевидно, что папские посланцы принесли в Британию именно католическую веру, поскольку в те времена «невозможно было себе вообразить никакой иной веры, кроме римской». И эта вера сохранялась бриттами незапятнанной никакими ересями вплоть до распространения в стране пелагианства[393]. Один из наиболее известных католических полемистов, иезуит Роберт Парсонс, признавая легенды о крещении короля Луция, миссии Иосифа Аримафейского и даже проповеднической деятельности в этом регионе святых апостолов Петра и Павла, не видел основания для рассуждений протестантов о независимом от Рима статусе бриттской церкви[394].
Подводя некоторые итоги, хочется отметить, что, во-первых, многомерный и сложный процесс ассоциации (довольно прочной на обывательском уровне) древних бриттов с предками англичан достиг своей кульминации лишь в XVIII–XIX вв.; во-вторых, подмена на уровне массового сознания истории народа историей региона, чаще всего под влиянием политической пропаганды, – явление, характерное не только для англичан. Например, современные жители Египта и Македонии часто ссылаются на достижения «своих предков» в глубокой древности.
* * *
УДК 94(410) «…/1066»
КАЛМЫКОВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА. К. и. н., доцент, Московский государственный университет, Москва.
KALMYKOVA ELENA. PhD, Associate professor, Moscow State University, Moscow. E-mail: ekalm(a)mail.ru
ИСТОРИЯ ЗЕМЛИ ИЛИ ИСТОРИЯ НАРОДА? ПРОБЛЕМА ПРИСВОЕНИЯ ЧУЖОГО ПРОШЛОГО НА ПРИМЕРЕ АНГЛИЙСКОЙ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ
Тезис о том, что мифологизированные и/или героизированные представления о прошлом играют существенную роль в складывании коллективной идентичности (не только этнической, но и политической, религиозной, социокультурной и т. д.), усиливая сплоченность «своих» против «чужих», в настоящее время настолько очевиден, что не нуждается в специальном обосновании.
Данная статья посвящена проблеме выстраивания линейной истории Британии в сочинениях средневековых английских авторов. В английской историографической традиции довольно рано сложилось представление; сохранившее свою актуальность до сих пор, о четко выделяемых периодах в средневековой истории острова (бриттском, римском, англосаксонском, датском и нормандском), рубежами которых являлись завоевания. При этом, начиная примерно с XIII в. авторы больших нарративов, повествуя об истории родной земли, осознано или нет нередко причисляли к категории «своих» героев наиболее достойных уроженцев острова, не взирая на их реальную (или книжную) этничность: мифическую Альбину и ее сестер, не менее сказочных троянцев из числа спутников Брута, императрицу Елену и ее сына Константина Великого, короля Артура и доблестного Ричарда Львиное Сердце. Для ряда хронистов история земли (острова) и вовсе стала доминировать над историями отдельных народов на ней проживавших. Анализу средневековых казусов «присвоения» историками и элитами Англии легендарной и древней истории острова – главным образом бриттского прошлого – уделяется основное внимание в статьее. Между тем, многомерный и сложный процесс ассоциации (довольно прочной на обывательском уровне) древних бриттов с предками англичан достиг своей кульминации лишь в XVIII–XIX вв.
Подводя итоги, необходимо подчеркнуть, что английский пример никак не может считаться исключительным. На уровне массового сознания, нередко под влиянием политической пропаганды, история народа может ассоциироваться (и подчас и подменяется) с историей региона. Например, современные жители Египта и Македонии очень часто ссылаются на достижения «своих предков» в глубокой древности.
Ключевые слова: Средние века; бритты; история земли; коллективная идентичность; историческая традиция.
HISTORY OF A LAND OR HISTORY OF A NATION: APPROPRIATIONS OF THE OTHERS’ PAST IN ENGLISH MEDIEVAL HISTORICAL TRADITION
It is evident that mythologized and heroicized images of the past play an important role in the formation of collective identities (ethnic, as well as political, religious, s о cio-cultural, etc.). This article discusses the formation of a linear history of Britain in the writings of English medieval authors. On the one hand, the notion of several separate historical periods (British, Roman, Anglo-Saxon, Danish and Norman) separated by various conquests was formed quite early and is still relevant. On the other hand, the authors of grand historical narratives often described different famous ‘natives’ of the island (consciously or not) as ‘ours’, regardless of their real (or literary) ethnicity: mythic Albina and her sisters, legendary Brutus and his Trojans, Empress Helena and her son Constantine the Great, King Arthur, and Richard the Lionheart. For some chroniclers the history of the land (island) began to dominate over histories of different peoples that lived there. This article focuses on some particular episodes of the appropriation of the past by English historians and elites, especially, on the appropriation of the British past.
It’s important, however, to emphasise that the English case was by no means unique: in mass perceptions, often influenced by political propaganda, the history of a people is often substituted with a history of a land. For example, the inhabitants of contemporary Egypt and Macedonia often refer to the achievements of their ‘ancestors’.
Keywords: history of Britain; history of the land; collective identities; chronicles; Middle Ages.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Беда Достопочтенный. Церковная история народа англов/ пер. с лат., вступ. ст., коммент. В. В. Эрлихмана; Отв. ред. С. Е. Федоров. СПб.: Алетейя, 2003. 361 с.
2. Гальфрид Монмутский. История бриттов. Жизнь Мерлина/ пер. с лат. А. С. Бобовича и С. А. Ошерова. М.: Наука, 1984. 287 с.
3. Гильда Премудрый. О погибели Британии/ пер. с лат. Н. Ю. Чехонадской. СПб.: Алетейя, 2003. 458 с.
4. Chronicon Briocense. Chronique de Saint-Brieuc (fin XlVe siecle). Editée et traduite ďapres les MSS. BN 6003, BN 8899 [i.e. 9888] (Archives départementales ďllle-et-Vilaine 1 F 1003) / Éd. G. Le Due et C. Sterckx. Vol. I. Rennes: Impr. Simon, 1972.
5. Crick C. J. A The Historia regum Britannie of Geoffrey of Monmouth. 3, A summary catalogue of the manuscripts. Cambridge: Brewer, 1989. 378 p.
6. Fitzherbert T. A Defence of the Catolyke Cause. 1602; repr. English Recusant Literature. In. 394 vol. Vol. CXLVI. Menston: Solar Press, 1973. P. 17–70.
7. Hardyng John. The Chronicle. London, 1543; repr. Amsterdam: Theatrum Orbis Terrarum; Norwood, N. J.: W. J. Johnson, 1976. 4, 238, 146 fol.
8. Holinshed R. Chronicles, comprising 1. The description and historie of England. 2. The description and historie of Ireland. 3. The description and historie of Scotland… now newlie augmented and continued… to the yeare 1586 by John Hooker alias Vowell Gent, and others.: 3 vols. London: Finished in Ianuarie 1587, and the 29 of the Queenes Maiesties reigne, with the full continuation of the former yeares, at the expenses of Iohn Harison, George Bishop, Rafe Newberie, Henrie Denham, and Thomas Woodcocke. At London printed [by Henry Denham] in Aldersgate street at the signe of the Starre, 1586–1587. In 3 vol. Vol. I. 250 p.
9. Joannis Saresberiensis Policratici, sive De Nugis curialium et vestigii philosophorum libri VIII / Ed. С. C. J. Webb: 2 vols. Oxford: Typogr. Clarendon, 1909. In 2 vol. Vol. I. 430 p.
10. Le Libvre de bon Jehan de Bretaigne // Cuvelier Jean. Chronicle de Bertrand de Guesclin: 3 vols / Éd. E. Charriere. Paris, 1899. Vol. I.
11. Persons R. Treatise of Three Conversions of England from Paganism to Christian Religion. 1603.
12. Stapleton T. A returne of vntruthes vpon M. Iewelles replie. Partly of such, as he hath slaunderously charged D. Harding withal: partly of such other, as he hath committed about the triall thereof, in the text of the foure first articles of his replie. With a reioyndre vpon the principall matters of the replie, treated in the thirde and fourthe articles. Antwerpen: Printed by Iohn Latius, 1566. 196 f.
13. Walter of Peterborough // Political Poems and Songs Relating to English History: 2 vols / Ed. Th. Write. Vol. I. London, 1852. P. 104.
REFERENCES
1. Beda Dostopochtennyj. Cerkovnaja istorija naroda anglov, transl. Vadim Jerlihman. Saint Petersburg: Aletejja Publ., 2003. 361 s. (in Russian).
2. Chronicon Briocense. Chronique de Saint-Brieuc (fin XlVe siecle). Éditée et traduite d’apres les MSS. BN 6003, BN 8899 [i.e. 9888] (Archives départementales ďllle-et-Vilaine 1 F 1003), ed. Gwenaěl Le Due et Claude Sterckx. Vol. I. Rennes: Impr. Simon 1972. 237 p.
3. Crickjulia C. The Historia regum Britannie of Geoffrey of Monmouth. 3, A summary catalogue of the manuscripts. Cambridge: Brewer, 1989. 378 p.
4. Fitzherbert Thomas. “A Defence of the Catolyke Cause. 1602”; repr. English Recusant Literature, yol. CXLVI. Menston: Solar Press, 1973. P. 17–70.
5. Gal’frid Monmutskij. Istorija brittov. Zhizn’ Merlina, transl. Ananij Bobovich and Sergej Osherov. M.: Nauka Publ., 1984. 287 p. (in Russian).
6. Gil’da Premudryj. O pogiheli Britanii, transl. Nina Chehonadskaja. Saint Petersburg: Aletejja, 2003.458 p.
7. Hardyng John. The Chronicle. L., 1543; repr. Amsterdam: Theatrum Orbis Terrarum; Norwood, N.J.: W. J. Johnson, 1976. 4, 238, 146 fol.
8. Holinshed Raphael. Chronicles, comprising 1. The description and historie of England. 2. The description and historie of Ireland. 3. The description and historie of Scotland… now newlie augmented and continued… to theyeare 1586 by John Hooker alias Vowell Gent, and others.: 3 vols. London: Finished in Ianuarie 1587, and the 29 of the Queenes Maiesties reigne, with the full continuation oftheformeryeares, at the expenses oflohn Harison, George Bishop, Rafe Newberie, Henrie Denham, and Thomas Woodcocke. At London printed [by Henry Denham] in Aldersgate street at the signe of the Starre, 1586–1587. In 3 vol. Vol. I. 250 p.
9. Joannis Saresberiensis, Policratici, sive De Nugis curialium et vestigii philosophorum libri VIII, Ed. С. C. J. Webb: 2 vols. Oxford: Typogr. Clarendon, 1909. In 2 vol. Vol. I. 430 p.
10. “Le Libvre de bon Jehan de Bretaigne”, in Chronicle de Bertrand de Guesclin, by Cuvelier Jean, ed. Ernest Charriěre. Paris, 1839. Vol. II. P. 421–560.
11. Persons Robert. Treatise of Three Conversions of England from Paganism to Christian Religion. The first under the apostles, in the first age after Christ; the second under Pope Eleutherius and K. Lucius, in the second age; the third, under Pope Gregory the Great, and K. Ethelbert in the sixth age; with diuers other matters thereunto apperteyning/ Divided into three partes, as appeareth in the next page, the former two whereof are handled in this booke and dedicated to the Catholikes of England. With the neuu addition to the said Catholikes, upon the neuus of the late Q/s death and succession of his Maiestie of Scotland, to the crouune of England: 3 vols. St. Omer, 1603–1604.
12. Stapleton Thomas. A returne ofvntruthes vpon M. Ievvelles replie. Partly of such, as he hath slaunderously charged D. Harding withal: partly of such other, as he hath committed about the triall thereof, in the text of the foure first articles of his replie. With a reioyndre vpon the principall matters of the replie, treated in the thirde andfourthe articles. Antwerpen: Printed by Iohn Latius, 1566.196 f.
13. “Walter of Peterborough”, vol. 1 of Political Poems and Songs Relating to English History, ed. Thomas Wright. London: Longaman, Green, Longman, and Roberts, 1852. P. 97–122.
Переходный период в истории ирландского историописания: «Основа знаний об Ирландии» Джоффри Китинга
Левин Ф. Е.
Факт влияния текстов на социальное, политическое и этническое развитие различных регионов является вполне очевидным для современных исследователей. Особенно показательными в этом отношении являются нарративы кризисных периодов европейской истории XVI–XIX вв. В контексте истории Британских островов хочется отметить раннее Новое время, в которое сложились устойчивые мифологемы, определившие последующее развитие идентитарных процессов.
Раннее Новое время в Ирландии – период серьезных катаклизмов и трансформаций. Тюдоровское завоевание Ирландии в XVI в. сопровождалось англиизацией (борьбой ирландским языком, насаждением общего права, земельными и властными перераспределеними), Реформацией и колонизацией. Другим важным моментом являлся тот факт, что в 1541 г. Генрих VIII принял титул короля Ирландии, и «Зеленый остров» стал имперским композитом.
Различные группы населения – гэлы (коренное население Ирландии), старые англичане (потомки первых англо-нормандских колонистов) и новые англичане (новый поток протестантских колонистов) – по-разному реагировали на происходящие события. Так или иначе, одним из инструментов их территориальной легитимации, которую потребовала новая эпоха, стали исторические нарративы. В той амальгаме этнических, конфессиональных, политических и социальных лояльностей начали выкристаллизовываться два видения прошлого Ирландии – католическое и протестантское. Раннее Новое время во многом определило последующие перипетии ирландской истории, и искушение видеть в нем пролог к событиям XX в. в Ирландии остается по-прежнему высоким.
Наметившиеся контуры сближения католиков и старых англичан заметны в изменившемся характере историописания. Колин Кидд пишет, что в раннее Новое время в Ирландии наблюдались двоякие стратегии, включавшие в себя как присваивание, так и поношение коренной культуры для выстраивания специфической территориальной легитимации[395]. Одним из таких нарративов была «Основа знаний об Ирландии» Джоффри Китинга.
Джоффри Китинг, потомок первых англо-нормандских колонистов, родился в графстве Типперари в южной провинции Ирландии Мунстере. В 1603 г. он эмигрировал в Бордо, где стал доктором богословия в местном университете. В 1610-х он вернулся в Типперари, где был католическим священником и где к 1634 г. закончил написание своей «Основы знаний».
Итак, Китинг писал свое произведение, когда ирландская литература существовала в условиях «культурной самозащиты»[396]: ирландские интеллектуалы-католики (в основном старые англичане) полемизировали с английскими историками Уильямом Кэмденом, Рафаэлем Холиншедом, Эдмундом Спенсером, Мередитом Ханмером и Ричардом Станихерстом, которые в своем критическом видении прошлого Ирландии опирались на Гиральда Камбрийского, заявлявшего о варварстве гэлов и анархии в Ирландии до пришествия англо-нормандцев. В противовес им ирландские историописцы стремились доказать цивилизованность ирландцев, а их этноцентризм служил средством легитимации светских и церковных институтов Ирландии.
В этой связи Джоффри Китинг не был исключением. Он видел целью своей книги написание истинной истории Ирландии, поскольку «не было ни одного историка с того момента (с момента англо-нормандского завоевания), который бы не стремился очернить или оклеветать англо-ирландских колонистов и гэльское коренное население»[397].
В «Основе знаний об Ирландии» повествуется об истории Ирландии от первых ее поселенцев до англо-нормандского завоевания. Тем самым автор воспроизводит хронологический охват нарратива «Книги Захватов Ирландии»[398] – средневекового источника о заселении острова, ставшего каркасом его произведения. В основе «Книги Захватов» лежал переселенческий миф, согласно которому Ирландию поочередно заселили шесть племен: Кессар, Партолона, Немеда, Фир Волг, Туата де Дананн и Миля. От племени последнего, гойделов, произошло население средневековой Ирландии. Там же рассказывалось не только о заселении, но и об истории оформления ирландской цивилизации: от географического пространства до институтов власти. Эту же парадигму воспроизводит и Джоффри Китинг.
Говоря о Китинге, необходимо разграничивать традицию (в тех местах, где он неукоснительно следовал своим предшественникам на историческом поприще) и инновацию (там, где он ретранслировал, модифицровал и комментировал сведения). Несмотря на то, что Китинг не обладал должной подготовкой[399], он позиционировал себя как продолжателя дела гэльских историописцев и старался сделать текст максимально знакомым читателю. Одновременно он ориентировался на потребности новой эпохи, и его труд в принципе согласовывался с антикварным и эрудитским историописанием[400].
Круг использованных Китингом источников был действительно широким: помимо анналов, исторических компилляций и генеалогий, он обращался к бардической поэзии, прозе и описаниям битв, а также к фольклору и устным преданиям[401]. Рамочным типом[402] его произведения выступали ирландские генеалогии, сопровожденные биографиями королей (внимание обращалось на вопросы наследования и военные подвиги); знати и наиболее известных мудрецов; их окружающих; и здесь он опирался на традицию «Книги Захватов» и «Списка королей». В этом контексте средневековые ирландские источники образовывали пространство его письма.
Ирландский францисканец адаптирует генеалогическую схему «Книги Захватов». Все племена; заселившие Ирландию; сведены в единую библейскую генеалогическую схему: они происходят от Магога, сына Яфета. Также; как и в «Книге Захватов», все они владеют ирландским языком. Несмотря на то, что Скифия объявляется прародиной гэлов, большинство племен – все, кроме милезианцев и детей Немеда – отправляются в Ирландию из Греции.
Основными акторами в произведении Китинга являются племенные вожди и верховные короли. Китинг транслирует традицию «Книги Захватов Ирландии» в интерпретации верховной власти. Средневековый источник фиксировал представления, артикулированные светскими и церковным кругами в XI в., о существовавшей с незапамятных времен верховной королевской власти над всей Ирландией, которая была сосредоточена в Таре и которой с эпохи пришествия христианства до узурпации Брианом Бору были облечены потомки Ниалла Девяти Заложников[403].
Как и в «Книге Захватов», верховная власть в Ирландии появилась при Слэйнге из племени Фир Болт[404]. При Туата де Даннан появляются символы власти: инаугурационный камень Лиа Фаль, копье Луга и котел Дагды[405]. В дохристианское время появляется и оэнах Тайльтиу, на который верховный король созывал региональных властителей Ирландии.
Традиция накладывала определенные ограничения, поскольку существовали литературные обычаи описания определенных событий[406], считаться с которыми приходилось в том числе и Китингу. Он компиллировал сведения из разных источников так, как считал нужным, однако зачастую приводил мифические сведения о королях потому только, что они являлись общепринятыми для ирландского историописания. В качестве примера можно привести рассказ о лошадиных ушах Лабрайда Лонгсеха[407]; короля лагенов.
Во многих аспекта изображение Китингом верховной власти происходило в традиционном русле. Речь идет о представлении о «праведном правлении»; от которого зависит состояние всего острова; и о представлении об обретении власти силой. Идеальный король должен был сочетать в себе физическую и военную силу; а также мудрость. Примерами идеальных королей были Оллам Фодла (X в. до и. э.); основатель оэнаха Тайльтиу, и Кормакмак Арт (II в. и. э.), которые также являлись и законодателями. Герои обладали космогоническими свойствами: от их правления напрямую зависело плодородие на острове. К примеру; в правление Эохайда; сына Эрка, «не было ни дождя; ни плохой погоды; ни года без урожая. Именно в это время несправедливости и беззаконию был положен конец; и одобренные и продуманные законы были предписаны в Ирландии»[408]. Несправедливое же правление означало неурожайные годы.
Представление об обретении власти силой реализовывалось в том; что племена; колонизирующие Ирландию; получали остров по праву силы: начиная с Фир Болг, последующее племя отбирает остров у предыдущего. То же самое касается и власти в милезианский период. Китинг замечает: «По ирландским обычаям сын не должен был наследовать престол отца, поскольку из истории видно по сей день, что власть над Ирландией давалась тому, кто был самым сильным в решениях и поступках»[409]. В «Основе знаний об Ирландии»; так же, как и в «Книге Захватов»; короли часто умерщвляются другими претендентами на власть. Подобную практику ирландский францисканец не считал узурпаторством.
Отличительными свойствами произведения Китинга по сравнению с предшествующей традицией являлись отбор сведений; акцентирующих позицию автора, а также то, что автор активно вмешивался в свой текст при помощи комментария. Последнее в принципе не было характерным для ирландской традиции[410]. Собственно говоря, инновацией был «сам метод» Китинга (хотя говорить о методе, безусловно, преувеличение).
Отбор сведедений диктовался интересами автора, поскольку «Основа знаний об Ирландии» должна была быть аргументом в полемике с английскими историками. Концептуальное расхождение Китинга с традицией «Книги Захватов» заключалось в признании англо-нормандского завоевания, что не удивительно, ведь автор был старым англичанином. В рамках той логики развития ирландской истории, которую выстраивал ирландский францисканец, англо-нормандское завоевание представлялось несомненно легитимным, раз признавалось право узурпации и право сильного (при условии благородного происхождения).
В «Основе знаний об Ирландии» в 1092 г. ирландская знать, конфликтовавшая с Доннхадом, сыном Бриана Бору, передала власть над островом папе Урбану II, а в 1155 папа Адриан IV издал буллу Laudabiliter, по которой, в свою очередь, передал власть над островом королю Англии Генриху II и возложил на него обязанность восстановить утраченную в Ирландии веру[411]. Англо-нормандское завоевание представлялось им «христианским»: англичане гарантировали права местному населению и покровительствовали развитию христианства, в отличие от ново-английских колонистов в XVI–XVII вв., изображавшихся языческими завоевателями, стремящимися уничтожить местное население. После завоевания 1169–1172 гг. Генриху II через некоторое время присягнули клир и вся ирландская знать, включая верховного короля Руайри О Конхобара[412]. Англо-нормандцы смогли доказать легитимность своего пребывания на острове своими делами на благо церкви. Китинг не ставил легитимность Стюартов под вопрос; наоборот, они, в отличие от предыдущих династий, имели полное право владеть Ирландией, поскольку обладали милезианскими генеалогиями, и Ирландия была предначертана им судьбой.
Подобного рода история являлась легитимацией новой территориальной общности – ирландцев (Eireannaigh), состоящей из гэлов и старых англичан. Данная общность имела более конкретное семантическое значение: она предполагала наличие и этнокультурной (гэльская культура), и этнополитической составляющей. Китинг сам признает, что история Ирландии – это прежде всего история гэлов. Этнополитическая же составляющая предполагала как верность католицизму, так и лояльность английскому королю (такое значение она имела не только в творчестве Китинга, но и в целом в литературе начала XVII в.[413]). «Ирландскость» же в «Основе знаний об Ирландии» подразумевала доблесть, ученость, непоколебимость католической веры, а также уважение строгой социальной иерархии (лояльность короне, законам и Церкви). Эти свойства представляются неизменными на протяжении всей истории Ирландии. При этом Китинг говорил об ирландцах-современниках: он признавал, что история Ирландии – это история гэлов[414].
Также Китинг расставил свои акценты в истории светских и церковных институтов, преемственность которых он стремился передать Переход к христианству был обусловлен «Золотым веком» в Ирландии, развитостью гэлов и накопленной друидами мудрости, на место которых пришли епископы. Особенно он подчеркивал верность Ирландии святому престолу и не угасавшую веру.
С точки зрения Брендана Бредшоу, Китинг привнес современное ему понимание в изображение ирландской верховной власти в эпоху языческих и христианских королей[415]. Оэнах Тайльтиу он представлял «национальной ассамблеей», аналогом парламента, где участвовала знать, короли туатов, барды, брегоны и филиды[416]. Верховный король избирался с согласия знати и оллавов (знатоков права и мудрецов), а после принятия христианства – епископов[417], и управлял Ирландией при помощи королевского двора, своих управляющих (rechtaire), армии (фениев), законов (таких как «Предписание королям» Кормака мак Арта) и собраний в Таре. Также он старался минимизировать региональную раздробленность, низводя королей мелких племен до титулов лордов (tigerna) или лидеров клана (taoiseach).
Несмотря на всю традиционность сюжетов Китинга, его метод изложения согласовывался с ренессансным историописанием. Он открыто цитировал древние манускрипты и адресатов полемики, среди них наиболее часто упоминал Беду Достопочтенного, Гиральда Камбрийского, Уильяма Кэмдена, Джона Стоу, Мередита Ханмера, Ричарда Станихерста, предоставляя им право говорить самим за себя, поскольку древние документы считались источником непреложных фактов[418]. Он также критиковал и отвергал некоторые сведения, почерпнутые им из ирландских источников. К примеру, он ставил под сомнение заселение Ирландии до потопа, так как это противоречило Писанию[419].
Таким образом, работа Китинга знаменовала собой переходный период в истории ирландского историописания. С одной стороны, она была вписана в контекст предыдущей традиции, снабдившей Китинга рамочными конструкциями и смысловыми схемами, которые он воспроизводил (за его зачастую «некритическое» отношение к ирландским источникам его порицали как некоторые его современники, так и ирландские историки XVIII в.). С другой стороны, текст Китинга определялся потребностями времени и в этом смысле соответствовал стандартам антикварного и эрудитского историописания, с присущей ему особой вовлеченностью повествователя в описанные события. Именно это придало «Основе знаний об Ирландии» отчетливую индивидуальность. Более того:, его работа появляется во время упадка традиционного историописания и бардической поэзии в Ирландии, после чего с XVII в. в авангарде ирландского католического историописания оказываются люди старо-английского происхождения, а языком выражения ирландской идентичности становится английский.
Труд Китинга был инструментом в полемике, и он осознавал роль нарратива как рычага управления сознанием элит и их исторической памятью. Этнический дискурс, заданный «Основой знаний об Ирландии», имел характер партикулярного дискурса внутри Британской композитарной монархии. Основой этого партикулярного дискурса была идея ирландской цивилизованности, проистекающей из ее дохристианского прошлого. Такой партикулярный дискурс с присущей ему спецификой ирландской истории оказался востребованным, и впоследствии был подхвачен ирландским национализмом в XIX в.
* * *
УДК 94(415) «15/16»
ЛЕВИН ФЕЛИКС ЕВГЕНЬЕВИЧ. Аспирант, Санкт-Петербургский Государственный университет, Санкт-Петербург.
LEVIN FELIKS. Postgraduate Student, Saint Petersburg University, Saint Petersburg.
E-mail: vitabrevis620(o)gmail.com
ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД В ИСТОРИИ ИРЛАНДСКОГО ИСТОРИОПИСАНИЯ: «ОСНОВА ЗНАНИЙ ОБ ИРЛАНДИИ» ДЖОФФРИ КИТИНГА
Раннее Новое время в Ирландии – период серьезных катаклизмов и трансформаций. Различные группы населения по разному реагировали на происходящие события. Одним из инструментов новой территориальной легитимации, которую потребовала эпоха, стали исторические нарративы. Они были аргументом в полемике о прошлом Ирландии. Английские историки и литераторы раннего Нового времени следовали за Гиральдом Камбрийским и относились критически к до-англо-нормандскому прошлому Ирландии, считая местное население варварами. В противовес им гэльские и стар о-английские интеллектуалы стремились доказать цивилизованность ирландцев. Одним из таких нарративов стала «Основа знаний об Ирландии» Джоффри Китинга, католического священника, потомка англо-нормандских колонистов. В своем произведении Китинг повествует об истории Ирландии от первых ее поселенцев до англо-нормандского завоевания. В каркасе его труда лежит переселенческий миф «Книги Захватов Ирландии», средневекового источника по заселению Ирландии.
Говоря о Китинге, необходимо разграничивать традицию (там, где он неукоснительно следовал своим предшественникам на историческом поприще) и инновацию (там где он ретранслировал, модифицровал и комментировал сведения). В статье речь идет как раз о том, что роднит Китинга с предшествующей традицией ирландского историописания, а что отличает.
Его работа знаменовала собой переходный период в истории ирландского историописания. С одной стороны, она была вписана в контекст предыдущей традиции, снабдившей Китинга рамочными конструкциями и смысловыми схемами, которые он воспроизводил.
С другой стороны, текст Китинга определялся потребностями времени и в этом смысле соответствовал стандартам антикварного и эрудитского историописания, с присущей ему особой вовлеченностью повествователя в описанные события, поэтому «Основа знаний об Ирландии» была отчетливо индивидуальна.
Ключевые слова: Ирландия; Джоффри Китинг; «Основа знаний об Ирландии»; этнический дискурс в Ирландии; историописание.
TRANSITIONAL PERIOD IN THE HISTORY OF IRISH HISTORY-WRITING: TORAS FEASA AR EIRINN’ BY GEOFFREY KEATING
The early Modern time was the period of serious cataclysms and transformations. Various groups of population reacted to events in different ways. One of the instruments of the new territorial legitimacy, which was required by the epoch, were historical narratives. They were used as arguments in the polemic about the past of Ireland. English historians and writers followed Gerald of Wales and treated the Irish pre-Anglo-Norman past critically regarding the native population as barbarians. To counter their arguments Gaelic and Old English intellectuals tried to justify civility of the Irish. ‘Foras Feasa ar Eirinn by Geoffrey Keating (1570–1644), a Catholic priest of Old-English descent, was such a narrative, in which the history of Ireland from the first settlers to the Anglo-Norman Invasion is described. The basis of his narrative is ‘Lebor Gabala Erenn (‘The Book of Invasions’), the medieval source of the peopling of Ireland.
As far as Keating is concerned, it is worth to distinquish between a tradition (where he rigorously follows his predecessors in the field of Irish history-writing) and an innovation (where he re-transmits, modifies and comments on historical data). The article sheds light on what Keating shares with tradition and where he breaks with it.
The author concludes that Keating’s work heralded the transitional period in Irish history-writing. On the one hand, it fitted into the context of preceding tradition, which supplied Keating with frame stories and conceptual schemes he reproduced. On the other hand, his text was defined by the demands of his time and in this perspective it conformed to the standards of Antiquarian and Erudite history-writing with its integral engagement of the author in the described events. That is why, “Foras Feasa ar Éirinn” was definitely individual.
Keywords: Ireland; Geoffrey Keating; ‘Foras Feasa ar Eirinn’; ethnic discourse in Ireland; history-writing.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Бирн Ф. Д. Короли и верховные правители Ирландии/ пер. с англ. С. В. Иванова. СПб.: Евразия, 2006. 368 с.
2. Паламарчук А. А., Федоров С. Е. Антикварный дискурс раннестюартовской Англии. СПб.: Алетейя, 2013. 210 с.
3. Bradshaw В. Geoffrey Keating: apologist of Irish Ireland // Representing Ireland: Literature and the origins of conflict, 1534–1660/ ed. by B. Bradshaw, A. Hadfield, W. Malley. Cambridge: Cambridge University Press, 1993. P. 166–191.
4. Cronin A. Sources of Keating’s Foras Feasa ar Eirinn: 2, manuscript sources // Eigse. 1945-47. Vol. 5. P. 122–135.
5. Cunningham B. The world of Geoffrey Keating: history, myth and religion in seventeenth-century Ireland. Dublin: Four Courts Press, 2004. 280 p.
6. Keating G. Foras Feasa ar Eirinn: the history of Ireland/ ed. by D. Comyn, P. S. Dineen. In4 vol. Vol.l. London: Irish Texts Society, 1902. 256 p.
7. Keating G. Foras Feasa ar Eirinn: the history of Ireland/ ed. by P. S. Dineen. In 4 vol. Vol.2. London: Irish Texts Society, 1905. 425 p.
8. Keating G. Foras Feasa ar Eirinn: the history of Ireland/ ed.by D. Comyn, P. S. Dineen. In 4 vol. Vol.3. London: Irish Texts Society, 1908. 387 p.
9. Kidd C. British identities before nationalism: Ethnicity and nationhood in the Atlantic world, 1600–1800. Cambridge: Cambridge university press, 2004. 312 p.
10. Lebor Gabála Érenn. The book of the Taking of Ireland: Part 1/ ed. by R. A. S. Macalister. Dublin: Irish Texts Society, 1938. 269 p.
11. Lebor Gabala Érenn. The book of the T aking of Ireland: Part 2/ ed. by R. A. S. Macalister. Dublin: Irish Texts Society, 1939. 273 p.
12. Lebor Gabála Érenn. The book of the Taking of Ireland: Part3/ ed.byR. A. S. Macalister. Dublin: Irish Texts Society, 1940. 206 p.
13. Lebor Gabála Érenn. The book of the Taking of Ireland: Part 4/ ed. by R. A. S. Macalister. Dublin: Irish Texts Society, 1941. 342 p.
14. Lebor Gabála Erenn. The book of the T aking of Ireland: Part 5/ ed. by R. A. S. Macalister. Dublin: Irish Texts Society, 1956. 591 p.
15. Leerssen /.Mere Irish &ffor-ghael: studies in the idea of Irish nationality, its development, and literary expression prior to the nineteenth century. Amsterdam (Philadelphia): John Benjamins Pub. Co, 1986. 535 p.
16. O Cuív B. Literary creation and Irish historical tradition // Proceedings of the British academy. Vol. XLIX. London: Oxford University Press, 1963. P. 233–262.
17. O Murchadha D. Keating: traditionalist or innovator // Geoffrey Keating’s Foras Feasa ar Eirinn: reassessments / ed. by P. О Riain. London: Irish Texts Society. P. 90–102.
18. Sims-Williams P., Poppe E. Medieval Irish literary theory and criticism // The Cambridge History of Literary Criticism / ed. by A. Minnis, I. Johnson. In 9 vol. Vol. 2. Cambridge: Cambridge University Press, 2005. P. 291–309.
19. Ó Buachalla B. Cúlra is taibacht an dáin A leabhrain ainmnighthear d’Aodh // Celtica. 1990. Vol. 21. P. 402–416.
20. Shapiro B./. A culture offact. England. 1550–1720. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. 284 p.
REFERENCES
1. Birn Francis Djon. Koroli i verkhovnie praviteli Irlandii, transl. S. Ivanov. Saint Petersburg: Evrazija Publ., 2006. 368 p. (in Russian).
2. Bradshaw Brendan. “Geoffrey Keating: apologist of Irish Ireland”, in Representing Ireland: Literature and the origins of conflict 1534–1660, ed. Brendan Bradshaw, Andrew Hadfield, Willy Malley. Cambridge: Cambridge University Press, 1993. P. 166–191.
3. Cronin Anne. “Sources of Keating’s Foras Feasa ar Eirinn: 2, manuscript sources”, Eigse 5 (1945-47). P. 122–135.
4. Cunningham Bernadette. The world of Geoffrey Keating: history, myth and religion in seventeenth-century Ireland. Dublin: Four Courts Press, 2004. 280 p.
5. Keating Geoffrey. Foras Feasa ar Éirinn: the history of Ireland, ed. David Comyn, Patrick S. Dineen, vol.l. London: Irish Texts Society, 1902. 256 p.
6. Keating Geoffrey. Foras Feasa ar Eirinn: the history of Ireland, ed. Patrick S. Dineen, vol.2. London: Irish Texts Society, 1905.425 p.
7. Keating Geoffrey. Foras Feasa ar Éirinn: the history of Ireland, ed. David Comyn, Patrick S. Dineen, vol.3. London: Irish Texts Society, 1908. 387 p.
8. Kidd Colin. British identities before nationalism: Ethnicity and nationhood in the Atlantic world, 1600–1800. Cambridge: Cambridge university press, 2004. 312 p.
9. Lebor Gabála Erenn. The book of the Taking of Ireland: Part 1, ed. R. A. Stewart Macalister. Dublin: Irish Texts Society, 1938. 269 p.
10. Lebor Gabála Erenn. The book of the Taking of Ireland: Part 2, ed. R. A. Stewart Macalister. Dublin: Irish Texts Society, 1939. 273 p.
11. Lebor Gabála Erenn. The book of the Taking of Ireland: Part 3, ed. R. A. Stewart Macalister. Dublin: Irish Texts Society, 1940. 206 p.
12. Lebor Gabála Erenn. The book of the Taking of Ireland: Part 4, ed. R. A. Stewart Macalister. Dublin: Irish Texts Society, 1941. 342 p.
13. Lebor Gabála Erenn. The book of the Taking of Ireland: Part 5, ed. R. A. Stewart Macalister. Dublin: Irish Texts Society, 1956. 591 p.
14. Leerssen Joseph. Mere Irish &fior-ghael: studies in the idea of Irish nationality, its development, and literary expression prior to the nineteenth century. Amsterdam (Philadelphia): John Benjamins Pub. Co, 1986. 535 p.
15. O Buachalla Breandan. “Cúlra is taibacht an dáin A leabhrain ainmnighthear ďAodh”, Celtica 21 (1990). P. 402–416.
16. O Cuiv Brian. “Literary creation and Irish historical tradition”, in Proceedings of the British academy, vol. XLIX. London: Oxford University Press, 1963. P. 233–262.
17. О Murchadha Diarmuid. “Keating: traditionalist or innovator”, in Geoffrey Keatings Foras Feasa ar Eirinn: reassessments, ed. Padraig О Riain. London: Irish Texts Society. P. 90–102.
18. Palamarchuk Anastasia, Fedorov Sergej. Antikvamij diskurs rannestjuartovskoj Anglii. Saint Petersburg: Aleteja Publ., 2013. 210 p. (in Russian).
19. Sims-Williams Patrick, Poppe Erich. “Medieval Irish literary theory and criticism”, in The Cambridge History of Literary Criticism, ed. Alastair Minnis, Ian Johnson, vol. 2. Cambridge: Cambridge University Press, 2005. P. 291–309.
20. Shapiro Barbara J. A culture of fact: England, 1550–1720. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. 284 p.
От готов к славянам: эволюция славянского готицизма от Средневековья к Новому времени
Алимов Д. Е.
Среди культурных явлений Ренессанса, оказавших существенное влияние на развитие европейской общественной мысли, особое место принадлежит становлению протонационального дискурса. Он стал своего рода ментальным ответом интеллектуалов-гуманистов на потребность в новых формах коллективной идентификации, соответствующих менявшемуся мировоззрению социальной элиты. Народы, которые в это время стали населять пространства на ментальных картах, уже не вмещались в политические и сословные рамки позднесредневековых nationes, а такие критерии общности, как воображаемое единство происхождения и языковое родство, стали составлять конкуренцию линиям размежевания, основанным на подданстве и сословной принадлежности. При этом, как это часто происходило в истории общественной мысли, протонациональный дискурс актуализировал уже присутствовавшие в «социальном знании» эпохи образы прошлого, придав им совершенно новые значение и звучание.
Одним из таких по-новому зазвучавших образов стал образ древнего народа готов, воинственных варваров, некогда сокрушивших великий Рим. Подобно тому, как тема Рима никогда не покидала пространство исторической мысли Средневековья, а лишь наполнялась новыми смыслами в эпоху Ренессанса, готская тема также была отнюдь не нова, особенно в той части Европы, где сохранялась память о существовавших здесь в раннее Средневековье готских королевствах. Хотя эволюция готицизма от Средневековья к Новому времени достаточно полно охарактеризована в имеющейся на сегодняшний день историографии, отнюдь не все его региональные и «национальные» варианты нашли в ней адекватное отражение. Так, несмотря на обилие работ, посвященных тем или иным аспектам готской темы в Хорватии, хорватский готицизм, под которым следует понимать историческую традицию, отождествлявшую предков хорватов с готами, не только не рассматривается как целостный феномен, но и не осмысляется в общеевропейском контексте. Результатом этого является обидное выпадение хорватского случая из большинства обобщающих трудов о готицизме. Отталкиваясь от данного обстоятельства, будет целесообразно наметить основные этапы функционирования хорватского готицизма, сфокусировав основное внимание на специфике его развития.
В настоящее время можно вести речь о двух истоках хорватского готицизма. Один из них – это существовавшая в Средние века в городе Сплит, Далмация, историческая традиция, в соответствии с которой готам приписывалось разорение Салоны – крупнейшего центра позднеантичной Далмации, некогда оставленного жителями под давлением варваров. Впервые данная традиция была зафиксирована в одной из версий Жития св. Домния (первого епископа Салоны, святого покровителя Сплита), датировка которой в историографии колеблется от VIII до XI вв[420]. В соответствии с таким пониманием истории, в Сплите и, возможно, в других прибрежных городах Далмации, где проживало романское население, готское происхождение стало приписываться жителям далматинского хинтерланда – хорватам. Таким образом, оппозиция «римляне – варвары», столь свойственная средиземноморской «Романии», приобрела в условиях Далмации дополнительную коннотацию «горожане (потомки римлян) – сельские жители хинтерланда (потомки варваров-готов)».
Есть основания полагать, что данная оппозиция была особенно актуализирована в условиях церковного раскола, произошедшего в Хорватии во время правления короля Петра Крешимира IV Великого (1058–1074 гг.), когда далматинские горожане из числа сторонников реформ, провозглашенных Латеранским собором 1059 г. (а в Хорватии – провинциальным Сплитским собором 1060 г.), получили возможность презрительно именовать готами своих оппонентов – хорватов-глаголяшей, привыкших использовать в богослужении вместо латыни «варварский» (славянский) язык и «еретические», с точки зрения приверженцев латыни, «готские письмена» (глаголицу)[421].
Такое восприятие истории Далмации и места в ней хорватов ярким образом отразилось в «Истории архиепископов Сплита и Салоны» Фомы, архидиакона Сплитского (середина XIII в.). В труде, посвященном истории Сплитской церкви, наследницы древней Салонской митрополии, архидиакон Фома уделил большое внимание такому сюжету, как разорение Салоны вторгшимися в Далмацию варварами. При этом разорителями главного города Далмации предстают у Фомы Сплитского те, кого, по словам архидиакона, многие называли готами. По информации сплитского автора, готы прибыли в Далмацию «из земель Тевтонии и Полонии», возглавляемые вождем по имени Тотила. Происхождение хорватов Фома Сплитский также ставит в тесную связь с готами, повествуя о том, как вместе с ними в Далмацию переселились из земель Полонии семь или восемь «знатных племен» лингонов, которые, заняв территорию горной части Далмации, смешались с жившими здесь издревле куретами, от которых будто бы происходит само имя хорватов. Рассказав о появлении в результате этого смешения единого народа «со схожим образом жизни и нравами и одним языком», Фома Сплитский заключает: «Многими они назывались готами и тем не менее это славяне, судя по собственному имени тех, которые пришли из Полонии или Богемии»[422]. Эта примечательная фраза, характеризующая Фому как осторожного ученого, а не как носителя стереотипных представлений о варварах, не должна, однако, заслонять от нас популярность готского дискурса, ведь из нее следует, что «многие» (вероятно, современники Фомы), вообще не видели никакой разницы между славянами, готами и хорватами.
Другим источником хорватского готицизма была историческая традиция, впервые зафиксированная в так называемой Летописи попа Дуклянина, созданной в XII в. в городе Бар – политическом и церковном центре расположенного по соседству с Хорватией Дуклянского королевства. В начальных главах этого памятника, наиболее вероятным автором которого был барский архиепископ Григорий (1172–1196 гг.)[423], описываются деяния правителей обширного «готско-славянского» королевства, якобы существовавшего в прошлом на землях позднеримских провинций Далмации и Превалиса, основанного готами в конце V в. и со временем заселенного славянами. При этом, как несколько туманно объясняет читателю во введении сам автор памятника, текст летописи включает в себя (или даже целиком представляет собой) выполненный им перевод со славянского языка некой «книги о готах» (Libellus Gothorum)[424].
Время и место создания этой «книги о готах», а также вопрос о том, какую именно часть известного нам нарратива составляет ее перевод, остается предметом непрекращающихся дискуссий, в ходе которых высказываются гипотезы об историчности тех или иных персонажей летописи и их соответствии правителям отдельных славянских княжеств, оказавшихся к концу XI в. под властью дуклянской династии Воиславичей. Однако, даже если те или иные «короли» не были вымыслом дуклянского автора (или его предшественника), само начало дуклянской истории в том виде, в каком оно предстает в летописи, сложно трактовать иначе, чем как «изобретенную традицию», в рамках которой ранняя история Дуклянской державы рассматривается как история готского королевства, основателем которого является Остроил, один из трех сыновей готского короля Сенулада. При этом изложенная в летописи история трех сыновей Сенулада подозрительно напоминает рассказ готского историка Иордана о трех сыновьях Вандалария, что позволяет говорить об искаженном воспроизведении в летописи истории готского рода Амалов[425].
Истоки «готомании» барского священника не вполне ясны. На основании имен исторических персонажей, фигурирующих в первых главах памятника, в историографии высказывалось мнение, что сведения о готах были почерпнуты барским клириком из исторической традиции Монтекассинского аббатства[426], чьи контакты с Дуклянским королевством засвидетельствованы в источниках. Согласно другой точке зрения, готская традиция пришла в Дуклю из Венгрии, в свое время перенявшей из Баварии элементы эпической традиции, повествовавшей о борьбе готов с гуннами[427]. Показательно, что готский дискурс в Дукле был, как и в случае со сплитской традицией, порождением романской интеллектуальной среды, так как Бар, несмотря на высокую степень интеграции в политическое пространство Дуклянского королевства, в котором он фактически играл роль «столицы», оставался (по крайней мере, отчасти) городом романским по населению. Об этом недвусмысленно свидетельствует сам летописец, когда, объясняя во введении замысел своего труда, в качестве одной из главных причин его написания (а вернее перевода со славянского на латынь таинственной «готской книги») называет желание познакомить воинственную молодежь Бара со славными деяниями готских (=славянских) королей[428].
Интересно, что с течением времени сложившееся в Дукле представление о существовании в прошлом «готско-славянского» королевства распространилось среди соседних земель. О том, что данное представление было значимо не только для раннесредневековой Дукли, «растворившейся» в XIII в. в Сербском королевстве Неманичей, но и для позднесредневекового Хорватского королевства (находившегося с 1102 г. в унии с Венгрией), свидетельствует составленная здесь Хорватская хроника, фактически являющаяся хорватской редакцией Летописи попа Дуклянина. Изложение событий в Хорватской хронике соответствует (с некоторыми более или менее существенными расхождениями в отдельных деталях) первым 23-м из 47 глав латинского текста дуклянского автора с присоединением к ним еще нескольких глав (24–28) с содержанием, не имеющим параллелей в латинской редакции.
Несмотря на то, что в контексте латинской редакции история «готско-славянского» королевства рассматривается фактически как ранняя история Дукли, в Хорватской хронике такая привязка отсутствует. Напротив, в последних главах хроники подробно рассказывается о судьбе хорватского короля Дмитрия Звонимира (1075–1089 гг.), который в изображении Хорватской хроники предстает преемником правителей «готско-славянского» королевства. К тому же место действия событий, описываемых в начальных главах хроники, может быть локализовано на территории Хорватии и Боснии[429]. Вследствие этого обстоятельства в историографии даже появилась версия о хорватском происхождении «книги о готах», положенной в основу созданной в Дукле латинской редакции[430]. Хотя исключать такую возможность полностью и не следовало бы, оснований для этого явно недостаточно: язык Хорватской хроники явно указывает на более поздний период ее создания (возможно, XIV столетие), а о месте и времени составления гипотетического славянского протографа можно лишь догадываться.
К XIV в. относится создание еще одного хорватского памятника, апеллировавшего к наследию «готско-славянского» королевства – приписки к тексту так называемого «Супетарского картулярия», в которой описывается политическое устройство некоего идеального «королевства хорватов» (regnum Croatorum), состоящего из семи областей, возглавляемых банами. В тексте этого источника, появление которого следует связывать с политической активностью Сплитской церкви и тяготевшей к Сплиту хорватской знати[431], помимо всего прочего, называются имена некоторых банов, будто бы фигурировавших в истории Хорватии «со времен короля Светопелека вплоть до времени Звонимира»[432]. Упоминание в данном источнике короля Светопелека – одного из наиболее значимых персонажей Летописи попа Дуклянина, в которой он фигурирует как правитель, крестивший и заново обустроивший «готско-славянскую» страну, является прочным свидетельством того, что в XIV в. Летопись попа Дуклянина (или какой-то вариант ее текста) не только была известна в Хорватском королевстве, но и воспринималась в качестве важнейшего источника информации об истории Хорватии.
При этом необходимо отметить, что в раннее Средневековье никакой апелляции к наследию готов или готских королей в Хорватии не наблюдалось. Так, в 30-й главе трактата византийского императоpa Константина VII Багрянородного «Об управлении империей» (середина X в.), где при описании истории хорватов воспроизводится хорватская историческая традиция того времени, ни о каких готах речи не идет. Удивляться этому не приходится: традиция, зафиксированная в X в., очевидно, воспроизводила оригинальный гентильный дискурс хорватской воинской элиты далматинского хинтерланда, кристаллизовавшейся в VII–IX вв. в условиях отмежевания сначала от аварских, а затем и от франкских иерархических структур[433]. Готское же наследие могло стать актуальным для хорватов лишь в процессе интенсивного культурного взаимодействия с романцами, примерявшими к жителям хинтерланда бытовавший в их среде образ варваров-готов.
Когда же в таком случае идея наследования готским королям оказалась востребованной хорватской элитой? Есть основания полагать, что это произошло в конце XIII – начале XIV в., когда представителю могущественного хорватского рода Шубичей, Павлу Шубичу, носившему титул «бана хорватов» (banus Croatorum) (1293–1312 гг.), удалось не только распространить свою власть на обширную территорию, но и превратиться в фактически самостоятельного хорватского государя, лишь номинально зависевшего от короля Карла Роберта, поддержанного им в борьбе за венгерский престол. Как показывают новейшие исследования, в практике репрезентации своей власти Шубичи сознательно апеллировали к образу хорватского короля Звонимира, почитание которого утвердилось в родовом граде Шубичей – Брибире[434]. Наличие рассказа о правлении Звонимира в тексте Хорватской хроники вместе с присутствием репрезентативного образа «королевства хорватов» в приписке к Супетарскому картулярию, перекликающегося с титулом «бана хорватов», принятым Павлом Шубичем, позволяет думать, что именно в державе Шубичей произошло конструирование новой традиции, в которой представление о готском происхождении хорватского государства могло быть усвоено хорватской элитой.
Дискурсивное дистанцирование «потомков римлян» (далматинских горожан) и «потомков готов» (славян хинтерланда), доставшееся Далмации в наследство от Средневековья, стало разрушаться в эпоху позднего Ренессанса, в период, когда Далмация (за исключением Дубровника) входила в состав Венецианского государства. В это время под влиянием характерной для зарождавшегося протонационального дискурса актуализации языкового родства на первый план стали выходить славянские параметры как хорватской, так и далматинской идентичности. Произошло это не автоматически, а при посредстве протонациональной «идеологемы» иллиризма, утверждавшей, в отличие от средневековой готской традиции, местные, античные, истоки славяноязычных жителей Далмации[435]. Впервые со всей ясностью тезис об древнем иллирийском происхождении «далматинцев» был сформулирован в трактате далматинского гуманиста, жителя Шибеника, Юрая Шижгорича «О положении Иллирии и о городе Шибенике» (1487 г.)[436], в котором славяноязычные далматинцы выступают как часть более широкой общности – «иллиров».
В речи (oratio) другого далматинского гуманиста – Винко Прибоевича «О происхождении и славе славян» (1525 г.), произнесенной им в его родном городе Хваре, а затем опубликованной в Венеции (1532 г.)[437], произошло имевшее огромное влияние на последующую историографическую традицию отождествление «иллирского» народа со славянами. Концепция Прибоевича об иллирах-славянах вступала в противоречие с готицизмом, зато находилась в русле средиземноморских, прежде всего, италийских, антикизирующих идеологических конструкций, находя, в частности аналогию в венецианском энетизме, признававшем венецианцев потомками древнего народа энетов/венетов[438]. Далмацию, характеризующуюся мощной античной традицией, роднила с государствами Италии апелляция к классической древности, а унаследованный от Средневековья далматинский патриотизм и дистанцирование от «славян-готов» не способствовали протонациональному прочтению готицизма. Вместе с тем, осуществленная Прибоевичем реабилитация имени славян, прежде ассоциировавшегося с «варварами»-готами, объективно создавала благоприятную почву для последующего встраивания в славянский протонациональный дискурс собственно готских аспектов славянской идентичности.
Важнейший шаг на пути превращения готов в доблестных предков славян осуществил дубровницкий историк Мавро Орбини, который в своем знаменитом труде «Королевство славян» (1601 г.)[439]фактически поставил на службу своей славянской идее и иллиризм, и готицизм, превратив последний в важный элемент славянского протонационального дискурса. Готские сюжеты Летописи попа Дуклянина, опубликованной в книге Орбини в переводе на итальянский язык, органично сочетались с разработанной автором концепцией истории славян, в которой важная роль отводилась исходу славян со своей прародины, локализованной Орбини в Скандинавии, то есть там, где средневековые авторы традиционно размещали древнюю родину готов. При этом летописные готские короли играли в труде Орбини роль связующего звена между античной эпохой, когда могущество «славян-иллиров» выражалось в правлении целого ряда римских императоров, якобы имевших славянское происхождение (таких, например, как Константин Великий и Юстиниан), и Средневековьем, когда воображаемая «славянская империя» нашла свое продолжение в Сербском царстве Стефана Душана[440].
Концепция Орбини оказала большое влияние на авторов так называемого «барочного славизма», а его схема славянской истории, с отведением ключевой роли готской династии «Свевладичей» (потомков Сенулада/Свевлада), стала практически канонической для историографии Дубровника, Далмации и Хорватского королевства (в составе монархии Габсбургов) XVII–XVIII вв. При этом происходившее в эту эпоху усложнение протонационального дискурса, выразившееся в появлении собственно хорватского протонационализма, придавало новый смысл и апелляции к готскому наследию, что хорошо видно в труде хорватского историка Павла Риттера-Витезовича «Возрожденная Хорватия» (1700 г.)[441]. Это произведение, призванное обосновать территориальные притязания Габсбургов при разграничении с Османской империей, последовавшем после заключения в 1699 г. Карловицкого мира, содержало, по признанию современных исследователей, все необходимые элементы для концептуализации хорватской общности как национальной[442]. Готская традиция оказалась органично встроенной в эту концепцию, так как в труде Витезовича не только детально обрисовывались территориальные и «этнические» (общий язык, общее происхождение) параметры Хорватии, но и содержалось историческое обоснование государственного континуитета Хорватского королевства в его «исторических» границах со времен правления готского короля Остривоя (Остроила в Летописи попа Дуклянина).
Идеи Витезовича, в свою очередь, оказали влияние на последующее развитие (прото)национальной идеологии в Хорватии вплоть до появления в первой половине XIX в. идейного течения (нового) иллиризма, связанного, прежде всего, с именем Лю девита Гая. Хотя этот новый иллиризм можно рассматривать в качестве хорватской версии славянского романтического национализма, активно развивавшегося в то время в славянских землях монархии Габсбургов и, прежде всего, в Чехии, его генетическая связь с предшествующим протонациональным дискурсом не подлежит сомнению[443]. Правда, элементы готицизма в этой новой идеологии окончательно теряются: хорватский национализм XIX столетия в них уже не нуждался.
* * *
УДК 94(497.5)
АЛИМОВ ДЕНИС ЕВГЕНЬЕВИЧ. К. и. н., доцент, Санкт-Петербургский Государственный университет, Санкт-Петербург.
DENIS ALIMOV. PhD, Associate Professor, Saint Petersburg State University, Saint Petersburg.
E-mail: aljimov(o)mail.ru
ОТ ГОТОВ К СЛАВЯНАМ: ЭВОЛЮЦИЯ ХОРВАТСКОГО ГОТИЦИЗМА ОТ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ К НОВОМУ ВРЕМЕНИ
В статье рассматривается эволюция хорватского готицизма, то есть комплекса представлений о тесной связи хорватов с готами, от Средневековья к Новому времени. Автор подчеркивает, что в Средневековье готское наследие стало актуальным для хорватов лишь в процессе их взаимодействия с далматинскими романцами, которые первыми стали примерять к славянам существовавший в их среде образ варваров-готов. В результате этого взаимодействия хорваты восприняли представление о своем будто бы готском происхождении, ставшее элементом политического дискурса Хорватского королевства (Regnum Chroatorum). Противоставление «потомков римлян» (граждан прибрежных городских общин) и «потомков готов» (славян хинтерланда), доставшееся Далмации в наследство от Средневековья, стало отходить на второй план в эпоху позднего Ренессанса, с появлением протонационального иллиризма, который, в отличие от средневековой готской традиции, утверждал автохтонные, античные, корни славяноязычного населения Далмации. Совмещение обеих тенденций, средневекового готицизма и ренессансного иллиризма, осуществилось в труде Мавро Орбини «Королевство славян» (1601 г.), где готицизм был превращен в элемент славянского протонационального дискурса. Происходившее впоследствии усложнение протонационального дискурса, выразившееся в придании протонационального характера собственно хорватской идентичности, придало новый смысл и апелляции к готскому наследию.
Ключевые слова: Далмация; Хорватское королевство; готицизм; иллиризм; протонациональный дискурс.
FROM GOTHS ТО SLAVS: THE EVOLUTION OF THE CROATIAN GOTHICISM FROM THE MIDDLE AGES TO MODERN TIME
The article traces back the evolution of the Croatian Gothicism, a complex of ideas of the Croats’ supposed close bonds with the Goths, from the Middle Ages to Modern Time. The author stresses that in the Middle Ages the Gothic legacy rose in importance for the Croats only in the course of their interaction with the Dalmatian Romans who were the first to apply the image of the barbarian Goths to Slavs. As a result of this interaction, the Croats accepted the idea of their supposed Gothic origin, which became part of the political discourse of the Croatian kingdom (Regnum Chroatorum). The opposition of “descendants of the Romans” (citizens of urban communes on the seaside) to “descendants of the Goths” (Slavs in the hinterland), inherited by Dalmatia from the Middle Ages, receded into the background in the late Renaissance, with the emergence of the proto-national Illyrianism, which, unlike the medieval Gothicist tradition, asserted autochtonous origins of the Slavic population of Dalmatia. The combination of the two trends, medieval Gothicism and Renaissance Illyrianism, was realized in the work “The Kingdom of the Slavs” by Mavro Orbini (1601) who turned Gothicism into an element of the Slavic proto-national discourse. The further complication of the proto-national discourse, which expressed in imparting proto-national nature to the Croat identity proper, has attached a new meaning to the appeal to the Gothic legacy.
Keywords: Dalmatia; Croatian kingdom; Gothicism; Illyrianism; proto-national discourse.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Акимова О. А. «Господин своего языка»: о попытке строительства государства в Хорватии конца XIII – первой половины XIV века // Славяноведение. 2013. № 1. С. 3–10.
2. Алимов Д. Е. Хорватская идентичность в раннее Средневековье: проблема интерпретации // Вестник СПбГУ. Сер. 2.2013. Вып. 4. С. 99–108.
3. Орбини М. Славянское царство. Происхождение славян и распространение их господства/ пер. Ю. Куприкова. М.: ОЛМАМедиа Групп, 2010. 575 с.
4. Станоjевић С. О првим главама Дукљанског летописа // Глас Српске краљевске академиjе. 1927. Књ. 126. С. 91–101.
5. Фома Сплитский. История архиепископов Сплита и Салоны/ вступ. статья, перевод, комментарий О. А. Акимовой. М.: Индрик, 1997. 320 с.
6. Ančič М. Dva teksta iz sredine 14. stolječa. Prilog poznavanju «društvenog znanja» u Hrvatskom Kraljevstvu // Starohrvatska prosvjeta. Ser. III. 2013. Sv. 40. S. 155–200.
7. Banac I. The redivived Croatia of Pavao Ritter Vitezovič // Harvard Ukrainian Studies.
1986. Vol. 10. Nr. 3–4. P. 492–507.
8. Blazevič Z. Vitezovičeva Hrvatska izmedu stvarnosti i utopije: ideološka koncepcija u djelima postkarlovačkog ciklusa Pavla Rittera Vitezoviča (1652–1713.). Zagreb: Barbat, 2002. 279 s.
9. Blazevič Z. Ilirizam prije ilirizma. Zagreb: Golden marketing – Tehnička knjiga, 2008.400 s.
10. Cipek T. Oblikovanje hrvatskog nacionalnog identiteta. Primordijalni identitetski kod u ranoj hrvatskoj političkoj misii // Dijalog povjesničara-istoričara / Ur. I. Graovac, H.-G. Fleck. Zagreb: Friedrich Naumann Stiftung, 2001. S. 59–75.
11. Hauptmann L. Kroaten, Goten und Sarmaten // Germanoslavica. 1935. Vol. III. S. 95-127, 315–353.
12. Katičić R. Vetustiores ecclesiae spalatensis memoriae // Starohrvatska prosvjeta. Ser. III. 1987. Sv. 17. S. 17-51
13. Ljetopis Popa Dukljanina. Latinski tekst sa hrvatskim prijevodom i «Hrvatska kronika»/ priredio V.Mosin. Zagreb: Matica hrvatska, 1950. 107 s.
14. Madunič D. Strategies of distinction in the work of Vinko Pribojevič // Whose love of which country? Composite states, national histories and patriotic discourses in Early Modern East Central Europe/ ed. by B. Trencsényi and M. Zászkaliczky. Leiden; Boston: Brill, 2010. P. 177–202.
15. Matijevič Sokol M. Torna Arhidakon i njegovo djelo: ráno doba hrvatske povijesti. Jastrebarsko: Naklada Slap, 2002. 385 s.
16. MužičI. Hrvatska kronika u Ljetopisu Popa Dukljanina. Split: Muzej hrvatskih arheoloških spomenika, 2011. 343 s.
17. Orbini M. Kraljevstvo Slavena/ Prevela S. Husič; priredio i uvodnu studiju napisao F. Sanjek. Zagreb: Golden marketing: Národně novině, 1999. 623 s.
18. Peričič E. Sclavorum Regnum Grgura Barskog: Ljetopis Popa Dukljanina. Zagreb: Krščanska sadašnjost, 1991. 370 s.
19. Pribojevič V. O podrijetlu i slavi Slavena/ Převelí V. Gortan, P. Knezovič. Zagreb: Golden marketing: Národně novině, 1997. 211 s.
20. Rus J. Kralji dinastije Svevladičev, najstarejši skupni vladarji Hrvatov in Srbov 454–614. Ljubljana: Univerzitetna tiskárna J. Blasnika, 1931. 208 s.
21. Sižgorič J. O smještaju Ilirije i o gradu Sibeniku/ priredio i preveo V. Gortan. Sibenik: Muzej grada Šibenika, 1981. 122 s.
22. Svob D. Připiš supetarskog kartulara o izboru starohrvatskog kralja i popis onodobnih banova // Historijski zbornik. 1956. God. IX. Br. 1–4. S. 101–117.
23. Topič M. Nacionalizam i ideologija. Pavao Ritter Vitezovič kao nacionalni mislitelj i/ili ideolog // Zbornik Odsjeka povijesnih znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU. 2010. Sv. 28. S. 107–138.
24. Vitezovič Ritter P. Oživljena Hrvatska = Croatia rediviva/ prevela i priredila Z. Blaževič. Zagreb: Latina et Graeca: Hrvatski institut za povijest: Závod za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta, 1997.173 s.
REFERENCES
1. Akimova OPga. “«Gospodin svoyego yazyka»: o popytke stroitekstva gosudarstva v Horvatii kontsa XIII – pervoi poloviny XIV veka”. Slávyanovedenie 1 (2013). P. 3–10. (in Russian).
2. Alimov Denis. “Horvatskaya identichnosť v ranneye srednevekov’e: problema interpretatsii”, Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta Ser. 2, 4 (2013). P. 99–108. (in Russian).
3. Ančič Mladěn. “Dva teksta iz sredine 14. stolječa. Prilog poznavanju «dmstvenog znanja» u Hrvatskom Kraljevstvu”, Starohrvatskaprosvjeta Ser. Ill 40 (2013). S. 155–200.
4. Banac Ivo. “The redivived Croatia of Pavao Ritter Vitezovič”, Harvard Ukrainian Studies 10 (1986). P. 492–507.
5. Blaževič Zrinka. Vitezovičeva Hrvatska izmedu stvarnosti i utopije: ideološka koncepcija и djelima postkarlovačkog ciklusa Pavla Rittera Vitezoviča (1652–1713). Zagreb: Barbat, 2002.279 s.
6. Blaževič Zrinka. Ilirizamprije ilirizma. Zagreb: Golden marketing – Tehnička knjiga, 2008. 400 s.
7. Cipek Tihomir. “Oblikovanje hrvatskog nacionalnog identiteta. Primordijalni identitetski kod u ranoj hrvatskoj političkoj misii”, u Dijalog povjesničara-istoričara, Ur. Igor Graovac, Hans – Georg Fleck. Zagreb: Friedrich Naumann Stiftung, 2001. S. 59–75.
8. Foma Splitskiy. Istoriya arhiepiskopov Splita i Salonytransl. OPga Akimova. Moscow: Indrik Publ., 1997. 320 p. (in Russian).
9. Hauptmann Ludmil. “Kroaten, Goten und Sarmaten”, Germanoslavica. 1935. Vol. III. S. 95-127; 315–353.
10. Katičič Radoslav. “,Vetustiores ecclesiae spalatensis memoriae”; Starohrvatska prosvjeta Ser. Ill 17 (1987). S. 17–51.
11. Ljetopis Popa Dukljanina, Latinski tekst sa hrvatskim prijevodom i «Hrvatska kronika», Priredio V. Mošin. Zagreb: Matica hrvatska; 1950. 107 s.
12. Madunič Domagoj. “Strategies of distinction in the work of Vinko Pribojevič”, in Whose love of which country? Composite states, national histories and patriotic discourses in Early Modern East Central Europe, ed. by Balázs Trencsényi and Márton Zászkaliczky. Leiden; Boston: Brill; 2010. P. 177–202.
13. Matijevič Sokol M. Toma Arhidakon i njegovo djelo: ráno doba hrvatske povijesti. Jastrebarsko: Naklada Slap, 2002. 385 s.
14. Mužič Ivan. Hrvatska kronika и Ljetopisu Popa Dukljanina. Split: Muzej hrvatskih arheoloških spomenika; 2011. 343 s.
15. Orbini Mavro. Kraljevstvo Slavena, prevela Snježana Husič; priredio Franjo Šanjek. Zagreb: Golden marketing: Národně novině, 1999. 623 s.
16. Orbini Mavro. Slávyanskoe tsarstvo, transl/ by Yurij Kuprikov. Moscow: OLMA Media Grupp Publ., 2010. 575 p. (in Russian).
17. Peričič Eduard. Sclavorum Regnum Grgura Barskog: Ljetopis Popa Dukljanina. Zagreb: Krščanska sadašnjost, 1991. 370 s.
18. Pribojevič Vinko. O podrijetlu i slavi Slavena, preveli Veljiko Gortan, Pavao Knezovič. Zagreb: Golden marketing: Národně novině, 1997. 211 s.
19. Rus Jože. Kralji dinastije Svevladičev, najstarejši skupni vladarji Hrvatov in Srbov 454–614. Ljubljana: Univerzitetna tiskárna J. Blasnika, 1931. 208 s.
20. Šižgoričjuraj. O smještaju Ilirije i o gradu Šibeníku, priredio ipreveo Veljiko Gortan. Šibenik: Muzej grada Šibenika, 1981. 122 s.
21. Stanojevič St. “O prvim glavama Dukljanskog letopisa”, Glas Srpske kraljevske akademije 126 (1927). P. 91–101. (in Serbian).
22. Svob Držislav. “Připiš supetarskog kartulara o izboru starohrvatskog kralja i popis onodobnih banova”, Historijski zborniklX (1956). S. 101–117.
23. Topič Martina. “Nacionalizam i ideologija. Pavao Ritter Vitezovič kao nacionalni mislitelj i/ili ideology”, Zbornik Odsjeka povijesnih znanosti Zavoda zapovijesne i drustvene znanosti HAZU28 (2010). S. 107–138.
24. Vitezovič Ritter P. Oživljena Hrvatska = Croatia rediviva, prevela ipriredila Zrinka Blazevič. Zagreb: Latina et Graeca: Hrvatski institut za povijest: Závod za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta, 1997. 173 s.
Идентичность как основа культурной программы трансильванской школы: на примере Historia Valachorum Самуила Мику Клайна
Бутунел Родика
Общим местом в историографии является положение о том, что базовая структура румынской национальной идентичности была разработана в XVIII в. в Трансильвании[444]. Фоном для ее возникновения была борьба за политические права «валашской нации»[445], при этом для того, чтобы обосновать свои претензии, акторы этой борьбы апеллировали к историческому опыту народа. Выработанная ими концепция идентичности восточных романцев является господствующей в историографии Нового времени и остается актуальной до настоящего времени. По справедливому замечанию бухарестского профессора Л. Боя, с XVIII в. соответствующие исследования, по большей части, были нацелены на утверждение, но никак не на отрицание или переосмысление, проверку сформированного стереотипа[446]. Мы полагаем, что из критического анализа данной парадигмы идентичности восточных романцев можно извлечь полезный опыт для постановки и решения проблем идентичности в наши дни.
Трансильванская школа (вторая половина XVIII – начало XIX вв.) объединяла патриотические группы валашских интеллектуалов, сосредоточившихся на решении таких насущных проблем трансильванских валахов, как высокий уровень безграмотности, социальное и политическое неравноправие, бедность и др. Члены школы принимали активное участие в культурно-образовательных реформах австрийских монархов, находились в эпицентре общественной жизни[447]. Их дятельность была многогранной: художественное творчество, теологические и философские труды, естественно-научные разработки, учебники родного языка, запись и публикация устно-поэтических народных произведений и т. д.[448] Тем не менее, главным направлением их культурно-просветительской программы было создание оригинальных филологических и исторических произведений, которые повлияли бы на процесс формирования национального самосознания восточных романцев[449]. Трансильванский историограф П. Теодор отметил, что в трудах представителей школы отразились характерные элементы культуры эпохи Просвещения: «прошлое и настоящее» обрели тесную связь»[450].
Между тем, если задачей просвещенческой программы Трансильванской школы являлась попытка культурной и политической легитимации восточнороманского этноса, то идентичность оказывалась способом трактовки обстоятельств и установления критериев этнокультурной дифференциации. Одним из красноречивых симптомов интеллектуальных дискуссий этого времени был спор между австрийскими и валашскими интеллектуалами относительно исторических и правовых оснований общежития валах и остальных наций Трансильвании.
Нужно сказать, что изначально в подобного рода спорах идентичность валахов воспринималась как факт не только научный, но и политический. Как нам приходилось уже отмечать, на развитие полемики определенный отпечаток накладывал социальный контекст. По мере дальнейшего развития сюжета и возникновения споров по поводу исторической достоверности приводимой аргументации, тема идентичности валахов все более политизировалась. При этом в качестве приоритетных выделялись определенные исторические аспекты спора, в числе первоочередных – происхождение этноса. Ярким примером создания исторической аргументации идентичности валахов в ее этногенетическом аспекте стал капитальный труд Historia Valachorum, созданный членом школы, униатским священником и богословом, Самуилом Мику Клейном (1745–1806) в 1800–1805 гг. Historia Valachorum, как и предшествующие исторические сочинения автора, выдвигает тезис о «чистой» линии этногенетиче-ского развития восточно-романского населения. Данная концепция, известная в литературе как latinism, делала упор на один компонент этногенеза – романский[451].
Следует отметить, что многие идеи, составившие основу концепции С. Мику, были сформулированы до него, однако именно он собрал их воедино и попытался по-новому взглянуть на идентичность восточных романцев. Исследователь Ф. Келлогг заметил, что система взглядов С. Мику на историю восточнороманского этноса продолжала и углубляла, но уже на базе просветительской идеологии, линию, сформулированную еще Д. Кантемиром в «Хронике стародавности романо-молдо-влахов» (1712–1716), которую просветитель активно использовал[452]. Итоговый характер размышлений историка побуждает произвести анализ отдельных положений его концепции.
Как уже было отмечено выше, к числу первоочередных вопросов идентичности восточных романцев С. Мику относил происхождение жителей северного побережья Дуная как государствообразутощей части этноса[453] [454]. В комментариях к первому изданию Истории академик И. Киндиш отмечает, что этой теме Мику планировал посветить Пролегомену, написать которую он не успел11. Тем не менее, основные принципы его концепции изложены в первой и второй главах Истории. Согласно изложенной в ней концепции, валахи – потомки римских колонистов, осевшие в Дакии после 106 года и. э. Так, в параграфе «Румыны, которые сегодня в Дакии обитают от древних римлян идут» он со всей определенностью заявлял: «Ученые и мудрые писатели все в один голос свидетельствуют, что румыны Дакии, которых другие народы именуют валахами, идут от древних римлян, которых император Траян поставил в Дакии»[455]. Романская генеалогия дает валахам историческое значение, тем самым они возвышаются в своей цивилизационной роли. Здесь он внушал мысль об их праве претендовать на соответствующий их происхождению статус. В тексте термины «валахи» и «румыны» используются как синонимы[456].
Важным источником идеологического материала является тезис об этнической чистоте валахов, выраженный им впервые. Приведя известные отрывки описания дако-римских войн и их последствий в основном из Еуторопиуса[457], С. Мику специально отмечает, что «после того как римляне завоевали Дакию, они истребили все ее население»[458] и «поставили в этих местах аристократов, военных, граждан и колонистов из Рима»[459]. Тут мысль автора предельно ясна: даки никакого отношения к этногенезу валахов не имеют[460]. Этот исключающий принцип был ключевым в концепции автора, так как предполагал тактический подход к вопросу о происхождении восточнороманского населения. Романская генеалогия включала в себя возможность конкурировать с другими нациями; варварские корни аннулировали эту возможность. Подобный акцент не мог не иметь актуальное политическое значение: выделение сословной составляющей римского населения провинции Дакия могло быть интерпретировано как реплика имевших широкое хождение версий происхождения валахов от римских ссыльных, которая была источником негативных представлений о них.
Укрепляло идею благородных корней и много раз прокомментированное утверждение об общем предке восточных романцев – императоре Траяне, который был «родоначальник всех румын, тех, кто обитают ныне в Дакии, то есть Румынская Земля, Молдова, Ардял и на венгерской стороне до реки Тиса»[461]. Символическая фигура Траяна – ключевого персонажа в национальном пантеоне – квинтэссенция римского величия, не единожды становившаяся платформой для самоидентификации. Утверждение общего предка содержит важный аргумент этнокультурной идентичности, цементирующий идентичность элемент его концепции – представление о былой общности этнополитических процессов единого восточнороманского населения карпато-дунайского региона. На наш взгляд, приведенный фрагмент также содержит скрытый, территориально-политический смысл, представляющий особый интерес для нашей темы, так как он, по сути, повествует о формировании выделеннымх Э. Смифом элементов «территориальной» нации[462].
Другая часто дискутируемая тема – постоянное проживание валахов на территории их нынешнего обитания. Тезис «автохтонности» валашского населения провинции парировался теорией «миграции», которая настаивала на том, что восточные романцы появились на землях Трансильвании в результате миграционных процессов, происходивших в XIII в. Согласно этой теории, в 271 г. во время правления императора Аврелиана все романское население Дакии под натиском готов покинуло провинцию. Используя известный логический прием доказательства ad absurdo, С. Мику не соглашается с тезисом его оппонентов. Он убежден, что император переселил (в Миссию) всего лишь часть жителей провинции: «военных и тех, кто желал уйти, а те, кто были заняты промыслами и ремеслами, остались»[463]. Подтверждением этого, по его мнению, может быть упоминание Анонима о том, что валахи жили в Трансильвании до прихода венгров[464]. «Автохтонно сть» – важная черта идентичности, обусловленная историей. При таком рассмотрении этого вопроса Трансильвания является не регионально-правовым понятием, а этнической родиной проживающего здесь валашского населения, однако, в силу принципа первонаселения их политические права оказывались под вопросом.
Суждения об автохтонности логически ведут к другому принципиальному вопросу идентичности трансильванских валахов – политическому континуитету. Чтобы показать непрерывность государственной традиции этноса С. Мику подчеркивает, что в начале прихода венгров в Трансильванию валахи и венгры заключили между собой союз[465]. Этот союз предусматривал общие права для обоих этносов[466]. Поэтому «…валахи решали дела государства и заседали в Диете вместе с венграми…»[468]. Это значит, что валахи принимали участие в политическом процессе провинции на равных правах с венграми. Поэтому возвращение к прежнему состоянию – восстановление исторической справедливости. Здесь генеалогический аспект идентичности переплетался с аспектом политическим. Это говорит о прагматической функции концепции С. Мику. В этом смысле изложенные автором тезисы служили «девизами» просвещенческой программы Трансильванской школы, для которой история являлась наиболее авторитетным репрезентантом национальной культуры.
Резюмируя вышесказанное, можно утверждать, что в Historia Valachorum «концептуализация» идентичности восточных романцев занимает главное место в арсенале инструментов политической борьбы валашской элиты за изменение существующего порядка вещей. Поэтому мы имеем дело с идентичностью, основанной на политической идеологии. Этот комплекс представлений, связанный с романской линией этногенеза восточных романцев, оказал существенное влияние на формирование идейного образа национальной идентичности в Новое время. Именно культ «романской традиции» как основной составляющей идентичности был актуализирован в период формирования государства Румыния Нового времени.
* * *
УДК 94(398) «17/18»
БУТУЧЕЛ РО ДИКА. Аспирант, Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург.
BUTUCEL RODICA. Postgraduate Student, Saint-Petersburg State University, Saint Petersburg.
E-mail: rodica_butucel(3>mail.ru
ИДЕНТИЧНОСТЬ КАК ОСНОВА КУЛЬТУРНОЙ ПРОГРАММЫ ТРАНСИЛЬВАНСКОЙ ШКОЛЫ: НА ПРИМЕРЕ HISTORIA VALACHORUM САМУИЛА МИКУ КЛАЙНА
Тема идентичности восточнороманского населения карпато-дунайского региона в качестве отдельного предмета исследования определилась в конце XVIII – начало XIX вв. Начало ей было положено дискуссией между представителями культурного движения трансильванских румын Трансильванская школа и австрийскими историками. Их конфликтующие позиции относительно этногенеза румын и их континуитета на территории римской провинции Дакия Траяна сегодня суммируются в исторических произведениях трех самых известных представителей Школы, богословов греко-католиков: Самуила Мику-Клайна, Георгия Шинкай и Петру Майора. В интерпретации последних валахи Трансильвании были прямыми потомками римлян, завоевателей Дакии. Не менее важным было то, что этногенетическая модель Трансильванской школы категорично отрицала мнение о дако-римском симбиозе, распространенное среди их оппонентов. Ярким примером данной концепции является Historia valachorum Самуила Мику Клайна, фокус которой сосредоточен на проблеме происхождения и автохтонности валах на землях Трансильвании. Он впервые озвучил тезис о поголовном истреблении римлянами-завоевателями местного населения Дакии… Таким образом, новая провинция Дакия имела чисто римский этнический состав, а император Траян по праву, считается «отцом всех румын». Его аргументация выступает в форме полемики с недоброжелателями валахов. Лейтмотивом работы является идея о восстановлении исторической справедливости, то есть ликвидации социального и политического неравноправия между валахами и остальными нациями Трансильвании. Это требование повлекло за собой кроме интеллектуальных дискуссий, политическую борьбу валашской элиты за способы легитимации своей идентичности. Трансильванская школа воплощала, прежде всего, культурно-просветительскую струю этой борьбы, которая материализовалась в творческой и издательской деятельности, в образовательных инициативах и общественных проектов, направленных на дело «просвещения валашской нации». Мой тезис в данной статье состоит в том, что новые способы репрезентации идентичности восточнороманского населения в Historia valachorum Самуила Мику Клайна были сформулированы в контексте борьбы за права и имели преимущественно воинствующий характер. Такие «объективные» концепции были призваны изменить существующий порядок вещей.
Ключевые слова: идентичность; восточные романцы; Трансильванская школа; интеллектуальные дискуссии; культурная программа; борьба за права.
THE IDENTITY ORIENTED CULTURAL AGENDA OF TRANSYLVANIAN SCHOOL: THE CASE OF HISTORIA VALACHORUM BY SAMUIL MÍCU KLAIN
The issue of ethnocultural identity of East Roman population (Wallachians) emerged as a distinct research question at the end of XVIII – early XIX centuries. It began to evolve in the context of intellectual controversy between the representatives of Transylvanian School cultural movement and Austrian historians. The focus of this dispute, involving ethnogenesis of the Wallachians’ and their continuity in Carpatho-Danubian area, is exemplified in the historical works by most known members of the School. They are the three Wallachian uniate thelogians: Samuil Micu Klain, Gheorghe Shinkai and Petru Maior. Accordung to their interrpretation, the Transylvanian Wallachians were true descendants of Roman conquerors of Dacia. Consequently, the principal goal of the scholars’ argumentation was to invalidate thesis of the Daco-Roman symbiosis prevalent among their opponents. Historia valachorum by Samuil Micu Klain stands for a clear illustration of this postulate. At the core of the author’s approach is the problem of Wallachians’origins and their privilege of being the autochonous population of Transylvania. He was the first to put forward the thesis of total extermination of indigineous inhabitants of Dacia on the part of the Romans. So, newly formed province Dacia Traiana had a purely Roman ethnic composition, while the Emperor Traian was legitimately considered the «patriarch of all Romanians».
He presents his position in the form of a polemic argumentation against the «Wallachians’ defamers». The leitmotif of the History is restoration of historical justice, in other terms, abolition of social and political inequality between Wallachians and other (three) nations of Transylvania. Apart from intellectual discussions, these aspirations generated political fight for legitimacy of the Wallachian identity. The Transylvanian School was mainly dealing with the cultural aspect of this fight, which was manifested in the field of literary and religious writing, printing production, education inintiatives and social projects aimed at «enlightening Wallachian nation». In this paper the author argues that new representations of Wallachian identity in Historia valachorum by Samuil Micu Klain were formulated in the context of the fight for rights, hence their predominantly militant character. These «objective» conceptions were meant to change the existing state of things.
Keywords: identity; East Roman population; Transylvanian School; intellectual discussions; cultural agenda; fight for rights.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ (REFERENCES)
1. Dutu Alexandru. Cultura romána in civilizatia europeaná. Bucuresti: Minerva, 1978. 266 p.
2. Kellogg Frederick. O istorie a istoriografiei románe. Iasi: Institutul European, 1996.187 p.
3. Micu Clain Samuil. Istoria romanilor, ed. loan Chindris. Bucuresti: ed. Viitorul Románesc, 1995. 521 +494 p.
4. Roth Harald. “De la natiunea medievala la natiunea moderna. Identitáti etnice in Transilvania secolelor XVIII–XIX”, in Bisericá, societate, identitate. In honorem Nicolae Bocsan, coord. Ion Cárja. Cluj-Napoca: Presa Universatara Clujeana, 2007. P. 779–786.
5. Scoala Ardeleana, coord. loan Chindris. Oradea: Editura «Episcop Vasile Aftenie», 2007. P. 9–60.
6. Smith Anthony. “The ethnic origins of nations”, Journal of American Ethnic History, 9 (1990). P. 100–102.
7. Teodor Pompiliu. Introducere in istoria istoriografiei din Romania. Cluj-Napoca: Accent, 2002.298 р.
8. Teodor Pompiliu. Sub semnul luminilor: Samiul Micu. Cluj-Napoca: Presa univ. clujeana, 2000. 506 p.
Германские национальные мифы раннего Нового времени в освещении современной историографии
Ивонин Ю. Е.
Национальные мифы живучи в сознании многих народов и этнических общностей нашего времени, несмотря на нередко полное их несоответствие исторической истине. Но, внедрившись в массовое сознание благодаря «национально» ориентированному изложению родной истории в учебниках для средней школы и средствам массовой информации, они продолжают жить в памяти многих поколений. В своем выступлении я хотел бы рассмотреть основные моменты процесса складывания в раннее Новое время наиболее распространенных национальных мифов Германии, сыгравших главную роль в формировании германского национализма. После окончания Второй мировой войны одной из наиболее важных задач преодоления сформировавшегося в течение почти полутора столетий мифологического сознания стала критика германских исторических мифов и изучение их становления с научных позиций. Сформировавшиеся стереотипы о Германии и немцах во многом ранее способствовали великодержавию, ксенофобии, реваншизму и, как следствие, военной агрессии. Между тем, как полагает американский социолог Л. Гринфельд, «национализм – это тот фундамент, на котором зиждется современный мир». Причем развитие национального сознания в Германии произошло чрезвычайно быстро, буквально с 1806 г., после поражения Пруссии от Наполеона, к 1815 г., однако его становление подготавливалось в течение долгого времени, при этом, в отличие от многих других народов, не аристократией и правящей элитой, а образованными представителями недворянского сословия, людьми интеллектуального труда[469].
Безусловно, важно обратить внимание на причины создания и популяризации мифов о наследовании германцами Римской империи и империи Карла Великого (Translatio imperii), мифа о «Германии» Тацита, мифа о Лютере как создателе германского национального духа, мифа о Фридрихе Великом и Гогенцоллернах, мифов 1871 г. о Пруссии как спасительнице немецкого народа и германского национального государства. Речь идет о том, что на протяжении нескольких веков в кругах гуманистов и интеллектуалов, не принадлежавших к дворянству и оттесненных от политической активности, сформировались основные исторические мифы о Германии, которые, до начала XIX в., оставались в арсенале будущей националистической идеологии и были пущены в ход во время наполеоновских войн и объединения Германии, а затем – уже во времена кайзеровской Германии и существования Третьего Рейха.
В последние десятилетия XX в. представления о «естественности» наций и этнических сообществ были подвергнуты серьезным сомнениям теми историками и социологами, которых теперь принято называть модернистами и конструкционистами, обосновавшими положение о том, что нации являются продуктом национализма и националистической политики государств. Очевидно, что необходимо учитывать инструментализм германского национализма и его конструктивизм в смысле концепта нации как социально-политического и культурного конструкта. Важно отметить, что споры об «особом» пути государственно-политического развития Германии и «запоздалой нации», отстававшей от Западной Европы (Англии, Франции) в смысле создания «нации-государства» и поэтому должной ее превзойти, приобретают дополнительное звучание, поскольку речь идет о преобладании консервативных или либеральных тенденций в исследовании вопроса о формировании немецкой нации и роли в этом процессе национальных мифов. Поэтому можно вполне определенно говорить о том, что германский национализм, проявлявшийся в виде мифов, как культурная матрица возник раньше, чем сама германская нация Последствия поражения Германии во Второй мировой войне привели к переосмыслению и переоценке господствовавших в немецкой историографии второй половины XIX – первой половины XX вв. постулатов малогерманской (боруссианистской) историографии, негативно оценивавших Священную Римскую империю как препятствие на пути создания германского национального государства в форме нации-государства и апологетизировавших роль Пруссии как спасителя немецкого народа и объединителя Германии. «Национальный» блеск Священной Римской империи «германской нации» изрядно потускнел; выяснилось, что национальное находилось в рудиментарном состоянии.
Для большинства современных немецких и австрийских историков, особенно католически ориентированных, Старая империя представляет собой образец федералистской государственности, характеризующийся политическим, культурным и религиозным разнообразием, в отличие от национально ориентированной парадигмы германского государства и германского национализма. П. Хартманн предлагает характеризовать Священную Римскую империю с 1648 г. Средней Европой регионов (Mitteleuropa der Regionen), для которой были свойственны конфессиональное, этническое и языковое разнообразие и связанные с этим культурный расцвет и культурные различия территорий[470]. В целом, как замечает К. Малеттке, констатация того, что Империя не имела четко обозначенных границ – анахронизм, исходящий из модели территориального суверенитета государства Нового времени и не учитывающий специфических структур политической организации Империи, тем более, что ее властные структуры не были гомогенными[471].
Вполне ли оправданно достаточно резкое суждение Самуэля фон Пуфендорфа, высказанное им в опубликованном в 1667 г. трактате «О конституции Римско-Германской империи» об Империи как о irregulare aliquod corpus et monstro simile, т. e. как о подобии монстра? Отвечая на этот вопрос, нужно учитывать, что в это время Империя еще не ожила после кризиса Тридцатилетней войны, однако, с другой стороны, сохранила иерархическую структуру и не превратилась в конфедерацию независимых государств. Ее можно было бы назвать объединенными штатами Германии или сравнить с Европейским Союзом наших дней, хотя оба эти сравнения не совсем адекватны. Государственность раннего Нового времени развивалась в Империи на уровне территориальных государств, не только Австрии и Пруссии, но и Баварии и ей подобных стран под общей крышей Империи. Тем более, что с конца XVI в. в работах немецких профессоров права начинают теоретически обосновываться принципы федеративного устройства Империи, получившие особенное раскрытие в XVIII в. в трудах Иоганна Якоба Мозера[472].
Необходимо подчеркнуть также, что опора на гуманистов в оценке «немецкости» истории Священной Римской империи в раннее Новое время оказывается довольно шаткой, поскольку, как подчеркивает Р. Бабель, она во многом отмечена антагонизмом между Францией и Габсбургами. На рубеже XV–XVI вв. в трудах немецких гуманистов на примере Франции создается конструкция коллективной памяти нации на основе ее происхождения с исходным пунктом в виде «Германии» Тацита и идеи, восходящей к древним германцам общей этнической, языковой и культурно-цивилизационной принадлежности[473]. В. Демель показывает, что национализм, появившийся в результате Французской революции, преодолевал «Landespatriotismus» и космополитизм эпохи Просвещения, являвшийся зародышем «европеизма»[474]. На мой взгляд, прав X. Шиллинг, считающий Старую империю скорее частично модернизированной имперской системой, имперским союзом территориальных государств, т. е. федерацией или конфедерацией с избираемым императором[475]. Поэтому говорить об имперском государстве и германской культурной нации как ее основе в духе Ф. Мейнеке или Г. Шмидта будет не совсем корректно.
Публикация Г. Шмидтом ряда статей и книги «История Старой империи. Государство и нация 1495–1806 гг.» (1999 г.) вызвала не прекратившуюся до сих пор дискуссию, в ходе которой многие немецкие историки достаточно серьезно критиковали основные положения его концепции. Шмидт, развивая некоторые положения одного из крупнейших германских историков прошлого века Ф. Мейнеке, отмечает, что Империя была идеей, иерархической структурой и государственно-политической программой, в которой сочетались и противоречили друг другу римская традиция и немецкая реальность[476]. Многие немецкие историки упрекнули его в преувеличении степени национального самосознания в Германии раннего Нового времени и тенденции к восстановлению некоторых постулатов малогерманской национально-государственной историографии[477].
Разумеется, и Германия, и германский национализм имели глубокие исторические и культурные корни, но до эпохи модернизации, согласно ставшему уже достаточно распространенным взгляду, такого явления, как германский национализм, попросту не существовало. Я склоняюсь к точке зрения «модернистов» и «конструкционистов», подчеркивающих ведущую роль государства Нового времени в возникновении национализма девятнадцатого и двадцатого столетий. Как замечают Д. Лангевише и О. Данн, рождение германского национального государства в результате политики и войн эпохи Бисмарка и возникшего на этой почве мифа о единстве германской нации и германского государства отодвинули в конце XIX в. воспоминания о федеративных корнях немецкой нации. В концепции федерализма кайзеровского государства, политике, обществе, культуре существовало представление об имперской нации, тогда как прошлое существование многих государств под крышей Священной Римской империи создало федеративный национализм[478]. Историк права М. Штолльайс отмечает, что имперский патриотизм конца XVIII в. существенно отличался от энтузиазма гуманистов начала XVI в. и патриотизма времен Тридцатилетней войны и войн эпохи Людовика XIV[479].
О. Данн и М. Грох акцентируют внимание прежде всего на том, что Священная Римская империя не была государством Нового времени. Как сама Старая империя не могла быть модернизирована в духе национального государства, так и Пруссия и Австрия не могли стать в конце ее существования основой для формирования национального государства по западной модели. Более того: национальная идентичность в Старой империи вплоть до начала XIX в. существовала преимущественно в кругах ренессансной и просвещенческой интеллигенции, тогда как для основной массы населения были характерны конфессиональная и территориальная самоидентификации[480].
Французская революция и наполеоновские войны привели к концу Священной Римской империи. Говорить о том, что роспуск Империи прошел при полном равнодушии ее жителей, как это делалось в боруссианистской историографии по утверждению современных исследований (В. Бургдорф и др.), было бы неправомерно[481]. Но можно ли здесь говорить о национальном патриотизме и сочетании национального и универсального в концепции Священной Римской империи? Вернее всего следует говорить о соотношении и сочетании универсального и территориального, однако созданные в течение нескольких столетий до роспуска Священной Римской империи национальные мифы в лихую годину наполеоновских войн стали идейной основой для стремительного роста немецкого национализма, затем появились и мифы 1871 г. о великой роли Пруссии и т. д. – машина национального мифотворчества была.
П. Вильсон и М. Шайх во «Введении» к коллективной работе британских и немецких историков «Священная Римская империя 1495–1806», опубликованной в 2011 г., подчеркивают, что опыт двух мировых войн и последовавшая политическая интеграция большей части стран Европы в Европейском Союзе привели к широко распространенному критицизму концепта «нация-государство» как первостепенной основе всеобщей истории. «Национализм не только сейчас связан с насилием и разделением, но и нация-государство не представляется более как конечное предопределение истории», – пишут они. Отсюда следует новый и совсем не негативный взгляд на Старую империю и Речь Посполитую[482]. В этой же книге содержатся статьи К. О. фон Аретина и Г. Шмидта, полемизирующих друг с другом. Аретин вновь настаивает на том, что Империю нельзя осуждать за задержки в государственно-политическом развитии Германии, разделенной на микрогосударства; напротив, в ней заключались корни современной германской демократии и федерализма[483]. Ученик Аретина К. Хертер характеризует постоянный рейхстаг в Регенсбурге как эффективный форум для решения общих проблем[484].
В заключение хотелось бы подчеркнуть, что в современной Г ермании большое внимание уделяется критике национализма и воспитания новых поколений в духе покаяния за преступления национал-социализма. Но национальные мифы прежних времен могут сменяться мифами из новейшей истории. Об этом никогда не следует забывать! И некотороым предупреждением звучат довольно пессимистические слова одного из известнейших немецких писателей Гюнтера Грасса в конце его романа «Траектория краба», в котором он описывает возможный вариант такого мифа: «Никогда не будет этому конца. Никогда»[485].
* * *
УДК 930(430) «20»
ИВОНИН ЮРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ. Д. и. н., профессор, Смоленский государственный университет, Смоленск.
IVONIN YURY. PhD, Professor, Smolensk State University, Smolensk.
E-mail: juri_ivonin(a)rambler.ru
ГЕРМАНСКИЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ МИФЫ РАННЕГО НОВОГО ВРЕМЕНИ В ОСВЕЩЕНИИ СОВРЕМЕННОЙ ИСТОРИОГРАФИИ
В статье рассматриваются основные моменты процесса складывания в раннее Новое время наиболее распространенных национальных мифов Германии, сыгравших главную роль в формировании германского национализма. После окончания Второй мировой войны одной из наиболее важных задач преодоления сформировавшегося в течение почти полутора столетий мифологического сознания стала критика германских исторических мифов и изучение их становления с научных позиций.
Безусловно, важно обратить внимание на причины создания и популяризации мифов о наследовании германцами Римской империи и империи Карла Великого (Translatio imperii), мифа о «Германии» Тацита, мифа о Лютере как создателе германского национального духа, мифа о Фридрихе Великом и Гогенцоллернах, мифов 1871 г. о Пруссии как спасительнице немецкого народа и германского национального государства. Очевидно, что необходимо учитывать инструментализм германского национализма и его конструктивизм в смысле концепта нации как социально-политического и культурного конструкта. Важно отметить, что споры об «особом» пути государственно-политического развития Германии и «запоздалой нации», отстававшей от Западной Европы (Англии, Франции) в смысле создания «нации-государства» и поэтому обязанной их превзойти, приобретают дополнительное звучание, поскольку речь идет о преобладании консервативных или либеральных тенденций в исследовании вопроса о формировании немецкой нации и роли в этом процессе национальных мифов.
Последствия поражения Германии во Второй мировой войне привели к переосмыслению и переоценке господствовавших в немецкой историографии второй половины XIX – первой половины XX вв. постулатов малогерманской (боруссианистской) историографии, негативно оценивавших Священную Римскую империю как препятствие на пути создания германского национального государства в форме нации-государства и апологетизировавших роль Пруссии как спасителя Разумеется, и Германия, и германский национализм имели глубокие исторические и культурные корни, но до эпохи модернизации, согласно ставшему уже достаточно распространенным взгляду, германского национализма не было.
Ключевые слова: нация; национализм; миф; Священная Римская империя; Германия; раннее Новое время.
THE GERMAN NATIONAL MYTHS OF THE EARLY MODERN TIME IN CONTEMPORARY HISTORIOGRAPHY
On the basis of contemporary methods, the author addresses the issue of the formation of German national myths in the early modern time, which played a significant role in the development of German nationalism in the XIX – first half of the XX centuries and aggression in the two World wars.
The author draws attention to the reasons for creating and popularizing the myths of German inheritance of the Holy Roman Empire of Charlemagne (translatio imperii), T acitus’s myth about ‘Germania’, myth about Luther as a creator of German national mind, myth about Frederich the Great and Hohenzollerns, myth about Prussia as a savior of German people and German nation-state. One has to consider German nationalism and its constructivism in terms of the concept of nation as a social-political and cultural construct. It is also worth
mentioning that debates over the specific path of state-political development of Germany and ‘belated nation’, which was behind Western Europe (Enfland and France), in terms of creating the nation state which, therefore, was supposed to surpass them, acquire additional meaning as long as conservative and liberal tendencies in the research of the issue of the formation of German nation and the role of myths in this process prevail.
The consequences of German defeat in the World War II led to reconsideration and re-evaluation of prevailing tenets of Minor German historiography in German historiography of the second half of the XIX century – first half of the XX century. According to these tenets, Holy Roman Empire was treated negatively as an obstacle on the way of creating German national state in the form of nation-state, and Prussia had an apologetic role as a saviour. It is evident that Germany and German nationalism had historical and cultural roots but, according to conventional viewpoint, there was no German nationalism prior to the era of modernization.
Keywords: nation; nationalism; myth; Holy Roman Empire; Germany; early Modern time.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Грасс Г. Траектория краба. М.: ACT Фолио, 2004. 285 с.
2. Гринфельд А. Национализм. Пять путей к современности. М.: ПЕР СЭ, 2008. -527 с.
3. Aretin К. О. von. The Old Reich: A Federation or Hierarchical System? // The Holy Roman Empire 1495–1806/ ed. by R. J. W. Evans, M. Schaich, P. H. Wilson. Oxford: Oxford University Press, 2011. P. 27–42.
4. Babel R. Deutschland und Frankreich in Zeichen der habsburgischen Universalmo-narchie 1500–1648. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2005. 256 s.
5. BurgdorfW. Ein Weltbild verliert seine Welt. Der Untergang des Alten Reiches und die Generation 1806. Miinchen: Oldenbourg, 2006. 390 p.
6. Dann O. Der deutsche Weg zum Nationalstaat im Lichte des Fóderalismus-Problem // Zentralismus und Foderalismus im 19. und 20. Jahrhundert/ hrsg. von O. Janz, P. Schiera, H. Siegrist. Berlin: Duncker & Humblot, 2000. S. 51–68.
7. Dann O.j Hroch M. Einleitung // Patriotismus und Nationsbildung am Ende des Heiligen Romischen Reiches! hrsg. von O. Dann, M. Hroch und J. Koll. Koln: SH-Verlag, 2003, S. 9-18.
8. Demel W. Europáische Geschichte des 18. Jahrhunderts. Stándische Gesellschaft und europáische Machtesystem in beschleunigten Wandel. (1689/1700-1789/1800). Stuttgart: Kohlhammer, 2000. 300 p.
9. Harter K. The Permanent Imperial Diet in European Context, 1663–1806 // The Holy Roman Empire 1495–1806/ ed. by R. J. W. Evans, M. Schaich, P. H. Wilson. Oxford: Oxford University Press, 2011. P. 115–135.
10. Hartmann P. Das Heilige Romische Reich – ein fóderalistisches Staatgebilde // Das Heilige Romische Reich und sein Ende 1806. Zásur in der deutschen und europái-schen Geschichte/ hrsg. von P. Hartmann und F. Schuller. Regensburg: Friedrich Pustet, 2006. S. 11–33.
11. Impérium Romanum-irregulare corpus-Teutscher Reichs-Staat. Das Alte Reich in Verstándniss der Zeitgenossen und der Historiographie/ hrsg. von M. Schnettger. Mainz: Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co KG. 2000. 336 S.
12. Langewische D. Fóderative Nationalismus ais Erbe der deutschen Reichsnation uber Fóderalismus und Zentralismus in der deutschen Nationalgeschichte // Fóderative Nation. Deutschlandkonzepte von der Reformation bis zum ersten Weltkrieg/ hrsg. von D. Langewische und G. Schmidt. Munchen: R.01denbourg, 2000. S. 215–242.
13. Malettke K. Les relations entre la France et le Saint-Empire au XVII siecle. Paris: Champion, 2001. 747 p.
14. Schilling H. Hófe und Allianzen. Deutschland 1648–1763. Berlin: Siedler, 1989. 542 S.
15. Schilling H. Reichs-Staat und friihneuzeitliche Nation der Deutschen oder teilmo-dernisiertes Reichsystem. Úberlegungen zu Charakter und Aktualitát desAlten Reiches // Historische Zeitschrift, Bd. 272 (2001), Heft 2. S. 377–395.
16. Schmidt G. Geschichte des Alten Reiches. Staat und Nation 1495–1806. Munchen: С. H. Beck, 1999.459 S.
17. Schmidt G. The Old Reich: The State and Nation of the Germans // The Holy Roman Empire 1495–1806/ ed. by R. J. W. Evans, M. Schaich, P. H. Wilson. Oxford: Oxford University Press, 2011. P. 43–62.
18. Schnettger M. Von der ‘Kleinstaatereť zum ‘komplementáren Reichs-Staať. Die Reichsver fassungsgeschichtsschreibung seit dem Zweiten Weltkrieg // Geschichte der Politik. Alte und neue Wege/ hrsg. von H.-Chr. Kraus, Th. Nicklas. Munchen: R. Oldenbourg, 2007. S. 129–154.
19. Stolleis M. Public Law and Patriotism in the Holy Roman Empire // Infinite Boundaries. Order, Disorder and Reorder in Early Modern German Culture. Kirksville: Sixteenth Century Journal Publishers, 1998. P. 11–33.
20. Wilson P. H.j Schaich M. Introduction // The Holy Roman Empire 1495–1806./ ed. by R. J. W. Evans, M. Schaich, P. H. Wilson. Oxford: Oxford University Press, 2011. P. 1–23.
REFERENCES
1. Aretin Karl Otmar von. “The Old Reich: A Federation or Hierarchical Sys-tem?”, in The Holy Roman Empire 1495–1806, ed. Robert John Weston Evans, Mi-chael Schaich, Peter H. Wilson. Oxford: Oxford University Press, 2011. P. 27–42.
2. Babel Rainer. Deutschland und Frankreich in Zeichen der hahshurgischen Univer-salmonarchie 1500–1648. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2005. 256 S.
3. Burgdorf Wolfgang. Ein Welthild verliert seine Welt. Der Untergang des Alten Reiches und die Generation 1806. Munchen: Oldenbourg, 2006. 390 p.
4. Dann Otto. “Der deutsche Weg zum Nationalstaat im Lichte des Foderalismus-Problem”, in Zentralismus und Fóderalismus im 19. und 20. Jahrhundert, hrsg. Oli-verjanz, Pierangelo Schiera, Hannes Siegrist. Berlin: Duncker & Humblot, 2000. S. 51–68.
5. Dann Otto und Hroch Miroslav. “Einleitung”, in Patriotismus und Nationshildung am Ende des Heiligen Romischen Reiches, hrsg. Otto Dann, Miroslav Hroch und Johannes Koll. Koln: SH-Verlag, 2003. S. 9-18.
6. Demel Walter. Europáische Geschichte des 18. Jahrhunderts. Stándische Gesell-schaft und europáische Mdchtesystem in beschleunigten Wandel. (1689/1700 – 1789/1800). Stuttgart: Kohlhammer, 2000. 300 p.
7. Grass Gjunter. Traektorija kraba. Moscow: AST Folio Publ., 2004. 285 s. (in Russian)
8. Grinferd Lija. Nacionalizm. Pjať putej к sovremennosti. Moscow: PER Sje Publ., 2008. 527 s. (in Russian)
9. Hárter Karl. “The Permanent Imperial Diet in European Context, 1663–1806”, in The Holy Roman Empire 1495–1806, ed. by Robert John Weston Evans, Michael Schaich, Peter H. Wilson. Oxford: Oxford University Press, 2011. P.l 15-135.
10. Hartmann Peter. “Das Heilige Romische Reich – ein foderalistisches Staatgebilde”, in Das Heilige Romische Reich und sein Ende 1806: zasur in der deutschen und eu-ropaischen Geschichte, hrsg. Peter Hartmann und Florian Schuller. Regensburg: Friedrich Pustet, 2006. S. 11–33.
11. Impérium Romanum-irregulare corpus-Teutscher Reichs-Staat. Das Alte Reich in Verstándniss der Zeitgenossen und der Historiographic, hrsg. Matthias Schnettger. Mainz: Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co KG, 2000. 336 S.
12. Langewische Dieter. “Fóderative Nationalismus ais Erbe der deutschen Reichsna-tion iiber Foderalismus und Zentralismus in der deutschen Nationalgeschichte”, in Fóderative Nation. Deutschlandkonzepte von der Reformation bis zum ersten Welt-krieg, hrsg. Dieter Langewische und Georg Schmidt. Miinchen: R.01denbourg, 2000. S.215–242.
13. Malettke Klaus. Les relations entre la France et le Saint-Empire au XVII siecle. Paris: Champion, 2001. 747 p.
14. Schilling Heinz. Hoje und Allianzen. Deutschland 1648–1763. Berlin: Siedler, 1989. 542 S.
15. Schilling Heinz. “Reichs-Staat und friihneuzeitliche Nation der Deutschen oder teilmodernisiertes Reichsystem. Uberlegungen zu Charakter und Aktualitát desAl-ten Reiches”, Historische Zeitschrift 272 (2001). S.377–395.
16. Schmidt Georg. Geschichte desAlten Reiches. Staat und Nation 1495–1806. Miinchen: C.H. Beck, 1999.459 S.
17. Schmidt Georg. “The Old Reich: The State and Nation of the Germans”, in The Holy Roman Empire 1495–1806, ed. Robert John Weston Evans, Michael Schaich, Peter H. Wilson. Oxford: Oxford University Press, 2011. P. 43–62.
18. Schnettger Matthis. ““Von der „Kleinstaaterei“ zum „komplementáren Reichs-Staat“. Die Reichsverfassungsgeschichtsschreibung seit dem Zweiten Weltkrieg””, in Geschichte der Politik. Alte und neue Wege, hrsg. Hans-Christof Kraus, Thom.Nicklas. Miinchen: R.01denbourg, 2007, S. 129–154.
19. Stolleis Michael. “Public Law and Patriotism in the Holy Roman Empire”, in Infinite Boundaries. Order, Disorder and Reorder in Early Modern German Culture. Kirksville: Sixteenth Centuryjournal Publishers, 1998. P. 11–33.
20. Wilson Peter H. and Schaich Michael. “Introduction”, in The Holy Roman Empire 1495–1806, ed. Robert John Weston Evans, Michael Schaich, Peter H. Wilson. Oxford: Oxford University Press, 2011. P. 1–23.
V. Проблемы коммеморации
Является ли память об империи факторам интеграции Центральной Европы?
Шарова В. Ю.
Прежде чем ответить на вопрос, поставленный в нашей статье, и тем самым снять вопросительный знак в ее заглавии, попробуем хотя бы вкратце разобраться: какой участок пространства стоило бы поместить в центр Европы, как этот центр (если он в принципе существует) соотносится с географией, каким образом имперская идентичность здесь входила в резонанс с национальным чувством и насколько живучим оказался исторический миф об этой «империи вообще» в наши дни.
Центральная Европа – проблемный регион в том смысле, что здесь география подчас противоречит истории, а история перегружена политическими, философско-политическими, идеологическими, а порой даже и пропагандистскими смыслами. Подходить к изучению Центральной Европы лишь с географической точки зрения не имеет смысла: формально центр этого региона – село Деловое Раховского района Закарпатской области Украины. Перечень государств, составляющих политическую карту данного региона, также весьма противоречив: не случайно географы в принципе избегают использовать этот термин, привычно ориентируя части Европы в соответствии со сторонами света. Попытки же объединить под общим знаменателем Австрию, Германию, Швейцарию и Лихтенштейн с Венгрией, Чехией, Словакией, Словенией и Польшей явно вызывают вопросов больше, чем дают ответов. Как отмечает современный российский историк Алексей Миллер, в западной научной традиции под Центральной Европой как правило понимают лишь ее восточную часть, в то время как в России многие понимают этот регион (при том, ошибочно) как объединение Восточной и Центральной Европы[486]. Именно в отношении ЦВЕ факты как никогда часто подменялись (и подменяются) интерпретациями явно более однозначными, чем того заслуживает историческая наука, но зато очень удобными для повседневного употребления в интересах различных политических проектов.
Что же такое эта Центральная, Восточно-Центральная Европа, Mitteleuropa, пространство бывших крупнейших империй и «теллурократий» и открытых всем геополитическим ветрам буферных национальных государств?
Для того чтобы прояснить этот вопрос, стоит обратиться не к географическим рамкам, которыми, собственно, являются границы (Центральная Европа, что бы мы под ней пока ни подразумевали, никакими «естественными» границами, очевидно, не обладает за исключением побережья Балтики на севере), но к историческому и политическому контексту, в котором возникли и развивались представления (а заодно и мифы) об этом регионе – то ли в центре европейской жизни, то ли на ее глубокой и зачастую проблематичной периферии.
Исторический и политический опыт интересующего нас участка европейского пространства включает в себя, в том числе, два проекта с разным объемом влияния на международной арене своего времени и разной «продолжительностью жизни» (возьмем этот оборот в кавычки, дабы не быть заподозренными в следовании органицистской традиции ратцелевского толка). Один из них представлял собой любопытную разновидность аристократической республики Нового времени, другой же стал в конечном счете образцом империи – тем интереснее был скрытый в недрах этой империи потенциал федеративного государства. Речь идет о Речи Посполитой и монархии Габсбургов – Австрийской, позже Австро-Венгерской империи.
Может быть, слишком смело называть систему правления в Речи Посполитой выборной монархией или «неким вариантом представительной демократии»[487], но на фоне укрепляющегося абсолютизма в остальной Европе (по крайней мере, континентальной) это государство выглядело по меньшей мере оригинально (и не всегда в хорошем смысле). По существу, оно пало жертвой того, что мы сегодня назвали бы «неэффективным менеджментом». Действие принципов nihil novi и liberum veto, фактически блокировавших нормальную работу как парламента, так и королевской власти; междоусобицы шляхты; разногласия на социальной и религиозной почве – лишь некоторые причины ослабления и позже гибели этой своеобразной демократии-олигархии-федерации. Чьей же добычей она стала? Здесь мы обращаемся к интересующему нас вопросу имперских проектов в центре европейского материка.
Части бывшего единого государства к 1795 г. достались империям, уже существовавшим на тот момент (Российской, Австрийской), и Пруссии, которой имперское будущее только еще было уготовано через несколько десятилетий после объединения Германии и создания Германской империи. Эти события, на наш взгляд, получают специфическое продолжение сегодня – продолжение, не в последнюю очередь выраженное в символических формах, в коллективном сознании граждан современных независимых европейских государств-членов Евросоюза, новой интегрирующей общности.
Большая часть того пространства, которое мы сегодня можем обозначить как Центральную, или Центрально-Восточную Европу, находилась на территории дунайской монархии, принцип формирования которой был совершенно иным по сравнению с империями колониального типа. По остроумному замечанию исследователей истории монархии Габсбургов Андрея Шарого и Ярослава Шимова, устройство этого сложносочиненного государства «парадоксальным образом основывалось на его противоречиях»[488].
Для обозначения общественно-политической системы такого типа современный историк Андреас Каппелер предложил формулировку «полиэтничная империя», имея в виду также и Советский Союз (имперские черты этого проекта для австрийского исследователя несомненны, и мы склонны с ним согласиться), а также и его предшественницу – Российскую империю[489]. «Хотя русские составляли в конце XIX столетия только 43 % всего ее населения, российская империя до сих пор воспринимается как русское национальное государство», – замечает Каппелер. Здесь мы уже вступаем в заочную полемику с адептами русского консервативного национализма, от его умеренных представителей до более радикальных последователей идей черносотенного толка, ностальгирующими по квазиестественной иерархии, в которой все народы империи равны, но один из них равнее прочих. Но эта дискуссия уже явно выходит за рамки нашей темы.
Как мыслился центр этой империи и что собою представляли ее периферийные области? «Азия начинается за Ландштрассе», – эта фраза, приписываемая проницательному канцлеру Меттерниху, в высшей степени характеризует сложное отношение дунайской империи к собственной географии, отношение, выстроенное во многом не на точных фактах, а на «чувстве пространства», Raumsinn (этот термин, заимствованный из арсенала Фридриха Ратцеля, кажется вполне уместным). То, что Ларри Вулф в своей книге «Изобретая Восточную Европу» назвал «философской географией», для конструирования политических смыслов оказывалось существенно полезнее географии как таковой[490]. Так, Прага географически западнее Вены, но и она, очевидно, находилась в «Азии за Ландштрассе». В то время как Вена и ее окрестности несомненно вписывались в пределы европейского «запада», окраины империи – Галиция, Буковина, Босния – не только географически, но и символически являли собой не до конца исследованный, дикий и отчасти опасный «восток». Но это, так или иначе, был «свой», внутренний Восток. Был и внешний и тоже имперский – Российская империя.
«Знаете, господа, какая держава владеет всем великим Востоком нашей части света; знаете, что эта держава, уже сегодня выросшая в огромную мощь, растет и крепнет сама по себе с каждым десятилетием в большей мере, чем это возможно в западных землях; что она в центре своем почти неприступна для любых нападений и давно уже стала опасной для своих соседей… что она всегда, руководствуясь естественным инстинктом, стремится и будет стремиться расшириться… каждый шаг, который она совершила бы еще вперед на этом пути, чем дальше, тем быстрее грозит породить и создать универсальную монархию, что есть необозримое и невыразимое зло, несчастье без меры и границ… <…> В юго-восточной части Европы, вдоль границ русской империи, проживают многие народы, весьма различные по своему происхождению, языку, истории и обычаям – славяне, румыны, венгры, немцы… из которых каждый сам по себе не является достаточно сильным, чтобы успешно противостоять своему всемогущему восточному соседу на все будущие времена; они смогут это сделать только в том случае, если тесный и прочный союз будет их всех соединять в одно целое». Эта пространная цитата из письма Франтишека Палацкого, на наш взгляд, иллюстрирует те надежды и страхи, которые были характерны для центральноевропейских регионов в XIX веке и не вполне утратили своей значимости сегодня[491].
Россия на долгое время (вплоть до наших дней) стала для Европы тем самым «Другим», необходимым для сопоставления самого себя с восточным соседом, с XIX в. сменив на этом месте другую империю – турецкую Османскую, полагает норвежский политолог и антрополог Ивэр Нойманн[492]. Предположим также, что этот Другой был и остается важным фактором постоянной «подпитки» интеграционных процессов, которые не оправдали себя в период роста национализма эпохи «весны народов» в середине XIX в., но обрели новую жизнь уже в XX в., в 1980-е гг. Здесь мы сталкиваемся с «новым изданием» идей о Центральной Европе, сформулированных не только и не столько политиками, сколько, опять же, интеллектуалами.
Для иллюстрации дискуссии о роли имперских стратегий в судьбе Центральной Европы сошлемся на спор не историков и не философов, но литераторов. Речь идет о статье чешского писателя Милана Кундеры «Похищенный Запад, или Трагедия Центральной Европы» и заочной критике некоторых положений этой работы Иосифом Бродским.
Кундера в своем эссе задавался вопросом: «Что же значит Европа для венгра, чеха, поляка? На протяжении тысячелетий их народы принадлежали к части Европы, основой которой стало Римское Христианство. С ним неразрывно связана их история. Для них слово «Европа» относится не к географии, а к сфере духа, являясь синонимом слова «Запад»… После 1945 г. граница между этими двумя Европами передвинулась на несколько сотен километров на запад, и однажды утром несколько наций, всегда причислявших себя к Западу, обнаружили, что теперь они находятся на Востоке… Нам пора осознать: происходящее в Праге или Варшаве в основе своей – это не драма Восточной Европы, Советского блока или коммунизма; это драма Запада», – полагал писатель[493]. Иосиф Бродский, в свою очередь, в концепции Кундеры видит все ту же «философскую географию», стремящуюся подменить факты идеологическими конструктами. По мнению Бродского, сама советская система, сама политическая культура этого импероподобного государства не была лишь продуктом некой восточной традиции, Ассирией или Вавилонией XX в. Напротив, корни ее уходили прямиком в толщу западноевропейского рационализма – рационализма, не только интерпретированного на особый лад Карла Маркса, но и самого духа Просвещения, являясь, в конечном итоге, «продуктом западного рационализма, как и восточного эмоционального радикализма». «Короче, видя «русский» танк на улице, есть все основания задуматься о Дидро», – резюмировал поэт[494].
Бродский, кстати говоря, не ограничился полемикой с Кундерой: интересен также и его обмен мнениями с другим адептом идеи Центральной Европы – Чеславом Милошем (на него ссылается польская исследовательница Ирена Грудзинская-Гросс в своей книге «Милош и Бродский: магнитное поле»). Милош был ярым сторонником концепции Центральной Европы, Бродскому же он приписывал идею «Западной Азии»[495].
Российская империя – Советский Союз – Россия, как представляется, выстроились в коллективном сознании Европы в единую линию продолжающегося имперства. Это чувство империи, возможно, имеет мало общего с научным пониманием самого термина. Что бы мы ни брали в качестве основных критериев – величину территории, внутреннюю структуру, неравноправные отношения центра и окраин, предполагающих преимущественно непрямое правление[496]или же идею объединения людей в государстве через «службу себе» (через «государево дело») [497] с параллельным преодолением этнокультурных различий – во взаимоотношениях Центральной Европы с собственным прошлым и с своим восточным соседом всегда не последнюю роль играл критерий эмоционального свойства. Если опыт империи Габсбургов в настоящее время может явно или неявно ассоциироваться с попытками практической интеграции через механизмы Евросоюза, то Россия – это образ и опасности (в силу размеров и сил), и родства (в силу сходства культур и отдельности от Европы Западной) одновременно. Что же до настоящего состояния дел, то тщательного анализа заслуживают развивающиеся отношения центральноевропейского пространства с Соединенными Штатами Америки – совершенно внешней для Европы молодой империей, чье влияние в отдаленной перспективе еще не до конца осознанно, но со всей очевидностью сыграет важную роль в дальнейшем конструировании европейских идентичностей.
* * *
УДК 341.217(4)
ШАРОВА ВЕРОНИКА ЛЕОНТЬЕВНА. Научный сотрудник, Институт философии РАН, Москва.
VERONIKA SHAROVA. Research Fellow, Institute of Philosophy of the Russian Academy of Sciences, Moscow.
E-mail: veronika.sharova(a)gmail.com
ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ПАМЯТЬ ОБ ИМПЕРИИ ФАКТОРОМ ИНТЕГРАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЕВРОПЫ?
Сегодня, когда Европейский Союз состоялся в качестве впечатляющего примера наднациональной интеграции, сплотившей весьма разнородные государства, стоит задаться вопросом – какие факторы, помимо сугубо прагматических, объединяют это пестрое пространство, и каким образом интеграционные возможности могут перевесить дезинтеграционные риски в современных условиях геополитической нестабильности и регулярно возникающей турбулентности в экономике. Есть смысл обращаться и к ранее реализованным сценариям, чтобы поразмышлять над тем, какие из проверенных временем вариантов организации политико-географического пространства могут быть взяты на вооружение сегодня.
Нашей целью является исследование специфики объединительных процессов в одной из зон общеевропейского «дома» – Центральной Европе, включающей в себя Австрию, Венгрию, Польшу, Словакию, Чехию; зачастую к этому региону относят и Швейцарию. Особенность Центральной Европы заключается, в частности, в том, что она обнимает скорее политические границы, чем географические, т. к. ее географический центр расположен на крайнем западе Украины, (с. Деловое Раховского района, Закарпатская область), но с политико-культурной точки зрения «центр тяжести» все же смещается в западном направлении.
Очевидно, что сегодня реальный политический вес этих государств серьезно разнится, несмотря на формальное юридическое равенство в границах ЕС. Дело не только в разных темпоритмах экономических процессов: идентичность стран Центральной Европы также формировалась и формируется разными путями, с учетом хотя бы того факта, что Венгрия, Польша, Словакия и Чехия пережили «бархатные революции» и демократический транзит, а Австрия и Швейцария остались вне этого процесса. Есть ли смысл заглядывать в прошлое более отдаленное, нежели период рубежа 1990-х гг.?
На наш взгляд, интересно проанализировать, какую роль сыграл общий опыт сосуществования этих стран в границах (или подле, если говорить о Швейцарии) империи Габсбургов, которая стала пусть и не очень удачным, но все же заслуживающим пристального внимания опытом интеграции центральноевропейского пространства. В случае Польши стоит рассмотреть и особенности ее пребывания в пределах Российской империи. Мы ставим перед собой задачу проанализировать, насколько чувство империи жизнеспособно в качестве политического инструмента в условиях современного политического процесса в Центральной Европе.
Ключевые слова: империя; нация; национальная идентичность; Европа; Центральная Европа; интеграция; дезинтеграция.
IS THE MEMORY OF THE EMPIRE THE FACTOR OF THE INTEGRATION OF THE MODERN CENTRAL EUROPE?
In the time when European Union has become an impressive example of supranational integration and has united heterogeneous states, it is worth considering the factors except for pragmatic which unite this area and the way integration opportunities can overweigh disintegration risks in contemporary conditions of geopolitical instability and permanently occurring economic turbulence. It is also worth referring to previously realized scenarios to think which options of organising political-geographical space, which have stood the test of
time, can be used nowadays.
The aim of this paper is to reveal some aspects of the integration process in the contemporary Central Europe (Austria, Hungary, Poland, Slovakia, Czech Republic and sometimes Switzerland). For instance, the specificity of Central Europe lies in the fact that it is within political rather than geographical borders since its geographical centre is in the utmost West of Ukraine (village Delovoe of Rakhovskij district, Zakarpattia obsast) but from the political-cultural viewpoint the centre of gravity is situated in the Western direction. It is evident that political heft of these states differs despite formal judicial equality within the European Union. The crux of the matter is not in the rhythms of economic processes but in the fact that the idenity of these countires has been formed or is being formed in different ways, concerning the fact that some of them (Hungary, Poland, Slovakia and Czech Republic) have passed the period of Socialism and the so called «velvet revolutions», the others (Austria and Switzerland) have not. Does it make sense to analyze the past earlier than 1990-s?
From the author’s perspective it is worth analysing the role of shared experience of coexistence within the borders of Hapsburg Empire or close to them (as far as Switzerland is concerned). Hapsburg Empire had become noteworthy experience of integration of Central European region even though it was not so successful. In the case of Poland it is also worth examining its features during the periods of its existence within the Russian Empire. The aim of the author is to analyse the extent of viability of the imperial feeling as a political instrument in the context of contemporary political process in Central Europe.
Keywords: empire; nation; national identity; Europe; Central Europe; integration; disintegration.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Божков P. Речь Посполитая // Дистопия. URL: -pospolitaya/ (Дата обращения: 15.05.2015).
2. Бродский И. Почему Милан Кундера несправедлив к Достоевскому. Собрание сочинений: Иосиф Бродский в 7 томах. Т. 7. СПб.: Пушкинский фонд, 2003. 344 с.
3. Вулф А. Изобретая Восточную Европу. Карта цивилизации в сознании эпохи Просвещения. М.: Новое литературное обозрение, 2003. 548 с.
4. Грудзинская-Гросс И. Россия и Америка – две империи. Глава из книги “Милош и Бродский: магнитное поле” // «Иностранная литература». 2011. № 7. С. 202–234.
5. Каппелер А. «Россия – многонациональная империя»: некоторые размышления восемь лет спустя после публикации книги // Мифы и заблуждения в изучении империи и национализма. М.: Новое издательство, 2010. С. 265–282.
6. Кара-Мурза А. Россия в треугольнике «Этнократия-империя-нация» URL: http:// globalteka.ru/articles/doc_view/3958—q-q.raw?tmpl=component (Дата обращения: 05.05.2015).
7. Кундера М. Трагедия Центральной Европы/ пер. Андрей Пустогаров, URL: http:// -142 (Дата обращения: 12.05.1205).
8. Миллер А. Принцип империи не исчезает даже в мире, где формально преобладают национальные государства. URL: -HOMepa-Алексей-Миллер-Принцип-империи-не-исчезает-даже-в-мире-где-формально-преобладают-национальные-государства Дата обращения: 05.05.2015).
9. Миллер А. И. Тема Центральной Европы: история, современные дискурсы и место в них России // «НЛО». 2001. № 52. URL: . html (Дата обращения: 12.05.15).
10. Нойманн И. Использование Другого. Образы Востока в формировании европейских идентичностей. М.: Новое издательство, 2004. 335 с.
11. Шарый А., Шимов Я. Корни и корона. Очерки об Австро-Венгрии: Судьба империи. М.: КоЛибри, 2011.447 с.
12. Palacké hodopis do Frankfurtu (ll. 4. 1848). URL: / artkey/dbt_00F_0001_65_Palackeho_dopis_do_Frankfurtu_1848.php (Дата обращения: 07.04.2015).
REFERENCES
1. Bozhkov Roman. “Rech’ Pospolitaja”, in Distopija. -pospolitaya/ (date of access: 15.05.15) (in Russian).
2. Brodskij Iosif. “Pochemu Milan Kundera nespravedliv k Dostoevskomu”, vol. 7. of Brodskij Iosif. Sobranie sochinenij: Iosif Brodskij v 7 tomah. Saint Petersburg: Pushkinskij fond Publ., 2003. 344 p. (in Russian).
3. Grudzinskaja-Gross Irena. “Rossija i Amerika – dve imperii. Glava iz knigi “Milosh i Brodskij: magnitnoe pole””, Inostrannaja literatura 7 (2011). P. 202–234. (in Russian).
4. Kappeler Andreas. ““Rossija – mnogonacional’naja imperija”: nekotorye razmyshlenija vosem’ let spustja posle publikacii knigi”, in Mify i zabluzhdenija v izuchenii imperii i nacionalizma. Moscow: Novoe izdatel’stvo, 2010. P. 265–282. (in Russian).
5. Kara-Murza Aleksej. “Rossija v treugol’nike «Jetnokratija-imperija-nacija»” http:// globalteka.ru/articles/doc_view/3958—q-q.raw?tmpl=component (date of access: 05.05.15) (in Russian).
6. Kundera Milan. “Tragedija Central’noj Evropy”, transl Andrej Pustogarov, http://www. proza.ru/2005/12/16-142 (date of access: 12.05.2015).
7. Miller Aleksej. “Princip imperii ne ischezaet dazhe v mire, gde formal’no preobladajut nacional’nye gosudarstva”. URL: ’ju-nomera-Aleksej-Miller-Princip-imperii-ne-ischezaet-dazhe-v-mire-gde-formal’no-preobladajut-nacional’nye-gosudarstva (date of access: 05.05.2015) (in Russian).
8. Miller Aleksej. “Tema Central’noj Evropy: istorija, sovremennye diskursy i město v nih Rossii”, in NLO 52 (2001). (date of access: 12.05.15) (in Russian).
9. Nojmann Iver. IspoYzovanie Drugogo. Obrazy Vostoka v formirovanii evropejskih identichnostej. Moscow.: Novoe izdatel’stvo Publ., 2004. 335 p. (in Russian).
10. Palacké hodopis do Frankfurtu (l 1.4.1848) / dbt_00F_0001_65_Palackeho_dopis_do_Frankfurtu_1848.php (date of access: 07.04.2015).
11. Sharyj Andrej, Shimov Jaro slav. Korni i korona. Ocherki ob Avstro-Vengrii: Suďba imperii. Moscow: KoLibri Publ., 2011. 447 p. (in Russian).
12. Vulf Larri. Izobretaja Vostochnuju Evropu. Karta civilizacii v soznanii jepohi Prosveshhenija. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie Publ., 2003. 548 p. (in Russian).
Россия в исторической политике Украины: образ «соседа» и его ценностные коннотации
Кумпан Е. Н.
История – репрезентация прошлого, но уживается только с теми деталями, которые ей удобны[498]. Данное замечание Пьера Нора прекрасно характеризует процессы, происходящие в исторической политике на постсоветском пространстве. Также и метафора «боев за историю», отсылающая к знаковой работе Люсьена Февра, вполне применима к дискуссиям в научной среде Украины и России по проблемам интерпретации фактов совместного существования.
В статье рассматривается конструирование образа России в учебниках для общеобразовательных учебных заведений конца XX – начала XXI вв. с учетом коррекции курса исторической политики, предпринятой по инициативе министра образования и науки Д. Табачника. Отметим, что попытка смены вектора исторической политики вызвала острую полемику, сбор подписей за отставку Д. Табачника и митинги противников реформы в Киеве и Западной Украине.
Анализ проведен в хронологических рамках событий XVII – начала XX вв. по следующим смысловым линиям:
1. Переяславские соглашения 1654 г.: особенности конструирования образа России;
2. Иван Мазепа – образ национального героя и действия «соседа»;
3. Российская империя в восприятии украинцев.
Победитель первого всеукраинского конкурса «Учитель истории» (1996 г.), заслуженный учитель Украины В. Мисан, характеризуя период, предваряющий вхождение Украины в Россию, пишет, что казаки не могли найти верного союзника: «Оставалось только Московское царство… Как-никак, а одного корня, одной веры, хоть и многим отличаются друг от друга… Думали казаки, совещались. Решили пойти на союз с Москвой, хоть сердце к российскому самодержцу и не лежало»[499].
В учебнике для 8-го класса В. С. Власов отмечает, что в период национально-освободительной войны Москва будто бы планировала оказать помощь Речи Посполитой, также «московское правительство, наблюдая за развертыванием событий, выжидало, какая из сторон быстрее обессилеет»[500].
A. К. Струкевич, И. М. Романюк, Т. П. Пирус оригинально объясняют стремление Б. Хмельницкого к союзу с Россией: «Украинские политики принимали во внимание православное исповедание обоих народов, близость языков, память об общей исторической судьбе в период Древней Руси, отсутствие в психологии украинцев чувства враждебности в отношении московитов. Украинцам прежде не доводилось тесно общаться с московскими «служивыми людьми», они не были знакомы должным образом с их обычаями, образовательным и культурным уровнем, что также способствовало завышенным надеждам на союз с Москвой[501].
B. С. Власов и О. М. Данилевская эмоционально описывают выбор Б. Хмельницкого в пользу сотрудничества с Россией: «Огненные бабочки стремительно трепещут крылышками, мгновенно увеличиваются, превращаясь в стремительных лошадей, которые вот-вот подхватят отчаявшуюся душу… Посоветуй мне, брат, как найти покой, – обращалась гетманова душа до великана-дуба, вероятно, чувствуя, что обманет царь казаков, быстро лишит их привилегий и самой свободы. Однако дуб лишь шуршал листьями…»[502].
В учебнике 8-го класса В.С. Власова параграф, посвященный переяславским соглашениям, начинается с цитаты о том, что «переяславских мещан гнали присягать, чему они очень противились, а городской староста даже заболел, а его, хоть и больного, было приказано привести в церковь Пречистой Богородицы. Он был вынужден принять присягу и умер от депрессии в тот же день… Киевляне тоже противились и не хотели идти в церковь, но их, как быдло, гнали казаки к присяге. Они же во время присяги не назывались своим, данным при крещении именем, а после присяги ее хаяли». В завершение тематического блока ученикам предлагается подумать над тем, были ли позитивные перспективы у российско-украинского союза[503].
Отметим, что в учебники Истории Украины включен тематический раздел «Московско-украинская война 1658–1659 гг.», в то время как в отечественной историографии эти события трактуются как часть русско-польской войны 1654–1667 гг.: действия гетмана Ивана Выговского поддержала только часть украинских казаков, большинство сохранило лояльность Москве.
Описывая события Руины и соперничества группировки И. Выговского с пророссийски настроенными казаками, авторы ожидаемо акцентируют внимание на Битве под Конотопом (1659 г.): «Охваченная кольцом московская армия на глазах таяла в казацкому огне. – Хороший пир устроили московитам!»[504].
Иной образ соседа формируется в учебнике Г. К. Швидько, профессора Национального горного университета (г. Днепропетровск). Автор указывает, что в период войны с Польшей, Россия оказывала Б. Хмельницкому дипломатическую поддержку, а разрешенная российским купцам свободная беспошлинная торговля хлебом имела для Украины «существенное значение в связи с неурожаем 1648 г.» Рассматриваемый учебник акцентирует внимание учащегося на том, что сближение украинского народа и России было исторически и политически обусловлено[505].
После редактирования 2010 г., затронувшем в первую очередь ознакомительный курс 5-го класса, акценты изменились. В учебнике В. Мисана дана характеристика процесса формирования договорных отношений Украины с Россией, констатируются его причины: необходимость поиска союзника, религиозная, историческая, территориальная близость[506]. Отметим, что содержание нового учебника В. Мисан счел необходимым прокомментировать в интервью новостным порталам, указав, что изменения были предприняты по жесткому распоряжению «свыше». Учебник В. С. Власова и О. М. Данилевской в основном сохраняет базовые идеи, эмоциональных отрывков практически уже нет. Рассказ о московско-украинской войне отсутствует[507].
Следующий исторический сюжет различно преподносится российским и украинским школьникам. В учебниках украинской истории гетман Мазепа – герой освободительного движения. Причина предательства объясняется национальными интересами: «К Украине Петр относился враждебно. Видел в ней свою извечную рабу, которая не имеет права ни на собственный язык, ни на культуру, не говоря уже о свободе»[508]. Интересно логическое задание в учебнике восьмого класса, выполнив которое школьники определяют, что действия И. Мазепы в ходе Северной войны были единственно правильными и не имели достойных альтернатив[509].
А. К. Струкевич, И. М. Романюк, Т. П. Пирус, повествуя об участии казаков в Северной войне, отмечают: «московские союзники откровенно презирали казаков». Подчеркивается вынужденный характер действий И. Мазепы, продиктованный жесткой политикой Петра I в отношении Украины и давлением на гетмана войсковых старшин. Приводится так называемый исторический факт со следующим разъяснением: «Украинские старшины были хорошими аналитиками. Так, в архиве французского министерства иностранных дел найден проект Петра I от 1703 г. В нем планировалось дождаться смерти Мазепы или умертвить его, казачий стан ликвидировать, всех несогласных уничтожить или выселить из Украины, а освобожденные земли заселить россиянами и немцами. Существовали планы передачи украинских земель князю Меньшикову и английскому герцогу Мальборо[510]. Первая часть цитаты вызывает сомнения с учетом реальных действий Петра I. Во второй части о передаче украинских земель герцогу Мальборо авторы, скорее всего, опираются на факт, приведенный в работах С. М. Соловьева[511] и Е. В. Тарле[512]: речь идет о стремлении России (после мирного договора Августа II с Карлом XII в Альтрапштадте) добиться мира со Швецией при содействии Англии. В полном варианте цитаты указано, что можно обещать Мальборо «из трех [княжеств] которые похочет: Киевское, Владимирское или Сибирское, и при том склонять ево, чтоб оной вспомог у королевы о добром миру [с] шведом, обещая ему ежели он то учинит, то со онова княжества по вся годы жизни ево неприменно дать будем по 50000 ефимков битых»[513]. Таким образом, здесь говорится о доходе с земель, и, учитывая наличие в списке Владимирского княжества, не может идти речь о пренебрежительном отношении к Украине.
Как пишут авторы учебника, Петр отказался выполнить обязанности протектора-защитника Украины, не выделив 10 тыс. регулярных войск для отражения наступления шведов. Отказ монарха «освобождал гетмана Мазепу от выполнения обязательств перед Московской державой»[514].
Несмотря на изменения 2010 г. сохранилась идеализация И. Мазепы: акцентируется внимание на его вкладе в развитие культуры и искусства и стремлении восстановить казачьи права, выступив на стороне шведского короля[515].
Согласно концепции украинских учебников, обе части Украины были объектами национального и социального угнетения».
Целью миграционной политики России являлось увеличение на украинских территориях количества русских, евреев и «представителей других национальностей». При этом часть заселенных украинцами земель оказалась за пределами украинских губерний. Авторы включают в «свои» территории: «районы Кубани, Войска Донского, Воронежской, Курской, Гродненской, Минской, Могилевской, Люблинской губерний и часть Бессарабии»[516].
В условиях имперского режима миграционная политика использовалась для разжигания межнациональных противоречий, что позволяло правительственным кругам сохранять несправедливые государственные порядки».
В рамках экономической политики Украина – «рынок сбыта для российских товаров, регион, подвергавшийся экономической эксплуатации и деформации». Негативно оценивается даже строительство железных дорог на территории Украины: железнодорожные пути связали не украинские города между собой, а центральную Россию с Украиной; «строительство железнодорожных путей… часто противоречило экономическим потребностям Украины».
Конечной целью Российской политики была «ликвидация национальной самобытности украинского народа, уничтожение каких-либо проявлений его сопротивления имперскому владычеству». К началу Первой мировой войны «на Украину обрушилась волна агрессивного российского шовинизма»[517].
В учебнике 2011 г. оценки принципиально не изменились: для России Украина была колонией «европейского типа», целенаправленно лишаемая «капитала и потенциальных прибылей». Сосед стремился уничтожить у украинского народа национальное сознание, навязать чувство неполноценности»[518]
В исторической политике именно учебники являются средством массового распространения идей, необходимых существующему политическому режиму. Образ России – соседа, центра силы в регионе – с начала 1990-х годов приобретал следующие негативные ценностные коннотации:
• Россия XVII в. рассматривалась как сосед, занимающий агрессивно-выжидательную позицию.
• Союз с ней носил вынужденный характер.
• Воссоединение Украины с Россией произошло насильственно, в результате обмана: население заставили присягнуть.
• Исторически сложившаяся близость русских и украинцев – фактор второстепенный, но способствующий завышенным позитивным ожиданиям.
• В начале XVIII в. казаков презирали даже несмотря на участие Украины в Северной войне. Петр I к Украине относился пренебрежительно, был готов отдать английскому герцогу. И. Мазепа, опередив время, смог осознать необходимость разрыва с Россией.
• Имперская Россия воспринимала Украину как колонию, целенаправленно ослабляя экономику и провоцируя социальные конфликты.
Более обдуманные оценки даны только в учебнике, написанном автором из Юго-Восточного региона страны. Негативный образ России, неприятие русского – фактор, предопределивший украинский кризис 2014–2015 гг.
Историческая политика на постсоветском пространстве формировалась под влиянием освобождения от советских идеологем – появилась возможность разрабатывать «закрытые» ранее темы. Историописание воспринималось как фактор формирования этнической идентичности, как средство обоснования суверенитета, а самостоятельность – как высшая ценность, полученная не в ходе распада СССР, а в процессе длительной, многолетней борьбы. К сожалению, на постсоветском пространстве линия разлома прошла именно по границе дружественных культурных и политических взаимоотношений.
* * *
УДК 32.019.5(477)
КУМПАН ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА. К. и. н., доцент, Кубанский государственный университет, Краснодар.
EKATERINA KUMPÁN. PhD, Associate professor, Kuban State University, Krasnodar.
E-mail: e_kumpan(a)mail.ru.
РОССИЯ В ИСТОРИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ УКРАИНЫ: ОБРАЗ «СОСЕДА» НЕГО ЦЕННОСТНЫЕ КОННОТАЦИИ
История конструирует реальность, а реальность создает историю. Задачи нациестроительства придают этому процессу жесткие рамки, формируя государственную концепцию истории. На постсоветском пространстве создаются Институты памяти, печатаются теоретические работы, посвященные проблемам национальных историописаний. История становится частью образовательной политики: государство, транслируя общие ценности новым поколениям, предопределяет будущее, закладывая основы диалога или конфликта.
Автор рассматривает особенности формирования коллективной памяти в контексте исторической политики Украины. В работе проанализированы учебники истории, изданные в конце XX – начале XXI в. Структурно анализ учебников разделен на два блока – хронологической линией раздела является 2010 г. – изменение курса исторической политики Украины.
Анализ проведен по следующим смысловым линиям:
1. Присоединение Украины к России (специфика толкования причин сближения Украины и России, Переяславское соглашение и его интерпретации, «московско-украинская война 1658–1659 г.» – как особенность украинского историописания).
2. Иван Мазепа – конструирование национального героя.
3. Украина в составе Российской империи – «обе части Украины были объектами национального и социального угнетения» (Турченко Ф. Г., Мороко В. М. 1сторш Украши. Щдручник для 9 класу. Кшв, 2004. С. 5–7).
4. Политизация голода: с 2006 г. решением Верховной Рады Украины Голодомор 1932–1933 гг. был назван «геноцидом украинского народа.
5. Великая Отечественная война: сравнительный анализ трактовок до и после 2010 г. Деятельность Украинской повстанческой армии в оценках школьных учебников.
6. Украина в 1980-е гг. – итоги советского режима.
Политическая история выбирает факты и источники, корректирует историческую память. Негативный образ России, создаваемый украинскими учебниками, отрицание ценности русского как части культуры и истории Украины – это те факторы, которые предопределили украинский кризис 2014 г.
Ключевые слова: Украина; историческая память; этнос; нациестроительство.
RUSSIA IN THE HISTORICAL POLICY OF UKRAINE: THE IMAGE OF THE «NEIGHBOUR» AND ITS INTEGRAL CONNOTATIONS
History constructs reality, whereas reality creates history. The objectives of nationbuilding give rigid frames to this process, thus forming state conception of history. In the postsoviet regions Institutes of memory are created, theoretical works dedicated to the issues of national history-writings are published. History becomes a part of educational policy: by transmitting general values to new generations the state determines future, laying the foundations of dialogue or conflict.
The author examines the features of formation of collective memory in the context of historical policy of Ukraine. She analyzes history textbooks published at the end of the XX century-beginning of the XXI century. The analysis of the textbooks is structurally divided into two blocks: 2010 constitutes the chronological line of this division in which a course of Ukrainian historical policy changed.
The author analyses the textbooks within such framework:
1. Russian annexation of Ukraine (specificity of interpreting the causes of rapprochement between Ukraine and Russia, Pereyaslav Treaty and its interpretation, «Moscow-Ukrainian war 1658–1659» as a feature of Ukrainian history writing).
2. Ivan Mazepa – constructing national hero.
3. Ukraine within the Russian Empire – «both parts of Ukraine were the objects of national and social oppression» (Turchenko Fedir, Moroko V.M. Istorija Ukraini. Pidruchnik dlja 9 klasu. Kiev: Geneza Publ., 2009. P. 5–7).
4. Politicization of famine: according to the decision of Verkhovna Rada in 2006 «Holodomor» of 1932-33 is called the «genocide of Ukrainian people».
5. Great Patriotic War: comparative analysis of rendering before and after 2010. The activity of Ukrainian Insurgent Army in the history textbooks’ evaluation.
6. Ukraine in 1980-s – the results of Soviet regime.
Political history chooses facts and sources and corrects historical memory. Negative image of Russia created by Ukrainian textbooks, the denial of the values of the Russian language as a part of culture and history in Ukraine predetermined Ukrainian crisis of 2014.
Keywords: Ukraine; historical memory; ethnos; formation of the nation.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Власов В. С. 1сторш Украши. Шдручник для 8 класу загальноосвтпх навчальних закладш. Кшв: Генеза, 2008. 304 с.
2. Власов В. С., Данилевська О. М. Вступ до icTopii Украши: шдручник для 5 класу загальноосвЬтних навчальних закладш. Кшв: Генеза, 2002. 247 с.
3. Власов В. С, Данилевсъка О. М. Вступ до icTopii Украши: шдручник для 5 класу загальноосвЬтних навчальних закладш. Кшв: Генеза, 2010. 208 с.
4. Мисан В. Вступ до icTopii Украши. Шдручник для 5 класу загальноосвтпх навчальних закладш. Киш: Генеза, 2010. 176 с.
5. Мисан В. Рассказы по истории Украины. Учебник для 5 класса средней школы. Киев: Генеза, 1997.206 с.
6. Нора П., Озуф M.j де Пюимеж Ж., Винок М. Франция – память. СПб.: Издательство Санкт-Петербургского университета, 1999. 325 с.
7. Соловьев С.М. История России с древнейших времен. Т. 15. URL: . msk.ru/library/history/solov/solvl5p3.htm (последнее посещение 01.05.2015).
8. Струкевич А. К., Романюк И. М., Парус Т. П. История Украины. Учебник для 8 класса общеобразовательных учебных заведений. Киев: Грамота, 2008. 272 с.
9. Тарле Е. В. Северная война и шведское нашествие на Россию // Тарле Е.В. Сочинения. Том 10. М.: Издательство Академии Наук СССР, 1959. URL: /h/ tarle2/01.html (последнее посещение 01.05.2015).
10. Турченко Ф. Г., Мороко В. М. Iсторiя України. Підручник для 9 класу. Київ: Генеза, 2009. 352 с.
11. Швидько Г. К. Iсторія України XVI–XVIII столiття: підручник для 8 класу загальноосвiтних навчальних закладів. Київ:: Генеза, 2008. 336 с.
REFERENCES
1. Misan Viktor. Rasskazy po istorii Ukrainy. Uchebnik dlja 5 klassa srednej shkoly. Kiev: Geneza Publ., 1997. 206 p. (in Russian).
2. Misan Viktor. Vstup do istorii Ukraini. Pidruchnik dlja 5 klasuzagaVnoosvitnih navchaVnih zakladiv. Ki'iv: Geneza Publ., 2010. 176 p. (in Ukrainian).
3. Nora P’jer, Ozuf Mona, de Pjuimezh Zherar, Vinok MisheP. Francija – pamjať. Saint Petersburg: Izdatel’stvo Sankt-Peterburgskogo universiteta Publ., 1999. 325 p. (in Russian).
4. Shviďko Ganna .Istorija Ukraini XVI–XVIIIstolittj a: pidruchnik dlja 8 klasuzagaVnoosvitnih navchaVnih zakladiv. Kiev: Geneza Publ., 2008. 336 p. (in Ukrainian).
5. Solov’ev Sergej. Istorija Rossii s drevnejshih vremen. Vol IS. / library/history/solov/solvl5p3.htm (date of access: 01.05.2015) (in Russian).
6. Strukevich Aleksej, Romanjuk Ivan, Pirns Tatjana. Istorija Ukrainy. Uchebnik dlja 8 klassa obshheo-brazovateVnyh uchebnyh zavedenij. Kyev: Gramota Publ., 2008. 272 p. (in Russian).
7. Tarle Evgenij. “Severnaja vojna i shvedskoe nashestvie na Rossiju”, in Tarle Evgenij Sochinenija. Vol. 10. Moscow: IzdatePstvo Akademii Nauk SSSR, 1959. . Iib.ru/h/tarle2/01.html (date of access: 01.05.2015) (in Russian).
8. Turchenko Fedir, Moroko Valerij. Istorija Ukraini. Pidruchnik dlja 9 klasu. Kiev: Geneza Publ., 2009. 352 p. (in Ukrainian).
9. Vlasov Vitalij. Istorija Ukraїni. Pіdruchnik dlja 8 klasu zagal’noosvitnih navchal’nih zakladіv. Kiev: Geneza Publ., 2008. 304 p. (in Ukrainian).
10. Vlasov Vitalij, Danilevs’ka Oksana. Vstup do іstorії Ukraїni: pіdruchnik dlja 5 klasu zagal’noosvitnih navchal’nih zakladіv. Kiev: Geneza Publ., 2002. 247 p. (in Ukrainian).
11. Vlasov Vitalij, Danilevs’ka Oksana. Vstup do іstorії Ukraїni: pіdruchnik dlja 5 klasu zagal’noosvitnih navchal’nih zakladіv. Kiev: Geneza Publ., 2010. 208 p. (in Ukrainian).
Доминанты политики памяти в Украине (1989–015)
Киридон А. Н.
Апелляция к прошлому как символическому ресурсу стала неотъемлемой частью политики государств постсоветского пространства, выстраивающих национальную идентичность. По мнению П. Рикера, «…память – временная составляющая идентичности, наряду с оценкой настоящего и планированием будущего»[519]. Технологии формирования, утверждения, а также навязывание определенного видения прошлого коррелируют с новыми вызовами и угрозами современного общества. Власть легитимирует в определенной версии истории собственные начинания. Путем осуществления политики памяти может быть реализован целый ряд политических интересов – от консолидации общества на почве совместного исторического прошлого к его полной дезинтеграции на основании гиперболизации определенных перипетий прошлого.
Задачей предлагаемой статьи является осмысление понятия «политика памяти» и характеристика основных этапов политики памяти в Украине периода 1989–2015 гг.
Термин «политика памяти» является относительно новым и дискуссионным[520]. В научный обиход вошли схожие по смыслу понятия: «историческая политика», «мемориальная политика», «хронополитика» и др. Данное понятие возникло во второй половине XX в. в постмодернистских теориях языка и власти (Р. Барт, Ю. Кристева, Ж. Деррида, М. Фуко). Постмодернисты выдвинули тезис о конструировании властью нужных представлений о прошлом и социально-групповой идентичности[521].
Разнообразие существующих толкований этого понятия, актуализированного в рамках различных социально-гуманитарных наук, можно условно разделить на несколько групп. Представители ценностного подхода определяют политику памяти как:
– разнообразные общественные практики и нормы, связанные с регулированием коллективной памяти (Ж. Минк);
– как сознательную стратегию проектирования образов прошлого в планах на будущее (П. Нора);
– как публичное пространство диалога общественных сил и историков (А. Миллер).
Сторонниками конструктивистского подхода политика памяти понимается как:
– «навязанная память» и «разрешенная история» (П. Рикер);
– создание критериев для отбора тех исторических событий, которые следует хранить в памяти, и тех, которые нужно из нее «стереть»;
– программа и действия по внедрению определенных критериев в массовое сознание с целью превращения их в неосознанные стереотипы;
– разработка и пропаганда контекста, в котором отобранные для восстановления в массовом сознании события сочетаются с актуальной реальностью и задают политически целесообразные установки и предпочтения (С. Кара-Мурза);
– процесс выстраивания созвучных настроениям эпохи (и определенных политических сил) образов прошлого, символический ресурс, который вполне допустимо использовать, в том числе и в процессе политического и культурного соперничества элит.
По нашему мнению, политика памяти является своеобразной «войной за смыслы» и касается, прежде всего, интерпретации прошлого, моделируется с учетом конкретных внутренних и внешних факторов функционирования государства, а также обуславливается характером политической власти. Политику памяти мы рассматриваем как совокупность социальных практик, направленных на репрезентацию (или модификацию) определенных образов прошлого, актуализированных современным политическим контекстом; институализированное производство социальных представлений о прошлом конкретного сообщества. В качестве инструментария политики памяти используется законотворчество, юридические санкции, мемориализации, образовательные ресурсы, медийные проекты и ряд других средств конструирования образов исторического прошлого и памяти о нем.
Политика памяти характеризуется избирательностью, она призвана акцентировать внимание на одних событиях, героях, местах памяти, игнорируя другие. При этом «память» рассматривается нами как социокультурный феномен, характеризующийся изменчивостью и зависимостью от множества факторов. Использование образов прошлого в качестве ресурса власти для легитимации существующего порядка вещей или для обоснования претензий на изменение политического порядка дает основания говорить о существовании политики памяти как отдельного вида политических отношений в современном мире[522]. Политика памяти выходит на передний план тогда, когда устаревшими оказываются сами стратегии обращения к прошлому. Современные социальная и политическая ситуации вызывают потребность в изменении не самого отношения к прошлому, а его отдельных элементов. Таким образом, определенный тип памяти начинает поддерживаться и транслироваться с помощью государственных информационных и финансовых ресурсов в том случае, когда вызываемые этой памятью эмоциональные и рациональные ценности оказываются созвучны приоритетам современной национальной политики[523].
К факторам политики памяти исследователи относят также тип политического режима, степень теоретического обеспечения той или иной версии прошлого, подбор кадров в ее донесении, профессиональный уровень политиков, применение политических технологий, развитие политической культуры, состояние политического сознания граждан и др.
В формировании политики памяти в Украине за годы независимости, по нашему мнению, можно условно выделить несколько этапов с характерными доминантами. При этом мы осознаем, что новые модели памяти утверждаются не на «стерильной» территории. Любая новая модель имеет свои коды (с точки зрения семиотического моделирования) – основной и вторичный. Основной код – это сложная система, которая внедряет или выступает носителем большинства знаков/маркеров нового этапа. Вторичные коды, которые не являются доминантными, превалирующими, все же сигнализируют о существовании другой реальности. Каждая эпоха характеризуется господством определенного основного кода. Особенно сложной представляется картина в условиях переходных/трансформационных периодов, когда разрушается устоявшаяся система координат.
В конце 1980-х – начале 1990-х гг. политику памяти на государственном уровне можно классифицировать как наднациональную, базирующуюся на концепции интернационализма, братства, единства и т. д. В дальнейшем наблюдается разрыв матрицы наднациональной политики памяти и формирование национальных моделей. В целом можно говорить об обусловленности политики памяти характером власти (терминами президентских полномочий).
В рамках I этапа (конец 1980-х – 1994 гг.), по нашему мнению, можно выделить два отрезка (периода):
а. трансформационные изменений ментальных установок (конец 1980-х – 1991 гг.). В условиях перестройки наблюдается характер изменений на уровне сознания, вызванный ростом интереса к прошлому, ликвидацией «белых пятен», появление препринтов, литературы диаспоры и т. д. Возрастает интерес к казачеству, истокам украинской государственности, украинского национального движения, Украинской революции 1917-1920-х годов, разрушению храмов, Голодомору, репрессиям и т. д. В процессе становления украинской независимости в идентификационных матрицах с подачи национал-демократов достаточно умело использовались «оборонительные» мотивы в сочетании с романтическим представлением об «особой украинской миссии»[524].
b. 1991–1994 гг. – президентство Л. Кравчука (первый Президент независимой Украины (декабрь 1991 – июль 1994 гг.). С именем первого Президента независимой Украины традиционно связывают принятие Акта о независимости Украины, проведение референдума 1 декабря 1991 г., развал СССР, новые государственные атрибуты, дистанцирование от СНГ, первые шаги по интеграции Украины в европейские структуры. На этом этапе ярко представлена амбивалентность моделей памяти: существующей «советской» и нарождающейся «националистической». Легитимация нового политического субъекта (государства) достигалась за счет истории, как ресурса оправдания политических решений. Начинается конкурирование различных типов памяти. В целом, для всего постсоветского пространства (в том числе и для Украины) для этого этапа характерен «плюрализм стратегий памяти»[525].
II этап – Президентство Л. Кучмы (1994–2004 гг.). Во внутренней политике Леонид Кучма отмечается осторожной последовательностью и предсказуемостью. В этот период Верховная Рада Украины 28 июня 1996 г. приняла Конституцию Украины.
Политика памяти – неопределенная (двойственная или даже «многовекторная»): с одной стороны именно при президентстве Л. Кучмы известный историк и политический деятель первой трети XX в. Михаил Грушевский получил официальное признание как «отец украинской нации», но в то же время – наблюдается существование («неразрушение») советских мифов.
III этап – Президентство В. Ющенко (январь 2005–2010 гг.). Взят курс на сугубо национальную версию политики памяти; резкий отказ от советских шаблонов трактовки прошлого, активизация изучения прошлого, рост количества мест памяти, усиленное внимание к изучению Голодомора. Отличительной особенностью этапа стало создание Украинского института национальной памяти как органа власти.
Однако, как отмечает Е. Позднякова-Кирбятьева, институализированная коллективная память иначе реагирует на примирение с прошлым, а именно избирательно выделяет события. Власть, существующая в данный момент истории, считает необходимым обязательно периодически оживлять соответствующие события в памяти населения. При том, смена власти может вести к изменению объектов для сохранения в коллективной памяти. И здесь возникает противоречие между естественными механизмами динамики памяти и искусственными механизмами институализированной памяти. В частности, возникает феномен «принуждения к памяти», как одно из проявлений патологии социально-исторической памяти. Смысл этой патологии заключается в том, что личностный эмоциональный компонент памяти к определенным объектам теряется, но государство навязывает населению память об этих объектах, событиях с помощью закрепленных традиции ритуалов. Такая память превращается в формализованный, ритуализованный, а значит ненастоящий симулякр коллективного сознания[526].
IV этап – Президентство В. Януковича (2010–2014 гг.) – позиционирование политики памяти как альтернативной предыдущему президентству (соответствующие акценты в отношении к Голодомору, Второй мировой войны и др.). Изменение характера деятельности Украинского института национальной памяти (из органа исполнительной власти структура реорганизована в научно-исследовательское учреждение).
V этап – Президентство П. Порошенко (с 2014 г.). Расширение пространства политики памяти с учетом европейского контекста (в частности, речь идет об оценке Второй мировой войны). Акцент на осуществлении декоммунизации и десоветизации: 15 мая 2015 г. президент П. Порошенко подписал принятые 9 апреля парламентом Украины законы «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики»; «О доступе к архивам репрессивных органов коммунистического тоталитарного режима 1917–1991 годов»; «Об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939–1945 годов», а также «О правовом статусе и памяти борцов за независимость Украины в XX веке». Наиболее существенными положениями являются признание ОУН и УПА борцами за независимость, осуждение коммунистического и нацистского режимов и их преступлений с запретом пропаганды их символики, а также необходимость переименования всех географических названий, связанных с деятелями коммунистического режима 1917–1991 гг.
Таким образом, доминанты политики памяти на различных этапах периода независимой Украины базируются с учетом перенесения акцентов в плоскости травма/трагедия и триумф. Можно утверждать, что в политике памяти отражаются опыт общества, актуальное состояние его базовых институтов, социально-политическая структура, соотношение общественных сил, убеждения и оценки государственно-политических лидеров.
* * *
УДК 32.019.5(477)
КИРИДОН АЛЛА НИКОЛАЕВНА. Д. и. и., профессор, директор Государственного научного учреждения «Энциклопедическое издательство», Киев.
KYRYDON ALLA. PhD, professor, Encyclopedical Publishing, Kiev, Ukraine.
E-mail: akyrydon(o)ukr.net
ДОМИНАНТЫ ПОЛИТИКИ ПАМЯТИ В УКРАИНЕ (1989–2015)
В данной статье политика памяти рассматривается как совокупность социальных практик, направленных на репрезентацию (или модификацию) определенных образов прошлого, актуализированных современным политическим контекстом. Политика памяти касается, прежде всего, интерпретации прошлого и моделируется с учетом конкретных внутренних и внешних факторов функционирования государства, а также обуславливается характером политической власти. Политика памяти характеризуется актуализацией и избирательностью, акцентирует внимание на одних событиях, героях, местах памяти, при этом игнорируя другие. При этом «память» рассматривается нами как социокультурный феномен, характеризующийся изменчивостью и зависимостью от множества факторов.
Автор выделяет несколько этапов политики памяти в истории независимой Украины. При этом важным представляется учет сложных переплетений матриц ценностных ориентаций (в «чистом виде» не происходит утверждение «новой» модели памяти, т. е., она утверждается не на «стерильной» территории). Под влиянием политики памяти происходит «переписывание» учебников, изменение мест памяти и т. и.
В целом можно говорить об обусловленности политики памяти характером власти (терминами президентских полномочий).
I. конец 1980-х – 1994 гг., причем можно выделить подпериоды:
1. трансформационные изменения ментальных установок (конец 1980-х– 1991 гг.);
2. президентство Л. Кравчука, первого Президента независимой Украины (декабрь 1991 – июль 1994 гг.);
II. президентство Л. Кучмы (1994–2004 гг.);
III. президентство В. Ющенко (январь 2005 – 2010 гг.);
IV. президентство В. Януковича (2010–2014 гг.);
V. президентство П. Порошенко (с 2014 г.)
Ключевые слова: политика памяти; репрезентации; модели памяти: образы прошлого.
DOMINANTS OF THE POLICY OF MEMORY IN UKRAINE (1989–2015)
In this article the politics of memory is understood as the combination of social practices aimed at representation (or modification) of certain images ofthe past which have been revived by contemporary political context. The politics of memory is primarily concerned with the interpretation of the past and is modeled according to the specific internal and external factors of the state functioning, and is determined by the nature of political power. The politics of memory is characterized by actualization and selectivity, focuses on some events, characters, places of memory, at the same time ignoring the other ones. The «memory» is considered a sociocultural phenomenon, characterized by variability and dependence on a number of factors.
The author divides the politics of memory in the independent Ukraine into several conventional stages. It is also important to take the complex interweaving of the matrices of valuable orientations into account (there is no confirmation of the «new» memory model in the «pure form», which means that it is confirmed not on the «sterile» area). Under the influence of the politics of memory textbooks are rewritten, places of memory are changed, etc.
The nature of the politics of memory is determined by the nature of political power in Ukraine (presidential terms of powers).
I. the end of the 1980–1994; the sub-periods can be divided into:
1. a) transformational changes in mental attitudes (late 1980s-199l);
2. b) December 1991 – July 1994) – the presidency of L. Kravchuk, the first President of independent Ukraine;
II. L. Kuchma’s presidency (1994–2004);
III. V. Yushchenko’s presidency (January 2005 – 2010);
IV. V. Yanukovych’s presidency (2010–2014);
V. Presidency of P. Poroshenko (from 2014).
Keywords: the politics of memory; representations; memory models; images of the past.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Аникин Д. Политика памяти в современном российском обществе: урбанистический аспект // Известия Саратовского университета. 2011. Т. 11. Вып. 1. C. 3–7.
2. Аникин Д. Политика памяти в современном украинском обществе // Сучасна україністика: наукові парадигми мови, історії, філософії: Зб. статей/ За заг. ред… к. філос.н., проф. О. C. Черемської, д. філос. н., проф. О. М. Кузя (матеріали IV міжнародної наук. конф., Харків, 8–9 квітня 2014 р.). Харків: ХНЭУ, 2014. С. 210–216.
3. Аникин Д. Стратегии трансформации политики памяти в современной России: региональный аспект // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 7: Философия. Социология и социальные технологии. 2012. Вып. 3. C. 121–126.
4. Копосов Н. Память строгого режима: История и политика в России. Москва: Новое литературное обозрение, 2011. 315 c.
5. Макаров А. Политика памяти как элемент региональной культурной жизни // Власть. 2008. № 12. URL: -pamyati-kak-elementregionalnoy-kulturnoy-zhizni (Последнее посещение: 01.06.2015).
6. Ніколаєць Ю. Політика історичної пам’яті в Україні на початку ХХІ ст. // Політологічні студії: Збірник наукових праць. 2011. Вип. 2. С. 192–204.
7. Позднякова-Кірбят’єва Е. Соціологія соціально-історичної пам’яті:теоретико-методологічні та емпіричні студії. Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2014. 400 с.
8. Рикер П. Память, история, забвение. М.: Издательство гуманитарной литературы, 2004. 725 c.
REFERENCES
1. Anikin Daniil. ‘‘Politika pamjati v sovremennom rossijskom obshhestve: urbanisticheskij aspect’’, Izvestija Saratovskogo universiteta 11 (2011). P. 3–7. (in Russian).
2. Anikin Daniil. ‘‘Politika pamjati v sovremennom ukrainskom obshhestve’’, Suchasna ukraїnіstika: naukovі paradigmi movi, іstorії, fіlosofії: Zb. Statej, ed. Ol’ga Cherems’ka and Oleg Kuz’ (materіali ІU mіzhnarodnoї nauk. konf., Harkіv, 8–9 kvіtnja 2014 r.). Harkіv: HNEU Publ., 2014. P. 210–216. (in Russian).
3. Anikin Daniil. ‘‘Strategii transformacii politiki pamjati v sovremennoj Rossii: regional’nyj aspect’’, Vestnik Volgogradskogo gosudarstvennogo universiteta 3 (2012). P. 121–126. (in Russian).
4. Koposov Nikolaj. Pamjat’ strogogo rezhima: Istorija i politika v Rossii. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie Publ, 2011. 315 p. (in Russian).
5. Makarov Andrej. ‘‘Politika pamjati kak jelement regional’noj kul’turnoj zhizni’’, Vlast’ 12 (2008). -pamyati-kak-element-regionalnoykulturnoy-zhizni (date of access: 01.06.2015) (in Russian).
6. Nіkolaєc’ Jurij. ‘‘Polіtika іstorichnoї pam’jatі v Ukraїnі na pochatku XXI st.’’, Polіtologіchnі studії: Zbіrnik naukovih prac’ 2 (2011). P. 192–204. (in Ukrainian).
7. Pozdnjakova-Kіrbjat’єva Ellina. Socіologіja socіal’no-іstorichnoї pam’jatі:teoretikometodologіchnі ta empіrichnі studії. Zaporіzhzhja: Zaporiz’kij nacional’nij universitet Publ., 2014. 400 p. (in Ukrainian).
8. Riker Pol’. Pamjat’, istorija, zabvenie. Moscow: Izdatel’stvo gumanitarnoj literature Publ., 2004. 725 p. (in Russian).
Новая культурная история и репрезентация травмы в мемуарах ингерманладнских финнов
Саволайнен Е. А.
Современные попытки написать единый учебник истории, который мог бы примирить разные группы общества – продолжение выстраивания «сверху» системы ценностей и идентичности. Это история «великих людей» и история военных конфликтов между воображаемыми сообществами, но в этой версии истории нет места частному человеку. Авторов таких предложений можно упрекнуть в недостаточном знакомстве с западной послевоенной философией, которая отрицает монополию на истину и говорит о невозможности редукции к единству[527]. Пересматривать и критически анализировать прошлое – та функция социально-гуманитарного знания, без которой было бы невозможно развитие гуманитарной науки.
В 1980-х гг. на Западе начинает свое развитие «новая культурная история» или историческая антропология, как альтернативная методология исследований, обращенная к микроистории[528] и возможности «остраннения», изживания из себя посттравматического опыта[529]. Фокус таких исследований сосредоточен на расщепленном взгляде на историческую ткань. История предстает не единым монолитом – она становится многомерной, руинизированной, автор повествования выступает не жертвой, но свидетелем.
Также с 80-х гг. в США развиваются междисциплинарные исследования травмы на стыке психологии, культурологии и истории. Началом стало новое прочтение работы[530] Фрейда, где он рассматривает меланхолию либо как фиксацию на моменте травмы, либо как культурную амнезию, реакцию вытеснения. Второй тип реакции – печаль, скорбь – как проработка травматического опыта, открытие нового взгляда на проблему, изменение отношения, помогающее человеку примириться с травмой и не замыкаться в ней, находить новое «психическое пространство».
В России разговор о травме остается ненормативным, что имеет под собой целый комплекс причин. Закрытость архивов, государственный заказ на историографию и преподавание истории в школах, страх повторно пострадать или нежелание открывать для себя тяжелые страницы, сложность работы и степень ответственности исследователя в работе с таким материалом – только самые очевидные из них.
Этот комплекс порождает соответствующий способ историописания, в котором нет места для иных групп или сообществ, маркирование которых сложнее, чем «победитель» или «побежденный»: жертва становится виновником совершенного над ней насилия, свидетель – потенциальной жертвой. Все эти пленные, специально переселенные, репатриированные, депортированные создают хаос, дробятся и множатся, создавая статистические неудобства и подрывая усилия по созданию единого «здания» исторической науки[531].
Когда исследователи работают только с бюрократическими архивами, то реальность отдаляется, подменяется указами, цифрами, на которые обычно ссылаются историки-сталинисты, упорные апологеты метанарраций. К тому же архивы закрыты для публики, получить дело даже близкого родственника часто оказывается затруднительным, поэтому спекуляции на цифрах вполне закономерны, а мотивация таких историков – отдельный этический и мировоззренческий вопрос. Такие исследователи часто говорят об излишней стигматизации травмирующих событий, но после того как произошла трагедия, и это уже стало предметом хрестоматии по истории, «считать трупы» не совсем этично. Стигматизация, упоение своей трагедией – как раз фрейдистская меланхолия, зацикленность и невозможность вырваться из круга воспоминаний. В западных научных школах, где гуманитарная наука значительно менее ангажирована, чем в посткоммунистическом мире, имея более широкую источниковую и методологическую базу, исследователи также критикуют стигматизацию[532], но уже с иной стороны. Любой пострадавший считает, что его опыт неповторим, и оскорбляется, когда его трагедию сравнивают с другими, не уступающими по жестокости и часто имеющим схожие причины и динамику[533]. Особенно авторов феминистской критики такие размышления выводят на фундаментальные антропологические вопросы: об имманентности жестокости и насилия в человеческом мире, о построении общества и власти, о репрезентативности и мотивации. Обобщение производится опять-таки не только и не столько на архивной статистике, сколько в формате case studies, где архивы лишь дополняют и комментируют рассматриваемый феномен.
Кейс, который натолкнул меня на размышления – мемуары моего отца, а затем книга его друга детства, с которым их судьбы пересекались на родине, в ссылке и в зрелом возрасте. Независимо друг от друга они написали тексты, которые с двух разных ракурсов и в двух разных жанрах описывают одно событие – геноцид ингерманландских финнов. В текстах обнаруживаются перекрестные отсылки, они «склеиваются» в единое высказывание, дополняя друг друга. Сопоставление двух текстов и двух способов писать (мемуарный текст как «сухой остаток» памяти и текст книги, снабженный справками, комментариями и иллюстрациями, как попытка исторического осмысления своей судьбы) позволяет более ясно увидеть субъективность обоих рассказчиков, а историю в целом – многомерной.
История ингерманландских репрессий в советское время замалчивалась, она появляется в официальном дискурсе лишь в 1990-х гг.[534]Активное участие в собирании свидетельств и создании базы public history приняли общество Inkerin Liitto и лютеранская церковь Ингрии. На сегодняшний день накопился достаточно обширный корпус литературы: мемуары, научная публицистика, опубликованы архивные данные.
После Зимней войны и поддержки Финляндией гитлеровской Германии во время Второй мировой войны ингерманландцы автоматически как часть финского этноса стали врагами народа. Массовые депортации по 5-й графе начинаются с марта 1942 г., поскольку одна группа финнов попала под Блокаду, вторая – с оккупированной территории бежала в Эстонию, затем в Финляндию, но была репатриирована на родину и депортирована в места специального переселения[535]. Их расселили малыми группами по более чем двум десяткам регионов РСФСР, а также в союзных республиках в Средней Азии.
Вероятно, здесь стоит сказать о перформативности мемуарного текста как жанра – это не разыгрываемый «театр военных действий» или трибунные высказывания, а пережитое, субъективное, и поэтому время и пространство здесь представляются значительно более выпуклыми.
Анализ мемуаров показывает время не как хронику, но как темпоральность – неравномерное и запутанное время текста. Во-первых, это время высказывания – в обоих анализируемых случаях это тексты, написанные пожилыми людьми как завещание. Сразу оговорюсь, что ни один из авторов не является историком или даже гуманитарием – оба инженеры. Саволайнен пишет коротко, его текст отличается будничностью и стилистической простотой, которая открывает интенсивность и «густоту» образов: «барышня в фетровых ботах тюкала ломом мерзлые какашки. Так местные власти трудоустраивали эвакуированных». Риехкалайнен же во время написания своей книги осуществил путешествие по местам ссылки, собрал фотографии и документы, постарался сделать это с опорой на фактический материал. Его книга не лишена сентиментов и риторических вопросов, личная история вплетена в повествование, она не является замкнутым высказыванием, складывается ощущение, что он снабжает текст отступлениями и комментариями для легитимации своего права говорить.
Во-вторых, время внутри текстов течет нелинейно и хаотично: это пересылки с места на место, калейдоскоп имен и пересекающихся судеб. Отец Юрье Риехкалайнена был директором сельской школы, ярым коммунистом[536], отец Арво Саволайнена – учителем физкультуры и географии в той же школе, беспартийным. Оба они были арестованы во время коллективизации и объявлены кулаками. Начало репрессий воспринималось как нелепая ошибка, «ждали, что всех скоро отпустят»[537]. Это «скоро» разворачивается сбитой темпоральностью текста: время то сжимается, то расширяется, причем в пределах короткой фразы. «Мама регулярно ходила в Кресты, стояла длинные очереди. Потом однажды ей сообщили, что отец осужден на 10 лет без права переписки. Только спустя лет 30 мы все узнали, что это означало расстрел». Момент ареста отца Риехкалайнена был более ожидаем в силу его директорской должности, к нему «готовились», но это не помогло легче пережить травму, и надежда найти отца вновь жила еще десять лет. Матери Риехкалайнена выплатили компенсацию – две месячных зарплаты мужа, эти деньги финны называли nahkaraha («деньги за шкуру»).
В обоих текстах присутствуют описания жизни в Блокадном Ленинграде, и в этом состоит еще одна уникальная особенность источников – они одновременно входят и в корпус «зоновской», и блокадной литературы. События зимы 1941–1942 гг. описаны как нечто обыденное, упоминаются случаи каннибализма, голодных смертей.
Дорога жизни становится дорогой ссылки ингерманландцев. Кажется удивительной абсолютная покорность людей с багажом в 30 кг вещей на человека, но все встает на место, когда приводятся распоряжения, в которых значится «эвакуация и специальное переселение» – люди не понимали что это значит, думали, что скоро вернутся домой, а разъяснений им не давали.
По детали, обрывку достраивается атмосфера времени. Иногда действия органов кажутся издевательскими. Так, выгрузка депортированных финнов в новом месте проживания – в окрестностях Тикси – сопровождалась песней «Широка страна моя родная», что Риехкалайнен осуждает как неприкрытый садизм. В тексте Саволайнена упоминается, что эта песня была популярна и звучала из всех радио-точек. Пространственное измерение текстов также имеет сложную структуру, оба автора детально описывают пересылки, остановки в медленном пути. Для Риехкалайнена с матерью, видимо, как для более опасных «врагов народа», уготовано новое место на устье Лены. Саволайнен попал на Лену вследствие страха его бабушки отстать от знакомых: они могли остаться в Зиме, Иркутской области, но «поехали дальше, к гибели».
Не претендуя на научность, эти тексты обладают большим образным потенциалом, заставляют воображение работать. Иллюстрации у Риехкалайнена – в основном портреты людей, архитектура, справки и выписки. Фотография всегда конкретна, она выхватывает момент реальности и этим она с одной стороны более репрезентативна, чем текст (сильнее запоминается), но, с другой стороны, отсутствие фото в силу отсутствия камер и нужды снимать секретную операцию оставляет поле воображаемого открытым. Этот же принцип, несмотря на наличие множества изображений после освобождения немецких концлагерей в Восточной Европе, был использован в фильме «Шоа», где на протяжении 9 часов ведутся разговоры в уютном интерьере или кафе, представлены картины мирной жизни современности – и тем страшнее свидетельские комментарии.
Ребенок, женщина, инвалид, или старик – те «исключенные группы», маргинальные агенты высказывания, чей голос обычно игнорируется, но в этом и заключена потенциальность: десятки книг и фильмов созданы по мотивам таких рассказов[538]. И дело здесь не только в уязвимости этих групп, но и в том, что эти люди не ангажированы, страдают не по своей воле, их истории рассказываются не в целях пропаганды, а ввиду невозможности скрыть этот свидетельский опыт.
А теперь приведу статистические данные. В СССР после программ по коренизации 1920-х гг. численность финнов составляла 162 тысячи человек, после депортаций она снизилась до 60 тысяч к 1960-м гг. На данный момент по разным источникам численность финнов составляет от двадцати[539] до шестидесяти[540] тысяч человек. Большинство из них вернулось и проживает в Карелии, Ленинградской области и Петербурге, также около 20 тысяч эмигрировало в Финляндию, и эмиграция продолжается. Для России они оказываются «слишком финнами», для Финляндии – «слишком русскими» и плохо адаптируются на новом месте. В Петербурге восстанавливаются культурные, религиозные, общественные организации – Инкерин Лиито, музей Ингерманландии, которые работают в поле коммеморативных и культурных практик.
Сейчас набирает силу движение за независимую Ингрию, которое выражает несогласие с управленческими моделями центра, претендует на большую автономию Петербурга и Ленобласти. Ингер-манландские финны и регионалисты используют один флаг, но их позиции не тождественны, они имеют весьма сложную структуру взаимоотношений.
* * *
УДК 82–94(470-2)
САВОЛАЙНЕН ЕЛИЗАВЕТА АРВОВНА. Соискатель, Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева, Москва.
ELIZAVETA SAVOLAINEN. Postgraduate student, D. Mendeleev University of Chemical Technology of Russia, Moscow.
E-mail: ella.savo(a)gmail.com
НОВАЯ КУЛЬТУРНАЯ ИСТОРИЯ И РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ТРАВМЫ В МЕМУАРАХ ИНГЕРМАНЛАНДСКИХ ФИННОВ
Современные попытки написать единый учебник истории, который мог бы примирить разные группы общества – продолжение выстраивания «сверху» системы ценностей и идентичности. Это история «великих людей» и история военных конфликтов между воображаемыми сообществами, но в этой версии истории нет места частному человеку.
Но есть иные дискурсивные практики, подходы новой культурной истории, исследования травмы, которые позволяют увидеть сложность и неоднозначность опыта, развернуть ракурс от тотального к частному, возвращая истории человеческое измерение.
В этой парадигме лежат свидетельства жертв политических репрессий. В обширном корпусе лагерной литературы есть блок письменных свидетельств представителей этнических групп, их взгляд из позиции маргинальной, окраинной идентичности. Этот взгляд коренным образом противоречит официальной историографии и помогает увидеть масштабы преступлений советского государства в отношении собственных граждан.
Основные источники исследования – мемуары Арво Саволайнена и Юрье Риехкалайнена написаны в разных жанрах: первые – чистая автобиография, вторые – историческое осмысление собственной судьбы. Оба эти автора были не только жертвами геноцида, но и свидетелями жизни в Ленинградской области, попавшей под блокаду во время Второй мировой войны. Представляется интересным тот факт, что авторы были знакомы в детстве, но потерялись. Назависимо друг от друга они написали свои воспоминания. В текстах обнаруживаются перекрестные отсылки, они «склеиваются» в единое высказывание.
В статье затрагиваются следующие вопросы:
Идентичность финнов-ингерманландцев, исторические и культурные особенности; – Политика в СССР в отношении ингерманландцев в 1930– 1940х гг.;
Анализ репрезентации травматического опыта в мемуарах ингерманландцев; Маргинализованная идентичность: посттравматические реакции, ассимиляция, наследование травматического опыта;
Ингерманландцы сегодня.
Ключевые слова: новая культурная история; исследования травмы; ингерманландские финны; репрессии; геноцид; права человека; мемуары; идентичность.
NEW CULTURAL HISTORY AND REPRESENTATION OF TRAUMA IN MEMOIRS OF INGRIANS
Contemporary attempts to create a united textbook of Russian history which could reconcile different groups of society, is the continuation of vertical identity construction “from top to bottom”. This is history of “great people” and history of military conflicts between imagined communities but there is no place for individual.
However, new cultural history and trauma studies analyzing micro-histories enable to see the complexity and ambiguity of experience and to turn research focus to private life, thus adding human dimension to history.
Memoirs written by victims of political repressions, from the viewpoint of provincial identity (especially the texts of Ingrians) are detailed representation of traumatic experience of genocide and crime against human rights in the Soviet Union. Texts include representation of the siege of Leningrad during World War II and deportation to remote regions of Soviet Union.
In the research the author analyzes memoirs written by A. Savolainen and Ju. Riehkalainen.
They are written in different genres: the former – pure autobiogaphy, the latter – historical consideration of one’s own historical fate. Both authors were not only victims of the genocide but also of the life in Leningrad Oblast during the siege. What is interesting is the fact that the authors had known each other during childhood but in later period they lived in different parts of Russia and lost contact. They wrote their texts independently of each other. We can find cross-references in both text, which can be merged into “entire statement”.
The article touches on the following issues:
– Identity of Ingrians, historical and cultural features;
– Soviet policy concerning Ingrians in 1930-40s;
Analysis of representation of trauma experience in the memoirs;
– Marginalised identity: posttraumatic reactions, assimilation, inheritance of traumatic experience;
Identity of Ingrians nowadays.
Keywords: New cultural history; trauma studies; Ingrians; repression; genocide; human rights; memoirs; identity.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Арендт X. Банальность зла. Эйхман в Иерусалиме. М.: Европа, 2008. 420 с.
2. Бхабха X. ДиссимиНация. Время и границы современной нации // Синий диван. 2005. № 6. С. 68–118.
3. Всероссийская перепись населения 2010. URL: site/perepis2010/croc/perepis_itogil612.htm (Дата обращения: 28.06.2015).
4. Гинзбург К. Сыр и черви. М.: Росспэн, 2000. 269 с.
5. Делез Ж. Гваттари Ф. Капитализм и шизофрения. Тысяча плато. Екатеринбург: У-Фактория Астрель, 2010. 892 с.
6. Закон о реабилитации жертв политических репрессий РСФСР от 18 октября 1991 г. URL: / (Дата обращения: 28.06.2015).
7. Зонтаг С. Смотрим на чужие страдания. М.: Ад Маргинем Пресс, 2014. 96 с.
8. Инкери. Портал Ингерманладских финнов. URL: / (Дата обращения: 28.06.2015).
9. Мусаев В. И. Политическая история Ингерманландии в конце XIX–XX веке/ Б. И. Мусаев. Изд. 2-е, испр. и доп. СПб.: «Нестор-История» СПб ИИ РАН, 2004. 447 с.
10. Риехкалайнен Ю. Ингерманландские финны: история и судьба. Петрозаводск: Периодика, 2009. 173 с.
11. Саволайнен А. С. Воспоминания советского финна // Вопросы истории. № 7. 2010. С. 70–78.
12. Фрейд 3. Печаль и меланхолия. Основные психологические теории в психоанализе. Очерк истории психоанализа. СПб.: «Алетейя», 1998. 256 с.
13. Эстерхази П. Исправленное издание. Приложение к роману Harmonia caelestis. Москва: Новое литературное обозрение, 2008. 239 с.
REFERENCES
1. Arendt Hanna. BanaVnosť zla. Jejhman v Ierusalime. Moscow: Evropa Publ., 2008. 420 p. (in Russian).
2. Bhabha Homi. DissimiNacija. Vremja i granicy sovremennoj nacii, Sinij divan 6 (2005). P. 68–118. (in Russian).
3. Delez ZhiF, Gvattari Felix. Kapitalizm i shizofrenija. Tysjacha plato. Ekaterinburg: U-Faktorija AstreF Publ., 2010. 892 p. (in Russian).
4. Frejd Zigmund. PechaF i melanholija. Osnovnye psihologicheskie teorii v psihoanalize. Ocherk istoriipsihoanaliza. Saint Petersburg: Aletejja Publ., 1998. 256 p. (in Russian).
5. Ginzburg Karlo. Syr i chervi. M.: Rosspjen Publ., 2000. 269 p. (in Russian).
6. “Inkeri. Portal Ingermanlandskih finnov”. (date of access: 28.06.2015) (in Russian).
7. Jesterhazi Peter. Ispravlennoe izdanie. Prilozhenie k románu «Harmonia caelestis». Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie Publ., 2008. 239 p. (in Russian).
8. Musaev Vadim. Politicheskaja istorija Ingermanlandii v konce XIX–XX veke. 2nd edition. Saint Petersburg: Nestor-Istorija Publ. SPb II RAN, 2004.447 p. (in Russian).
9. Riehkalajnen Jurijo. Ingermanlandskie finny: istorija i suďba. Petrozavodsk: Periodika Publ., 2009.173 p. (in Russian)
10. Savolajnen Arvo. “Vospominanija sovetskogo finna”, Voprosy istorii 7 (2010). P. 70 – 78 (in Russian)
11. “Vserossijskaja perepis’ naselenija 2010”. site/perepis2010/croc/perepis_itogi 1612.htm (date of access: 28.06.2015) (in Russian)
12. “Zákon о reabilitacii zhertvpoliticheskih repressij RSFSRot 18 oktjabrja 1991 g”. http:// / (date of access: 28.06.2015) (in Russian)
13. Zontag S’juzan. Smotrim na chuzhie stradanija. Moscow: Ad Marginem Press Publ., 2014. 96 p. (in Russian).
VI. Образ врага и образ другого
Факторы формирования национального самосознания (идентичности) во Франции в период Столетней войны (1415–422 гг.)
Кузьмина М. В.
Национальное чувство как составная часть национального самосознания формируется в течение долгого времени (этот процесс можно назвать перманентным) и зависит от многих причин. Это и социально-экономические, и культурные факторы, войны и многое другое. Однако прежде чем говорить о формировании национального самосознания народа, нужно рассмотреть вопрос формирования национального самосознания отдельного человека, отдельной не только этнической, но и социальной группы, к которой этот индивид принадлежит. В этом смысле традиционные (обыденные) формы осознания общности всегда играли большую роль.
Противопоставление «своих» и «чужих» как простейшая форма формирования национальной идентичности совершенно естественно и оправданно и эволюционно, и исторически. Эта оппозиция относится к наиболее архаичным пластам ментальных установок. Тесно связанным с ней является вопрос о самоидентификации отдельного человека, являющегося частью любой исторической общности. При этом границы между «своими» и «чужими» не являются раз и навсегда данными, непреодолимыми, поскольку также зависят от конкретных исторических условий.
Период Столетней войны и для Франции, и для Англии как раз и стал временем становления и укрепления национального самосознания, но этот процесс не был ни простым, ни однозначным.
Мы взяли небольшой временной отрезок с 1415 г. (год битвы при Азенкуре, 1420 г. – год заключения мира в Труа) по 1422 г. (год смерти королей Карла VI Валуа и Генриха VЛанкастера). Источниками для анализа послужили так называемые дневники. Это хорошо известный «Дневник Парижского горожанина» (‘Journal ďun bourgeois de Paris pendent la guerre de CentAns, 1405–1449’[541]) и записи секретарей journal ďun bourgeois de Paris 1405–1449. Texte original et integral présenté et commenté par Парижского Парламента Николя де Бая (1400–1417)[542] и Клемана де Фокамберга (1417–1435)[543], которые условно называют дневниками. Это был сложный период, когда в наиболее уязвимом положении оказался Париж – столица, жителями которой и были авторы всех трех дневников.
Среди множества факторов, оказывавших наиболее сильное влияние на формирование позиции людей в том, что касается отношения к «своим» и «чужим», можно выделить наиболее очевидные. При этом следует учитывать и то, что эти факторы могли быть более значимыми в одной ситуации и терять свою остроту в другой. Прежде всего, это факторы территориально-географический, конфессиональный, корпоративный, политический, этнокультурный, информационный.
При безусловной значимости всех вышеназванных факторов рассмотрим один из них – этнокультурный, под которым мы понимаем совокупность культурных (мифологических, религиозных, традиционных и т. д.) и языковых признаков, значимых в качестве проявления идентичности как для социальных групп, так и для отдельного человека уже в этот период.
Помимо проживания на одной территории люди идентифицируют себя с теми, кто говорит с ними на одном языке, и дистанцируются от тех, кто говорит на языке чужом. Язык как средство коммуникации в то же время является и выражением картины мира носителя языка. В этом смысле создание человеком текста, нарратива является проявлением социальных, этнокультурных черт личности.
Представляется обоснованным считать, что проявлением «языковой личности»[544] (его картины мира) в анализируемых текстах будет, прежде всего, то, что они написаны на французском языке. Более того, Клеман де Фокамберг указывает в отношении писем от короля Англии, написанным им после договора в Труа с требованием принести клятву о соблюдении этого договора, что французский язык, на котором эти письма были написаны, было трудно понять[545]. Возможно, Фокамберг хотел подчеркнуть, что даже король Англии, претендующий на то, чтобы считаться еще и королем Франции, не владеет языком завоееванной им страны, и тем самым высказал свое неприятие договора в Труа, хотя хорошо известно, что французский довольно долго использовался английской аристократией и был языком официальной документации. В этом замечании для нас важно то, что язык выступает фактором идентификации, возможностью разграничения тех, для кого французский язык является родным, и тех, для кого он – чужой.
Проведенный авторами недавно вышедшего «Словаря основных исторических понятий» анализ слов “natio”, “gens’, “populus”, “patria” применительно к проблеме формирования наций показал, что оба понятия – и natio, и patria – имеют тонкие различия: «… если nation (у каждого своя, личная) связывалась с географическим происхождением, то тогда это понятие перекликалось с patria. Под ним часто, но не всегда подразумевался родной город человека со всей округой (civitas)»[546]. Постепенно (уже в V в.) наряду с малой patria – местом рождения, «родиной», появилась и обрела приоритет большая patria – «отечество»[547], т. е. страна, в которой человек родился. Далее авторы пишут: «Рождение и родина, равно как и сохранившийся античный мотив смерти за отчизну, на все последующие века срослись с понятием «нация», которое сильнее всех прочих выражало групповую солидарность и отличие от своих и чужих»[548]. В Средние века во Франции, считает Колетт Бон, французы, nation France, представлялись чистокровными по происхождению (ипе race риге), а других, чье происхождение было смешанным (“сеих qui navaient que ďorigine melees et bátardes, comme les Anglais ou les Bourguignons”), т. e. англичан или бургиньонов, высмеивали[549].
Национальный язык в процессе формирования нации играет не последнюю роль. Языковой признак был положен в основу образования университетских «наций», хотя и не во всех университетах соблюдался строго. В XIV–XV вв. natio связывали уже не с местом рождения, а с языком. Люди, у которых был общий язык (или хотя бы языки, принадлежавшие к одной и той же семье), ощущали свое единство не на родине, а на чужбине. Язык становился первостепенным отличительным признаком[550].
Письменный язык (во всяком случае, в среде образованных людей) также мог быть средством самоидентификации, в том числе и по национальному признаку. Представляется показательным тот факт, что, например, Николя де Бай никогда не пишет именование короля Англии с заглавной буквы, только с прописной (“roy ďAngleterre”), а вот король Франции – это всегда “Roy”[551], хотя у Фокамберга при более частом написании “Roy nostre souvrain seigneur” иногда встречается и написание “roy”[552]. Так посредством языка они, возможно, определяют свое отношение к англичанам – врагам «королевства Франции». Позиции и де Бая, и де Фокамберга во многом определяются их принадлежностью к парламентской корпорации, для которой служение интересам короны было определяющим. Парижский Горожанин, кажется, был более свободным в высказывании своего мнения, но его «Дневник» сохранился лишь в копиях, поэтому мы не можем однозначно говорить о том, имело ли для него значение написание титула короля Франции с прописной или со строчной буквы. Во всяком случае, в дневнике и король Франции, и король Англии – это “roi”.
Дефиниции «французы» и «англичане» противостоят друг другу у всех авторов. Однако, если «англичане» – это люди, говорящие на чужом языке, пришедшие на землю Франции из-за моря, сторонники английского короля, то с понятием «французы» дело обстоит не так просто. Для Парижского Горожанина (как сторонника герцога Бургундского) французы и арманьяки зачастую выступают синонимами, поэтому французы в данном случае могут считаться врагами. Однако они не называются таковыми в открытую, и это следует подчеркнуть. Свое негативное отношение к сторонникам графа Арманьяка и к дофину Карлу автор выражает иначе: говорит о них как о “ceux qui disaient Français”. Он вообще склонен несколько отстраненно говорить о «французах»: порой трудно понять, жителей каких территорий он так называет. Скорее, для него именование «французы» ассоциируется с подданными короля Франции. В период же с 1415 по 1420 гг. слово «французы» встречается в его дневнике всего два раза. Первый – в упоминании о битве при Азенкуре, второй – в записи от 1417 г. Описывая страдания людей, бежавших от англичан, Парижский Горожанин говорит: «И правда то, что некие люди, пришедшие в Париж из Нормандии, которые спасались от Англичан из-за поборов или по другим причинам, затем были захвачены Бургиньонами, а потом за лье или что-то около того взяты Французами, которые с ними обошлись так жестоко и тиранически как Сарацины…»[553]. Под французами здесь имеются в виду арманьяки. Сам граф Арманьяк, по его словам, такой же жестокий человек, каким некогда был Нерон[554]. Как видим, на данном этапе осознание себя подданным французского короля не всегда совпадает с определением «француз». Таким образом, в этот период (и даже гораздо более позднее) у Парижского Горожанина французы (арманьяки) вполне могут быть сравнимы с англичанами – врагами[555]. Но опять-таки он не употребляет открыто по отношению к арманьякам определения «враги». Это, скорее, подразумевается.
Отметим, что заключенный в 1420 г. мирный договор в Труа, фактически ставивший Францию на грань потери независимости, не вызвал ни у Парижского Горожанина, ни у Фокамберга («дневник» де Бая заканчивается 1417 г.) резкого возмущения. Английского короля стали называть наследником Карла VI. Это, вероятно, можно связать с отношением как к королевской власти в целом, так и к личности суверена. Но это уже другая проблема.
Колетт Бон отмечает в связи с вопросом становления нации во Франции в XIV–XV вв., что постепенно, довольно медленно, но французский язык приобретал качество «одного из сакральных языков, на котором было написано Священное Писание» (хотя между 1300–1500 гг. и наблюдалось возвращение к латыни в русле развивающегося гуманизма). Более того, говорить на французском языке означало также и противопоставление себя англичанам[556].
Хотя этнокультурный фактор, и более узко этнолингвистический, не играл еще в первой четверти XV в. определяющей роли в развитии национального самосознания в отличие от факторов политического (монархического в том числе) и религиозного, но без него невозможно говорить и о самом процессе рождения нации. Во время Столетней войны французский язык все более приобретал качество языка национального, объединяющего всех подданных французского королевства.
* * *
УДК 94(44) «1337/1453»
КУЗЬМИНА МАРГАРИТА ВЛАДИМИРОВНА. К. и. н., старший научный сотрудник, Институт всеобщей истории РАН, Москва.
KUZMINA MAGARITA. PhD, senior research fellow, Institute of World History of the The Russian Academy of Sciences, Moscow.
E-mail: kuzmmargarita(2)yandex.ru
ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ (ИДЕНТИЧНОСТИ) ВО ФРАНЦИИ В ПЕРИОД СТОЛЕТНЕЙ ВОЙНЫ (1415–1422 ГГ.)
Формирование образа «врага» (компонент оппозиции «свой» – «чужой»), как правило, не является спонтанным процессом, но имеет под собой в качестве основы исторически сложившиеся причины.
Противопоставление «своих» и «чужих» – совершенно естественно и оправданно и эволюционно, и исторически. Эта оппозиция относится к наиболее архаичным пластам ментальных установок. Тесно связанным с ней является вопрос о самоидентификации отдельного человека, являющегося частью любой исторической общности. При этом границы между «своими» и «чужими» не являются раз и навсегда данными, непреодолимыми, поскольку также зависят и от конкретно-исторических условий, в том числе и от сиюминутной конъюнктуры(особенно это касается позиции отдельно взятого человека).
«Привычные» формы ментальных представлений неизбежно трансформируются в условиях войны, особенно такой как Столетняя война, захватившей несколько поколений. Мы рассмотрим мутацию форм восприятия англичан французами (преимущественно жителей Парижа) конца XIV–XV вв. на примере некоторых источников, имеющих хорошо идентифицируемую личную позицию их авторов, которая формировалась и изменялась под влиянием определенных факторов, таких как географический, политический, религиозный, корпоративный, информационный.
Ключевые слова: свои; чужие; оппозиция; мутация; трансформация; факторы; война.
THE FACTORS OF THE FORMATION OF NATIONAL CONSCIOUSNESS (IDENTITY) IN FRANCE DURING THE HUNDRED YEARS WAR (1415–1422)
The formation of the image of the enemy (a component of the opposition between ‘us’ and ‘them’) is not usually a spontaneous process, but based on historically established causes.
The contrast between ‘us’ and ‘them’ is absolutely natural and justified evolutionarily and historically. This opposition refers to the most archaic levels of mental attitudes. It is closely connected with the issue of self-identification of the individual as part of any historical community. But the borders between ‘us’ and ‘them’ are not impenetrable because they also depend on specific historical conditions including momentary environment (it is relevant to especially the position of the individual).
Conventional forms of mental attitudes are inevitably transformed in the conditions of war, especially during The Hundred Years War which took several generations. The author considers the mutation of French perceptions (mainly Parisians’s ones) of the
Englishmen at the end of the XIV–XV centuries on the material of some French sources.
These documents have identifiable positions of the authors which were formed and changed under the influence of specific factors, such as geographical, political, religious, corporate and information factors.
Keywords: ‘us’; ‘them’; opposition; mutation; transformation; factors; war.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Иванцова Е. В. О термине «языковая личность»: истоки, проблемы, перспективы использования // Вестник Томского Государственного Университета. Филология. 2010, № 4 (12). C. 24–32.
2. Словарь основных исторических понятий. Избранные статьи. В 2 т./ пер. с немецкого К. Левинсон. М.: Новое литературное обозрение, 2014. Т. 2. 752 с.
3. Цатурова С.К. Офицеры власти. Парижский Парламент в первой трети XV века. М.: Логос, 2002. 382 c.
4. Beaune Colette. La notion de la nation en France au Moyen Age // Communications. 1987. Vol. 45. N. 45. P. 101–116.
5. Journal de Clément de Fauquembergue greffier du Parlement de Paris (1417–1435)/ publié par Alexandre Tuetey avec la collaboration de Henry Lacaille. Paris: H. Laurens, 1903. In 3 T. T. 1. 410 p.
6. Journal de Clément de Fauquembergue greffier du Parlement de Paris (1417–1435)/ publié par Alexandre Tuetey avec la collaboration de Henry Lacaille. Paris: H. Laurens, 1903. In 3 T. T. 2. 372 p.
7. Journal de Clément de Fauquembergue greffier du Parlement de Paris (1417–1435)/ publié par Alexandre Tuetey avec la collaboration de Henry Lacaille. Paris: H. Laurens, 1903. In 3 T. T. 3. 298 p.
8. Journal de Nicolas de Baye greffier du Parlement de Paris (1400–1417)/ publié par Alexandre Tuetey. Paris: Librairie Renouard, V. e. H. Laurens, successeur, 1885–1888. In 2 t. T.1. 368 p.
9. Journal d’un bourgeois de Paris 1405–1449. Тexte original et integral présenté et commenté
REFERENCES
1. Beaune Colette. “La notion de la nation en France au Moyen Age”, Communications 45 (1987). P. 101–116.
2. Caturova Susanna. Oficery vlasti. Parizhskij Parlament v pervoj treti XV veka. Moscow: Logos Publ., 2002. 382 p. (in Russian).
3. Ivancova Ekaterina. “O termine «jazykovaja lichnost’»: istoki, problemy, perspektivy ispol’zovanija”, Vestnik Tomskogo Gosudarstvennogo Universiteta. Filologija 4 (2010). P. 24–32 (in Russian).
4. Journal de Clément de Fauquembergue greffier du Parlement de Paris (1417–1435), Publié par Alexandre Tuetey avec la collaboration de Henry Lacaille. Paris: H.Laurens, 1903. T. 1. 410 p.
5. Journal de Clément de Fauquembergue greffier du Parlement de Paris (1417–1435), Publié par Alexandre Tuetey avec la collaboration de Henry Lacaille. Paris: H. Laurens, 1903. T. 2. 372 p.
6. Journal de Clément de Fauquembergue greffier du Parlement de Paris (1417–1435), Publié par Alexandre Tuetey avec la collaboration de Henry Lacaille. Paris: H. Laurens, 1903. T. 3. 298 p.
7. Journal de Nicolas de Baye greffier du Parlement de Paris (1400–1417), Publié par Alexandre Tuetey. Paris: Librairie Renouard, V. e. H. Laurens, successeur, 1885–1888. T.1. 368 p.
8. Journal d’un bourgeois de Paris 1405–1449, Тexte original et integral présenté et commenté par Colette Beaune. Paris: Librairie générale française (Le Livre de poche), 1990. 544 p.
9. Slovar’ osnovnyh istoricheskih ponjatij. Izbrannye stat’I, transl. Kirill Levinson. Moscow: Novoje literaturnoje obozrenie Publ, 2014. Vol.2. 752 p. (in Russian).
«Свои» и «чужие» в имагологии: формирование образа «врага» в России и Англии в первой трети XVIII в.
Лабутина Т. Л.
Изучение межкультурных (инокультурных, кросс-культурных) коммуникаций в отечественной науке за последние годы заметно активизировалось. Появились теоретические статьи, а также монографические исследования по данной тематике. Обращаясь к различным проблемам, связанным с имагологией, мы задались целью выяснить, каким путем образ «чужого» превращается в образ «врага»? Анализ работ Н. А. Ерофеева, С. В. Чугрова, Л. 3. Копелева, С. В. Оболенской, А. В. Голубева, С. А. Лучицкой, Л. П. Репиной и других ученых[557] позволяет заключить, что образы «чужого» как представления о другом народе, укоренившиеся в сознании людей, последовательно трансформируются и перерастают в образы «врага», а также что от подобных предрассудков человечество страдает с самого начала своего существования. Какие предпосылки способствуют данному процессу? Как происходит подобная трансформация? Насколько продолжителен или кратковременен может быть указанный процесс? По каким критериям можно составить представление об изменении образов? Ответить на поставленные вопросы мы попытаемся на примере англо-русских отношений первой трети XVIII в.
Деление на «своих» и «чужих» в России сделалось заметным уже в правление Ивана Грозного, когда с Англией были установлены дипломатические и экономические отношения. Укрепление позиций английского торгового и промышленного капитала при одновременном ущемлении национальных интересов привело к зарождению ксенофобии в русском обществе. Жители Московского государства негодовали по поводу той близости, какую допускал государь в своем знакомстве с «варварами». Обратим внимание на тот факт, что русские смотрели на иноземцев как на «варваров». Аналогичными эпитетами иностранцы наделяли самих жителей России. Впервые образ «русского варварства», по признанию Е. В. Ермасова, сформировался в Западной Европе в XVI–XVII вв. во многом благодаря сочинениям немецких писателей С. Герберштейна, А. Олеария, М. Мейерберга, И. Корба. Этот образ включал в себя стереотипные представления иностранцев о русском народе, главными из которых были: «русская деспотия», опасная своей агрессией для Европы; православная религия, отличная от католической и протестантской конфессий; необразованность русского народа; обычаи и особенности национального характера (склонность к пьянству, воровству и т. д.). В целом русский народ рассматривался иностранцами как «варварский, достойный жить в рабстве»[558].
После визита в Англию в 1698 г. Петр I занялся реформированием патриархальной России, опираясь на западноевропейский, в первую очередь, британский опыт. Английский «след» наиболее ярко прослеживался в создании морского флота, регулярной армии, промышленных мануфактур, в делопроизводстве, церковной и образовательной реформах. Между тем, были в подобных заимствованиях и свои отрицательные стороны, сказавшиеся, прежде всего, в насильственном сломе морально-этических и религиозных норм и традиций русского общества. Естественно, что подобный процесс не мог пройти гладко и без издержек.
Еще до проведения реформ в народе зрели негативные чувства ко всему иностранному. Одной из причин восстания стрельцов было желание не только перебить бояр, но и «вырубить Кукуй», поскольку вину за наплыв и непомерное влияние иноземцев они возлагали на Немецкую слободу. Еще более враждебным сделалось отношение русского народа к иностранцам после возвращения Петра I из зарубежной поездки и начала его реформ. Практически все общество встретило эти реформы «в штыки». Секретарь прусского посольства И. Фоккеродт утверждал, что русские испытывали «неодолимое отвращение к тем правилам, которые при Петре I введены в государственное управление, и пламенное желание освободиться от карательного бича иноземцев и видеть восстановление у себя образа правления на прежних основаниях»[559].
Далеко не дружеским отношением к русским отличались и британцы. В общественном мнении Великобритании прочно укоренилось представление о России как об отсталой и «неевропейской» стране. Известный литератор Дж. Свифт характеризовал русских как нацию «варваров и дикарей», подчиняющихся тираническому правлению и представлявших для цивилизованного мира еще большую угрозу, чем та, которую несли в свое время готы и вандалы[560]. На взгляд просветителя Б. Мандевиля, подданные «царя Московии» были от природы глупы и «не так уж давно большинство их являлись чуть ли не дикими животными»[561].
Отношение британцев к России и русским заметно ухудшилось в результате успехов, достигнутых Петром I во внешней политике. Восторженный тон официальных лиц и прессы Великобритании в адрес Петра I и его реформаторской деятельности начинает резко меняться после захвата Ревеля, Полтавской битвы и успехов российского флота на Балтийском море. Территориальные завоевания Петра, отмечал М. Андерсон, способствовали усилению антирусских настроений в Англии. Автор памфлета «Северный кризис» откровенно признавал: «Петр I стал нашим соперником и для нас опасно не замечать этого»[562].
Русофобские настроения, наметившиеся в Англии в 1716–1717 гг., еще более укрепились в последующие годы. Победы российского флота, который создавался во многом благодаря усилиям английских мастеров, заставляли британцев видеть в России опасного конкурента. В отчете госсекретарю посланник Джеффрис, выказывая беспокойство по поводу тех соотечественников, которые помогали русским строить флот, настоятельно рекомендовал правительству отозвать корабельных мастеров из России, поскольку, «оставаясь здесь, они, указав русским основания хорошего судостроения, обучив их своему мастерству», будут приносить Англии большие убытки[563].
Следует обратить внимание на то, что антирусские настроения подогревались в общественном мнении Великобритании искусственно. Правительство хорошо оплачивало услуги журналистов; которые без устали твердили об опасности со стороны России. Русского царя они стали изображать как «автократа с неограниченными амбициями»; а существующую систему правления в Россищ как «жестокую деспотию»; от которой будто бы исходила серьезная угроза для свобод англичан. Особенно усердствовал в нагнетании антирусских настроений литератор Д. Дефо. В журнале «Ревю» он опубликовал две статьи в которых резко критиковал Петра I и его методы правления. Настоящий дипломатический скандал вызвала статья; в которой Дефо осуждал «варварство московитян»; продававших пленных шведов магометанам. Самого Петра I журналист назвал «королем-мясником» и призвал европейских монархов не общаться с правителем; который подобен чудовищу – «свирепому сибирскому медведю»[564].
Антирусские настроения; зародившиеся в последние годы правления Петра I; привели к возникновению русофобии, прочно укоренившейся в общественном мнении Великобритании на протяжении последующих десятилетий. Негативное отношение к иностранцам продолжало сохраняться и в российском обществе. В 1725–1727 гг. Великобритания и Россия находились; по определению М. Андерсона; в состоянии «холодной войны»; которая в любой момент грозила перерасти в открытое столкновение[565].
Проявление ксенофобии продолжало сохраняться и в последующие столетия. Менялся лишь «градус» ксенофобских проявлений в зависимости от вектора отношений двух стран в тот или иной исторический период. Говоря о зарождении ксенофобии в российско-британских отношениях[566]; можно заключить; что она была обусловлена социально-экономическими и политическими условиями в России, необходимостью широкого привлечения иностранных специалистов в нашу страну. Противопоставление «своих» и «чужих» привело к зарождению ксенофобии во времена Ивана Грозного, заметно усилившейся при Петре I, что было вызвано проведением реформ, во многом инициированных Западом. Но если в России ксенофобия возникла как естественный протест народа против чужеземного влияния и чрезмерного засилья «немцев» в высших властных структурах общества, то в Великобритании русофобия, напротив, моделировалась искусственно и дирижировалась политической элитой, создававшей из России образ «врага» с единственной целью – добиться устранения экономического и политического конкурента в Европе.
* * *
УДК 94(47+410) «17»
ЛАБУТИНА ТАТЬЯНА ЛЕОНИДОВНА. Д. и. н., профессор, ведущий научный сотрудник, Институт всеобщей истории РАН, Москва.
LABUTINA TATIANA. PhD, professor, Leading Research Fellow, Institute of World History of the Russian Academy of Sciences, Moscow.
E-mail: tlabutina2007(a)yandex.ru
«СВОИ» И «ЧУЖИЕ» В ИМАГОЛОГИИ: ФОРМИРОВАНИЕ ОБРАЗА «ВРАГА» В РОССИИ И АНГЛИИ В ПЕРВОЙ ТРЕТИ XVIII В.
Исследователи межкультурных коммуникаций нередко обращают внимание на проблему различий «своих» и «чужих» (Н. А. Ерофеев, С. В. Чугров, Л. 3. Копелев, С. В. Оболенская и др.). Подобный стереотип в отношении одного народа к другому, различение «своих» и «чужих» свойственно человечеству с древнейших времен. При этом «чужой» нередко трансформируется в образ «врага»: свои национальные или идеологические атрибуты оцениваются положительно, а все «чужое», выходящее за круг привычного, становится «топливом» для «образа врага». Причем образ «врага» формируется не только из коллективного исторического, но часто и из личного опыта. Присутствие негативного начала в стереотипах подтверждается наличием различного рода фобий в межкультурных коммуникациях. Наиболее наглядно данный процесс можно проиллюстрировать на примере англо-русских отношений в первой трети XVIII в. В то время, как в России ксенофобия возникла как естественный протест народа против чужеземного влияния и чрезмерного засилья «немцев» в высших властных структурах общества, то в Великобритании русофобия, напротив, моделировалась искусственно и дирижировалась политической элитой, создававшей из России образ врага с единственной целью – добиться устранения своего экономического и политического конкурента в Европе.
Ключевые слова: имагология; «свои» и «чужие»; формирование образа «врага»; ксенофобия; Россия; Англия; первая треть.
«FRIEND» AND «FOE» IN THE IMAGOLOGY: THE FORMATION OF THE IMAGE OF THE «ENEMY» IN RUSSIA AND ENGLAND IN THE FIRST THIRD OF THE XVIII CENTURY
Researchers of intercultural communication often pay attention to the issue of the differences between «us» and «them» (N. A. Erofeev, S. Chugrov, L. S. Kopelev, S. V. Obolenskaya and others). This stereotype in the attitude of one nation towards another, the distinction between «us» and «them» is peculiar to the mankind since ancient times. This «them» is often transformed into the image of the «enemy»: their national or ideological attributes are evaluated positively, and all «others» beyond the usual circle, becomes a «fuel» for the «image of the enemy «. Moreover, the image of the «enemy» is formed not only from the collective historical, but often from personal experience. The presence of negative basis in the stereotypes is confirmed by the presence of different kinds of phobias in intercultural communications. Most clearly this process can be illustrated in the case of Anglo-Russian relations in the first third of the XVIII century. At that time, in Russia xenophobia emerged as a natural protest of the people against foreign influence and excessive dominance of «Germans» in the higher power structures of society, whereas British russophobia was simulated artificially and was directed by political elite, which created the image of Russia as enemy with the sole purpose to pursue the removal of its economic and political rival in Europe.
Keywords: imagology; “own” and “alien”; image of the «enemy»; xenophobia; Russia; England; the first third of the XVIII century.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Голубев А. В. Инокультурные представления в истории // Российская история. 2010. № 5. С. 3–6.
2. Ермасов Е. В. Образ «русского варварства» в сочинениях немецких публицистов XV I – первой половине XVIII в. // Европейское Просвещение и цивилизация России. М.: Наука, 2004. С. 91–97.
3. Ерофеев Н. А. Туманный Альбион. Англия и англичане глазами русских. 1825–1853 гг. М.: Наука, 1982. 320 с.
4. Аабутина Т. А. Зарождение ксенофобии в российско-британских отношениях в эпоху Петра 1/1 Проблемы этнической истории Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы в Новое и Новейшее время». Воронеж: Издательство Воронежского государственного университета, 2005. С. 10–15.
5. Аабутина Т. А. «Свои» и «чужие» в имэджинологии: ксенофобия в англо-русских отношениях в XVI–XVIII вв. // Вестник Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина. 2011, № 2/31. С. 32–51.
6. Аучицкая С. И. Образ Другого: опыт типологии // Вестник РГНФ. 2000. № 1. С. 72–80.
7. Мандевиль Б. Басня о пчелах. М.: Мысль, 1974. 376 с.
8. Оболенская С. В. Германия и немцы глазами русских (XIX в.). М.: ИВ И, 2000. 209 с.
9. Репина А. П. «Национальный характер» и «Образ Другого» // Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории. 2012. Вып. 39. С. 9–19.
10. Русский быт по воспоминаниям современников. XVIII век. М.: Задруга, 1914. 434 с.
11. Сборник императорского русского исторического общества. СПб.: Типография Императорской Академии наук, 1888. Т. 61. 630 с.
12. Чугров С. В. Россия и Запад. Метаморфозы и взаимовосприятия. М.: Наука, 1993.140 с.
13. Anderson М. S. Britain’s Discovery of Russia. 1553–1815. London, Macmillan; New York, St. Martin’s Press, 1958. 245 p.
14. Britain and Russia in the Age of Peter the Great. Historical Documents. London: School of Slavonic and East European Studies, 1998. 255 p.
REFERENCES
1. Anderson Matthew S. Britain s Discovery of Russia. 1553–1815. London, Macmillan; New York, St. Martin’s Press, 1958. 245 p.
2. Britain and Russia in the Age of Peter the Great. Historical Documents. London: School of Slavonic and East European Studies, 1998. 255 p.
3. Chugrov Sergej. Rossija i Zapad. Metamorfozy i vzaimovosprijatija. Moscow: Nauka Publ., 1993. 140 p. (in Russian).
4. Ermasov Evgenij. “Obraz “russkogo varvarstva” v sochinenijah nemeckih publicistov XVI – pervoj polovině XVIII v.”, in Evropejskoe Prosveshhenie i civilizacija Rossii. Moscow: Nauka Publ, 2004. P. 91–97. (in Russian).
5. Erofeev Nikolaj. Tumannyj Albion. Anglija i anglichane glazami russkih. 1825–1853 gg. Moscow: Nauka Publ., 1982. 320 p. (in Russian).
6. Golubev Andrej. Inokulturnye predstavlenija v istorii, Rossijskaja istorija. 5 (2010). P. 3–6. (in Russian).
7. Labutina Taťjana. Zarozhdenie ksenofobii v rossijsko-britanskih otnoshenijah vjepohu Petra lj in Problémy jetnicheskoj istorii Centralnoj, Vostochnoj i Jugo-Vostochnoj Evropy v Novoe i Novejshee vremja. Voronezh: Izdatel’stvo Voronezhskogo gosudarstvennogo universiteta, 2005. P. 10–15. (in Russian).
8. Labutina Taťjana. ““Svoi” i “chuzhie” v imjedzhinologii: ksenofobija v anglo-russkih otnoshenijah v XVI–XVIII vekah”, Vestnik Rjazanskogo gosudarstvennogo universiteta imeni S.A. Esenina 2 (2011). P. 32–51. (in Russian).
9. Luchickaja Svetlana. “Obraz Drugogo: opyt tipologii”, Vestnik RGNF 1. (2000). P. 72–80 (in Russian).
10. Mandevil’ Bernard. Basnja оpchelah. Moscow: Mysl’ Publ., 1974. 376 p. (in Russian).
11. Obolenskaja Svetlana, Germanija i nemcy glazami russkih (XIX v.). Moscow: IVI Publ., 2000. 209 p. (in Russian).
12. Repina Lorina. “«Nacional’nyj harakter» i «Obraz Drugogo»”, in Dialog so vremenem. Almanah intellektualnoj istorii 39 (2012). P. 9–19. (in Russian).
13. Russkij bytpo vospominanijam sovremennikov. XVIII vek. Moscow: Zadruga Publ., 1914. 434 p. (in Russian).
14. Sbornik imperatorskogo russkogo istoricheskogo obshhestva. Saint Petersburg: Tipografija Imperatorskoj akademii nauk, 1888. Vol. 61. 630 p. (in Russian).
Британские виги в политической пропаганде шотландских якобитов
Станков К. Н.
В современной историографии господствует представление, согласно которому после Славной революции 1688–1689 гг. история британского государства представляется как плавный эволюционный процесс становления конституционной монархии, постепенного роста роли парламента и других демократических институтов, построения гражданского общества – процесс, который практически не встречал на своем пути серьезных препятствий. По мнению большинства ученых Славная революция разрешила все внутренние конфликты в стране и способствовала ее дальнейшему процветанию.
Однако обращение к анализу источников этого периода позволяет утверждать, что в действительности ситуация была намного сложнее. В конце XVII–XVIII вв. существовало множество угроз как внешних, так и внутренних безопасности королевству Великобритания. К их числу можно отнести усилившуюся экспансию и борьбу Франции за гегемонию в Европе Франции, резкий социальный антагонизм между элитой и основной массой населения, явившийся одним из следствий промышленной революции XVIII в., и, как его следствие, рост пауперизма и преступности. Но, пожалуй, главным вызовом внутреннему миру на Британских островах стала деятельность якобитов. Первоначально это политическое движение зародилось как объединение сторонников свергнутого в ходе Славной революции короля Якова II Стюарта (само название движения происходит от латинского варианта имени монарха – Jacobus). Однако постепенно, по мере своего развития якобитское движение вобрало в себя практически все политические силы, которые были недовольны правительством, утвердившимся у власти после 1688 г.[567]
Большинство исследователей обходит вниманием тот факт, что в этот период становление британского государства в том виде, в котором мы его знаем сегодня, происходило в постоянной (и порой весьма острой) борьбе с противоположной тенденцией. Эту альтернативу в политическом, социальном и культурном развитии представлял якобитизм. В значительной степени большинство политических институтов Великобритании сложились в результате постоянной угрозы со стороны приверженцев низложенных Стюартов. Якобитизм явился своеобразной «теневой» стороной политического развития Британии в Новое время.
Всплески якобитской активности ознаменовывались мощными восстаниями, которые в большей или меньшей степени охватывали весь «британский архипелаг»: это восстания 1689–1691, 1715–1716 и 1745–1746 гг. С уверенностью можно сказать, что в ходе каждого восстания Британия погружалась в масштабную гражданскую войну. Так, например, во время якобитского восстания в Ирландии 1689–1691 гг. с обеих сторон сражались регулярные войска, которые возглавлялись опытными военачальниками – соперничающими монархами Яковом II и Вильгельмом Оранским. И якобитами, и оранжистами помимо собственных войск были мобилизованы значительные силы союзников: в рядах якобитов сражались французские, немецкие, валлонские и швейцарские солдаты, а на службе принца Оранского значились наемники со всей Европы, прежде всего, голландцы, датчане и имперцы. Второе «Великое восстание» 1715–1716 гг. всколыхнуло всю Шотландию и северную Англию. В 1745 г. шотландские горцы, составлявшие основу повстанческой армии принца Чарльза, прошли всю Шотландию, северные, западные и центральные графства Англии и едва не захватили Лондон.
Как и во время любой войны, противники разворачивали масштабную пропаганду, в которой и якобиты, и их противники пытались обосновать свои претензии на власть. Якобиты создали собственную идеологическую концепцию и определили, таким образом, свое место в социально-политической структуре Шотландии. Идеология якобитизма отличалась чрезвычайной эклектичностью и противоречивостью, однако в ней можно выделить основные постулаты. Прежде всего, сторонникам династии Стюартов было необходимо определиться со своей позицией по отношению к находившейся у власти в Великобритании политической элите, которая была представлена двумя политическими партиями: вигами и тори.
Ввиду значительных масштабов этой проблемы в рамках настоящего исследования основное внимание будет уделено лишь шотландским якобитам и их отношению к партии вигов.
Цель данной работы – определить отношение якобитов Шотландии, страны, где было наиболее развито движение к вигской партии не только в контексте северного королевства, но и всей Британии. Последнее позволяет оценить вигский фактор не только как локальный, но как глобальную угрозу в пределах всей трехкомпозитарной монархии, какой его видели сторонники низложенных Стюартов. В этой связи предпринята попытка показать на основании частной проблемы соотношение понятий «шотландскость» и «британскость» в общественной мысли региона на рубеже XVII–XVIII вв.
Вопрос о соотношении понятий «виг» и «якобит» в общебританском масштабе является весьма сложным. Хотя виги в основной своей массе поддержали приход к власти в Англии Вильгельма Оранского, однако на настоящий момент доказано, что Славная революция была инициативой скорее торийской партии[568], и, как доказывают М. Голди и К. Джексон, среди вигов было немало приверженцев Стюартов[569]. В Шотландии ситуация была совершенно иной. Здесь противоречия между якобитами и вигами носили более выраженный характер. Хотя в северном королевстве, как и в Англии, имели место отдельные случаи поддержки вигами Якова II, руководство партии рассматривали их не более как горстку отщепенцев и не воспринимали их в качестве серьезной политической силы. В то же время принадлежность к тори в северной Британии практически всегда означала поддержку низложенных Стюартов.
Источниковой базой исследования являются декларации низложенных Стюартов, партийная переписка и якобитский фольклор. На последний вид источников необходимо обратить особое внимание в силу специфики шотландского якобитизма. Основу якобитского движения в северной Британии составляли гэльские кланы Хайленда. В силу малограмотности населения этого наиболее удаленного от
центров британской образованности региона, а также существования в Шотландии с незапамятных времен богатой кельтской устной традиции основным материалом для исследования якобитской пропаганды в северном королевстве являются песни и баллады горцев, собранные шотландскими антиквариями начала XX в. Дж. С. Маку-ийодом и Дж. Хоггом[570].
В своей пропаганде якобиты всячески подчеркивали жесткий антагонизм с вигами. Шотландские сторонники «королей за морем» считали британских вигов главным препятствием на пути к их главной цели – реставрации Якова II и его потомков. Как следует из анализа источников, конечной целью якобитов был полный разгром вигской партии, вплоть до физического уничтожения их лидеров:
И когда он [Яков VIII] вернется, … мы высоко вздернем вигов на перекладинах, Бок о бок с Ганновером…[571]Однако в пропагандистской деятельности шотландские якобиты пошли дальше простых угроз. В первую очередь они стремились создать у населения своей страны негативный стереотип вигской партии, чтобы затем его использовать для конструирования образа внутреннего врага, вокруг борьбы с которым можно было объединить слои общества, непосредственно незаинтересованные в реставрации Стюартов. Характерно, что в образе вига обычно представал представитель среднего класса – городской буржуа или сельский богатей. Такой выбор был обусловлен тем, что идеологическая обработка была рассчитана главным образом на землевладельческое сословие и простонародье, которых объединяла ненависть к укрепляющемуся у власти новому деловому классу, в котором и те, и другие видели угрозу своим интересам. В якобитских песнях, балладах и памфлетах виги предстают почти карикатурными персонажами, средоточием всех низших, по представлениям того времени, пороков – закоснелые мятежники, подлые и трусливые обыватели, ханжи и святотатцы, предатели, которые ради личной корысти свергли помазанника Божия и продали в рабство голландцам и немцам независимую британскую нацию[572]:
Вы, виги, – толпа мятежников, Чума нашей бедной нации… От вас смердит вечным осуждением. Вы – упрямая испорченная свора, Замыслившая измену и проклятые ею; Ваши деяния грязны и черны, Ваши принципы противны благоразумию…[573]Якобиты осуждали внешнеполитическую линию вигов, направленную на активное участие в боевых действиях, которые велись Аугсбургской лигой на континенте. Постоянное вмешательство во внутриевропейские конфликты требовало от правительства создания мощной сухопутной армии, комплектование которой началось уже при Вильгельме III. Протестантские правители, которых виги приглашали на престол, желая сберечь свои национальные войска, стремились максимально использовать для борьбы против Франции огромные человеческие, сырьевые и финансовые ресурсы Британских островов. Якобиты утверждали, что эти войны не отвечают национальным задачам и британские солдаты умирают за голландские интересы. Исходя из этого, якобиты обвиняли вигскуто партию в «торговле кровью», ведущей к ослаблению нации[574].
Необходимо учесть еще и то, что якобиты пытались сыграть на ущемленных национальных чувствах английской политической элиты: сначала Вильгельм Оранский, а затем и Ганноверы, желая упрочить свое положение на британском престоле, стремились раздавать высшие посты не местной аристократии, которой они не доверяли, а своим соотечественникам[575].
Кроме того, с целью привлечь на свою сторону купечество и сельскую буржуазию Шотландии и Ирландии якобиты заявляли, что активное дипломатическое сотрудничество с Аугсбургской лигой негативно сказывается на внешней торговле. Последнее утверждение было вполне справедливо, поскольку в XVII–XVIII вв. в этих районах единственными экспортными товарами были продукты сельского хозяйства. В условиях, когда английские торговые круги не допускали шотландских и ирландских предпринимателей в колонии, единственной страной, нуждавшейся в шотландской животноводческой продукции в больших масштабах, оставалась Франция. Однако из-за постоянных войн Британии с Бурбонами торговые гильдии не могли успешно развивать свой бизнес, а джентри – выгодно сбывать сельскохозяйственное сырье[576].
В доступных мне источниках постоянно затрагивается еще одна экономическая проблема, на этот раз уже внутреннего характера, а именно вопрос о том, что английское правительство, подыгрывая интересам Сити, на которое оно во многом опиралось в парламенте, препятствовало шотландцам создавать собственные колонии на западном полушарии.
Особое внимание в якобитском фольклоре уделяется т. н. «Даринскому инциденту». В 1695 г. «Шотландской компанией по торговле с Африкой и Индиями» была создана колония на территории современной Панамы. Однако в ней усмотрела угрозу своим интересам английская буржуазия. Обе палаты английского парламента обратились с протестом к королю Вильгельму III. В итоге, с его ведома жители шотландской колонии были перебиты испанцами, а оставшиеся в живых уроженцы северной Британии умерли от голода и эпидемий[577].
Вторым важным пунктом внутренней политики вигов, который служил постоянной мишенью для нападок якобитов, является непопулярная религиозная линия, которая проводилась Вильгельмом III и Анной под влиянием вигов. В Шотландии Вильгельм Оранский, а затем Анна и ее преемники Ганноверы сделали ставку на государственную поддержку пресвитерианства. Воспользовавшись благоприятным моментом, шотландские кальвинисты, которые подвергались суровым преследованиям в эпоху Реставрации, стремились взять реванш и отомстить представителям епископальной церкви. Кроме того, из якобитских песен известно о притеснении пресвитерианской церковью католиков[578].
Подводя итог, необходимо отметить, что в пропаганде шотландских якобитов складывался исключительно негативный образ вигской партии. Шотландские сторонники изгнанных Стюартов считали вигов главными виновниками Славной революции, которая, в конечном счете, привела к потере северным королевством в 1707 г. своей независимости. Якобиты не простили своим оппонентам и религиозные и экономические притеснения: первые от своих шотландских соотечественников-кальвинистов, вторые – от английской торгово-промышленной элиты. В целом, шотландские якобиты считали вигов главной опорой своих врагов – монархов, восседавших в Лондоне после событий 1688–1689 гг., и оценивали их как главную угрозу «делу Стюартов» (шотландцы в отличие от англичан не признавали принца Оранского представителем этой династии) не только в шотландском, но общебританском масштабах и видели одну из главных целей в их устранении с политической арены Британии.
* * *
УДК 94(41) «16/17»
СТАНКОВ КИРИЛЛ НИКОЛАЕВИЧ. К. и. и., старший преподаватель, Волгоградский государственный университет, Волгоград.
STANKOV KIRILL. PhD, Senior Lecturer, Volgograd State University, Volgograd.
E-mail: stánkoví 1 (2)yandex.ru
БРИТАНСКИЕ ВИГИ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПРОПАГАНДЕ ШОТЛАНДСКИХ ЯКОБИТОВ
В современной историографии господствует представление, согласно которому после Славной революции 1688–1689 гг. история британского государства представляется как плавный эволюционный процесс становления конституционной монархии, постепенного роста роли парламента и других демократических институтов, построения гражданского общества – процесс, который практически не встречал на своем пути серьезных препятствий. Однако в действительности в конце XVII–XVIII вв. существовало множество как внешних, так и внутренних угроз безопасности королевству Великобритания. Пожалуй, главным вызовом внутреннему миру на Британских островах стала деятельность якобитов. Это политическое движение зародилось как объединение всех тех сил, которые не приняли Славную революцию и выступили в поддержку свергнутого в ходе нее короля Якова II Стюарта.
Как и во время любой войны (а политическая борьба якобитов периодически выливалась в кровавые восстания в 1689–1691, 1715–1716, 1745–1746 гг.) противники разворачивали масштабную пропаганду, в которой и якобиты, и оранжисты пытались обосновать свои претензии на власть.
В статье освещается отношение шотландских якобитов к такому общебританскому явлению как вигизм и в этом контексте – к соотношению таких понятий как «шотланд-скость» и «британскость». В своей политической пропаганде шотландские якобиты объявляли английских и шотландских вигов своими главными политическими противниками, поскольку считали, что их политика противоречит потребностям современного им британского общества. Прежде всего сторонники «королей за морем» обвиняли вигов в предательской внешней политике и «торговле кровью». Якобиты заявляли, что дипломатия вигов служит интересам иноземных королей (Вильгельма III и Ганноверов) и противоречит чаяниям большинства британского населения. Якобиты справедливо утверждали, что войны, которые велись вигскими правительствами, вредят шотландской внешней торговле. В якобитских песнях содержатся жалобы на препятствия английских вигов участию шотландцев в колониальной торговле. Наконец, критикуется религиозная политика Лондона, которая способствовала усиления внутренних противоречий в англиканстве и ущемлению прав католиков и шотландской епископальной церкви.
В целом, в пропаганде шотландских якобитов складывался исключительно негативный образ вигской партии, в связи с чем ее уничтожение после реставрации Стюартов ставилось главной программной задачей движения.
Ключевые слова: виги; якобиты; оранжисты; шотландцы; фольклор; религиозная политика; торговля; «Даринский инцидент».
THE BRITISH WHIGS IN THE POLITICAL PROPAGANDA OF SCOTTISH JACOBITES
According to the prevailing perception in contemporary historiography, history of the British state after Glorious revolution of 1688–1689 is portrayed as the fluent evolution process of the foundation of the constitutional monarchy, constant growth of the role of the Parliament and other democratic institutions, the formation of the civil society. Historians write that there were no serious obstacles on the way for such progress. However, in reality there were many threats to the security of the British kingdom at the end of XVII–XVIII centuries. Perhaps, the main challenge to the peace of the British Islands was the Jacobite activity, the political movement which emerged as the union of all political forces that didn’t recognize the Glorious revolution and came out in support of King James II Stuart.
As during any war (the political fight of the Jacobites was periodically developed in the bloody rebellions of 1689–1691, 1715–1716, 1745–1746) the opponents developed large scale propaganda, in which the Jacobites as well as the Orangists tried to legitimise their claims to power of the British Islands.
In this article the author sheds light on the attitudes of the Scottish Jacobites to such all-British phenomena as Whiggism and in this context the corelation of such notions as «Scottishness» and «Britishness».
In their propaganda Jacobites declared the Whigs their main political opponents because the Whigs’ policy contradicted the interests of British society. The supporters of «the kings overseas» accused the Whigs of the treachery of the British foreign policy and «trade of blood». The Jacobites alleged that the Whigs’ diplomacy served the interests of the foreign Kings William III and Hannovers and contradicted the interests of the native British population. The Jacobites justly asserted that the wars sanctioned by the Whigs’ governments did harm to Scottish foreign commerce. Jacobites declared that English Whigs prevented Scottish merchants from participating in the British colonial trade. Jacobites criticized religious policy of the Whigs’ government because it led to increasing contradictions in Anglican Church in England and impinged on the rights of Catholics and Scottish Presbyterian Church.
Thus, Scottish Jacobites in their political propaganda constructed exclusive negative image of Whig party. So, the main purpose of the Jacobites was the full abolition of the Whigs party after the restoration of Stuarts.
Keywords: the Whigs; the Jacobites; the Orangists; The Scots; folklore; religion policy; trade; «Darien Scheme».
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ (REFERENCES)
1. “Declaration of King James II, April 20, 1692”, in vol. 2 of Clarke James S. The Life of James the Second. London: Printed for Longman, Hurst, Rees, Orme, and Brown [etc.], 1816. P. 479–488.
2. “Declaration of King James VIII, March 1, 1708”. /
documents/ 17080301.htm (date of access: 14.03.2014).
3. Gibson William. James II and the Trial of the Seven B/s/iops. New York: Palgrave Macmillan, 2009. 25 lp.
4. Goldie Mark, Jackson Clare. “Williamite Tyranny and the Whig Jacobites”, in Redefining William III: The Impact of the King-Stadholder in International Context, ed. Esther Mijers, David Onnekink. Burlington: Ashgate, 2007. P. 177–199.
5. Hogg James. The Jacobites Relics of Scotland: Being the Songs, Airs, and Legends of the Adherents of the House of Stuarts. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2003. 565 p.
6. Lenman Bruce. The Jacobite Risings in Britain, 1689–1746. London: Eyre Methuen, 1980. 320 p.
7. Macquoid Gilbert Samuel. Jacobite Songs and Ballads (selected). London: W. Scott, n. d. 534 p.
8. Szechi Daniel. The Jacobites: Britain and Europe, 1688–1788. Manchester [England]; New York: Manchester University Press: Distributed exclusively in the USA and Canada by St. Martin’s Press, 1994 172 p.
9. “Unpublished Declaration of King James II, February 28, 1696”, in vol. 1 of Calendar of the Stuart Papers, Historical Manuscripts Commission. London: H. M. S. O., 1902. P. 110–112.
Русский: «чужак» или «свой»? Немецкие образы революционной России
Зотов С. О.
Каким же было восприятие немцами русских в революционной России, стали ли они главным мировым врагом германцев или остались близки культурно, идейно и духовно русскому народу? Что думали немцы о русских в связи с выходом Российской Империи из войны и установления власти Советов? Остались ли две нации, противостояние которых предельно накалилось уже в горниле Второй мировой, врагами до сих пор? Образ русского-чужака и врага наравне с образом революционера, служащего примером европейским социалистам, странным образом сосуществовали в едином культурном поле послевоенной Германии, влияя на конструирование дальнейших культурных связей и противостояний, отчуждений и встречных шагов двух стран. Рационально необъяснимые процессы в революционной России еще больше укрепили стереотип «загадочной русской души», дав простор мифологизации образа «русского».
Быстрая смена царского режима на власть Советов вызвала в Германии огромный общественный резонанс, и множество исследователей пытались понять не только политические процессы, происходящие в частично изолированной от Запада России, но и русский дух perse, переменчивый и, казалось бы, чужеродный немецкому менталитету. Образы русских-врагов мирно уживались с расхожим стереотипом добродушного русского, как он изображался на страницах прессы. Немецкое отношение к Революции также едва ли можно было бы толковать однозначным образом. На одном полюсе существовал «русский Берлин» эмиграции, на другом – сотни тысяч немцев, проживавших на территории России. Несмотря на трудности войны культурный обмен продолжался с удвоенной силой, и загадочная для Запада и до Революции Россия превратилась в воображении многих немцев в утопический край реализации смелых политических и философских идей, выискиваемых в русской литературе или вменяемых ей. Полковник Макс Бауэр, побывавший в 1925 г. в Советском Союзе, хвалил предельно милитаризированный строй государства, называя его «страной красных царей»[579], в то время как Гитлер провозгласил «восточную политику вместо восточной ориентации», то есть завоевание «жизненного пространства на Востоке»[580], иначе – России. Возможно, Гитлеру противостояние против России виделось еще и как борьба наций – впоследствии именно раздробленные прежде на множество микрогосударств Германия и Италия, став тоталитарными, будут противостоять России, многонациональной, раздробленной и не менее тоталитарной.
Знаменитые писатели по-своему оценивали происходящее. Райнер Мария Рильке и Томас Манн в своих произведениях воспевали Россию несмотря на неожиданные повороты в ее истории. Рильке писал о России как о «стране, граничащей с Богом»[581], отрицая возможное зарождение в ней революционного движения, но даже несмотря на последующие революции не стал меньше любить русские просторы. В своих «Рассуждениях аполитичного» Томас Манн писал о надеждах на мирный союз Германии с Россией, которые рука об руку будут сражаться с «западным миром»[582]. Глубокое духовное родство двух стран было очевидно для Манна: его образ России во многом основывался на чтении русской литературы, особенно Достоевского, и даже в охваченной пламенем революции стране он видит «демократичную, даже христианско-коммунистическую» державу. Именно события марта 1917 г. повлияли на написание «Рассуждения», однако в них Манн больше повествует о философии литературы Достоевского, нежели об актуальных событиях – несомненно, они настолько глубоко потрясли писателя, презиравшего власть плебеев и анархию, что он предпочел о них не упоминать. Однако вскоре его взгляды изменятся – Манн будет назван провозвестником мировой революции и станет считать социализм и коммунизм идеями будущего. Показательно, что работу над «Волшебной горой» Манн возобновит именно в период установления Советской Баварской республики, с тем чтобы добавить в роман размышления, связанные с революцией и коммунизмом.
В 1925 г. такие разные фигуры, как Йозеф Геббельс и Бертольт Брехт, дают положительную оценку фильма Эйзенштейна «Броненосец Потемкин», что демонстрирует непрекращающийся культурный обмен двух государств, находящихся в преддверии конфронтации. В то же время русская культура становится недолгим, но все же серьезным препятствием русофобским измышлениям Альфреда Розенберга, будущего идеолога НСДАП, писавшего о «на годы поселившемся в глубине души… раздвоении между пробудившимися симпатиями к русской культуре и естественной для балтийца политической позицией»[583]. Известно, что это раздвоение возникло после чтения русской классики и знакомства с кругом Станиславского во время визита Розенберга в Россию, что интересным образом высвечивает влияние «русского духа» на немца, не только одолеваемого образами русского-врага из распространенной пропаганды, но и самостоятельно их создающего.
Так или иначе, обе державы претендовали на звание не только идеала, на который обязаны равняться государства с иными политическими системами, но и своеобразной «души мира», сделавшей для общемировой культуры больше, чем какие-либо остальные страны. Такие немецкие националистические лозунги, как «германский дух оздоровит мир», по меткому замечанию Гер да Кёнена, типологически схожи с пророческими высказываниями Достоевского о том, что «последнее слово миру должна сказать Россия». С одной стороны были немецкие классики литературы, композиторы и художники, романтики, пестовавшие идею народного духа Германии, с другой – русские писатели, художники и композиторы с самобытным менталитетом и не менее ярко выраженной национальной идеей. Обновление общемирового порядка казалось обеим странам задачей одной конкретной нации, и если идущий впереди мира Советский Союз объявил ancien regime Запада «загнивающим» и устаревшим, чему вторил и Ницше, с его «поздними нациями», то Германия видела своей целью содействие европейскому миру и его улучшение благодаря уникальным качествам духа германского народа. Впрочем, традиция подчеркивать особую роль российского государства в мировой истории уже была развита зарубежными историками, к примеру, Томасом Карлейлем и Августом фон Гакстхаузеном, считавшими, что Россия должна спасти Европу от упадка. Даже немецкий философ Освальд Шпенглер несмотря на свое мнение о том, что панславизм некоторых западных ученых является «политической маской чувства великой религиозной миссии»[584], и критику России в «Закате Европы», в тридцатые годы выдвинул гипотезу грядущего обновления русскими мировой культуры и возникновения в России «новой религии».
После разразившейся в 1917 г. революционной бури, новые власти в России стали декларировать мирный курс внешней политики, что незамедлительно снискало положительные отклики в Германии. Социал-демократы призывали Германию последовать примеру России, однако в это же время звучат прямо противоположные мнения представителей других партий, предлагающих воспользоваться чрезвычайным положением в стране и пойти в наступление на Восток. В общем и целом, переворот в России приветствовался почти всеми в Германии, так как сулил получение выгоды как лагерю левых, так и аннексионистам. Поддержка российских революционеров была достаточно последовательной: в газетах выходят очерки о биографии Ленина, хвалебно превозносящие его и идеи социализма, а социалист Луйо Брентано представляет большевистское сопротивление как борьбу с американо-английскими капиталистами и их стремлениями обворовать Россию. Интересно, что события Революции часто толковались немецкими публицистами как последовательно вытекающие из особенностей «русского духа», ключом к пониманию которого являлась интеллигенция, «духовная Россия», а также неисчерпаемая кладезь мудрости русской литературы, в особенности, широко известных на
Западе Толстого и Достоевского. Этот во многом искусственный и гротескный конструкт, представляющий Россию в сознании большинства немцев, опирался на образы «загадочной России», которую рациональное немецкое мышление постигнуть не может. Такой показывает Россию в книге «О простом русском народе» и немецкий славист Карл Нётцель, поэтически утверждавший, что правящая умами простого люда интеллигенция России на сей раз проводит грандиозный эксперимент по внутренней мобилизации, которая неизбежно приведет ее на Голгофу, а целью такого предприятия станет демонстрация разумному человечеству ошибочности этого пути. Похожим образом выражается русско-немецкий социолог Элиас Гурвич в своей «Политической душе России»: русскую интеллигенцию он представляет в абстрактном образе «души России». Впрочем, в отличие от Нётцеля Гурвич видит миссию Германии в том, чтобы содействовать России, прививая ей исконно немецкие качества: «самодисциплину, терпение и сдержанность»[585]. Вступается за Россию и русско-немецкий критик Артур Лютер, ставя под сомнение представления о том, что большинство большевиков в России – не русские по национальности, своего рода «новые варяги». Его главным аргументом в поддержку Троцкого и Каменева, не русских по происхождению, является приверженность революционеров идеям русского духа, в особенности – интернационализму. В свете этих пространных рассуждений трех вышеперечисленных авторов о русском духе особенно примечательно, что все они были выходцами из России.
Совсем другое направление примет критика большевизма немецким поэтом Альфонсом Паке в его «Письмах из Москвы». Изначально радикально антироссийские взгляды, признание Германии «ядром Европы» и «волей народов» сменяются по приезду в революционную Москву на диаметрально противоположные. Паке, побеседовав с Радеком и Чичериным, переходит к идее взаимопомощи России и Германии, а также полагает, что им необходимо объединиться и совместно предотвратить грядущий pax americana. Тревога, вызванная зрелищами революционной столицы, сменяется рассказами о Дзержинском и «очаровании одичавшей Москвы». В то же время на фоне восторженного ликования Нётцеля или Лютера, быстро меняющейся в пользу большевиков точки зрения Паке и в общем-то одобряющего большевизм и загадочную и справедливую «русскую душу» Ганса Ворста существуют и бульварные романы, и публицистические размышления, которые повествуют о русской угрозе, формируя в Германии образ врага-«Ивана».
Далеко не все немецкие социал-демократы встретили Революцию так восторженно, как, например, Роза Люксембург, говорившая о том, что Германии необходимо равняться на Россию, или хотя бы некоторые немецкие социалисты, считавшие, что Россия должна проверить, насколько возможным представляется воплощение революционного социалистического проекта. Конечно, немецкая поддержка свержения большевиками царского режима не была только словесной. К примеру, в Штутгарте подпольно печаталась марксистская газета «Искра», а вместе с ней в царскую Россию контрабандой завозились оружие для помощи революционному движению. Германские социал-демократы с радостью собирали деньги на помощь русским братьям-революционерам, а в 1917 г. была организована поездка знаменитого «пломбированного вагона», на котором в Россию доставили Ленина и других революционеров-эмигрантов. Однако мы можем наблюдать, что за исключением корыстной поддержки большевиков различными политическими силами, которым она могла сулить выгоду, большинство отзывов и оценок о положении дел в революционной России были больше связаны с попыткой анализа немецкими мыслителями менталитета и глубоких философских оснований русской культуры. Такие попытки зачастую не были враждебными по отношению к объекту исследования, и русская культура была относительно достоверно в них представлена. Особый интерес представляют собой стремления немецких мыслителей от Шпенглера и Манна до Паке и Розенберга нащупать пульс истории, ощутить связь событий революции с особенностями русского мышления и «русского духа». Казалось бы, в военной и послевоенной Германии не должно было оставаться никаких других образов русских, кроме как заклятых врагов, однако уникальная близость этих двух народов по своей нацеленности на великую идею и обновление стала тем фактором, что положительно повлиял на российско-германские отношения в то время. И пусть Россия и Германия не стали друзьями, как на то надеялся Манн, однако связь двух наций не прервалась, и недавние друзья не сделались в один момент врагами.
* * *
УДК 930(430) «19»
ЗОТОВ СЕРГЕЙ ОЛЕГОВИЧ. Магистрант, Российский Государственный Гуманитарный Университет, Москва.
SERGEY ZOTOV. МА Student, Russian State University of Humanities, Moscow.
E-mail: godlike90(2)rambler.ru
РУССКИЙ: ЧУЖАК ИЛИ СВОЙ? НЕМЕЦКИЕ ОБРАЗЫ РЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ
Данная статья посвящена теме конструирования образа русского врага в Германии 20-х гг. XX в. Революция в России воспринималась немцами неоднозначно, тем более, что на тот момент культурный обмен между обоими государствами был хорошо развит. На одном полюсе существовал «русский Берлин» эмигрантов, на другом – сотни тысяч немцев, проживавших на территории России. Культурный обмен, несмотря на трудности войны, продолжался с удвоенной силой, и загадочная для Запада и до Революции Россия превратилась в воображении многих немцев в утопический край реализации смелых политических и философских идей, априорно выискиваемых в русской литературе или вменяемых ей.
Томас Манн и Райнер Мария Рильке в своих произведениях воспевали Россию, несмотря на неожиданные повороты в ее истории. Рильке писал о России как о «стране, граничащей с Богом», отрицая возможное зарождение в ней революционного движения. В 1925 г. такие разные фигуры как Йозеф Геббельс и Бертольт Брехт дают положительную оценку фильма Эйзенштейна «Броненосец Потемкин», что демонстрирует непрекращающийся культурный обмен двух государств, находящихся в преддверии конфронтации.
Германия имела и разные взгляды по поводу взаимодействия с культурой России: если Карл Нётцель утверждал, что правящая умами простого люда интеллигенция России на сей раз проводит грандиозный эксперимент по внутренней мобилизации, то Элиас Гурвич русскую интеллигенцию представляет в абстрактном образе «души России» и видит миссию Германии в том, чтобы содействовать России, прививая ей исконно немецкие качества – «самодисциплину, терпение и сдержанность».
За исключением корыстной поддержки большевиков различными политическими силами, которым она могла сулить выгоду, большинство отзывов и оценок о положении дел в революционной России были связаны с попыткой анализа немецкими мыслителями менталитета и глубоких философских оснований русской культуры. Казалось бы, в военной и послевоенной Германии не должно было оставаться никаких других образов русских, кроме как заклятых врагов, однако уникальная близость этих двух народов по своей нацеленности на великую идею и обновление стала тем фактором, который положительно повлиял на российско-германские отношения в 1920-е гг.
Ключевые слова: российско-германские отношения; образ врага; февральская революция; memory-studies.
RUSSIAN: THE FRIEND OR FOE? GERMAN IMAGES OF REVOLUTIONARY RUSSIA
This article is dedicated to the topic of creating the image of the Russian enemy in Germany in the 1920s. The Germans perceived the revolution in Russia in an ambiguous way, because the cultural exchange between the two countries had been well developed. On the one hand, there was «Russian Berlin» of the emigrants, on the other hand – hundreds of thousands of the Germans were living in Russia. Cultural exchange, despite the difficulties of the war, continued vigorously: in the imagination of the German people Russia, which had remained a mystery to Western Europe even before the Revolution, became a utopian country in which the most courageous political and philosophical ideas, which were found in Russian literature a priori, could be embodied.
Thomas Mann and Rainer Maria Rilke praised Russia in their works despite unforeseen twists in its history. Rilke wrote about Russia as a country which ‘borders Goď thus denying potential origin of revolutionary movement in it. In 1925 such different figures as Joseph Goebbels and Bertolt Brecht gave positive appraisal of the film “The Battleship Potemkin”, the fact which demonstrates incessant cultural exchange between two states which were on the brink of confrontation.
Germans had different viewpoints concerning cooperation with Russian culture: Karl Notzel asserted that intelligentsia exerting influence on the minds of Russian common people was making a grand experiment of internal mobilization, whereas Elias Gurvitch portrayed Russian intelligentsia in an abstract image of ‘the Russian soul’ and thought that the mission of Germany was to assist Russia and to implant inherent German qualities such as «self-discipline, patience and moderation».
Except for self-seeking support of Bolsheviks by different political forces which might have benefited from it, the majority of reviews and attitudes towards matters in revolutionary Russia were connected with an attempt of German thinkers to analyse the mentality and deep philosophical foundations of Russian culture. There might have been no other image of Russians but that of sworn enemies in war and post-war Germany, but the uniquely close relationships between these two peoples aimed at Great idea and renewal became the factor which influenced Russian-German relations in the 1920-s.
Keywords: Russia-Germany relations, the image of the enemy, the February Revolution, memory-studies.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Азадовский К. Рильке и Россия. Статьи и публикации. Москва: Новое лит. обозрение, 2011.418 с.
2. Баур И. Революция и «сионские мудрецы». К вопросу об изменении образа России в ранней НСДАП // Германия и русская революция 1917–1924. (Западно-восточные отражения: Вуппертальский проект). М.: Памятники исторической мысли, 2004. С. 160–161.
3. Дюпё А. Под знаком Версальского мира. «Восточная идеология» и «национал-большевизм» в Веймарской республике // Германия и русская революция 1917–1924. (Западно-восточные отражения: Вуппертальский проект). М.: Памятники исторической мысли, 2004. С. 176–204.
4. Кёнен Г. Дух русской революции. Первые свидетели и истолкователи переворотов в царской империи // Германия и русская революция 1917–1924. (Западно-восточные отражения: Вуппертальский проект). М.: Памятники исторической мысли, 2004. С. 49–96
5. Копелев Л., Кёнен Г. Проигранные войны, выигранное благоразумие. Беседа о прошлом в конце эпохи // Германия и русская революция 1917–1924. (Западно-восточные отражения: Вуппертальский проект). М.: Памятники исторической мысли, 2004. С. 19–48.
6. Крауз Г-К. «Закат Европы». Россия в исторической мысли Освальда Шпенглера // Германия и русская революция 1917–1924. (Западно-восточные отражения: Вуппертальский проект). М.: Памятники исторической мысли, 2004. С. 241–271.
7. Манн Т. Рассуждения аполитичного. URL: / mal5.html (последнее посещение: 07.04.2014).
REFERENCES
1. Azadovskij Konstantin. Riťke i Rossija. Stať i ipublikacii. M.: Novoe literaturnoe obozrenie Publ, 2011.418 р. (in Russian).
2. Baur Iogannes. “Revoljucija i «sionskie mudrecy’». К voprosu ob izmenenii obraza Rossii v rannej NSDAP”, in Germanija i russkaja revoljucija 1917–1924. (Zapadno-vostochnye otrazhenijaiVuppertaVskijproekt). Moscow: Pamjatniki istoricheskoj mysli Publ., 2004. P. 160–161. (in Russian).
3. Djupjo Lui. “Pod znakom VersaPskogo mira. «Vostochnaja ideologija» i «nacional-boPshevizm» v Vejmarskoj respublike”, in Germanija i russkaja revoljucija 1917–1924. (Zapadno-vostochnye otrazhenija: Vuppertaťskij proekt). Moscow: Pamjatniki istoricheskoj mysli Publ., 2004. P. 176–204. (in Russian).
4. Kjonen Gerd. “Duh russkoj revoljucii. Pervye svideteli i istolkovateli perevorotov v carskoj imperii”, in Germanija i russkaja revoljucija 1917–1924. (Zapadno-vostochnye otrazhenija: Vuppertaťskij proekt). M., Pamjatniki istoricheskoj mysli Publ., 2004. P. 49–96. (in Russian).
5. Kopelev Lev, Kjonen Ged. “Proigrannye vojny, vyigrannoe blagorazumie. Beseda o proshlom v konce jepohi”, in Germanija i russkaja revoljucija 1917–1924. (Zapadno-vostochnye otrazhenija: Vuppertaťskij proekt). Moscow: Pamjatniki istoricheskoj mysli Publ, 2004. P. 19–48. (in Russian).
6. Krauz Gans-Kristof. “«Zakat Evropy». Rossija v istoricheskoj mysli OsvaPda Shpenglera”, in Germanija i russkaja revoljucija 1917–1924. (Zapadno-vostochnye otrazhenija-.Vuppertaťskij proekt). Moscow: Pamjatniki istoricheskoj mysli Publ., 2004. P. 241–271. (in Russian).
7. Mann Tomas. “Rassuzhdenija apolitichnogo”. / vestnik/2008/24/ma 15.html (date of access: 07.04.2014).
Евреи – «нежеланные гости» или «враги нации»: итальянский вклад в антисемитскую волну 1930-х гг
Григер М. В.
Приход к власти в 1922 г. Partito Nazionale Fascista был положительно встречен значительной частью еврейского населения Италии. Особенностью итальянского еврейства была сильная степень ассимиляции, и укрепление государства при Б. Муссолини положительно оценивалось многими евреями[586]. В знаменитом марше на Рим среди сквадристов (от 25 до 30 тыс. чел.) было около 350 итальянских евреев [587]. Более того, евреи были также и среди видных деятелей фашистской партии. Достаточно сказать, что Фульвио Сувич до 1936 г. фактически руководил внешней политикой фашистского государства, а известная журналистка Маргерита Сарфатти была биографом и любовницей Муссолини.
Еще в 1932 г. в опубликованных в Милане «Разговорах с Муссолини» немецкого журналиста Эмиля Людвига можно прочитать следующее: «L’antisemitismo non esiste in Italia.(…) Gli ebrei italiani si sono sempře comportati bene come cittadini, e come soldáti si sono battuti coraggiosamente». («В Италии не существует антисемитизма.(…) Итальянские евреи всегда вели себя достойно как граждане и они мужественно сражались как солдаты»)[588]. Тем резче казался разворот, произошедший в еврейском вопросе весной 1937 г., начавшийся с публикации книги П. Орано. Данная работа[589] вызвала общественную дискуссию и ознаменовала начало кампании государственного антисемитизма. До сих пор существуют споры, было ли это вызвано сменой внешнеполитического курса Италии или явилось следствием внутреннего развития фашистского государства.
Каковы же были причины выбора евреев в качестве объекта атаки и весны 1937 г. в качестве времени ее начала?
Вторая половина 30-х гг. прошлого века была, безусловно, временем кризиса как для всей Италии в целом, так и для Европы. Для всех было абсолютно ясно, что большая война скоро начнется. Оставался вопрос комбинации сил. К началу 1937 г. Германия была уже готова к прыжку, но вектор движения был еще не ясен. Большинство полагали, что это будет восточное направление. Италия в складывающейся расстановке играла не последнюю роль. Ее внешняя политика стала существенно меняться и с середины 1930-х она оказалась втянута в череду конфликтов.
Средиземноморские имперские амбиции привели к итало-эфиопской войне 1935–1936 гг. В результате стали портиться до этого относительно хорошие отношения с Великобританией. В 1936 г. началась гражданская война в Испании. Для поддержки националистов Италия послала так называемый «добровольческий» корпус. В Италии это мероприятие воспринималось как новый крестовый поход. В мае 1937 г. меняется мнение Муссолини по австрийскому вопросу, хотя еще в январе он заявлял о неприемлемости аншлюса; а в сентябре того же года состоялся визит Дуче в Берлин, знаменующий разворот Италии в сторону Германии.
Именно на таком внешнеполитическом фоне в апреле 1937 года выходит книга И. Орано и без этого фона, на мой взгляд, абсолютно не понятна причина ее появления. В. Фейнстейн полагает, что выход книги «Евреи в Италии» был лично санкционирован Б.Муссолини. По мнению Фейнстейна, после выхода книги Орано «Mussolini, da vicino» в 1928 г. Муссолини доверял ему как верному стороннику, как «католику-антисемиту и защитнику Муссолини с позиции католицизма»[590]. По ряду признаков (например, сплошному цитированию больших кусков чужого текста) создается впечатление быстрой работы, созданной в сжатые сроки, возможно, по команде сверху.
При отсутствии прямых доказательств, тем не менее, с большой вероятностью можно предположить, что событие, повлекшее за собой такую команду, произошло в первые три месяца 1937 г. На мой взгляд, в этот короткий промежуток времени, только одно событие могло привести к таким последствиям – битва при Гвадалахаре, завершившаяся 22 марта разгромом Итальянского корпуса. Известный исследователь фашизма Р. Де Феличе отмечал, что поражение стало серьезным ударом по авторитету режима и лично Б. Муссолини[591].
Удар стал болезненным вдвойне, так как показал не только военную слабость государства, но и разобщенность декларируемого единства итальянского народа. Дело в том, что решающую роль в победе республиканцев при Гвадалахаре сыграла XII Интернациональная бригада, в состав которой входил батальон итальянских антифашистов, вследствие чего битва получила следующее определение – una guerra civile nella guerra civile («гражданская война в гражданской войне»).
Представляется, что ощущение падения своего авторитета как главы военной державы заставило Муссолини искать опоры во внешнем союзнике, что и завершилось разворотом в сторону Германии. Наметившаяся проблема внутренней разобщенности, очевидно, должна была решаться путем консолидации общества перед лицом внутреннего врага. Таким врагом стали евреи. Причем этот выбор в Италии, в отличие от Германии, был не очевиден, и, оценивая его с позиций сегодняшнего дня, не слишком удачен.
Выбор этот, конечно, объяснялся сближением с Германией. И. Орано касается этой проблемы, анализируя ее с привлечением образа Данте Алигьери. Средневековый поэт, одна из ключевых фигур итальянского национального пантеона, оценивается Орано как предтеча союза Германии и Италии: «…политическое предпочтение Поэта шло к той Германии, которая сегодня является явным исключительным объектом еврейской ненависти!»[592]. Таким образом, евреи становятся помехой на пути этого судьбоносного союза.
Однако фактор Германии не является исключительным, и, исходя из аргументации Орано, далеко не самым главным.
Возвращаясь к «гражданской войне» Гвадалахары, стоит отметить, что значительная часть итальянцев – участников батальона Гарибальди – были коммунистами. И дело не в том, что среди интернациональных бригад был невообразимо большой процент евреев[593](для итальянского батальона это было как раз не характерно); а в том, что коммунизм имманентно воспринимался проявлением еврейского духа. Именно об этом пишет Орано: «Но марксизм это враг, который нацелен на уничтожение латинской культуры; римского государства; церкви; Родины; общественного порядка»[594]. Этого расхожего мнения; видимо; придерживался Муссолини; т. к. еще в июне 1919 г. в своей газете «Popolo ďltalia» (4.06.1919) он писал о связи еврейства и большевизма.
Еврейский дух; неразрывно связанный с иудаизмом; становится главной мишенью критики Орано. Орано отмечает; что «христианский мир видит в религии евреев не чистую мистику; а государство с расисткой душой»[595]. Религиозный расизм евреев не позволяет им стать своими в Италии; в стране которой являет собой Рatria totalitaria concordataria mediterranea espansionistica ed imperiále [596] («Родину тоталитарную; конкордатную; средиземноморскую; экспансионистскую и имперскую»). Все граждане должны отдавать все отчизне; и не может быть внутри страны народа; который свою энергию отдает на создание другого национального государства. Орано критикует сионистов; поскольку сионистское движение противоречит интересам Италии: оно усиливает позиции Англии в Средиземноморье; оно портит отношения с мусульманами. Но главное то, что сионизм еще раз показывает; что евреи Италии так и не стали итальянцами. Их наличие мешает конструкции единой нации.
Фашистская Италия после 1929 г. становится страной Конкордата. Построенное на идеях; привнесенных Французской революцией; реализованное через Рисорджименто итальянское государство и итальянская нация; по мнению Орано; оказались незаконченными; незавершенными. Однако Латеранские соглашения разрешили эту проблему. В сердце новой итальянской нации теперь находится католичество. Поэтому призыв Орано отдаленно напоминает требования средневековых инквизиторов: евреи, по его мнению, должны оставить свой расизм и крайний национализм (esasperato nazionalismo) и влиться в сотрудничество всех народов в рамках Римской церкви[597].
Через месяц после выхода книги Орано, в главной фашисткой газете «Popolo ďltalia» (25.05.1937) в редакционной статье посвященной еврейской проблеме будет поставлен вопрос: «Считают ли евреи себя «евреями в Италии» или «евреями Италии»? Ощущают ли они себя гостями нашей нации или неразрывной частью нашего населения?» На данный риторический вопрос итальянским евреям отвечать было абсолютно бесполезно. Со следующего 1938 года началось ущемление прав итальянских евреев на общегосударственном законодательном уровне.
* * *
УДК 94(450).094 + 323.12(=411.16)
ГРИГЕР МАКСИМ ВАДИМОВИЧ. К. и. н., доцент. Казанский Федеральный Университет, Казань.
MAXIM GRIGER. PhD, Associate Proffesor, Kazan Federal University, Kazan.
E-mail: grigerm(a)yandex.ru
ЕВРЕИ – «НЕЖЕЛАННЫЕ ГОСТИ» ИЛИ «ВРАГИ НАЦИИ»: ИТАЛЬЯНСКИЙ ВКЛАД В АНТИСЕМИТСКУЮ ВОЛНУ 1930-Х ГГ.
В статье исследуется точка зрения Паоло Орано на положение евреев в итальянском государстве. Паоло Орано был одним из основателей фашистской журналистики в Италии. Выход его книги «Евреи в Италии» в 1937 г. открыл начало антисемитской кампании развернутой режимом Бенито Муссолини. В статье разбираются основные доводы обвинений Орано в отношении евреев Италии. Автор пытается найти ответ на вопрос, почему итальянское еврейство, чьей особенностью была сильная степень ассимиляции и поддержки итальянского государства, было обвинено в нелояльности по отношению к последнему и в отсутствии патриотизма, и было ли это связано с изменением позиции итальянского еврейства или же к середине 1930-х изменилось само представление о нации в итальянском обществе.
Ключевые слова: итальянское еврейство; конструирование итальянской нации; антисемитизм; фашистский режим.
THE JEWS – «UNWELCOME GUESTS» OR «PUBLIC ENEMIES»: ITALIAN CONTRIBUTION TO ANTI-SEMITIC WAVE OF THE 1930S.
The paper is dedicated to Paolo Orano’s viewpoints on Jews in Italian state. Paolo Orano was one of the founders of Fascist journalism. The edition of his book «The Jews in Italy» (1937) launched anti-Semitic campaign started by Benito Mussolini’s regime. The paper puts emphasis on the main Orano’s arguments against Italian Jews. The author tries to find an answer to the question why Italian Jews, who had a strong degree of assimilation and were very loyal to the state, then were accused of disloyalty and lack of patriotism and whether it was linked with the changing Jewish position or the perception of nation per se in Italian society changed in the middle of 1930s.
Keywords: Italian Jews; construction of Italian nation; anti-Semitism; Fascist regime.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ (REFERENCES)
1. Brigate Internazionali. URL: -storiografici/spagna/ brigate-internazionali/ (последнее посещение: 13.05.2015).
2. De Felice R Mussolini il duce. Vol. II: Lo stato totalitario 1936–1940. Torino: Einaudi, 1996. 940 p.
3. Feinstein W. The Civilization of the Holocaust in Italy: Poets, Artists, Saints, Anti-Semites. Madison, N. J.: Fairleigh Dickinson University Press; Associated University Presses, 2003. 401 p.
4. Ludwig E. Colloqui con Mussolini. Verona: Mondadori, 1950. 224 p.
5. Orano P. Gli ehrei in Italia. Roma: Pinciana, 1937. 226 p.
6. Zuccotti S. Italy’s Jews, in Zuccotti S. (ed.) The Italians and the Holocaust. Nebraska: Nebraska University Press, 1996. P. 12–27.
«Черная легенда» об Испании: политическая мифология и образы идентичности
Калинина Е. Ю.
Становление групповой идентичности происходит по двум направлениям: осознание принадлежности к группе и осознание непринадлежности ко всем остальным группам. Формирование общества и его подструктур непосредственно связано с появлением такой социальной реальности как граница, которая создает пространство между «Я» («Мы») и «Другие». Образ «другого» оказывается более обобщенным, лишенным индивидуальности, чем образ «я». Основой социальной жизни отдельного индивида является тот факт, что человек принадлежит к определенной группе. Идентификация каждого происходит по двум направлениям: осознание себя и одновременно осознание принадлежности к группе. «Из всех социальных структур, образующих сообщество, первой должна воспроизводиться граница – зона разрежения контактов, отделяющая формирующееся сообщество от внешней среды»[598].
Становление чувства единства, сопричастности, формирование пристрастного понятия о группе, к которой индивид принадлежит, – все это является отдельными сторонами механизма формирования идентичности. Человек естественно нуждается в том, чтобы такая идентификация, «важным моментом которой является возможность в лучшую сторону отличаться от других групп, чтобы представить себе результат: оценочная поляризация со знаком «плюс», относящимся к «Мы», и знаком «минус», относящимся к «Они» [599], была позитивной. Образ Героя неразрывно связан с образом Злодея, которого наш Герой должен победить. Возвеличиванию, хотя бы путем преувеличения положительных свойств «Мы-Героя», неразрывно сопутствует принижение и даже нередко демонизация «Они-Врага».
Термин «черная легенда» связан с историей Испании. Впервые он появился в научной литературе и вошел в язык и обиход в 1914 г., когда вышла в свет книга известного интеллектуала и политика Хулиана Худериаса. Автор вкладывал в это понятие «атмосферу, порожденную фантастическими историями о нашей земле, которая была растиражирована практически во всех странах; гротескные описания всего, что когда-либо было сотворено испанским сознанием, индивидуальным или коллективным; отрицание или, по меньшей мере, систематическое принижение всего положительного или заслуживающего уважения в различных проявлениях нашей культуры и искусства; обвинения за все упущения, допущенные Испанией во все исторические периоды, основанные на преувеличениях, плохо истолкованных или ложных фактах; наконец, утверждения, происходящие из вполне солидных и заслуживающих уважения источников, часто воспроизводимые, истолкованные и пересказанные еще более детально в иностранной прессе, о том, что наша страна с точки зрения толерантности, культуры и политического прогресса, является досадным исключением в группе европейских государств»[600].
Мы можем говорить в целом о наделении некоторых народов определенными, более или менее постоянными, чертами «национального характера», как положительными, так и отрицательными, формирующими негативный образ. Наиболее интересным для внимательного и глубокого изучения в феномене черного мифа представляется то, что одни и те же качества, которые в равной степени свойственны всем государствам, при формировании образа одной страны подчеркиваются и выдвигаются на передний план, когда как для создания образа другого государства эти же черты могут оказаться несущественными и недостойными внимания. Например, часто выделяют такие характерные черты испанской правовой культуры как «склонность к послушанию, приверженность стереотипам, традициям, социальная апатия, патерналистское сознание, выразившееся в таком явлении, как касикизм, авторитарность, потребность в покровительстве»[601].
Черная легенда об Испании представляет собой совокупность мифов и стереотипов, создающих образ данного государства, который отражается, в том числе, в испанском общественном сознании как одна из сторон национальной идентичности. Значительным следствием национального стремления испанцев к тревожному поиску собственной идентичности, трагическому восприятию собственной страны, истории является развитие и продолженное во времени существование такого феномена, который мы называем испанской «черной легендой».
Негативный образ стал частью сознания и правосознания самих испанцев, которые готовы отказаться от части своего национально-культурного исторического своеобразия ради унификации и приятия другими государствами.
Часто ученые подходят к вопросу постижения национальной идентичности как к историческому явлению. Представляется вполне логичным изучать историю для выявления наиболее ярких черт восприятия мира и себя у конкретного народа, переходящих из поколения в поколение почти неизмененными. Очевидно, что если мы сможем выявить такие черты, то они будут претендовать на определение ментальных шаблонов. Однако некоторые исследователи предупреждают, что такой образ мышления может привести к проблеме «непоправимой путаницы между прошлым и настоящим», а также «обратной проекции на прошлое своих собственных идей и своего тревожного бытия»[602], как это определил Хавьер Варела (Javier Varela), говоря о таком известном исследователе испанской ментальности, как Америко Кастро.
В результате сложились три основных мифа, составивших базис черной легенды: обскурантизм и склонность к диктаторскому правлению; ужасы инквизиции; кровавое завоевание Америки. Эти основополагающие мифы сформировались во время войны Испании и Фландрии, хотя первые легенды, активно внедряемые в европейское общественное сознание, появились на несколько веков раньше в Италии, продолжалось мифотворение уже во Франции периода Революции.
Еще Вундт отмечал, что «ничто, однако, так, как война, неспособно раскрыть различия в характере этносов, которые в мирное время ускользают от поверхностного наблюдателя»[603]. Так в Голландии рождаются основные версии о национальном характере испанцев. В народном сознании с помощью политических манипуляций появляется сравнение испанцев с турками, то есть с жестокими и «нецивилизованными» завоевателями-варварами, рушащими все на своем пути и подвергающим завоеванные народы невиданному насилию. «Смесь восточных и африканских элементов, исламских и иудейских влияний сформировали испанцев как народ низшей расы и с сомнительной приверженностью вере, нечистых»[604], – такой стереотип еще раньше сформировался в Италии, с которой у Испании были довольно напряженные отношения. «Война с Фландрией в конце концов превратилась в идеологическую войну, а поскольку она стала идеологической, то приобрела характер тотальной, жестокой, беспощадной…»[605]. В небольшом памфлете принц Оранский обвинил короля Филипа в многочисленных изменах, кровосмесительной связи со своей сестрой Хуаной, убийстве своего сына Дона Карлоса и своей жены Изабеллы Валуа. И это еще было не все: Филип обвинялся в самых разнообразных изменах, лицемерии, мошенничестве. Распространяясь в исторических документах, этот миф продолжает существовать до сих пор, составляя важную часть «черной легенды». О том, что это был именно миф, свидетельствует соответствие данной конструкции ряду признаков: «бескомпромиссность суждений о предмете осмеяния, откровенная тенденциозность – присущий именно сатире способ выражения авторской индивидуальности, стремящейся установить непереходимую границу между собственным миром и предметом обличения»[606].
Миф об обскурантизме был подхвачен во времена Просвещения французскими энциклопедистами, начиная с Дидро, первого отразившего этот миф в своей «Энциклопедии». Испанская инквизиция у него превращается в весьма удобную модель или миф, который оттеняет стремление «цивилизованной» Европы к свету знаний «отсталостью» Испании, положение которой на периферии европейской цивилизации подчеркивается с новой силой. Не случайно появился термин «обскурантизм» (т. е. «темнота»), применяемый, прежде всего, к Испании и основанный на сравнении со «светом», который несет Просвещение. Этот миф моментально продолжается «черной легендой» об «испанском фанатизме». Объявляется, что «все беды Испании проистекают из слепой защиты искаженного понятия о католицизме, которое противоречит здравому рассудку своей варварской набожностью»[607].
Лишь в XIX в. ситуация меняется. Начинается процесс «открытия Испании». К тому времени Европа уже сформировалась как единое цивилизационное и мифологическое (идеологическое) образование; иными словами, сложилась европейская идентичность. Испания в этом пространстве продолжала оставаться периферийным государством, однако Европа как конструкт все более консолидировалась, а потому для складывающейся цивилизационной идеологии европоцентризма каждый член этого сообщества был важен. Поэтому и миф об Испании начал приобретать иную эмоциональную окраску по форме, но по содержанию оставался прежним; Испания была принята в «семью», но с рядом оговорок[608].
Черные мифы являются социальными конструктами. Они всегда имеют конкретную политическую цель: создание негативного образа некоторого субъекта, чьи интересы пересекаются с интересами создателя такой легенды. Обычно черные мифы воспроизводятся в критические моменты истории в качестве одного из средств для создания перевеса в процессе конфликта. Худериас привел основные характерные черты черных мифов: ложность, повторяемость, многократность (избыточность), навязчивость, насильственное продление во времени. «Характерная особенность этого удивительного феномена состоит во всеобъемлющей дисквалификации какой-нибудь страны, основанной на использовании нескольких негативных фактов, и это не имеет отношения к тому, насколько они правдивы или ложны. То, что с любой стороны достойно сожаления, то, что обнаруживает жестокость, глупость, злоупотребление властью, недостаток щепетильности, амбициозность, фанатизм, происходило в любой стране, и, полагаю, будет происходить»[609], – отметил X. Мариас.
* * *
УДК 94(460)
КАЛИНИНА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА. К. ю. н., доцент. Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена, Санкт-Петербург.
ELENA KALININA. PhD, Associate professor, Herzen State Pedagogical University of Russia, Saint Petersburg.
E-mail: bellaflor(o)mail.ru
«ЧЕРНАЯ ЛЕГЕНДА» ОБ ИСПАНИИ: ПОЛИТИЧЕСКАЯ МИФОЛОГИЯ И ОБРАЗЫ ИДЕНТИЧНОСТИ
Становление групповой идентичности происходит по двум направлениям: осознание принадлежности к группе и осознание непринадлежности ко всем остальным группам. Формирование общества и его подструктур непосредственно связано с появлением такой социальной реальности как граница, которая создает пространство между «Я» («Мы») и «Другие». Образ «другого» оказывается более обобщенным, лишенным индивидуальности, чем образ «я». Термин «черная легенда» связан с историей Испании. Впервые он появился в научной литературе и вошел в язык и обиход в 1914 г., когда вышла в свет книга известного интеллектуала и политика Хулиана Худериаса.
Черные мифы являются социальными конструктами. Они всегда имеют конкретную политическую цель: создание негативного образа некоторого субъекта, чьи интересы пересекаются с интересами создателя такой легенды. Обычно черные мифы воспроизводятся в критические моменты истории в качестве одного из средств для создания перевеса в процессе конфликта. Худериас привел основные характерные черты черных мифов: ложность, повторяемость, многократность (избыточность), навязчивость, насильственное продление во времени.
Наиболее заслуживающим внимательного и глубокого изучения в феномене черного мифа является то, что одни и те же качества, которые в равной степени свойственны всем государствам, при формировании образа одной страны подчеркиваются и выдвигаются на передний план, но для образа другой оказываются несущественными и недостойными внимания.
Черная легенда об Испании представляет собой совокупность мифов и стереотипов, создающих образ данного государства, который отражается, в том числе, в испанском общественном сознании как одна из сторон национальной идентичности.
Эта легенда была геополитическим конструктом, созданным с целью очернения соперника в информационной войне, которая была частью более крупного сражения за перераспределение мировых ресурсов. В результате сложились три основные мифа, составившие базис черной легенды: обскурантизм и склонность к диктаторскому правлению; ужасы инквизиции; кровавое завоевание Америки. Эти основополагающие мифы сложились во время войны Испании и Фландрии, хотя первые легенды, активно внедряемые в европейское общественное сознание, появились на несколько веков раньше в Италии, а продолжилось мифотворение во Франции периода Революции.
Ключевые слова: Испания; «Черная легенда»; идентичность; мифология.
THE “BLACK LEGEND” ABOUT SPAIN. POLITICAL MYTHOLOGY AND IMAGES OF IDENTITY
The formation of group identity goes in two directions: sense of belonging to a group and recognition of non-belonging to all other groups. The formation of society and its substructures is directly connected with the emergence of such social reality as the border, which creates space between «us» and «them». The image of «them deprived of individuality» turns more general than the image of «me».
The term «black legend» is connected with the history of Spain. It first appeared in the scholarly literature and entered the language and usage in 1914, when the book of the well-known intellectual and politician Julian of Juderias was published.
Black myths are social constructs. They always have a specific political purpose – creation of the negative image of a certain person whose interests intersect with interests of the creator of such a legend. Black myths are usually reproduced in critical moments of history in order to create advantage in the process of conflict. Juderias outlined the main distinguishing features of black myths: falsity, recurrence, repetition (redundancy), obtrusiveness, forcible extension in time.
The most worthy of careful and in-depth study of the phenomenon of the black myth is the fact that one and the same qualities, equally inherent to all states, in shaping the image of one country are accentuated and pushed into the foreground, whereas they seem to be insignificant and unworthy of attention for the image of another one.
The black legend of Spain is a set of myths and stereotypes that create the image of this state, which is manifested, in particular, in the Spanish public consciousness as one of the aspects of national identity.
This legend was a geopolitical construct created with the purpose of denigration of the rival in the information war, which was part of a larger battle for the redistribution of world resources. As a result, three main myths which formed the basis of the black legend arose: obscurantism and inclination to dictatorial governing; horrors of the Inquisition; the bloody conquest of America. These fundamental myths were formed during the war of Spain and Flanders, although the first legends, which were actively implemented in the European public consciousness, had appeared several centuries earlier in Italy, and the creation of myths continued in France during the Revolution.
Keywords: Spain; «Black Legend»; Identity; Mythology.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Агеев В. С. Психологическое исследование социальных стереотипов // Вопросы психологии. № 1, 1986. URL: (последнее посещение: 12.09.2014).
2. Калинина Е. Ю. Мифология средневекового правосознания: иррациональное в рациональном. М.: Юрлитинформ, 2014. 211 с.
3. Калинина Е. Ю. Эволюция формы государства в современной Испании: дисс. на соис. уч. степ. к. юр. н. Санкт-Петербург, 2005. 197 с.
4. Редкозубова О. С. Структура смеховой культуры // Аналитика культурологии. 2009. № 13. URL: /п/stmktura-smehovoy-kultury (последнее посещение: 17.12.2014).
5. Щепанская Т. Б. Система: тексты и традиции субкультуры. М.: ОГИ, 2004. 286 с.
6. Baumeister, М., Teuber, В. La obra de Américo Castro у la Espaňa de las třes culturas, sesenta aftos después. URL: -berlin.de/fileadmin/dokumentenbibliothek/ Iberoamericana/38-2010/Baumeister_y_Teuber_Rev38-01.pdf (последнее посещение: 26.11.2014).
7. Caro Baroja, J. Reflexiones Nuevas sobre Viejos Temas. Madrid: Istmo, 1990. -214 p.
8. Iglesias C. Espaňa desde fuera // Espaňa. Reflexiones sobre el ser de Espaňa. Madrid: Real Academia de la Historia, 1998. P. 382–384.
9. Marias J. Understanding Spain. Ann Arbor: University of Michigan Press; San Juan: Editorial de la Universidad de Puerto Rico, 1990. 452 p.
REFERENCES
1. Ageev Vladimir. “Psihologicheskoe issledovanie sociaknyh stereotipov”, in Voprosy psihologii 1 (1986). (date of access:
12.09.2014) (in Russian).
2. Baumeister Martin, Teuber Bernardo. “La obra de Américo Castro у la Espaňa de las tres culturas, sesenta aňos después”. -berlin.de/fileadmin/ dokumentenbibliothek/Iberoamericana/38-2010/Baumeister_y_T euber_Rev38-01. pdf (date of access: 26.11.2014).
3. Caro Baroja J. Reflexiones Nuevas sobre Viejos Temas. Madrid: Istmo Publ., 1990. 214 p.
4. Iglesias Carmen. “Espaňa desde fuera”, in Espaňa. Reflexiones sobre el ser de Espaňa. Madrid: Real Academia de la Historia Publ., 1998. P. 382–384.
5. Kalinina Elena. Mifologija srednevekovogo pravosoznanija: irracionaVnoe v racionaVnom. Moscow: Jurlitinform Publ., 2014. 211 p. (in Russian).
6. Kalinina Elena. “Jevoljucija formy gosudarstva v sovremennoj Ispanii”. PhD thes., Herzen Pedagogical University, 2005. 197 p. (in Russian).
7. Marias Julian. Understanding Spain. Ann Arbor: University of Michigan Press; San Juan: Editorial de la Universidad de Puerto Rico, 1990. 452 p. (in Spanish).
8. Redkozubova Okga. “Struktura smehovoj kuktury”, in Analitika kuVturologii 13 (2009). -smehovoy-kultury (date of access: 17.12.2014). (in Russian).
9. Shhepanskaja Taťjana. Sistema: teksty i tradicii subkul’tury. Moscow: OGI Publ., 2004. 286 p. (in Russian).
Изобретение чужого и конструирование границ: «интеграция мигрантов» в российской прессе
Клименко Е. В.
Какими бы ожесточенными ни были споры вокруг подлинной сущности, оснований необходимости, ключевых задач и эффективных инструментов интеграции мигрантов, провозглашение последней в качестве одного из приоритетных направлений миграционной политики воспринимается как свидетельство ее либерализации и даже гуманизации. Миграционная политика, ориентированная на интеграцию мигрантов, выступает как альтернатива рестриктивному подходу к управлению миграционными процессами, предполагающему не только ужесточение миграционного законодательства и применение преимущественно полицейских мер в регулировании миграции, но и ассимиляцию мигрантов. Соответствует ли реальное содержание концепта «интеграция мигрантов» представлению о нем как о явлении, отражающем «гуманитарный поворот» в миграционной политике? Не является ли его массированное использование еще одной «вуалью», за которой скрывается практика дискурсивного конструирования и закрепления границ между принимающим сообществом и мигрантами? Я попыталась ответить на этот вопрос, анализируя способ репрезентации концепта «интеграция мигрантов» в российских печатных СМИ. Меня интересовало то, каким образом общественная дискуссия вокруг проблемы интеграции мигрантов формирует образ мигранта и миграции и способствует закреплению определенного типа отношений между мигрантами и принимающим сообществом.
Такая постановка вопроса основывается на понимании социальной реальности как неотделимой от ее репрезентации[610], а медиа – как производителей репрезентаций, претендующих на (общезначимость. Если само обсуждение проблемы становится средством ее конституирования, то характер обсуждения ложится в основу практики (в данном случае богатого разнообразия дискриминационных практик)[611]. Настоящее исследование построено на контент-анализе текстов, опубликованных в период с 2000 по 2014 год в «Российской Газете» (далее – РГ), в которых затрагивается тема интеграции трудовых мигрантов и членов их семей. Такой выбор материала исследования неслучаен. Во-первых, РГ, являющаяся официальным изданием Правительства РФ, выражает позицию власти по тем или иным проблемам жизни общества. Во-вторых, РГ, как принято считать, отличается сбалансированным подходом к освещению проблем, связанных с миграцией[612]. В рамках настоящего исследования я хотела бы не только провести анализ дискурса интеграции мигрантов, воспринимаемого как «официальный», но и оценить обоснованность оценки этого дискурса как лишенного проявлений мигрантофобии. Анализу были подвергнуты 78 текстов; в результате работы были получены следующие результаты.
Тема интеграции мигрантов для авторов РГ носит второстепенный характер, крайне редко становясь предметом самостоятельных публикаций. Так, за период с 2000 по 2014 год было обнаружено лишь 18 посвященных этой теме текстов, что составило 23 % от общего объема текстов, в которых она была затронута. Интеграция мигрантов чаще фигурирует в качестве одной из тем в текстах, посвященных проблемам миграции в целом (50 % текстов), проблемам межэтнических отношений (22 % текстов), проблемам демографии (4 % текстов).
Миграция на страницах РГ предстает как явление, угрожающее благосостоянию России и ее граждан. Выделяется несколько типов угроз, связываемых с миграцией: криминальная угроза (общее ухудшение криминогенной обстановки; рост уровня преступности, включая преступления, связанные с организацией нелегальной миграции, и преступления, совершаемые самими мигрантами; коррупция в правоохранительных органах; опасность терроризма) – 35 % текстов; социальная угроза (усиление нагрузки на систему социального обеспечения и систему ЖКХ; рост безработицы, алкоголизма и наркомании среди членов принимающего сообщества; повышение уровня ксенофобии, обострение социальных конфликтов) – 30 % текстов; экономическая угроза (потеря налоговых поступлений в результате уклонения от уплаты налогов со стороны мигрантов и их работодателей; сохранение низкой производительности труда; низкие темпы модернизации экономики, неразвитость ее наукоемких отраслей) – 8 % текстов; угроза российской (и русской) культуре (размывание культурных ценностей, утрата культурной самобытности) – 10 % текстов.
Реже миграция рассматривается как некий ресурс, который может быть использован во благо страны и ее граждан: подчеркиваются экономические выгоды от миграции (удовлетворяемая с помощью мигрантов потребность в трудовых ресурсах; связанные с миграцией рост экономики, увеличение налоговых поступлений и ВВП) – 32 % текстов; возможность решить с помощью миграции демографические проблемы – 24 % текстов. В 3 % текстов встречается упоминание о миграции как о ресурсе, который может быть использован в политических целях, связанных с расширением влияния России на постсоветском пространстве.
На представлении о миграции как о явлении, создающем в большей степени препятствия для развития страны и благополучия ее граждан, чем предоставляющем возможности, которые могут быть использованы во благо, основывается понимание сущности, назначения и причин необходимости интеграции мигрантов. Последняя рассматривается как средство нейтрализации угрозы, исходящей от мигрантов и миграции как таковой (40 % текстов). Лишь в редких случаях (24 % текстов) она предстает как способ реализации потенциала, связанного с миграцией и мигрантами.
На страницах РГ также сформулировано представление о причинах фактического социального исключения мигрантов, а также о характере существующих для их интеграции препятствий. В 45 % случаев в этом качестве рассматриваются культурная дистанция и языковой барьер. В 23 % текстов в качестве фактора, препятствующего интеграции мигрантов, называется негативное отношение к ним со стороны принимающего сообщества (в том числе являющееся результатом манипуляций политических предпринимателей). Лишь в 13 % текстов рассматриваются политико-правовые аспекты социального исключения мигрантов, а препятствия для их интеграции видятся в несовершенстве миграционного законодательства и сложности процедур легализации на территории РФ. Наконец, социально-структурные факторы, препятствующие интеграции мигрантов (тяжелые социально-экономические обстоятельства., в которых оказываются мигранты, нарушения в области правоприменительной практики, дискриминация при трудоустройстве и найме жилья, коррумпированность чиновников и работников правоохранительных органов) упоминаются в 5 % текстов.
В соответствии с пониманием причин социального исключения мигрантов выделяются и предполагаемые инструменты их интеграции. Базисным инструментом выступает обучение языку и культуре принимающего сообщества, а также преподавание основ законодательства РФ (45 % текстов). Изменение отношения принимающего сообщества к мигрантам в качестве фактора, способствующего их интеграции, упоминается в 17 % текстов. Легализация мигрантов (как с помощью либерализации самого миграционного законодательства, так и через оказание содействия мигрантам в соблюдении норм и требований, действующих в настоящий момент) называется средством их интеграции в 15 % текстов. Наконец, социальная защита мигрантов (предоставление приемлемых жилищных условий и возможностей для профессиональной подготовки и переподготовки, гарантированное медицинское обслуживание, защита от злоупотреблений со стороны работодателей) рассматривается в качестве способа их интеграции лишь в 8 % случаев.
Среди субъектов высказывания предсказуемо лидируют журналисты – 68 % текстов, следующие за ними – чиновники (50 % текстов) и эксперты (45 % текстов). Встречаются высказывания политиков (14 % текстов), деятелей науки, искусства, общественных деятелей (13 %). Наименее часто субъектами высказываний становятся представители общественных организаций и землячеств мигрантов (5 % текстов) и «обычные россияне» (4 % текстов). Высказывание «рядового мигранта» за рассматриваемый период встретилось нам в 1 тексте.
На страницах РГ мигранты предстают как неразделимое множество. Среди них слабо выделяются (или не выделяются вовсе) граждане разных стран, представители разных конфессиональных, гендерных, профессиональных, возрастных групп. В крайне редких случаях проводится дифференциация мигрантов, «подлежащих» интеграции, по стране исхода, возрасту, уровню квалификации. Формируемый в РГ образ мигранта максимально де-индивидуализирован: он складывается на основе самых обобщенных характеристик. Мигранты здесь некие «они», отделенные как от тех, кто высказывается о них на страницах РГ, так и от читателей газеты. В свою очередь и высказывающиеся, и читатели воспринимаются как «мы», слитые в единое существо, коллективную личность. При этом как для описания «их» и «нас», так и для установления границы между «ними» и «нами» культурные индикаторы (владение языком, знакомство с историей и традициями, принятие ценностей) используются чаще, а значит, и маркируются как более значимые, чем социальные (образование, семейное положение, сфера занятости и уровень квалификации).
Такая абсолютизация культуры приводит к тому, что проблемы, связанные с миграцией, (прежде всего – проблемы взаимоотношений между мигрантами и принимающим сообществом) описываются в терминах культуры. В этих же терминах интерпретируются и любого рода сложности – социальные, экономические, коммуникативные, бытовые – возникающие у человека в связи с переменой места жительства. Поскольку структурные факторы – как социального исключения мигрантов, так и их интеграции оказываются забытыми в пользу культурных, а миграция воспринимается как досадное и временное явление, естественным становится отказ от попыток решения институциональных проблем, препятствующих интеграции мигрантов. Интеграция мигрантов понимается как освоение последними культуры принимающего сообщества.
Закономерно и то, что правом голоса в обсуждении проблемы интеграции мигрантов обладают лишь члены принимающего сообщества. Мигрант же, лишенный этого права, предстает как объект «интегрирующего воздействия». Он является единственным, кто должен осуществлять усилие, направленное на интеграцию; от членов принимающего сообщества такого усилия не ожидается. Независимо от того, интерпретируется ли интеграция мигрантов как средство нейтрализации исходящей от них угрозы или как способ реализации связанных с ними возможностей, как первые, так и вторые рассматриваются из перспективы принимающего сообщества. Мигрант же здесь – нечто почти неодушевленное: в худшем случае – требующая решения проблема, в лучшем готовый к использованию ресурс.
Итак, на страницах РГ сложился дискурс интеграции мигрантов, который, с одной стороны, является частью более широкого дискурса миграции и существует на стыке с дискурсом межэтнических отношений, а с другой – содержит основные черты дискурса современного расизма. Этот дискурс поддерживается на протяжении четырнадцати лет, с 2000 по 2014 год, и не претерпел сколько-нибудь значительных изменений, в том числе в связи с либерализацией миграционной политики последнего времени. Мигранты здесь предстают как дистанцированные от принимающего сообщества, отделенные от него языковым и культурным барьерами, подчиненные ему.
* * *
УДК070.15(47) «20»
КЛИМЕНКО ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА. Кандидат культурологии, старший преподаватель, Санкт-Петербургский государственный институт культуры, Санкт-Петербург.
EKATERINA KLIMENKO. PhD, Senior Lecturer, Saint Petersburg State University of Culture and Arts, Saint Petersburg.
E-mail: ekavlaklimenko(o)gmail.com
ИЗОБРЕТЕНИЕ ЧУЖОГО И КОНСТРУИРОВАНИЕ ГРАНИЦ: «ИНТЕГРАЦИЯ МИГРАНТОВ» В РОССИЙСКОЙ ПРЕССЕ
Что такое интеграция? Что значит «быть интегрированным»? Каковы критерии «интегрированности»? Порой кажется, что существуют однозначные ответы на эти вопросы. Очевидным зачастую представляется и то, что эти ответы должно формулировать принимающее сообщество. Обсуждение проблемы интеграции ведется на языке «хозяев», их голос в этом обсуждении становится не только самым громким, но и единственно слышным. Именно «хозяева» определяют претендующий на общезначимость смысл понятия «интеграция», критерии и показатели «интегрированности», степень «наказания» для «недостаточно интегрированных» «гостей».
В рамках данного исследования нас интересует, как именно проблема интеграции мигрантов репрезентируется в российских СМИ и каким образом общественная дискуссия вокруг этой проблемы формирует образ мигранта как такового. Исследование построено на контент-анализе публикаций в печатных СМИ, посвященных проблеме интеграции мигрантов. При этом особое внимание уделяется обсуждению новейших нормативных документов, затрагивающих вопросы, связанные с интеграцией мигрантов.
Результаты исследования позволяют сделать вывод о том, что обсуждение проблемы интеграции мигрантов в российских СМИ основано на нескольких допущениях: существуют некие неиндивидуализированные «они», представляющие собой неразделяемое множество; симметрично этому существуют и «мы» – также слитые в единое существо, коллективную личность; все «мы» являемся носителями некой «нашей» культуры, которая представляет собой субстанцию, воспринимаемую как однородная, неизменяемая ни во времени, ни в пространстве; равно однородна и неизменна «их» культура, носителем которой является каждый из «них»; между этими двумя культурами существует объективно наблюдаемая и фиксируемая дистанция: мало того, что культуры принципиально различны, так и культура «чужих» представляет собой угрозу для «нашей»; «чужие» должны освоить «нашу» культуру, научиться жить по «нашим» правилам, поскольку на «нашей» территории они находятся в заведомо подчиненном положении по отношению к «нам». Закономерной в рамках такой логики является и интерпретация любого рода сложностей – социальных, экономических, коммуникативных, бытовых – возникающих у человека в связи с переменой места жительства, в терминах культуры и, как следствие, отказ от попыток решения институциональных проблем, связанных с дезинтеграцией мигрантов.
Ключевые слова: интеграция мигрантов; миграционный дискурс; культурный расизм.
INVENTING THE OTHER AND CONSTRUCTING BOUNDARIES: THE INTEGRATION OF MIGRANTS IN RUSSIAN MEDIA DISCOURSE
What constitutes the “integration” process? What does it mean to be “integrated”? What are the criteria of “integratedness”? It sometimes seems that precise and unequivocal answers to these questions do exist. It also seems obvious that it is the members of the host society who are entitled to formulate these answers: to define the meaning of the term “integration”, indicators and criteria of the necessary “level of integration” and the “extent of punishment” for those who are not willing to “become integrated”.
This article is dedicated to how the issue of integration of migrants is represented in Russian media discourse and to the mode in which this discourse related to integration contributes to the construction of the image of a migrant in modern Russia. The research is based on the content analysis of media texts dedicated to the issue of the integration of migrants. The emphasis is put on public discussions about the latest legislations aimed at regulating the process of migration and promoting the integration of migrants.
The public discussion about the issue of the integration of migrants is based on several presuppositions: there exist the so called “us” and “them”, groups whose members are regarded not as individuals but as parts of a “collective personality”; each of “us” is a representative of “our” culture considered unaltered homogenous substance; at the same time “their” culture is also unaltered homogenous substance whose representative is each of “them”; there is significant distance between “our” and “their” culture that may be observed and measured; “their” culture is deemed not only different from “ours” but also threatening “our” integrity; “they” must learn to abide by the rules of “our” culture since “they” currently reside on “our” territory and therefore are inferior to “us”.
This type of discourse related to integration implies that all sorts of difficulties – social, economic, communicative, everyday – that a person faces while migrating – are represented in the terms of culture. As a consequence, institutional barriers to the integration of migrants remain unsolved.
Keywords: integration of migrants; migration discourse; cultural racism.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности: трактат по социологии знания. М.: Медиум, 1995. 323 с.
2. Зверева Н. Дискурсы о мигрантах в современной российской прессе: стратегии борьбы за значение // Новое литературное обозрение. № 128 (4/2014). URL: http://www. nlobooks.ru/node/5267 (последнее посещение: 01.05.2015).
3. Карпенко О. «… И гости нашего города…» // Отечественные записки. 2002. № 6. С. 468–475.
REFERENCES
1. Berger Piter, Lukman Tomas. SociaVnoe konstruirovanie real’nosti: traktat po sociologii znanija. Moscow: Medium Publ., 1995. 323 p. (in Russian).
2. Karpenko Oksana. “…I gosti nashego goroda…”, Otechestvennye zapiski 6 (2002). P. 468–475. (in Russian).
3. Zvereva NataLja. “Diskursy o migrantah v sovremennoj rossijskoj presse: strategii bor’by za znachenie”, Novoe literaturnoe obozrenie 4 (2014). / node/5267 (Date of access: 01.05.2015) (in Russian).
Примечания
1
Беда Достопочтенный. Церковная история народа англов / Пер. B.B. Эрлихмана. СПб., 2001. URL: (дата обращения: 01.06.2015); Bedes Ecclesiastical History of the English People / ed. by B. Colgrave & R. Mynors. Oxford, 1969.
(обратно)2
Там же; Ibid.
(обратно)3
Федоров С. £., ПаламарчукА. А. Средневековая Шотландия. СПб., 2014.
(обратно)4
Annals of Innisfallen / Ed. by S. Mac Airt. Dublin, 1977. 503.1.
(обратно)5
Fraser J. From Caledonia to Pictland. Scotland to 795. Edinburgh, 2009. P. 145.
(обратно)6
Dumville D. Cetri prímchenéla Dáil Riata // Scottish Gaelic Studies. 2000. Vol. 20. P. 175–183.
(обратно)7
Nieke М., Duncan Н. Dalriada: the Establisment and Meitenance of an Early Historic Kingdom in Northern Britain // Power and Politics in Early Medieval Britain and Ireland / ed. by S. Driscoll & M. Nieke. Edinburgh, 1988. P. 6–21; Sharpe R. The Thriving of Dalriada 11 Kings, Clerics and Chronicle in Scotland, 500-1297: Essays in Honour of Marjorie Ogilvie Anderson on Occasion of Her Ninetieth Birthday / ed. by S. Taylor. Dublin P. 47–61; Dumville D. Cethri Primchenéla Dáil Riata // Scottish Gaelic Studies. 2000. Vol. 20. P. 170–191; Idem. Ireland and North Britain in the Earlier Middle Ages: Context for Miniugud Senchusa Fher nAlban // Rannsachadh na Gaidhlig 2000: Papers Read at the Conference Scottish Gaelic Studies 2000 Held at the University of Aberdeen 2–4 August 2000 / ed. by C. Ó Baoill & N. McGuire. Aberdeen, 2002. P. 185–212; Idem. Political Organization of Dal Riata / / Tome. Studies in Medieval Celtic History and Law in Honour of Thomas Charles-Edwards/ ed. by F. Edmonds & P. Russell. The Boydell Press, 2011. P. 41–52.
(обратно)8
Dumville D. Cetri primchenéla Dál… P. 170–173.
(обратно)9
Dumville D. Cetri primchenéla Dál… P. 172. Fraser J. From Caledonia to Pictland… P. 146.
(обратно)10
Tекст списка H с учетом разночтений со списками В и L, а также редакция McF опубликованы: Bannerman J. Senchus Fer n-Alban // Celtica. 1966. Vol. 7. P. 154–157,157-159.
(обратно)11
Bannerman /. Studies in the History of Dalriada. Edinburgh, 1974.
(обратно)12
Bannerman J. Senchus Fer n-Alban… P. 152.
(обратно)13
Баннерман, в частности считает что выражение «gabsat Albain» (буквально «овладеть Альбой») не могло появиться ранее середины IX в., поскольку до этого времени Альба была синонимом Британии и только при первых Алпинидах приобрела более узкое значение, относящееся к владениям гэло-пиктской монархии Алпинидов. Bannerman /. Studies in the… Р. 118–119.
(обратно)14
Например, Loam Вес (Ирландия) и Loarn Мог (Шотландия); Fergus Вес (Ирландия) и Fergus Мог (Шотландия) и ряд других комбинаций, в отличие от остальных неподдающихся идентификации, BannermanJ. Senchus Fern-Alban… P. 154–157.
(обратно)15
Bannerman /. Studies in the… Р. 120.
(обратно)16
Наиболее поздние варианты таких генеалогий позиционируют Фергуса мак Эрка в качестве десятого (Genelaig Albanensium) и пятнадцатого (соответствующие списки в Rawlinson В. 502) потомка Кайрпре Риаты – основателя септа Дал Риата. Во всех списках, кроме McF, такое соотнесение отсутствует. Bannerman J. Senchus Fer n-Alban… P. 157.
(обратно)17
Bannerman J. Senchus Fer n-Alban… P. 155.
(обратно)18
Более подробно об этом: Bannerman J. Studies in the… P. 62–64; 108–111.
(обратно)19
В тексте упоминается Эоха Муйнремор – дед Фергуса и собственно род Эрков; Эрк мак Эхдах – отец Фергуса присутствует в описании, таким образом, лишь незримо.
(обратно)20
Речь идет о фрагменте из знаменитой истории о «сыновьях Конайре» или в другом варианте «семени Конайре». Основная, бытовавшая к рассматриваемому периоду версия опубликована: Gwynn L. De Moccaib Conaire // Ériu. 1912. Vol. 6. P. 144–152; Gwynn L. De SíL Chonairi Mór // Ériu. 1912. Vol. 12. P. 130–142; Irish Liber Hymnorum / Ed. by J. Bernard. London, 1898. N. 33; тексты житий св. Фехина (ум. 660): Strokes W. Life of St. Fechin of Fore 11 Revue Celtique. 1891. Vol.12. P. 318–353; Follet W. Céli Dé in Ireland. Monastic Writing and Identity in the Early Middle Ages. Woodbridge, 2006.
(обратно)21
Факт отцовства Конайре Великого был небесспорен: речь идет о том, что в другой версии легенды родоначальники этих септов были сыновьями Конайре Коэма, который приходился правнуком Кайрпре Фармоару, одному из сыновей Конайре Великого. Конайре Коэм известен как «отец трех Койрпре» (Na Tri Coirpri).
(обратно)22
Мунстерская династия, основанная \ Эоганом Мором, сыном полулегендарного правителя Айлила Оллума, доминировала в Мунстере в период с V–XVI в.
(обратно)23
Gwynn L.De Moccaib Conaire… P. 144–152; Gwynn L. De SiL Chonairi… P. 130–142.
(обратно)24
Различные версии элегии датируются началом VII–VIII вв. Leabhar Buidhe Lecain, or Yellow Book of Lecan: фрагмент I и II (col. 1–2, P. 436–437 и col. 125–128, P. 434–435); Stokes W. The Bodleian Amra Choluimb Chille // Revue Celtique. 1899. Vol. 20. P. 31–55, 132–183, 248–289, 400–437; Vernam E. Amra Choluim Chille // Zeitschrift fur Celtische Philologie. 1961. Vol.28. P. 242–51; Fergus K. A Poem in Praise of Columb Cille // Ériu. 1973. Vol. 24. P. 1–34.
(обратно)25
BannermanJ. Studies in the… P. 44.
(обратно)26
Stokes W. The Bodleian Amra… P. 43.
(обратно)27
Bannerman J. Studies in the… P. 44, 122–124; Bannerman J. Senchus Fer n-Alban… P. 222–224 (датировка); 254–255 (упоминаемые в тексте топонимы)
(обратно)28
См. по этому поводу замечание Д. Баннермана: Bannerman J. Studies in the… Р. 119.
(обратно)29
Львова Э. А., Октябрьская И. В., Сагалаев А. М., Усманова М. С. Традиционное мировоззрение тюрков Южной Сибири: Человек. Общество. Новосибирск, 1989. С. 113.
(обратно)30
Кляшторный С. Г. Генеалогия и хронология западнотюркских и тюргешских каганов VI–VIII вв. // Из истории дореволюционного Киргизстана. Фрунзе, 1985. С. 9–11.
(обратно)31
Его же. Каган, беги и народ в памятниках тюркской рунической письменности // Ученые записки АГУ. 1984. Вып. 25(9). С. 16–25.
(обратно)32
Гумилев Л. Н. Древние тюрки. М., 2003. С. 108.
(обратно)33
Pritsak О. Karachanidische Streitfrage // Oriens. Vol. 3. N. 2.1950. S. 41.
(обратно)34
Камалов А. К. Древние уйгуры VIII–IX вв. СПб., 2001. С. 61–70.
(обратно)35
Lui Mau-tsai. Die chinesischen Nachrichten zur Geschichte der Ost-Turken (T' u-kue), Wiesbaden, 1958. S. 66–71.
(обратно)36
Зуев Ю. А. Создание Тюргешского каганата: история и традиция // Эволюция государственности Казахстана. Алматы, 1996. С. 39–48.
(обратно)37
Виденгрен Гео. Мани и манихейство./ пер. с нем. С. В. Иванова. СПб., 2001. С. 41–47.
(обратно)38
Бартольд В. В. Киргизы. Исторический очерк // Соч., Т. II. 4.1. М., 1963. С. 34, 78.
(обратно)39
Otto of Freising. Chronica sive historia de duabus civitatibus, ed. A. Hofmeister, MGH SRG in usum scholarum separatim editi 45. Hannover, 1912. P. 6–9.
(обратно)40
Ibid. P. 56–57.
(обратно)41
Otto of Freising, Chronica sivé historia… P. 65–67 et passim.
(обратно)42
Ibid. P. 99–100.
(обратно)43
Ibid. P. 141–143.
(обратно)44
Ibid. P. 180–192.
(обратно)45
Ibid. P. 218–237.
(обратно)46
Ibid. P. 244–258.
(обратно)47
Ibid. P. 262–285.
(обратно)48
Otto of Freising. Chronica sivé historia… P. 290–291.
(обратно)49
C. Mierow (ed. and trans.). The Deeds of Frederick Barbarossa. New York, 1966. P. 3–4.
(обратно)50
Otto of Freising. ‘Ottonis Gesta Friderici I. imperatoris’, in Georg Waitz and Bernhard von Simson (eds.), MGH SRG in usum scholarum separatim editi 46, Ottonis et Rahewini Gesta Friderici I. imperatori. Hannover, 1912. P. 1–161, atp. 136–139; Rahewin of Freising. ‘Rahewini Gesta Friderici I. imperatoris’, in Georg Waitz and Bernhard von Simson (eds.), MGH SRG in usum scholarum separatim editi 46. Ottonis et Rahewini. Gesta Friderici I. imperatoris. Hannover, 1912. P. 162–346, at p. 202–204.
(обратно)51
Otto of Freising. ‘Gesta Friderici’. P. 44–47,135–139.
(обратно)52
Rahewin of Freising. ‘Gesta Friderici’. P. 172–179.
(обратно)53
Otto Mořena. ‘Ottonis Morenae eiusdemque continuatorum Libellus de rebus a Frederico imperatore gestis’, in F.-J. Schmale (ed. and trans.), Italische Quellen iiber die Taten Kaiser Friedrichs I. in Italien und der Brief iiber den Kreuzzug Kaiser Friedrichs I. Darmstadt, 1986. P. 34–239, at s. 60–62.
(обратно)54
Anonymus. Carmen de gestis Frederici I. imperatoris in Lombardia, ed. I. Schmale-Ott, MGH SRG 62. Hannover, 1965. P. 3, 23.
(обратно)55
Rahewin of Freising. ‘Gesta Friderici’. P. 187–188.
(обратно)56
Godfrey of Viterbo. ‘Pantheon’, in Georg Heinrich Pertz and Georg Waitz (eds.), MGH SS 22, Historici Germaniae saec. XII, 2. Hannover, 1872. P. 107–307, atp. 221–222.
(обратно)57
/. Dendorfer. ‘Konrad III. und Byzanz’, in K.-H. Ruefi (ed.), Die Staufer und Byzanz. Góppingen, 2013. P. 58–73, at p. 68–69; K. Gorich. ‘Friedrich Barbarossa und Byzanz’, in K.-H. Ruefi (ed.), Die Staufer und Byzanz. Góppingen, 2013. P. 74–85, at p. 75.
(обратно)58
K. Gorich. Friedrich Barbarossa: Eine Biographie. Munich, 2011. P. 56, 90-110.
(обратно)59
Ibid. P. 418–424.
(обратно)60
F. Hausmann. ‘Gottfried von Viterbo: Kapellan und Notar, Magister, Geschichtsschreiber und Dichter’, in A. Haverkamp (ed.), Friedrich Barbarossa. Handlungsspielráume und Wirkungsweisen des staufischen Kaisers. Sigmaringen, 1992. P. 603–621, atp. 605-68, 614–615.
(обратно)61
Otto of Freising. ‘Gesta Friderici’. P. 103.
(обратно)62
Godfrey of Viterbo. ‘Speculum regum’, in Georg Heinrich Pertz and Georg Waitz (edd.), MGH SS 22, Historici Germaniae saec. XII, 2. Hannover, 1872. S. 21–93, at p. 68–69.
(обратно)63
Ibid. P. 80–81; Godfrey of Viterbo. ‘Pantheon’. P. 175.
(обратно)64
Godfrey of Viterbo. ‘Pantheon’. P. 175–177.
(обратно)65
Ibid. P. 156–157.
(обратно)66
Ibid. P. 201–202.
(обратно)67
Godfrey of Viterbo. ‘Speculum regum’, p. 90–91; Godfrey of Viterbo, ‘Pantheon’. P. 205.
(обратно)68
Godfrey of Viterbo. ‘Pantheon’. P. 206–207.
(обратно)69
Ibid. P. 225.
(обратно)70
O. Engels. ‘Friedrich Barbarossa im Urteil seiner Zeitgenossen’, in O. Engels (ed.), Stauferstudien. Stuttgart, 1996. P. 225–245, atp. 243.
(обратно)71
E. Miiller-Mertens. Regnum Teutonicum. Berlin, 1970. S. 316–317, 329–341, 350, 376–377.
(обратно)72
Otto Mořena. Xibellus’. P. 60–62; Anonymus. Carmen. P. 3, 8 et passim; Anonymus. ‘Civis Mediolanensis anonymi Narratio de Longobardie obpressione et subiectione’, in F.-J. Schmale (ed. and trans.), Italische Quellen iiber die Taten Kaiser Friedrichs I. in Italien und der Brief iiber den Kreuzzug Kaiser Friedrichs I. Darmstadt, 1986. S. 240–295, at s. 242.
(обратно)73
Anonymus. Carmen. P. 63–64, 67–70, 91.
(обратно)74
Palachy F. Dějiny národu Českého w Čechách a w Moravě dle půwodních pramenů. Díl III. Částek I. Praha, 1850. S. 272.
(обратно)75
Macek J. Husitské revolučně hnutí. Praha, 1952.
(обратно)76
SeibtF. Hussitica. Zur Struktur einer Revolution. Koln, Graz, 1965.
(обратно)77
Idem. Hussitenzeit ais Kulturepoche // Historische Zeitschrift. Band 195, Heft I. S. 20–21.
(обратно)78
ŠmahelF. Husitské Čechy: struktury, procesy, ideje. Praha, 2001. S. 31.
(обратно)79
Palacký F. Dějiny národu Českého… S. 272.
(обратно)80
Лаврентий из Бржезовой. Гуситская хроника. М., 1962. С. 160.
(обратно)81
Там же. С. 154–158.
(обратно)82
Niirnberger Staatsarchiv / Ansbacher Kriegsakten / Fasz. I, N. 6.
(обратно)83
EberhartWindeckesDenkwurdigkeiten… S. 136–138.
(обратно)84
Palachy F. Archív Český, čili staré písemné památky České a Moravské. Díl III. Svazek I. Praha, 1844. S. 217–218.
(обратно)85
Bartoš F. М. Z politické literatury doby husitské // Sborník historický. T. V. Praha, 1957. S. 52–53, 66.
(обратно)86
Wyss A. Eberhard Windecke und sein Sigmundbuch 11 Centralblatt fur Bibliothekwesen, Jahrgang 11, Heft 10–11.1894. S. 476.
(обратно)87
EberhartWindeckesDenkwurdigkeiten… S. 135.
(обратно)88
Подробно о становлении социопрофессиональных корпораций см.: Паламарчук А. А. Цивильное право в раннестюартовской Англии: институты и идеи. СПб.: Алетейя, 2015; Паламарчук А. А, Федоров С. Е. Антикварный дискурс в раннестюартовской Англии. СПб.: Алетейя, 2013; Паламарчук А. А. Цивилисты в раннестюартовской Англии. Юридическая корпорация в поисках национальной идентичности // Вестник Санкт-Петербургского университта. Серия 2. История. Вып. 4. СПб., 2012. С. 60–68.
(обратно)89
Dugdale W. Dugdale Origines Juridiciales, or. Historical Memorials od the English laws, courts of Justice.. Inns of court and Chancery. L, 1680.
(обратно)90
Ridley Th. A View of the Civile and Ecclesiastical Law. London:, 1607. P. 3–56.
(обратно)91
Duck A. De FUsage et de FAutorite du Droit Civil Dans les Etats des Princes Chretiens. Traduit du Latin. Paris, 1689. P. 1–82.
(обратно)92
Fulbecke W. A. Parallel or Conference of the Civil Law, the Canon Law and the Common Law in this Realme of England. London, 1601–1602. To the Reader.
(обратно)93
Craig Th. Thomae Craigi de Riccarton Jus Feudale. Lipsiae, 1716. P. 12–43.
(обратно)94
Fulbecke W. A. Op. cit. То the Reader.
(обратно)95
Ibid.
(обратно)96
Ibid.
(обратно)97
Davies J. A discovery of the true cause why Ireland was never brought under obedience of England // Historical Tracts of Sir John Davies, Attorney general of Ireland and Speaker of the House of Commons in Ireland. Dublin, 1787. P. 1–227.
(обратно)99
Gentili A. Alberici Gentilis De Armis Romanis Libri Duo. Hanoviae, 1612. P. 93.
(обратно)100
Fulbecke W. A. Op. cit. To the Reader.
(обратно)101
Ibid.
(обратно)102
В современной европейской историографии труду Дака посвящено лишь несколько работ. Среди них следует отметить следующие: Horn N. Rómisches Recht ais Gemeineuropeisches Recht bei Artur Duck // Studien zur Europáischen Rechtsgeschichte. Frankfurt, 1972. S. 171–180; Wijffels A. Arthur Duck et le ius commune européen // Revue d‘histoire des facultés de droit et de la science juridique. 1990 № 10–11. P. 193 -22; Santos F. J. A. ‘Jus commune’ vs ‘Common law’ en el siglo XVII: el caso de Arthur Duck // Anuario da facultade de dereito da universidade da coruna. 2003. № 7. P. 63–104; Marzec L. De Usu et Authoritate Juris Civilis Romanorum – podrz^dna rozprawa czy dzielo šwiatowej romanistyki? // Zeszyty prawnicze. 2006. № 6.1. S. 145–157; Marzec L. Artur Duck, De Usu et Authoritate Juris Civilis Romanorum in Regno Galliarum. Przegląd bazy bibliograficznej // Zeszyty prawnicze. 2008. № 8.1. S. 141–150.; Marzec L. Prawo rzymskie w dawnej Anglii w šwietle pog4dów Artura Ducka // Zeszyty prawnicze. 2006. № 6.2. S. 117–136.
(обратно)104
Duck A. Op. cit. P. 15.
(обратно)105
Ibid. P. 18.
(обратно)106
Ibid. P. 26.
(обратно)107
Ibid. P. 27.
(обратно)108
Ibid. P. 25.
(обратно)109
Ibid. P. 22–23.
(обратно)110
Duck A. Op. cit. Р. 305.
(обратно)111
Ibid. Р. 309.
(обратно)112
Ibid. Р. 320.
(обратно)113
Вакарий (1120–1205) – болонский юрист, изучал право одновременно с Мартином Госией. Теобальд, архиепископ Кентерберийский, пригласил его в Англию для помощи в организации церковной администрации. Около 1143 г. (то есть на несколько лет раньше, чем полагает Дак вслед за Дюшеном) Вакарий прибывает в Англию и занимает должность архидиакона провинции Кентербери. Через несколько лет Роджер, архиепископ Йорка, переманивает Вакария в собственную епархию. Вакарий неоднократно исполнял в Англии функции папского судьи – делегата. Кроме того, между 1156 и 1170 гг. он написал трактат о заключении церковного сакраментального брака. Вопреки легенде, которую предлагает читателю Дак, до сих пор неясно, преподавал ли Вакарий право в Оксфорде. Утверждение о том, что Вакарий вообще занимался в Англии преподаванием, основывается на кратком высказывании Иоанна Солсберийского. Последний, рассказывая о попытке короля Стефана запретить преподавание римского права, говорит, что «запрет коснулся и нашего Вакария». См.: Brundage J. А. The Medieval Origins of the Legal Profession. Vol.l. Canonists, civilians and courts. Chicago: Chicago University Press, 2008. P. 115.
(обратно)114
Duck A. Op. cit. P. 320.
(обратно)115
Ibid. P. 322.
(обратно)116
Ibid. P. 322–324.
(обратно)117
Ibid. P. 328.
(обратно)118
Duck A. Op. cit. Р. 334.
(обратно)119
Ibid. Р. 337–338.
(обратно)120
: Location_of_Xiangxi_
Prefecture_within_Hunan_%28China%29. png (date of access: 12.06.2015).
(обратно)121
Leo Kwok-yueh Shin, The Making of the Chinese State: Ethnicity and Expansion on the Ming Borderlands. Cambridge, 2011.
(обратно)122
Thomas Mullaney, Coming to Terms with the Nation: Ethnic Classification in Modern China. Berkeley, 2010.
(обратно)123
Magnus Fiskesjo, “On the Raw and the Cooked Barbarians of Imperial China”, Inner Asia, vol. 1, no. 2,1999, P. 139–168.
(обратно)124
Xin Luo, “Imperial Transformation and Mountain Retreat: A General Study on the History and Fate of Southern Barbarians in Early Medieval China”, Historical Research, vol. 2, P. 4–20.
(обратно)125
Songshu-Yiman Zhuan《宋书夷蛮传》(The Book of Song: Biography of Barbarians).
(обратно)126
Hou Han Shu-Nan Man Zhuan《后汉书·南蛮传》(Book of the Latter Han: Treatise on the Southern Barbarians).
(обратно)127
Sui Shu – Di Li Zhi Xia《隋书地理志下》(Book of Sui: Geography II).
(обратно)128
Jing yi Jishi-Bian Lue Si《靖夷纪事 边略四》(Records of Barbarians in Jiaqing Period, 1552–1578: Frontier Strategies IV).
(обратно)129
Magnus Fiskesjo, “The Southern Great Wall and the Question of the Miao Barbarians”, Conference Paper Presented on the Fourth International Conference on Sinology, June 20–22, 2012.
(обратно)130
Xiaohui Xie, «The Empire on the Miao Margins: Social Structure, Rituals and Ethnic Groups in Western Hunan in Qing Dynasty», Journal of History and Anthropology, Vol. 11, no. 1, P. 51–88.
(обратно)131
Исхаков Д. М., Измайлов И. Л. Этнополитическая история татар (II – середина XVI вв.). Казань, 2007. С. 3.
(обратно)132
Султанов И. Р. Право народов на самоопределение и опыт его реализации: политико-правовой анализ: дис. канд. полит, наук. М., 2001. С. 17.
(обратно)133
Канжунгу Ожвалду Жозе. Особенности самосознания африканцев в контексте родовых традиций и современных тенденций образования этноса (на материалах изучения менталитета ангольцев): Автореф. дне. канд. псих. наук. М., 2011. С. 3, 5.
(обратно)134
Волжская Булгария – небольшое государство, существовавшее в Среднем Поволжье в Х-XIII вв. В настоящее время её образ представляет собой одну из важнейших составляющих татарской национальной истории.
(обратно)135
Исхаков Д. М., Измайлов И. Л. Этнополитическая история татар… С. 49.
(обратно)136
Исхаков Д. М., Измайлов И. Л. Этнополитическая история татар… С. 54
(обратно)137
Подробнее см.: Овчинников А. В. «Народы» в реалиях традиционной культуры: объективная реальность или «главный миф» национальных историй? // Вестник Казанского технологического университета. 2014. Т. 17. № 18. С. 307–312.
(обратно)138
Рэдклифф-Браун А. Р. Структура и функции в примитивном обществе. Очерки и лекции. М., 2001. С. 182.
(обратно)139
Там же. С. 184, 185.
(обратно)140
Топычканов 17. В. Формирование статуса религиозных меньшинств Южной Азии во второй половине XX – начале XXI веков (на примере Индии и Пакистана): дис. канд. ист. наук. М., 2009. С. 42.
(обратно)141
Иноземцев В. А. Испытание культурой // Сейла Бенхабиб. Притязания культуры. Равенство и разнообразие в глобальную эру. М., 2003. С. XI.
(обратно)142
Для работы с текстами Макиавелли использовался электронный сайт , основанный на итальянских изданиях его трудов 1971–1972 гг.; «История Италии» Гвиччардини цитируется в переводе автора статьи по изданию: Guicciardini F. Storia dltalia / А сига di Silvana Seidel-Menchi. Torino, 1971.
(обратно)143
Цит. по: Самоопределение и независимость Эстонии / под ред. А. Бертрико. Таллинн, 2001. С. 12.
(обратно)144
Там же. С. 13.
(обратно)145
Vanneufville Е. Histoire de Flandre. Fouesnant, 2009. P. 33.
(обратно)146
Свечин А. Эволюция военного искусства. М., 2002. Рольф Фальтер считает, что погибших было около 120. См.: Falter R. Belgiě: een geschiedenis zonder land. Antwerpen, 2011. P. 107.
(обратно)147
Falter R. Belgiě. P. 268.
(обратно)148
De Vries J. et al Het verhaal van een taal. Amsterdam, 1993. P. 115.
(обратно)149
Цит. по: BeheydtL. Delen Vlaanderen en Nederland een culturele identiteit? / / Vlaamse identiteit: mythe én werkelijkheid. Leuven, 2002. P. 29.
(обратно)150
Reynebeau M. Het klauwen van de leeuw. Leuven, 1995. P. 113.
(обратно)151
De Vries J. et al. Het verhaal van een taal. P. 113.
(обратно)152
Luykx Th.j Platel М. Politieke geschiedenis van Belgiě 1789–1985. Mechelen, 1985. P. 162.
(обратно)153
Falter R. Belgiě. P. 340.
(обратно)154
Намазова А. С. Бельгия. Эволюция государственности в XVIII–XX веках. М., 2008. С. 307.
(обратно)155
Falter R. Belgiě. Р. 352.
(обратно)156
Цит. по: Семиряга М. И. Коллаборационизм. Природа, типология и проявления в годы Второй мировой войны. М., 2000. С. 50.
(обратно)157
Там же. С. 362.
(обратно)158
Velaers/., Van Goethem Н. Leopold III: de koning, het land, de oorlog. Lannoo, 2001. P. 921.
(обратно)159
Falter R. Belgiě. P.381.
(обратно)160
Vos L. Van Belgische naar Vlaamse identiteit // Vlaamse identiteit: mythe én werkelijkheid. Leuven, 2002. P. 18.
(обратно)161
Falter R. Belgiě. Р. 393.
(обратно)162
Brown G. W. Canada in the making. Seattle, 1953. P. VI.
(обратно)163
Ibid. P. 5.
(обратно)164
Ross M. The impossible sum of our traditions: reflections of Canadian literature. Toronto, 1986. P. 120.
(обратно)165
Greening W. Е. Canada’s slow road to national maturity // Culture. Vol. 17. № 3.1956. P. 247.
(обратно)166
Ibid. P. 248.
(обратно)167
Dansereau P. Culture is what we are concerned with // Canadian Commentator. Vol. 1. № 9.1957. P. 6.
(обратно)168
Garner H. The phony cult of canned Canadianism // Macleans. Vol. 73. 21 May 1960. P. 8.
(обратно)169
Hutchison В. The Canadian personality // Our sense of identity: a book of Canadian essays / Ed. byM. Ross. Toronto, 1954. P. 45.
(обратно)170
Ibid.
(обратно)171
Innis H. A. Great Britain, the United States and Canada // Innis M. Q. (ed.) Essays in Canadian economic history. Toronto, 1956.
(обратно)172
Lower A. R. М. The question of the national television // Canadian Forum. Vol. 34. March 1955. P. 274–275.
(обратно)173
Sharp M. Learning to be a Canadian // Queen's Quarterly. Vol. 72. Summer 1965. P. 305.
(обратно)174
Fulford R. One Canadian’s plea for a new Canadian purpose // Macleans. Vol. 75. 6 October 1962. P. 22.
(обратно)175
MacLennan H. Can we stay Canadian? // Canadian Library Journal. Vol. 18. № 6.1962. P. 242.
(обратно)176
Grant G. Lament for a Nation: the defeat of Canadian nationalism. 40th anniversary ed. Montreal-Kingston, 2005. P. 4.
(обратно)177
Ibid. P. 40.
(обратно)178
Ibid. P. 7.
(обратно)179
Ibid. P. 43.
(обратно)180
Ibid. P. 46.
(обратно)181
Taylor С. Radical Tories. Halifax: Formac Publishing Company, 1984. P. 48.
(обратно)182
Ibid.
(обратно)183
Цит. no: Azzi S. Walter Gordon and the rise of Canadian Nationalism. Montreal-Kingston, 1999. P. 127.
(обратно)184
Цит. по: MacKey Е. The house of difference: cultural politics and national identity in Canada. Toronto, 2002. P. 9.
(обратно)185
Resnick P. The European roots of Canadian identity. Toronto, 2005. P. 11.
(обратно)186
Мирасий Г. И. Международные отношения на Ближнем Востоке // Азия и Африка в современной мировой политике. М., 2012.
(обратно)187
Friday prayers at Tehran University // URL: . php?p=contentShow&id=7774 (дата обращения – 16.11.2012).
(обратно)188
US defeats in region to continue // URL: . php?p=contentShow&id=7901 (дата обращения – 18.11.2012).
(обратно)189
Vigilance movements to continue to very heart of Europe // URL: / en/index.php?p=contentShow&id=8049 (дата обращения – 04.05.2011).
(обратно)190
Friday prayers at Tehran University // URL: . php?p=contentShow&id=7774 (дата обращения – 16.11.2012).
(обратно)191
Supreme Leaders Inaugural Speech at the 16th Non-Aligned Summit // URL: http://www. leader.ir/langs/en/index.php?p=contentShow&id=9708 (дата обращения – 30.08.2012).
(обратно)192
«West seeks to defeat Muslim’s revolutions» // URL: . php?p=contentShow&id=8585 (дата обращения – 16.11.2012).
(обратно)193
Supreme Leader Meets with Teachers and Professors of North Khorasan // URL: http://www. leader.ir/langs/en/index.php?p=contentShow&id=10017 (дата обращения – 11.10.2012).
(обратно)194
Supreme Leader’s Speech in Meeting with Participants of International Congress on Takfirism // URL: = 12682 (дата обращения – 25.11.2014).
(обратно)195
Imam Khomeini, father of Islamic Awakening // URL: . php?p=contentShow&id=9483 (дата обращения – 25.11.2012).
(обратно)196
Встреча руководителей режима и гостей конференции исламского единства // URL: (дата обращения – 19.01.2014).
(обратно)198
Meeting with young Muslims from 73 countries // URL: . php?p=contentShow&id=9066 (дата обращения – 28.11.2012).
(обратно)199
Жабрева А. Монументальное описание России. Народы страны в год ее тысячелетия // Паули Г.-Т. Этнографическое описание народов России. М., 2007. С. III.
(обратно)200
Шангина И. И. Славянский мир на Этнографической выставке 1867 года // Славянский мир. Этнографическая выставка 1867 года. СПб., 2000. С. 7–21.
(обратно)201
Там же. С. 8.
(обратно)202
Шангина И. И. Указ. соч. С. 16.
(обратно)203
Могилянский Н. М. Русские этнографические музеи и собрания. II Этнографический отдел Русского музея Императора Александра III // Живая старина. 1911. Кн. 4. С. 476–477.
(обратно)204
Станюкович Т. В. Этнографическая наука и музеи (по материалам этнографических музеев академии наук). Л., 1978. С. 139–140.
(обратно)205
Ледовских А. Ю. Сибирский «инородческий вопрос» на страницах российской журнальной прессы во второй половине XIX – начале XX вв.: дисс. канд. исторических наук. Омск, 2008. С. 43–98.
(обратно)206
Максимов С. О русских людях. Рассказ второй. СПб., 1865. С. 22.
(обратно)207
ПСЗ РИ. Изд. 2-е. Т. 36. Ч. 1. СПб., 1861. С. 130.
(обратно)208
Ковалик С. Ф. Революционное движение семидесятых годов и Процесс 193-х. М., 1928. С. 42–43.
(обратно)209
РГИА. Ф. 1280. On. 1. Д. 922. Л. 10–11.
(обратно)210
Коцюбинский Д. А. Русский национализм в начале XX столетия: рождение и гибель идеологии Всероссийского национального союза. М., 2001. С. 30.
(обратно)211
Коцюбинский Д. А. Указ. соч. С. 30.
(обратно)212
РГИА. Ф. 1280. On. 1. Д. 1085. Л. 2, 3.
(обратно)213
Санкт-Петербургские ведомости. № 174. 2 августа 1914 г. С. 4.
(обратно)214
Коцюбинский Д. А. Указ. соч.
(обратно)215
Рерих Н. К. Алтай-Гималаи: дневники, статьи. М., 2010. С.60.
(обратно)216
Рерих Н. К. Указ. соч. С. 53.
(обратно)217
Там же. С. 60.
(обратно)218
Там же. С. 197.
(обратно)219
Там же. С. 101.
(обратно)220
Там же. С. 215.
(обратно)221
Там же. С. 16.
(обратно)222
/\аркина А. В. Национальное в литературном творчестве Николая Рериха // Российский журнал исследований национализма. № 2. 2012. С. 90.
(обратно)223
Рерих Н. К. Указ. соч. С. 217.
(обратно)224
Рерих Н. К. Указ. соч. С. 63.
(обратно)225
Там же. С. 497.
(обратно)226
Там же. С. 49.
(обратно)227
Там же. С. 240.
(обратно)228
Там же. С. 575.
(обратно)229
Рерих Н. К. Указ. соч. С. 85.
(обратно)230
Там же. С. 362.
(обратно)231
Там же. С. 374.
(обратно)232
Там же. С. 466.
(обратно)233
Там же. С. 148.
(обратно)234
Там же. С. 218.
(обратно)235
Рерих Н. К. Указ. соч. С. 65.
(обратно)236
Там же. С. 82.
(обратно)237
Там же. С. 100.
(обратно)238
Там же. С. 100–101.
(обратно)239
Там же. С. 181.
(обратно)240
Рерих Н. К. Указ. соч. С. 286.
(обратно)241
Андерсен Б. Западный национализм и восточный национализм: есть ли между ними разница? URL: (дата обращения – 12.02.2015)
(обратно)242
Даркина А. В. Указ. соч. С. 85.
(обратно)243
Там же.
(обратно)244
Статья подготовлена при поддержке РГНФ (грант 15-33-01392 «Мультикультурные сообщества: модели коммуникации и формы идентичности»).
(обратно)245
Щедровицкий П. Г. Русский мир и Транснациональное русское // URL: / politics/meta/20000302_schedr.html (дата обращения: 19.05.2015).
(обратно)246
Выступление Президента Российской Федерации В.В.Путина на Конгрессе соотечественников. 11.10.01 // URL: (дата обращения: 19.05.2015).
(обратно)247
Вступительное слово на Всемирном конгрессе соотечественников, проживающих за рубежом 24.10.06 // URL: (дата обращения: 19.05.2015).
(обратно)248
Послание Федеральному Собранию Российской Федерации 26.04.07 // URL: http://www. kremlin.ru/events/president/transcripts/24203 (дата обращения: 19.05.2015).
(обратно)249
Русский проект во Всемирной паутине. Иван Демидов: «Русские в России живут вечно и вечно только начинаются!» // URL: (дата обращения: 19.05.2015).
(обратно)250
Путин В. В. Россия: национальный вопрос// Независимая газета. 23.01.2012 // URL: http:// -01-23/l_national.html (дата обращения: 19.05.2015).
(обратно)251
Путин угрожал Западу ядерным оружием из-за Крыма. 15.03.2015 // URL: http://www. bbc.co.uk/ russian/russia/2015/03/150315_putin_crimea_documentary (дата обращения: 19.05.2015).
(обратно)252
Обращение Президента Российской Федерации. 18.03.2014 // URL: / events/president/news/20603 (дата обращения: 19.05.2015).
(обратно)253
Прямая линия с Владимиром Путиным. 17.04.2014 // URL: / president/news/20796 (дата обращения: 19.05.2015).
(обратно)254
Мария Захарова. Keine Russen da // URL: / (дата обращения: 19.05.2015).
(обратно)255
Ремизов М. Реставрация «русского» // «Эксперт». 2014. № 48 (925), 24.11.2014 // URL: -russkogo (дата обращения: 19.05.2015).
(обратно)256
Отбой. 12.09.2014 // URL: / (дата обращения: 19.05.2015).
(обратно)257
Послание Президента Федеральному Собранию // URL: / president/news/47173 (дата обращения: 19.05.2015).
(обратно)258
Концерт, посвящённый воссоединению Крыма и Севастополя с Россией. 18.03.2015 года //URL: (датаобращения: 19.05.2015).
(обратно)259
Российское общество в контексте новых реалий. Институт социологии РАН // URL: http:// (дата обращения: 19.05.2015).
(обратно)260
Простаков С. «Мы – русские! С нами власть!» // Newtimes. 2015. № 10 (361), 30.03.2015 // URL: (дата обращения: 19.05.2015).
(обратно)261
Брубейкер Р. Этничность без групп. М., 2012. С. 81–88.
(обратно)262
Блум Я.-П. Этническая и культурная дифференциация // Этнические группы и социальные группы. Социальная организация культурных различий / Под ред. Ф. Барта. М., 2006. С. 91.
(обратно)263
Брубейкер Р. Этничность без групп. С. 28.
(обратно)264
Крым и расширение российских границ // URL: -03-2015/krym-i-rasshirenie-rossiiskikh-granits (дата обращения: 19.05.2015).
(обратно)265
The Cambridge Old English Reader, ed. R. Marsden. Cambridge, 2004. P. 335–344. All quotations from Wife's Lament and Wulf and Eadwacer are from the same. Modern English translations are mine.
(обратно)266
R. F. Leslie. Three Old English Elegies: The Wife's Lament, The Husband's Message, The Ruin. Manchester, 1961. P. 11.
(обратно)267
A. Hall. 'The Images and Structure of The Wife’s Lament’ / / Leeds Studies in English. 2002. NS 33. P. 1–29, at P. 5.
(обратно)268
K. Hume. 'The Conception of the Hall in Old English Poetry’ // Anglo-Saxon England. 3, 1974. P. 63–74, at P. 64.
(обратно)269
A. L. Klinck. 'Animal Imagery in Wulf and Eadwacer and the Possibilities of Interpretation’, Papers on Language & Literature 23.1 (1987). P. 5–6.
(обратно)270
P. Belanoff. ‘Ides…geomrode giddum: the Old English Female Lament’, in A. L. Klinck and A. M. Rasmussen (eds.), Medieval Woman’s Song: Cross-cultural Approaches, Philadelphia, 2001. P. 29–46, at P. 32.
(обратно)271
H. Scheck. ‘Seductive Voice: Rethinking Female Subjectivities in The Wife’s Lament and Wulf and Eadwacer’, Literature Compass 5.2 (2008). P. 220–227, atP. 223.
(обратно)272
B.R. Straus. ‘Women’s Words as Weapons: Speech as Action in The Wife’s Lament’, in К О. O'Keeffe (ed.), Old English Shorter Poems: Basic Reading (New York, 1994). P. 335–356, at P. 337.
(обратно)273
H. Scheck. Op. Cit. P. 224.
(обратно)274
Ibid.
(обратно)275
Ibid.
(обратно)276
Гальфрид Монмутский. История бриттов. Жизнь Мерлина / послеслов. А. Д. Михайлова. М., 1984. С. 19.
(обратно)277
Там же. С. 20.
(обратно)278
Chibnall М. The Empress Matilda: Queen Consort, Queen Mother and Lady of the English. Oxford, 1991. P. 32.
(обратно)279
Гальфрид Монмутский. Ук. соч. С. 25.
(обратно)280
Ashley L. R. N. Authorship and Evidence: A Study of Attribution and the Renaissance Drama Illustrated by the Case of George Peele (1556–1596). Geneve, 1968. P. 68.
(обратно)281
Supplement to the edition of Shakespeare’s plays: In 2 vols. Vol. 2. London, 1778. P. 189–190.
(обратно)282
B. K. Çağlar & F. N. Çamlıbel, ‘10th Year Anthem’, 1933. / Onuncu_Y%C4%B1l_Mar%C5%9F%C4%B1 (date of access – 30.05.2015).
(обратно)283
A. H. Tanpınar, 19. Asır Türk Edebiyatı Tarihi [History of 19th Century Ottoman Literature]. İstanbul, 2001. P. 296; Y. Ecevit, Türk Romanında Postmodernist Açılımlar [Postmodernist Approaches in Turkish Novel]. Istanbul, 2001. P. 83; R. Finn, Türk Romanı İlk Dönem. 1872–1900 [Early Turkish Novel, 1872–1900], T. Uyar (trans), İstanbul, 2003 [published in 1984 in English].
(обратно)284
Vartan Pasha, Akabi Hikayesi İlk Türkçe Roman [Akabi’s Story The First Novel in Turkish Language], ed. A. Tietze, İstanbul, 1991 [1851].
(обратно)285
A. Mithat, Felâtun Bey and Râkım Efendi, ed. T. Şimşek, İstanbul, 1998 [1876].
(обратно)286
N. Kemal, The Awakening, Akçağ Yayınları. Ankara, 1997 [1876].
(обратно)287
R. M. Ekrem, Araba Sevdası [The Carriage Affair]. İstanbul, 1985 [1890].
(обратно)288
M. Murad, Turfanda mı yoksa Turfa mı? [The Fresh or The Kosher?]. İstanbul, 2004 [1891].
(обратно)289
A. H. Tanpınar, ‘Roman ve Romancıya Dair Notlar I’ [Notes on the Novel and the Novelist I], in Edebiyat Üzerine Makaleler [Essays on Literature]. İstanbul, 2000 [1969]. P. 59; A. H. Tanpınar, 19. Asır Türk Edebiyatı Tarihi [History of 19th Century Ottoman Literature]. İstanbul, 2001. P. 296.
(обратно)290
‘Tanzimat Firman’. Viewed on 30 May 2015, .
(обратно)291
A. H. Tanpınar, 19. Asır Türk Edebiyatı Tarihi [History of 19th Century Ottoman Literature]. İstanbul, 2001. P. 64; A. C. Issı, ‘Türk Edebiyatının Romanla Tanışması’ [Turkish Literature Meeting Novel]. Hece, vol. 65/66/67. P. 16–20.
(обратно)292
N. Kemal, ‘Mukaddeme-i Celal’, in Tanzimat Sonrası Osmanlıca Metinler [Texts in Ottoman Language after Tanzimat], ed. O. Önertoy, Ankara, 1987. P. 74–75.
(обратно)293
B. Moran, Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış [A Critical View on Turkish Novel]. İstanbul, 2004. P. 17.
(обратно)294
G. Dino, Tanzimattan Sonra Edebiyatta Gerçekçiliğe Doğru [Towards Realism in Literature After Tanzimat]. Ankara, 1954. P. 7–15.
(обратно)295
N. Kemal, ‘Bahar-ı Daniş Mukaddemesi’ [Introduction to Spring Privy]. Önertoy, 1987, P. 66–67.
(обратно)296
Ş. Mardin, ‘Tanzimat’tan Sonra Aşırı Batılılaşma’ [Super-Westernization After Tanzimat], in Türk Modernleşmesi Makaleler 4 [Turkish Modernization Essays 4]. İstanbul, 2003 [1991]. P. 21–76.
(обратно)297
V. Holbrook, The Unreadable Shores of Love. Austin, Texas, 2003. P. 12.
(обратно)298
For an elaborate discussion on the definition of “first” Ottoman/Turkish novel, see Ş. Başlı, Osmanlı Romanının İmkânları Üzerine [On the Possibilities of the Ottoman Novel]. İstanbul, 2010.
(обратно)299
A. H. Tanpınar, 19. Asır Türk Edebiyatı Tarihi [History of 19th Century Ottoman Literature]. İstanbul, 2001. P. 289.
(обратно)300
G. Dino, Türk Romanının Doğuşu [The Birth of Turkish Novel]. İstanbul, 1978. P. 185.
(обратно)301
B. Moran, Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış [A Critical View on Turkish Novel]. İstanbul, 2004. P. 17.
(обратно)302
Ş. Mardin, ‘Giriş’ [‘Introduction’], Jön Türklerin Siyasi Fikirleri 1895–1908 [Political Ideas of the Young Turks]. İstanbul, 1992. P. 17–18.
(обратно)303
Ş. Mardin. Op. cit. P. 118.
(обратно)304
‘Fecr-i Ati Edebi Beyannamesť [The Literary Maniphesto of Fecr-i Ati]. Viewed on 30 May 2015, -i-ati-encumen-i-edebisi-beyannamesi-1909/
(обратно)305
Например, Feehan J. М. The Shooting of Michael Collins: Murder Or Accident? Cork, 1991.
(обратно)306
Connacht Tribune. 1922. August 26. Р. 4.
(обратно)307
Southern Star. 1922. September 9. P. 1.
(обратно)308
Irish Independent. 1922. September 7. P. 7.
(обратно)309
Ibid. August 25. P. 4.
(обратно)310
Freemans Journal. 1922. August 24. P. 1.
(обратно)311
Freemans Journal. 1922. August 24. Р. 9.
(обратно)312
Nenagh Guardian. 1922. September 2. P. 4.
(обратно)313
Anglo-Celt. 1922. August 26. P. 1.
(обратно)314
Connacht Tribune. 1922. August 26. Р. 6; Freemans Journal 1922. August 24. P. 6.
(обратно)315
Weekly Irish Times. 1922. August 26. P. 1.
(обратно)316
Yorkshire Post and Leeds Intelligencer. 1922. August 24. P. 7.
(обратно)317
Connacht Tribune. 1922. September 9. P. 2.
(обратно)318
Freemans Journal. 1922. September 7. P. 6.
(обратно)319
Spectator. 1922. August 25. Р. 4.
(обратно)320
Irish Independent. 1939. August 21. P. 7; Ibid. 1940. August 26. P. 3; Kilkenny People. 1958. August 24. P. 1.
(обратно)321
Coogan T. P. Michael Collins: The Man Who Made Ireland. 1996. P. 14; Dwyer T. R. Michael Collins and the Civil War. 2012. P. 8.
(обратно)322
Irish Independent 1990. March 1. р. 12; Southern Star. 2013. August 31. p. 2.
(обратно)323
Байдалова Е. В. «Лицом к лицу лица не увидать?» Исследования жизни и творчества Тараса Григорьевича Шевченко // Славяноведение. № 6. 2014. С. 72.
(обратно)324
Battaglia G. Taras Szewczenko, žycie i pisma jego. Lwów, 1865. S. 5, 8, 55.
(обратно)325
Проза Гоголя. Поэтика нарратива / отв. ред. В. М. Маркович. СПб., 2011. С. 31, 78.
(обратно)326
Петров Н. И. Очерки истории украинской литературы XVIII века. Киев, 1884. С. 25–26.
(обратно)327
Русские об Украине и украинцах / отв. ред. Е. Ю. Борисёнок. СПб., 2012. С. 163.
(обратно)328
Задорожнюк Э.Г. Тарас Григорьевич Шевченко и идея славянского единения // Славяноведение. № 6. 2014. С. 59.
(обратно)329
Барабаш Ю. Я. Т. Г. Шевченко. Семантика и структура поэтического текста. М., 2011. С. 9.
(обратно)330
Барабаш Ю. А. Указ. соч. С. 74–75.
(обратно)331
Там же. С. 18, 47.
(обратно)332
Alwart /. Mit Taras Ševčenko Staat machen. Erinnerungskultur und Geschichtspolitik in der Ukraine vor und nach 1991. Kóln, 2012. S. 22.
(обратно)333
Ibid. S. 22–23.
(обратно)334
Cehelskyj L. Taras Schewtschenko als nationales Banner // Ukrainische Nachrichten. № 25.1915.
(обратно)335
Alwart j. Op. cit. S. 12–13.
(обратно)336
Ibid. S. 9-10.
(обратно)337
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 14-50-00036)
(обратно)338
Артог Ф. Типы исторического мышления: презентизм и способы восприятия времени // Отечественные записки. Журнал для медленного чтения. 5. 2004. URL: -oz. ru/2004/5 (дата обращения: 21.03.2010); Франция – память/ Нора П., Озуф М., де Пюимеж Ж., ВинокМ. СПб., 1999.
(обратно)339
Диманштейн С. М. История народов СССР и положение на фронте исторической науки // Революция и национальности. 3.1936. С. 15.
(обратно)340
Диманштейн С. М. Указ. соч. С. 25.
(обратно)341
Эйхе Р. И. Невозвратно ушло в прошлое двойное рабство трудящихся Ойротии // Красная Ойротия. 57.1936. С. 1.
(обратно)342
Потапов Л. П. Разложение родового строя у племен Северного Алтая: материальное производство. М., Л., 1935. С. 8, 12.
(обратно)343
С. М. Оседание – важнейший этап ликвидации национального неравенства // Революция и национальности. 7.1932. С. 33–39.
(обратно)344
Алтайчинов С. Биография. Путь к расцвету области. // Красная Ойротия. 1936. № 7. С. 3; Кардамонов Г. И. Прошлое – темная ночь, настоящее – солнечный день // Красная Ойротия. 121.1935. С. 3.
(обратно)345
Хмелевский В. Легенды племени Туба // Сибирские огни. 2. 1927. С. 53.
(обратно)346
Юстус У. Возвращение в рай: Соцреализм и фольклор // Соцреалистический канон / под общ. ред. X. Гюнтера и Е. Добренко. Спб., 2000. С. 70–86.
(обратно)347
Азадовский М. К. Новый фольклор // Советский фольклор. Л., 1939. С. 24.
(обратно)348
Дымшиц А. Ленин и Сталин в фольклоре народов СССР // Советский фольклор. Л., 1939.
(обратно)349
Там же. С. 92.
(обратно)350
Коптелов А. Песни алтайского народа // Красная Ойротия. 150.1936. С. 2.
(обратно)351
Сказки Васюганья / сост. М. Н. Мельников. Новосибирск, 1983. С. 39.
(обратно)352
Там же. С. 40.
(обратно)353
Там же.
(обратно)354
Там же. С. 41.
(обратно)355
Т ам же.
(обратно)356
Сказки Васюганья / сост. М. Н. Мельников. Новосибирск, 1983. С. 43.
(обратно)357
Там же. С. 55.
(обратно)358
Там же.
(обратно)359
Там же. С. 56.
(обратно)360
Русские народные сказки Сибири о богатырях / сост. Р. П. Матвеева. Новосибирск, 1979. С. 83.
(обратно)361
Сказки Васюганья / сост. М. Н. Мельников. Новосибирск, 1983. С. 61.
(обратно)362
Там же.
(обратно)363
Русские сказки Сибири и Дальнего Востока: волшебные и о животных / сост. Р. П. Матвеева, Т. Г. Леонова. Новосибирск, 1993. С. 79.
(обратно)364
Сказки Васюганья / сост. М. Н. Мельников. Новосибирск, 1983. С. 37.
(обратно)365
Русские народные сказки Сибири о богатырях / сост. Р. П. Матвеева. Новосибирск, 1979.
(обратно)366
Кулемзин В. М., Лукина Н. В. Материалы по фольклору хантов. Томск, 1978.
(обратно)367
Антология фольклора народностей Сибири, Севера и Дальнего Востока./Составление, предисловие и примечания В. М. Санги. Красноярск: Кн. Изд-во,1989. С. 67.
(обратно)368
Там же. С. 68.
(обратно)369
Там же. С. 87.
(обратно)370
Антология фольклора народностей Сибири, Севера и Дальнего Востока./Составление, предисловие и примечания В. М. Санги. Красноярск, 1989. С. 91.
(обратно)371
Народные русские сказки А. Н. Афанасьева в трех томах, том 1./Издание подготовили Л. Г. Бараг и Н. В. Новиков. М., 1985. С. 336.
(обратно)372
Восточнославянские волшебные сказки: для учащихся сред, и ст. классов/сост., подгот. текстов, вступ. ст., комемент., слов. Т. В. Зуевой; пер. с укр. и белорус, яз. Т. В. Зуевой, Б. П. Кирдана. М., 1992. С. 124.
(обратно)373
Там же. С. 126.
(обратно)374
Там же. С. 129.
(обратно)375
Там же. С. 130.
(обратно)376
Бартольд В. В. История Туркестана // Бартольд В. В. Сочинения. Т. II. Ч. 1. JVL, 1963. С. 199.
(обратно)377
Bosworth С. Е. Sámánids // Bosworth С. Е., Donzel Е. van, Heinrichs W. Р., Lecomte G. (eds.). The Encyclopaedia of Islam. Vol. VIII. Leiden, 1995. P. 1026.
(обратно)378
Frye R. N. The Sámánids // Frye R. N. (ed.). The Cambridge History of Iran. Vol. 4. Cambridge, 2008. P. 140.
(обратно)379
Бартольд В. В. Таджики (из «Энциклопедии ислама») // Бартольд В. В. Сочинения. Т. II Ч. 1.М., 1963. С. 470.
(обратно)380
Blakkisrud Н., N ozimová S. History writing and nation building in post-independence Tajikistan // Nationalities Papers. Vol. 38. 2010. P.178.
(обратно)381
Лучше всего о популярности Гальфрида свидетельствует обилие списков – их сохранилось более 200, из которых 48 относятся к XII в. Подробнее см. Crick С. /. A Summary Catalogue of the Manuscripts / The Historia Regum Britannie of Geoffrey of Monmouth. Vol. III. Cambridge, 1989.
(обратно)382
“Anglorum seden primam pete, sive Britonum; si Britonum mavis dicere, nemo vetaf. Joannis Saresberiensis Policratici, sive De Nugis curialium et vestigii philosophorum libri VIII/ Ed. С. C. /. Webb: 2 vols. Oxford, 1909. Vol. I. P. 6.
(обратно)383
Walter of Peterborough / / Political Poems and Songs Relating to English History: 2 vols / Ed. Th. Write. Vol. I. London, 1852. P. 104.
(обратно)384
Hardyngjohn. The Chronicle. London, 1543; repr. Amsterdam, 1976. Ch. 1–6.
(обратно)385
Le Libvre de bonJehan de Bretaigne // Cuvelier Jean. Chronicle de Bertrand de Guesclin: 3 vols / Éd. E. Charriere. Paris, 1899. Vol. I. P. 447, lines 631 if.; Chronicon Briocense: Chronique de Saint-Brieuc / Éd. G. Le Due et C. Sterckx. Vol. I. Rennes, 1972. P. 74, 114. О происхождении англичан от саксов см. Ibid. Р. 50–54, 84, 94,118 et passim.
(обратно)386
Гильда Премудрый. О погибели Британии/ пер. с лат. Н. Ю. Чехонадской. СПб., 2003. Гл. 4.
(обратно)387
Беда Достопочтенный. Церковная история народа англов/ пер. с лат. В. В. Эрлихмана. СПб., 2003.I,XIV–XV.
(обратно)388
Там же. I, XXXIV.
(обратно)389
Там же. II, II.
(обратно)390
Гальфрид Монмутский. История бриттов. Жизнь Мерлина / пер. с лат. А. С. Бобовича и С. А. Ошерова. М., 1984. С. 188.
(обратно)391
Holinshed R. The Chronicle of England: 3 vols. London, 1586–1587. Vol. I. P. 52.
(обратно)392
Stapleton T. A Return of Untruths upon M. Jewells Replie. Antwerpen, 1566. LL4v-LLlr.
(обратно)393
Fitzherbert Т. A Defence of the Catolyke Cause. 1602. ERL. 1973. Vol. 146. P. 17–20.
(обратно)394
Persons R. Treatise of Three Conversions of England from Paganism to Christian Religion. 1603. P. 15–54.
(обратно)395
Kidd С. British identities before nationalism: Ethnicity and nationhood in the Atlantic world, 1600–1800. Cambridge, 2004. P. 180.
(обратно)396
Leerssen /. Mere Irish & fior-ghael: studies in the idea of Irish nationality, its development, and literary expression prior to the nineteenth century. Amsterdam (Philadelphia), 1986. P. 270.
(обратно)397
Keating G. Foras Feasa ar Éirinn: the history of Ireland / ed. by D. Comyn, P. S. Dineen. In 4 vol. Vol. 1. London, 1902. P. 2–3.
(обратно)398
Lebor Gabala Érenn. The book of the Taking of Ireland: Part 1/ ed. by R. A. S. Macalister. Dublin, 1938. 269 p.; Lebor Gabála Érenn. The book of the Taking of Ireland: Part 2/ ed. by R. A. S. Macalister. Dublin, 1939. 273 p.; Lebor Gabála Érenn. The book of the Taking of Ireland: Part 3/ ed. by R. A. S. Macalister. Dublin; 1940.206 p.; Lebor Gabála Érenn. The book of the T aking of Ireland: Part 4/ ed. by R. A. S. Macalister. Dublin; 1941.342 p.; Lebor Gabála Érenn. The book of the Taking of Ireland: Part 5/ ed. by R. A. S. Macalister. Dublin; 1956. 591 p.
(обратно)399
Ó Murchadha D. Keating: traditionalist or innovator// Geoffrey Keating’s Foras Feasa ar Éirinn: reassessments/ ed. by P. Ó. Riain. London, 2008. Pp. 90–95.
(обратно)400
См.: Паламарчук А. А., Федоров С. E. Антикварный дискурс раннестюартовской Англии. СПб.; 2013.
(обратно)401
Cunningham В. The world of Geoffrey Keating: history; myth and religion in seventeenth-century Ireland. Dublin; 2004. Pp. 59–82; Более подробно об ирландских источниках; к которым обращался Джоффри Китинг; см.: Cronin A. Sources of Keating’s Foras Feasa ar Éirinn: 2, manuscript sources//Éigse. 1945-47. Vol. 5. Pp. 122–135.
(обратно)402
В литературоведении «рамка» в широком смысле – это воплощенная граница художественного пространства; в узком – композиционный прием; обрамляющий произведние. Рамочные типы выступают как композиционные схемы для повествования.
(обратно)403
Бирн Ф. Д. Короли и верховные правители Ирландии/ пер. с англ. С. В. Иванова. СПб., 2006. С. 304.
(обратно)404
Keating G. Foras Feasa ar… Vol. 1. P. 206–209.
(обратно)405
Ibid. P. 130–131.
(обратно)406
Ó Cuív B. Literary creation and Irish historical tradition / / Proceedings of the British academy. Vol. XLIX. London, 1963. P. 233–262.
(обратно)407
Keating G. Foras Feasa ar Éirinn: the history of Ireland/ ed. by P. S. Dineen. In 4 vol. Vol.2. London, 1905. P. 172–175.
(обратно)408
Keating G. Foras Feasa ar… Vol. 1. P. 198–199.
(обратно)409
Keating G. Foras Feasa ar Éirinn: the history of Ireland/ ed. by P. S. Dineen. In 4 vol. Vol.3. London, 1908. P. 256–257.
(обратно)410
Sims-Williams Р., Рорре Е. Medieval Irish literary theory and criticism // The Cambridge History of Literary Criticism / ed. by A. Minnis, I. Johnson. In 9 vol. Cambridge, 2005. Vol. 2. P. 305.
(обратно)411
Keating G. Foras Feasa ar… Vol.3. P. 346–351.
(обратно)412
Ibid. P. 342–343.
(обратно)413
Ó Buachalla В. Cúlra is taibacht ап dáin A leabhrain ainmnighthear ďAodh // Celtica. 1990. Vol. 21. P. 410–413.
(обратно)414
Keating G. Foras Feasa ar… Vol. 3. P. 342–343.
(обратно)415
Bradshaw B. Geoffrey Keating: apologist of Irish Ireland // Representing Ireland: Literature and the origins of conflict, 1534–1660/ ed. by B. Bradshaw, A. Hadfield, W. Malley. Cambridge, 1993. P. 170.
(обратно)416
Keating G. Foras Feasa ar… Vol. 1. P. 37–39.
(обратно)417
Keating G. Foras Feasa ar… Vol.3. P. 10–11.
(обратно)418
Shapiro В. /. A culture of fact: England, 1550–1720. Cambridge, 2003. P. 49.
(обратно)419
Keating G. Foras Feasa ar… Vol. 1. P. 148–155.
(обратно)420
Обзор мнений см.: Matijevič Sokol М. Toma Arhidakon i njegovo djelo: ráno doba hrvatske povijesti. Jastrebarsko; 2002. S. 238–239.
(обратно)421
См. об этом: Katičič R. Vetustiores ecclesiae spalatensis memoriae // Starohrvatska prosvjeta. Ser. III. 1987. Sv. 17. S.21.
(обратно)422
Фома Сплитский. История архиепископов Сплита и Салоны/ вступ. статья, перевод, комментарий О. А. Акимовой. М., 1997. С. 35.
(обратно)423
См. подробно: Peričić E. Sclavorum Regnum Grgura Barskog: Ljetopis Popa Dukljanina. Zagreb, 1991.
(обратно)424
Ljetopis Popa Dukljanina. Latinski tekst sa hrvatskim prijevodom i «Hrvatska kronika» / Priredio V. Mošin. Zagreb, 1950. S. 39.
(обратно)425
См. подробно: Rus J. Kralji dinastije Svevladičev, najstarejši skupni vladarji Hrvatov in Srbov 454–614. Ljubljana, 1931.
(обратно)426
См.: Станоjевић С. О првим главама Дукљанског летописа // Глас Српске краљевске академиjе. 1927. Књ. 126. С. 91–101.
(обратно)427
См.: Hauptmann L. Kroaten, Goten und Sarmaten // Germanoslavica. 1935. Vol. III. S. 315–325.
(обратно)428
Ljetopis Popa Dukljanina. S. 39.
(обратно)429
См. об этом: MužičI. Hrvatska kronika u Ljetopisu Popa Dukljanina. Split, 2011. S. 22–23; 58–60.
(обратно)430
Обзор историографии см.: Ibid. S. 17–37.
(обратно)431
См.: Švob D. Připiš supetarskog kartulara o izboru starohrvatskog kralja i popis onodobnih banova // Historijski zbornik. 1956. God. IX. Br. 1–4. S. 101–117; Ančič M. Dva teksta iz sredine 14. stolječa. Prilog poznavanju «drustvenog znanja» u Hrvatskom Kraljevstvu // Starohrvatska prosvjeta. Ser. III. 2013. Sv. 40. S. 164–169.
(обратно)432
Švob D. Pripis supetarskog kartulara… S. 104.
(обратно)433
Алимов Д. Е. Хорватская идентичность в раннее Средневековье: проблема интерпретации // Вестник СПвГУ. Сер. 2. 2013. Вып. 4. С. 99–108.
(обратно)434
Акимова О. А. «Господин своего языка»: о попытке строительства государства в Хорватии конца XIII – первой половины XIV века // Славяноведение. 2013. № 1. С. 3–10.
(обратно)435
Blaževič Z. Ilirizam prije ilirizma. Zagreb, 2008.
(обратно)436
Šižgorič J. O smještaju Ilirije i o gradu Šibeníku/ Priredio ipreveo V. Gortan. Šibeník, 1981.
(обратно)437
Pribojevič V. O podrijetlu i slavi Slavena / Preveli V. Gortan, P. Knezovič. Zagreb, 1997.
(обратно)438
Madunič D. Strategies of distinction in the work of Vinko Pribojevič // Whose love of which country? Composite states, national histories and patriotic discourses in Early Modern East Central Europe/ ed. byB. Trencsényi andM. Zászkaliczky. Leiden; Boston, 2010. P. 177–202.
(обратно)439
Orbini М. Kraljevstvo Slavena/ prevela S. Husiq priredio i uvodnu studiju napisao F. Šanjek. Zagreb, 1999; Орбини M. Славянское царство. Происхождение славян и распространение их господства/ пер. Ю. Куприкова. М., 2010.
(обратно)440
BlaževičZ. Ilirizam prije ilirizma. S. 176–192.
(обратно)441
Vitezovič Ritter Р. Oživljena Hrvatska = Croatia rediviva/ prevela i priredila Z. Blaževič. Zagreb, 1997.
(обратно)442
Cipek T. Oblikovanje hrvatskog nacionalnog identiteta. Primordijalni identitetski kod u ranoj hrvatskoj političkoj misii // Dijalog povjesničara-istoričara / Ur. I. Graovac, H.-G. Fleck. Zagreb, 2001. S. 68–70; Blaževič Z. Vitezovičeva Hrvatska izmedu stvarnosti i utopije: ideološka koncepcija u djelima postkarlovačkog ciklusa Pavla Rittera Vitezoviča (1652–1713.). Zagreb, 2002; TopičM. Nacionalizam i ideologija. Pavao Ritter Vitezovič kao nacionalni mislitelj i/ili ideolog // Zbornik Odsjekapovijesnih znanosti Zavoda zapovijesne i drustvene znanosti HAZU. 2010. Sv. 28. S. 107–138.
(обратно)443
Cm.: Banacl. The redivived Croatia of Pavao Ritter Vitezovič 11 Harvard Ukrainian Studies. 1986. Vol. 10. Nr. 3–4. S. 505–507.
(обратно)444
Roth Н. De la natiunea medievala la natiunea moderna. Identitáti etnice in Transilvania secolelor XVIII–XIX // Bisericá, societate, identitate. IN HONOREM NICOLAE BOCSAN / coord. I. Cárja. Cluj-Napoca, 2007. P. 783.
(обратно)445
Имеется ввиду восточнороманское население Трансильвании.
(обратно)446
Roth Н. Op.cit. Р. 783.
(обратно)447
Scoala Ardeleaná/ coord. I. Chindris. Oradea, 2007. P. 45.
(обратно)448
Scoala Ardeleaná. Р. 50.
(обратно)449
Dutu A. Cultura románá in civilizatia europeaná. Bucuresti, 1978. P. 11.
(обратно)450
Teodor P. Introducere in istoria istoriografiei din Románia. Cluj-Napoca, 2002. P. 82.
(обратно)451
Kellogg F. О istorie a istoriografiei románe. Iasi, 1996. Р. 36.
(обратно)452
Ibid.
(обратно)453
Teodor Р. Sub semnul luminilor: Samiul Micu. Cluj-Napoca, 2000. P. 74–75.
(обратно)454
Micu Clain S. Istoria románilor/ ed. I. Chindris. Bucuresti, 1995. P. 167.
(обратно)455
Ibid. P. 32.
(обратно)456
Распространенное среди восточных романцев самоопределение «румын» («rumân»), производное от слова «roman» т. е. римлян, является одной из базовых черт этнической самоидентификации. Термин «валах» используется С. Мику в качестве вешнего этнонима (экзонима).
(обратно)457
Mícu Clain S. Op. cit. P. 191.
(обратно)458
Ibid. P. 36.
(обратно)459
Ibid.
(обратно)460
Мнение о том, что восточные романцы появились в результате дако-римского симбиоза было распространено среди австрийских интеллектуалов.
(обратно)461
Mícu Clain S. Op. cit. P. 38.
(обратно)462
Smith A. The ethnic origins of nations // Journal of American Ethnic History. Vol. 9. No. 2. 1990. P. 100–102.
(обратно)463
Micu Clain S. Op. cit. P. 42.
(обратно)464
Ibid. P. 57, 59.
(обратно)465
Ibid. P.61.
(обратно)466
Фактологическая точность данного утверждения является спорным вопросом историографии, которой особо востребован в эссенциалистических выступлений румынской и венгерской сторон.
(обратно)468
Mícu Clain S. Op. cit. P. 65.
(обратно)469
Гринфельд А. Национализм. Пять путей к современности. М., 2008. С. 8, 263–374.
(обратно)470
Hartmann Р. Das Heilge Romische Reich – ein foderalistisches Staatgebilde // Das Heilige Romische Reich und sein Ende 1806: zásur in der deutschen und europáischen Geschichte / Hrsg. von P. Hartmann und F. Schuller. Regensburg, 2006. S. 6-22.
(обратно)471
Malettke K. Les relations entre la France et le Saint-Empire au XVII siecle. Paris, 2001. P. 15, 32–49.
(обратно)472
SchillingH. Hofe und Allianzen. Deutschland 1648–1763. Berlin, 1998. S. 95-100.
(обратно)473
Babel R. Deutschland und Frankreich in Zeichen der habsburgischen Universalmonarchie 1500–1648. Darm-stadt, 2005. S. 9-10 etc.
(обратно)474
Demel W. Europáische Geschichte des 18. Jahrhunderts. Stándische Gesellschaft und europáische Máchte-system in beschleunigten Wandel. (1689/1700-1789/1800). Stuttgart; Berlin; Koln, 2000. S. 281.
(обратно)475
Schilling H. Reichs-Staat und frahneuzeitliche Nation der Deutschen oder teilmodernisiertes Reichsystem. Uberlegungen zu Charakter und Aktualitát desAlten Reiches // Historische Zeitschrift, Bd. 272 (2001), Heft 2. S. 377–395.
(обратно)476
Schmidt G. Geschichte des Alten Reiches. Staat und Nation 1495–1806. Miinchen, 1999.
(обратно)477
Impérium Romanum-irregulare corpus-Teutscher Reichs-Staat. Das Alte Reich in Verstándniss der Zeitgenos-sen und der Historiographie/ Hrsg. von M.Schnettger. Mainz, 2000; Schnettger M. Von der ‘Kleinstaatereť zum ‘komplementaren Reichs-Staať. Die Reichsverfassungsgeschichtssch reibung seit dem Zweiten Weltkrieg // Geschichte der Politik. Alte und neue Wege/ Hrsg. von H.-Chr. Kraus, Th.Nicklas. Miinchen, 2007. S. 129–154.
(обратно)478
Dann O. Der deutsche Weg zum Nationalstaat im Lichte des Foderalismus-Problem // Zentralismus und Fóderalismus im 19. und 20. Jahrhundert/ Hrsg. von O. Janz, P. Schiera, H. Siegrist. Berlin. 2000. S. 9-13,55; LangewischeD. FoderativeNationalismus alsErbe der deutschen Reichsnation iiber Fóderalismus und Zentra-lismus in der deutschen Nationalgeschichte // Federative Nation. Deutschlandkonzepte von der Reformation bis zum ersten Weltkrieg/ Hrsg. von D. Langewische und G. Schmidt. Miinchen, 2000. S.215–242.
(обратно)479
Stolleis М. Public Law and Patriotism in the Holy Roman Empire // Infinite Boundaries. Order, Disorder and Reorder in Early Modern German Culture. Kirksville, 1998. P. 11–33.
(обратно)480
Dann O. und Hroch M. Einleitung // Patriotismus und Nationsbildung am Ende des Heiligen Romischen Reiches/ Hrsg. von O. Dann, M. Hroch und J. Roll. Koln, 2003. S. 9-18.
(обратно)481
BurgdorfW. Ein Weltbild verliert seine Welt. Der Untergang des Alten Reiches und die Generation 1806. Miinchen, 2006.
(обратно)482
Wilson P. H. and Schaich M. Introduction // The Holy Roman Empire 1495–1806 / ed. by P. Wilson and M. Schaich. Oxford, 2011. P. 1–23.
(обратно)483
Aretin K. O. von. The Old Reich: A Federation or Hierarchical System? // The Holy Roman Empire…. P. 27–42; Schmidt G. The Old Reich: The State and Nation of the Germans // The Holy Roman Empire…. P. 43–62.
(обратно)484
Harter K. The Permanent Imperial Diet in European Context, 1663–1806 11 The Holy Roman Empire…. P. 115–135.
(обратно)485
Грасс Г. Траектория краба. М., 2004, С.250.
(обратно)486
Миллер А. Тема Центральной Европы: история, современные дискурсы и место в них России. URL: /Интервью-номера-Алексей-Миллер-Принцип-империи-не-исчезает-даже-в-мире-где-формальнопреобладают-национальные-государства (дата обращения: 05.05.2015).
(обратно)487
Божков Р. Речь Посполитая // Дистопия. URL: -pospolitaya/ (Дата обращения: 15.05.2015).
(обратно)488
Шарый А., Шимов Я. Корни и корона. Очерки об Австро-Венгрии: Судьба империи. М., 2011. URL: -about-austro-hungary (Дата обращения: 04.03.2015).
(обратно)489
Каппелер А. «Россия – многонациональная империя»: некоторые размышления восемь лет спустя после публикации книги // Мифы и заблуждения в изучении империи и национализма. М., 2010.
(обратно)490
Вулф А. Изобретая Восточную Европу. Карта цивилизации в сознании эпохи Просвещения. М., 2003. С. 40.
(обратно)491
Palackého dopis do Frankfurtu (li. 4. 1848). URL: / dbt_00F_0001_65_Palackeho_dopis_do_Frankfurtu_1848.php (дата обращения: 07.04.2015).
(обратно)492
Нойманн И. Использование Другого. Образы Востока в формировании европейских идентичностей. М., 2004.
(обратно)493
Кундера М. Трагедия Центральной Европы // пер. Андрей Пустогаров, по The New York Review of Books, vol.31, № 7, 1984. URL: -142 (дата обращения: 12.05.2015).
(обратно)494
Бродский И. Почему Милан Кундера несправедлив к Достоевскому. Собрание сочинений: Иосиф Бродский в 7 томах. Т. 7. СПб., 2003.
(обратно)495
Грудзинская-Гросс И. Россия и Америка – две империи. Глава из книги “Милош и Бродский: магнитное поле” // «Иностранная литература» 2011, № 7. С. 202–234.
(обратно)496
Алексей Миллер: Принцип империи не исчезает даже в мире, где формально преобладают национальные государства // Library.ua. URL: /Интервью-номера-Алексей-Миллер-Принцип-империи-не-исчезает-даже-в-мире-где-формальнопреобладают-национальные-государства (дата обращения: 05.05.2015).
(обратно)497
Кара-Мурза А. Россия в треугольнике «Этнократия-империя-нация». URL: —q~q.raw?tmpl=component (дата обращения: 05.05.2015).
(обратно)498
Нора П., Озуф М., де Пюимеж Ж., Винок М. Франция – память. СПб., 1999. С. 20.
(обратно)499
Мисан В. Рассказы по истории Украины. Учебник для 5 класса средней школы. Киев, 1997. С. 118–119.
(обратно)500
Власов В. С. Iсторiя України. Підручник для 8 класу загальноосвiтнiх навчальних закладів. Київ, 2008. С. 147–148, 152.
(обратно)501
Струкевич А. К., Романюк И. М., Пирус Т. П. История Украины. Учебник для 8 класса общеобразовательных учебных заведений. Киев, 2008. С. 137.
(обратно)502
Власов B. C., Данилевська О. М. Вступ до історії України: підручник для 5 класу загальноосвiтних навчальних закладів. Київ, 2002. С. 150–151.
(обратно)503
Власов В. С. Iсторiя України… С. 154, 160.
(обратно)504
Власов В. С., Данилевська О. М. Указ. соч. С. 154.
(обратно)505
Швидько Г. К. Iсторія України XVI–XVIII столiття: підручник для 8 класу загальноосвiтних навчальних закладів. Київ, 2008. С. 158–159.
(обратно)506
Мисан В. Вступ до iсторії України. Підручник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Київ, 2010. С. 102.
(обратно)507
Власов B. С., Данилевська О. М. Вступ до історії України: підручник для 5 класу загальноосвiтних навчальних закладів. Київ, 2010. С. 113, 115.
(обратно)508
Мисан В. Рассказы…С. 119.
(обратно)509
Власов В. С. Указ. соч. С. 221, 227.
(обратно)510
Струкевич А. К., Романюк И. М., Пирус Т. П. Указ. соч. С. 202–203.
(обратно)511
Соловьев С. М. История России с древнейших времен. Т. 15. URL: . ru/libraiy/history/solov/solvl5p3.htm (Дата обращения 1.05.2015).
(обратно)512
Тарле Е. В. Северная война и шведское нашествие на Россию // Тарле Е. В. Сочинения. Том 10. М., 1959. URL: (Дата обращения 1.05.2015).
(обратно)513
Тарле Е. В. Там же. Отметим, что в своей работе он ссылается на «Набросок мыслей для письма к барону Генриху Гюйссену. 1707 г., январь – февраль» (точной даты нет). Письма и бумаги, т. V, стр. 60, № 1551».
(обратно)514
Струкевич А. К., Романюк И. М., Пирус Т. П. Указ. соч. С. 203.
(обратно)515
Власов B., Данилевська О. Вступ до історії України: підручник для 5 класу загальноосвiтних навчальних закладів. Київ, 2010. С 120, 122.
(обратно)516
Турченко Ф. Г., Мороко В. М. Iсторiя України. Підручник для 9 класу. Київ, 2009. С. 29–31.
(обратно)517
Турченко Ф. Г., Мороко В. М. Указ. соч. С. 5–7,12,38,160, С. 365.
(обратно)518
Турченко Ф. Г., Мороко В. М. Указ. соч. С. 142–144,195.
(обратно)519
Рикер П. Память, история, забвение. М., 2004. С. 119.
(обратно)520
Как подчеркивает Н. Копосов, во все времена и во всех странах разные общественные силы стремились навязать согражданам свое понимание прошлого. По мере усиления «искусственной» памяти в XIX–XX вв. роль исторической политики возрастала. Усиливался и ее осознанный, систематический характер. В последние десятилетия мы вновь стали свидетелями активизации исторической политики, что неизбежно в условиях подъема памяти. См.: Копосов Н. Память строгого режима: История и политика в России. М., 2011. С. 52.
(обратно)521
Макаров А. Политика памяти как элемент региональной культурной жизни // Власть. 2008. № 12. URL: /п/politika-pamyati-kak-element-regionalnoy-kulturnoy-zhizni (Дата обращения: 01.06.2015).
(обратно)522
Аникин Д. Стратегии трансформации политики памяти в современной России: региональный аспект // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 7: Философия. Социология и социальные технологии. 2012. Вып. 3.
(обратно)523
Аникин Д. Политика памяти в современном российском обществе: урбанистический аспект // Известия Саратовского университета. Т.11. Серия: Философия. Психология. Педагогика. 2011. Вып. 1.С. 5.
(обратно)524
Ніколаєць Ю. Політика історичної пам’яті в Україні на початку ХХІ ст. // Політологічні студії: Збірник наукових праць. К., 2011. Вип. 2. С. 192–204.
(обратно)525
По мнению Д. Аникина, особенностью постсоветского пространства был значительный плюрализм стратегий политики памяти, в зависимости от того, как государства позиционировали себя в отношении Российской империи и СССР, как оценивали процесс вхождения в эту государственную структуру: завоевание, вынужденное присоединение или вхождение на добровольных началах. См.: Аникин Д. Политика памяти в современном украинском обществе // Сучасна україністика: наукові парадигми мови, історії, філософії: Зб. статей/ за заг. ред… к. філос.н., проф. О. С. Черемської, д. філос. н., проф. О. М. Кузя (матеріали ІУ міжнародної наук. конф., Харків, 8–9 квітня 2014 р.). Харків, 2014. С. 210–216.
(обратно)526
Позднякова-Кірбят’єва Е. Соціологія соціально-історичної пам’яті:теоретико-методологічні та емпіричні студії. Запоріжжя, 2014. С. 400.
(обратно)527
Делез Ж. Гваттари Ф. Капитализм и шизофрения. Тысяча плато. Екатеринбург, 2010.
(обратно)528
Гинзбург К. Сыр и черви. М., 2000.
(обратно)529
Эстерхази П. Исправленное издание Приложение к роману Harmonia caelestis М., 2008.
(обратно)530
Фрейд 3. Печаль и меланхолия. Основные психологические теории в психоанализе. Очерк истории психоанализа. СПб, 1998.
(обратно)531
Бхабха X. ДиссимиНация. Время и границы современной нации // Синий диван. № 6, 2005. С. 68–118.
(обратно)532
Арендт X. Банальность зла. Эйхман в Иерусалиме. М., 2008.
(обратно)533
Зонтаг С. Смотрим на чужие страдания. М., 2014.
(обратно)534
Закон о реабилитации жертв политических репрессий РСФСР от 18 октября 1991 г. URL: / (Дата обращения: 28.06.2015).
(обратно)535
Мусаев В. И. Политическая история Ингерманландии. СПб, 2004.
(обратно)536
Риехкалайнен Ю. Ингерманландские финны: история и судьба. Петрозаводск, 2009.
(обратно)537
Саволайнен А. С. Воспоминания советского финна. // Вопросы истории. № 7. М., 2010. С. 70–78.
(обратно)538
Бхабха X. ДиссимиНация. Время и границы…
(обратно)539
Всероссийская перепись населения 2010 URL: / perepis2010/croc/perepis_itogil612.htm (Дата обращения: 28.06.2015).
(обратно)540
URL: (Дата обращения: 28.06.2015).
(обратно)541
Colette Beaune. Paris, 1990.
(обратно)542
Journal de Nicolas de Baye greffier du Parlement de Paris (1400–1417)/ Publié par Alexandre Tuetey. P., 1885–1888. In 2 t. О своеобразии этих дневников, в которых записи протоколов заседаний Парламента перемежались личными записями, а у Фокамберга – мы находим помимо записей и рисунок Жанны д’Арк.
(обратно)543
Journal de Clément de Fauquembergue greffier du Parlement de Paris (1417–1435)/ Publié par Alexandre Tuetey avec la collaboration de Henry Lacaille. Paris, 1903. 31.
(обратно)544
Широко используемое в лингвистической антропологии понятие, которое подразумевает несколько уровней абстракции: а) личность как индивидуум и автор текстов, обладающий «своим характером, интересами, социальными предпочтениями и установками»; б) личность – совокупный или усредненный носитель языка, типовой представитель данной языковой общности и более узкого входящего в него коллектива; в) личность как представитель человеческого рода вообще / Иванцова Е. В. О термине «языковая личность»: истоки, проблемы, перспективы использования // Вестник Томского Государственного Университета. Филология. 2010, № 4 (12). С. 28.
(обратно)545
Journal de Clément… Т. I. Р. 366–368.
(обратно)546
Словарь основных исторических понятий. Избранные статьи. В 2-тт. / пер. с немецкого К. Левинсон. М., 2014. Т. 2. С. 426.
(обратно)547
Там же. С. 427.
(обратно)548
Там же. С. 436.
(обратно)549
Beaune Colette. La notion de la nation en France au Moyen Age // Communications. Année 1987. Volume 45. Numero 45. P. 103–104.
(обратно)550
Словарь основных исторических… С. 449.
(обратно)551
Journal de Nicolas… T. I. P. 305–306: “… un grant conseil que faisoit le Roy en la sale Saint Loiz… sur le fait de la guerre ďentre le Roy, dune part, et le roy ďAngleterre, ďautre part… ” (1409).
(обратно)552
См., например: Journal de Clément… T.II. P. 33, 34, 38, 49–50, 54 (запись о смерти Карла VI – le roy Charls VI).
(обратно)553
Journal ďun bourgeois… Р. 103.
(обратно)554
Ibid. Р. 112: “Item, en ces jours…prenait-on les Armagnacs par tout Paris et hors Paris. Entre lesquels furent pris plusieurs grands de renom et tres mauvais courage, comme Bernard ďArmagnac, connétable de France, aussi cruel homme que flat oncques Néron… ”.
(обратно)555
Я не могу всё-таки в этой связи согласиться с С. К. Цатуровой, которая пишет по поводу позиции Парижского Горожанина, что у него «… французы, т. е. люди Карла Валуа, нередко названы врагами» // Цатурова С. К. Офицеры власти. Парижский Парламент в первой трети XV века. М.: Логос, 2002. С. 358. В том то и дело, что Горожанин открыто их не называет врагами. Он пишет в 1434 г.: “Et en celui temps croissait plus en plus fort la guerre, car ceux qui disaient Frangais… couraient tous les jours jusqu’aux portes de Paris, pillaient, tuaient hommes…” (Journal ďun bourgeois de Paris 1405–1449. P. 331–332). К. Бон считает всё-таки, что он именует так Арманьяков, но врагами он их не называет. В записи за 1436 г. Горожанин также именует Арманьяков французами, а Арманьяков он считал повинными в горе, которое обрушилось на Францию, но опять-таки он не называет их врагами, (ibid. Р. 344).
(обратно)556
Beaune Colette. Op. cit. P. 111–112.
(обратно)557
Ерофеев Н. А. Туманный Альбион. Англия и англичане глазами русских. 1825–1853 гг. М., 1982; Чугров С. В. Россия и Запад. Метаморфозы и взаимовосприятия. М., 1993; Оболенская С. В. Германия и немцы глазами русских (XIX в.). М., 2000; Аучицкая С. И. Образ Другого: опыт типологии // Вестник РГНФ. 2000, № 1; Голубев А. В. Инокультурные представления в истории / / Российская история. 2010. № 5; Репина А. П. «Национальный характер» и «Образ Другого» // Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории. 2012. Вып. 39. и др.
(обратно)558
Ермасов Е. В. Образ «русского варварства» в сочинениях немецких публицистов XVI – первой половине XVIII в. // Европейское Просвещение и цивилизация России. М.: Наука, 2004. С. 27.
(обратно)559
Русский быт по воспоминаниям современников. XVIII век. М., 1914. С. 252.
(обратно)560
Цит. по: Anderson М. S. Britain’s Discovery of Russia. 1553–1815. London, 1958. P. 59.
(обратно)561
Мандевиль Б. Опыт о пчелах. М., 1974. С. 289.
(обратно)562
Anderson М. S. Britain’s Discovery of… Р. 70.
(обратно)563
Сборник императорского русского исторического общества. СПб., 1888. Т. 61. С. 536, 564–565.
(обратно)564
Britain and Russia in the Age of Peter the Great. Historical Documents. London., 1998. P. 111–112, 125.
(обратно)565
AndersonM. S. Britain’s Discovery of… P. 108.
(обратно)566
Подробнее см.: Лабутина T. Л. l) Зарождение ксенофобии в российско-британских отношениях в эпоху Петра 1 // Проблемы этнической истории Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы в Новое и Новейшее время». Воронеж, 2005; 2) «Свои» и «чужие» в имэджинологии: ксенофобия в англо-русских отношениях в XVI–XVIII вв.// Вестник Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина. 2011, № 2/31. С. 32–51.
(обратно)567
Szechi D. The Jacobites: Britain and Europe, 1688–1788. Manchester; New York, 1994. P. 6–7.
(обратно)568
Gibson W. James II and the Trial of the Seven Bishops. London, 2009; Lenman B. The Jacobite Risings in Britain, 1689–1746. London, 1980. P. 32.
(обратно)569
Goldie M., Jackson C. Williamite Tyranny and the Whig Jacobites // Redefining William III: The Impact of the King-Stadholder in International Context/ ed. by E. Mijers, D. Onnekink. Burlington, 2007. P. 177–199.
(обратно)570
Hogg /. The Jacobites Relics of Scotland: Being the Songs, Airs, and Legends of the Adherents of the House of Stuarts. Edinburgh, 2002; Macquoid G. S. Jacobite Songs and Ballads (selected). New York; L., n. d.
(обратно)571
Macquoid G. S. Op. cit. P. 77.
(обратно)572
Macquoid G.S. Op. cit. Р. 6–8, 36,43, 50–51, 56–57, 72–73, 76–77,144–146,163.
(обратно)573
Ibid. Р. 67.
(обратно)574
Ibid. Р. 39–40, 65,145.
(обратно)575
Ibid. Р. 38–40, 64,145–146.
(обратно)576
Declaration of Kingjames II, April 20,1692 // Clarke J. S. The Life ofjames the Second. L., 1816. Vol. 2. P. 479–488; Declaration of Kingjames VIII, March 1, 1708. URL: . ca/documents/17080301.htm (дата обращения: 14.03.2014); Unpublished Declaration of King James II, February 28,1696 / / Calendar of the Stuart Papers, Historical Manuscripts Commission. L., 1902. Vol. l.P. 110–112.
(обратно)577
Macquoid G. S. Op. cit. P. 21, 64.
(обратно)578
Macquoid G. S. Op. cit. Р. 76, 144–145,164.
(обратно)579
ДюпёА. Под знаком Версальского мира. «Восточная идеология» и «национал-большевизм» в Веймарской республике // Германия и русская революция 1917–1924. (Западно-восточные отражения: Вуппертальский проект). М., 2004. С. 173.
(обратно)580
Цит. по: Копелев А., Кёнен Г. Проигранные войны, выигранное благоразумие. Беседа о прошлом в конце эпохи // Германия и русская революция 1917–1924. (Западно-восточные отражения: Вуппертальский проект). М., 2004. С. 25.
(обратно)581
Азадовский К. Рильке и Россия. Статьи и публикации. М., 2011.
(обратно)582
Ср. «Если меня ничто не обманывает, то сбылось долгое, лелеемое ещё с начала войны желание моего сердца: мир с Россией! Мир прежде всего с ней! И война, если она ещё будет идти. Будет идти против одного только Запада, против “trios pays libres”, против “цивилизации”, “литературы”, политики, риторической буржуазии…». Манн Т. Рассуждения аполитичного. URL: (дата обращения: 7.04.14).
(обратно)583
Цит. по: Баур И. Революция и «сионские мудрецы». К вопросу об изменении образа России в ранней НСДАП// Германия и русская революция 1917–1924. (Западно-восточные отражения: Вуппертальский проект). М., 2004. С. 152.
(обратно)584
Крауз Г-К. «Закат Европы». Россия в исторической мысли Освальда Шпенглера // Германия и русская революция 1917–1924. (Западно-восточные отражения: Вуппертальский проект). М., 2004. С. 243.
(обратно)585
Кёнен Г. Дух русской революции. Первые свидетели и истолкователи переворотов в царской империи // Германия и русская революция 1917–1924. (Западно-восточные отражения: Вуппертальский проект). М., 2004. С. 60.
(обратно)586
За исключением части римских евреев, остальные евреи Италии принадлежали к буржуазным слоям и не поддерживали левые рабочие движения. См. Zuccotti S. Italy s Jews / The Italians and the Holocaust. Nebraska, 1996. P. 24.
(обратно)587
Чтобы показать, что процент участников евреев в марше был даже большим чем процент евреев относительно всего населения Италии, приведем известные нам цифры по 1938 г.: из приблизительно 43 млн. населения Италии 48 тыс. были евреями, т. е. получаем 1,17 % и 0,11 %.
(обратно)588
LudwigЕ. Colloqui con Mussolini. Verona, 1950, P. 71–72.
(обратно)589
Oráno P. Gli ebrei in Italia. Roma, 1938.
(обратно)590
Feinstein W. The Civilization of the Holocaust in Italy: Poets, Artists, Saints, Anti-Semites. Madison: Associated University Presses, 2003. P. 272.
(обратно)591
De Felice R. Mussolini il duce. Vol. II: Lo stato totalitario 1936–1940. Torino, 1981. P. 391–392.
(обратно)592
Oráno P. Op. cit. P. 64.
(обратно)593
Вероятно, до 20 % личного состава интернациональных бригад были евреями. URL: http:// milite.jimdo.com/documenti-storiografici/spagna/brigate-internazionali/ (дата обращения: 13.05.15).
(обратно)594
Oráno Р. Op. cit. Р. 94.
(обратно)595
Ibid. Р. 62.
(обратно)596
Ibid. Р. 84.
(обратно)597
Oráno Р. Op. cit. Р. 44.
(обратно)598
Щепанская Т. Б. Система: тексты и традиции субкультуры. М., 2004. С.117.
(обратно)599
Агеев В. С. Психологическое исследование социальных стереотипов // Вопросы психологии. № 1, 1986. URL: (Дата обращения: 12.09.2014).
(обратно)600
Marias /. Understanding Spain. Ann Arbor, San Juan, 1990. P. 207.
(обратно)601
Калинина E. Ю. Эволюция формы государства в современной Испании: дисс. на соис. уч. степ. к. юр. н. СПб, 2005. С.34.
(обратно)602
Baumeister, МТtuber, В. La obra de Américo Castro у la Espaňa de las třes culturas, sesenta aňos después. P. 94. URL: -berlin.de/fileadmin/dokumentenbibliothek/ Iberoamericana/38-2010/Baumeister_y_Teuber_Rev38-01.pdf (Дата обращения: 26.11.2014).
(обратно)603
Caro Baroja, /. Reflexiones Nuevas sobre Viejos Temas. Madrid, 1990. P.63.
(обратно)604
Iglesias C. Espaňa desde fuera // Espaňa. Reflexiones sobre el ser de Espaňa. Madrid, 1998. P. 394
(обратно)605
Ibid. P. 405.
(обратно)606
Редкозубова О. С. Структура смеховой культуры // Аналитика культурологии. 2009. № 13. URL: -smehovoy-kultury (Дата обращения: 17.12.2014).
(обратно)607
Iglesias С. Op. cit. Р. 417.
(обратно)608
Калинина Е. Ю. Мифология средневекового правосознания: иррациональное в рациональном. М., 2014. С.161.
(обратно)609
Marias /. Understanding Spain. Ann Arbor, San Juan, 1990. P.207.
(обратно)610
Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности: трактат по социологии знания. М.: Медиум, 1995.
(обратно)611
Карпенко О. «…И гости нашего города…» // Отечественные записки. 2002. № 6. С. 468–475.
(обратно)612
Зверева Н. Дискурсы о мигрантах в современной российской прессе: стратегии борьбы за значение // Новое литературное обозрение. № 128 (4/2014). URL: / node/5267 (дата обращения: 01.05.2015).
(обратно)


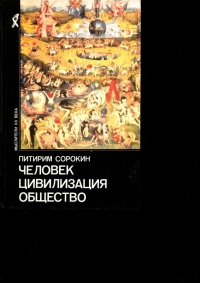
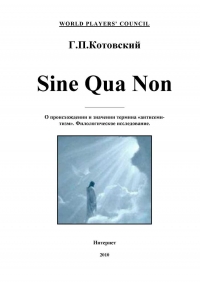
Комментарии к книге «Нации и этничность в гуманитарных науках», Феликс Евгеньевич Левин
Всего 0 комментариев