В. А. Доманский Литература и культура. Культурологический подход к изучению словесности в школе
© Доманский В. А., 2015
© Издательство «ФЛИНТА», 2015
* * *
Введение
Эта книга адресована учителю-словеснику и студенту-филологу, готовящемуся стать педагогом; вместе с тем она может заинтересовать и других читателей, кто неравнодушен к современным проблемам образования и культуры. Она возникла как результат обобщения длительной практической деятельности автора и его теоретических размышлений о необходимости изучать литературу в широких культурных контекстах, рассматривать каждое единичное художественное явление как составную часть общекультурного процесса.
Сейчас предлагается очень много разных методик обучения, способствующих более эффективному способу приобретения знаний и формирования умений, но задача перед школой стоит иная – не просто обучать, а образовывать, помочь подрастающему человеку сформировать свой Образ, свое Лицо. Такую цель и ставит перед собой школа воспитания «человека культуры», пришедшая на смену знаниецентрической. Именно идеи этой новой школы положены в основу первого теоретического раздела данного научно-методического пособия. Но не пугайтесь теории, она необходима, чтобы понять, что связь литературы с культурой глубинная. Она, как и другие искусства, является самосознанием культуры, представляет ее целостно как этапы и развитие человечества. В связи с этим урокам литературы в школе должен придаваться особый статус. Они обеспечивают объемность видения мира, погружают личность ученика в пространство культуры, подводят его к высшим ценностным смыслам. Это уже не просто развитие мышления или отдельных сторон личности, а обретение сознания, которое вмещает в себя века, эпохи, культуры. Таким сознанием уже нельзя будет манипулировать, управлять как неким механизмом.
Но на практике не все так просто. Признавая важность идей культуроцентрической школы, многие педагоги «перегибают палку», и литература «растворяется» в художественной культуре, даже исчезает как учебный предмет. Через все пособие проходит иная идея – идея литературоцентричности культуры. Она раскрывается на конкретном анализе художественных текстов, рассматриваемых как культурный универсум, но открывается он только через постижение, «расшифровку» знаков текста, на что особо нацеливает автор своего читателя.
Вторая, не менее важная идея книги – идея диалога на уроках литературы. Именно ему и посвящен второй раздел, в котором на конкретных примерах раскрывается суть диалога в культуре и диалога культур на уроках литературы, рассмотрены этапы и фазы учебного диалога, организуемого при помощи разных видов речевых практик. Особое внимание в этой части уделено педагогической технологии вхождения читателя в текст литературы и его истолкования в процессе учебного диалога в силовом поле культуры. Педагогическая технология проиллюстрирована материалом урока по новелле «Фаталист» из романа М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени».
Центральное место в пособии отведено интеграции литературы и других искусств, что составляет материал его третьего раздела. В нем излагаются теоретические основы интеграции как способа преобразования литературных курсов и процесса литературного образования в целом, обосновываются разные типы интеграционных связей на уроках словесности.
Основной объем содержания этого раздела занимают главы об интеграции искусств (музыки, живописи, скульптуры, садово-паркового искусства, архитектуры) на уроках литературы. Главное внимание уделено проблеме глубинной связи искусств во внутренней организации художественного текста, когда писатели обращаются к другим искусствам для расширения возможностей искусства слова, создания эффекта синестезии. В центре внимания находится истолкование с позиций школьного литературоведения знаков художественного текста, определяющих его мироконцепцию: культурно-семантических образов садов и парков, произведений изобразительных искусств, архитектурных образов, хронотопа усадьбы и города.
Особенность построения книги – единство теории и практики. Все теоретические положения иллюстрируются практикой: учебными примерами, фрагментами и целыми уроками. Именно в последнем разделе пособия представлены разработки уроков разных типов и видов, которые на практике претворяют идеи интеграции, диалога, изучения художественного текста как культурного универсума.
Данная книга учебная. В каждой главе даны конкретные рубрики, чтобы читателю было легче вычленять и структурировать учебный материал. В конце главы выделяется круг основных понятий, которые в нем освещаются, даются вопросы и задания для самостоятельной работы. Задания разной сложности; некоторые из них требуют от будущих педагогов (именно на них они в большей степени и ориентированы) серьезной творческой работы: написания сочинений, создания разработок уроков или их фрагментов. Задания повышенной трудности идут в тексте со значком.
В целях сокращения объема книги и облегчения ее научного аппарата в текст внесены ссылки на наиболее часто цитируемые издания сочинений и писем русских писателей (перечень расположен в алфавитном порядке). В них указывается номер тома (римской цифрой) и страницы для многотомных изданий или только страницы для изданий однотомных. Ссылки на собрание писем Тургенева имеют вначале букву «П».
СОЧИНЕНИЯ И ПИСЬМА
Блок АЛ. Собр. соч.: В 8 т. – М.; Л., 1960–1963. Т. 1–8.
Буало К Поэтическое искусство. – М., 1957.
Булгаков MA. Собр. соч.: В 5 т. – М., 1990.
Гоголь КВ. Поли. собр. соч. – М.; Л., 1937–1952. Т. 1–14.
Гончаров И. А. Собр. соч. – М., 1952–1955. Т. 1–8.
Жуковский В. А. Собр. соч.: В 4 т. – М., 1959. Т. 1–4.
Есенин С. А. Собр. соч.: В 3 т. – М., 1970. Т. 1–3.
Клюев Н. А. Сердце Единорога. Стихотворения и поэмы. – СПб., 1999.
Корнель К. Театр: В 2 т. – М., 1984.
Лермонтов М. Ю. Собр. соч.: В 4 т. – М.; Л., 1962. Т. 1–4.
Мандельштам О. Э. Собр. соч.: В 4 т. / Под ред. проф. Г. П. Струве и Б. А. Филиппова. – М., 1991. Т. 1–4. Маяковский В. В. Собр. соч.: В 8 т. – М., 1968. Т. 1–8. Пушкин А. С. Поли. собр. соч.: В 17 т. – М., 1995. Тургенев КС. Поли собр. соч. и писем: В 30 т.; Сочинения: В 12 т. – М., 1978–1981; Письма в 18 т. – М., 1978–1987. Чернышевский КГ Поли. собр. соч.: В 15 т. – М., 1939–1953. Т. 1–15.
Раздел I. Культурологические основы изучения литературы
Глава 1. Воспитание «человека культуры» и задачи образования
Кризис знаниецентрической школы
На смену знаниецентрической школе в XXI в. приходит школа культуроцентрическая. Ее цель – усвоение учащимися ценностей культуры, постижение основных типов сознания человека, отражающих этапы его духовного развития. За годы учебы выпускник школы должен не только подготовиться к взрослой жизни, но и догнать человечество в его культурном развитии, «обжить» дом культуры как родной дом и создать себя по законам культуры.
В связи с этим качественно меняются не только содержание образования, но и структура учебных предметов, технология их преподавания, методы и приемы. Знаниецентрическая школа, ориентированная на воспитание «человека образованного», сейчас явно не соответствует нашей социокультурной ситуации, так как простой путь усвоения суммы знаний, которые увеличиваются в геометрической прогрессии, приводит к необратимым последствиям. Прежде всего такая школа порождает технократическое мышление, отличительной особенностью которого является взгляд на человека как на обучаемый объект, а не на личность со свойственной ей внешней и внутренней свободой. Следует заметить, что технократическое мышление не является характерной особенностью мышления представителей науки и техники. Оно может быть свойственно и политику, и гуманитарию, и педагогу, и искусствоведу. Культивирование технократического мышления оборачивается для человечества знанием, для которого не существуют категории нравственности, совести, добра и красоты.
Не менее уродливой издержкой современной цивилизации является существование «мозаичной культуры» как порождения «обильного и беспорядочного потока случайных сведений»[1] средствами массовой коммуникации. В результате этого воздействия в сознании реципиента остаются обрывки знаний, впечатлений и идей, в большинстве случаев совершенно не прочувствованных и не пережитых. Современный человек «клипового сознания» зачастую знающий, но не осознающий, морализирующий, но безнравственный, информированный, но не культурный.
Даже беглый взгляд на наш быт и наше бытие, не говоря уже о социологических исследованиях, свидетельствует о приземленности современного человека, стандартизации его мышления и поведения, примитивном развитии духовных потребностей и эстетических чувств, ориентации многих людей на убогую молодежную субкультуру. Появился массовый тип человека, переступающего через моральные нормы, не знающего ответственности перед настоящим и будущим, перед людьми и совестью, неудержимо стремящийся к комфорту, власти, обладанию. Это во многом объясняется тем, что в конце XX в. произошел невиданный разрыв между культурой и образованием, «распалась связующая нить» между традициями, людьми, эпохами, культурами, что привело к глобальному кризису образования[2].
С каждым годом образование все меньше выполняет свою функцию подготовки новых поколений к вхождению во «взрослую» социальную жизнь. Молодые люди, по мнению социологов, утрачивают связь с прошлым, духовной культурой своего народа и человечества в целом и превращаются в маргиналов. Происходит «измельчание человеческого материала, движущей силой общественных процессов становится широкомасштабное манипулирование людьми»[3].
Кризис образования углубляют и нарастающая в современном мире экологическая катастрофа, угроза ядерной войны, терроризм. Человечество поставлено перед проблемой выживания, поэтому образование должно способствовать изменению человеческого мышления, способов и типов его поведения в современном мире.
Идея школы воспитания «человека культуры»
Современная школа подошла к необходимости выработки новых концептуальных подходов к образованию.
Ее приоритетными задачами являются следующие:
– гуманитарный, гуманитаризирующий, человекообразующий подход, рассматривание образования как творческого акта, способствующего становлению «образа человеческого»;
– формирование нового образа мира и человека, который является продуктом творческой деятельности человеческих сообществ и присущих им историко-культурных традиций;
– создание специальных социокультурных техник и технологий перестройки образования[4].
Усилия образования необходимо сосредоточить на том, чтобы включить человека в прошлое, настоящее и будущее культуры, установить отношения между культурой (культурами) как связью людей и цивилизаций (цивилизациями), как связью вещей. Основой образования должны являться не столько учебные предметы, сколько способы мышления и деятельности. В этом плане особую роль может сыграть философия образования, которая призвана вооружать прикладные науки и педагогическую практику теоретико-познавательными, методологическими и аксиологическими подходами.
Образовательные учреждения уже сейчас делают многое, чтобы преодолеть кризис между культурой и образованием. Можно выделить основные направления этой деятельности:
– онаучивание школы (введение новых предметов, попытки расширить школьные предметы до усвоения основ наук);
– разработка нетрадиционных учебных курсов и спецкурсов, альтернативных программ, учебников и учебных пособий;
– создание экспериментальных альтернативных школ, гимназий, лицеев, которые пытаются синтезировать педагогические идеи известных отечественных и зарубежных педагогов;
– введение новых технологий и методик обучения (в первую очередь внедрение в учебный процесс идей развивающего обучения).
Все эти педагогические меры способствуют преодолению кризиса образования, но преодолеть его кардинально не могут, так как они недостаточно ориентированы на моделирование новой структуры личности. Задача состоит в том, чтобы строить образование как систему самопроектирования, возделывания человека, восхождение его к культуре[5]. В идеале человек в рамках образования должен стать на путь образования самого себя, сознательного и ответственного выбора тех способов мышления и действия, которые будут способствовать сохранению жизни, культуры, природы. Время подвело нас к необходимости изменения всей парадигмы образования.
В философской и педагогической литературе все активнее звучит мысль о создании кулътуросообразной школы, главной задачей которой является воспитание «человека культуры» (B. C. Библер, И. Е. Берлянд, Ю. С. Курганов, М. С. Каган, Н. Н. Пахомов, В. М. Розин и др.). Создание такой школы не очередное мероприятие, а длительный и масштабный процесс, требующий консолидации всех общественных институтов, педагогизации всего общества. Школа должна стать одним из главных его институтов.
Воспитание «человека культуры» предполагает прежде всего «возделывание» человека средствами культуры, взращивание в себе неповторимого Лица, восхождение по Пути человеческой культуры. «Человек культуры» причастен к исторической и культурной традиции человечества. Он овладел разными формами речи и языками, знаками и символами, приобщен к миру науки и техники, искусству и культуре. А главное – у него сформированы культурные ценности: стремление к нравственности, красоте, высшим духовным началам. Такой человек как бы замыкает на себя культуру, переживает ее в своем сознании, учится смотреть на мир глазами человека других времен и народов, ощущает себя одновременно гражданином своей страны и всего мира. В этой связи стержнем, каркасом образования должно быть становление человеческого в человеке через деятельность (или имитацию деятельности в игре), в которой воспитуемый осваивает способы мышления и способы деятельности, социальные и культурные роли.
Процесс формирования человека и его «окультуривание» можно представить в виде трех звеньев. Исходное – освоение нормобразцов, становление пространства жизни – процесс социологизации человека. Второе звено – развитие личности, освоение разных способов мышления и способов деятельности, проектирование новых форм социальной жизни. Третье звено – складывание своего образа, проживание своей личной истории, вхождение в культуру через культурные контексты, освоение ее знаков, символов, типов сознания. В конечном смысле человек должен стать фюсисом, то есть произведением, понимаемым во всем богатстве смысла, придаваемого ему древними греками.
Гуманизация школы. Сущность гуманитарного мышления
Исходной идеей преобразования школы, усиления ее аксиологической функции является гуманизм, т. е. признание человека как высшей ценности. Он проявляется в творениях, мыслях и поступках людей, соответствуя рериховской интерпретации культуры как культа света и добра в противовес культу темноты, насилия и зла. Внедрение гуманистических начал в педагогический процесс, иными словами гуманизация школы, предполагает, с одной стороны, рассматривание человеческой истории, человеческой культуры как развитие духовности, которое должно предстать перед обучаемым в виде взлетов и заблуждений людей в их неустанном стремлении к добру, истине, красоте – человечности. С другой стороны, гуманизация – это «очеловечивание» всего процесса обучения и воспитания, формирование в растущем человеке чувства собственного достоинства, самоуважения, а вместе с тем и альтруизма, превращение его в равноправный субъект обучения, воспитание в нем творца, который творит себя и созидает мир.
В XX в. одной из самых продуктивных идей, внесших новое содержание в сущность гуманизма, является идея планетарного сознания, выдвинутая В. И. Вернадским. «Жизнь человечества, – утверждал ученый, – при всей ее разнообразности, стала неделимой, единой. Человек впервые понял, что он житель планеты и может – должен мыслить и действовать в новом аспекте отдельной личности, семьи или рода, государства или союзов, но и в планетарном аспекте»[6].
Новую фазу развития человечества, его мышления Вернадский обозначил ноосферой. Именно исходя из учения Вернадского о ноосфере в последние десятилетия формируется представление об общечеловеческом характере современной цивилизации, необходимости синтеза наук, культур.
Планетарное сознание предполагает формирование нового типа мышления, которое после работ М. Бахтина стали называть гуманитарным.
Гуманитарное мышление – это бесконечное познание мира и его оценка, включение личности в процесс мышления и извечный диалог, полилог образов культуры, логик, сознаний. Человек гуманитарного мышления как бы общается с людьми разных стран и эпох, разными «разумами» по «последним» вопросам бытия. Гуманитарное мышление или «разум общения разумов» (А. Лосев) – необходимая гарантия выживания человечества в XXI в., развития личности, умеющей понимать и принимать разные точки зрения, разные логики, разные типы сознания. «Проклятые» вопросы бытия, загадки культуры и человеческого духа становятся личностно значимыми для человека с таким типом мышления, являются предметом его душевного и духовного напряжения, объединяют его микромир с макромиром Вселенной.
Гуманитарное мышление осваивает мир не вещественно-натуралистически, а духовно-смысловым образом как аксиологическую сущность. Его задачи – ценностно окрасить мир, наполнить его высшим смыслом и сделать сопричастным человеку, обществу, раскодировать содержание культуры по ее памятникам, текстам, знакам, кодам, шифрам. В этой связи М. Бахтин отмечал, что предмет может воздействовать на личность только тогда, когда раскрывает свой потенциал, становится словом, приобщает человека к словесно-смысловому тексту[7].
Еще одна особенность гуманитарного мышления: в его познавательном акте происходит встреча двух субъектов, двух сознаний – авторского и реципиента, который выступает как соавтор. Поэтому акт гуманитарного познания – это всегда со-творчество, со-деятельность, со-знание.
Гуманитарное мышление формирует целостную картину мира и определяет место человека в ней, способствует овладению критериями оценки и интерпретации социальных, культурных и природных явлений, обеспечивает трансляцию человеческого опыта, интериоризируя (присваивая) культурные завоевания предыдущих поколений.
Гуманитарное знание, гуманитарное мышление определяют новое понимание гуманизма и задачи образования и воспитания. Они как бы выступают в качестве средства гуманизации жизни, педагогического процесса. Личность, чтобы «догнать человечество», должна прожить «для себя» культуру, т. е.пройти ее этапы в своем духовном развитии. С другой стороны, она должна участвовать в современном большом диалоге, полилоге культур и сознаний. Так осуществляется связь единичного с универсальным, всеобщим.
Это единство гуманистического и гуманитарного, по мысли М. Хайдеггера, и составляет суть подлинного образования, или пайдейи, как его определяли древние греки. Образование лишь тогда выполняет свою миссию, когда оно восходит к высшим, сверхпрагматическим смыслам, достраивается до гуманитарного, гуманистического уровня, даруя человеку самого себя, открывая судьбу человечества в его историческом свершении, приобщая к таинству любви, смерти, к высшим сущностным смыслам. Подлинное образование – это самосозидание, самооценка, сотворчество, жизнь у истоков культуры, в которой человек обретает свой Дом.
Философский уровень постановки данной проблемы требует ее решения в теории и практике современной школы. В материалах педагогических дискуссий, программах и концепциях гуманитарного образования особо подчеркивается необходимость воссоздания в процессе обучения отечественного и мирового социокультурного контекста, обновления не только содержания образования, но и гуманитаризации культурно-ценностной, социально-психологической среды учебного заведения, преодоления рецидивов авторитарности школы, установления новых отношений между учеником и учителем, основанных на партнерстве, сотрудничестве, сотворчестве[8].
Переход от парадигмы просветительской к парадигме человекоцентристского образования связан с разработкой философско-педагогической модели «человека культуры», обновлением структуры образования, его содержания, созданием новых методик обучения. Психолого-педагогический аспект этой проблемы видится в обучении учащихся разным способам речевой и мыслительной деятельности, формировании коммуникативных способностей, рефлектирующего сознания, эмпатии и культуры чувств, введении школьника в мир культуры посредством создания культурной среды, различных методов и приемов «погружения» в культуру, обучению языку, коду культуры.
Среди традиционных школьных предметов, играющих важнейшую роль в формировании сознания подрастающего человека, его «вживания» в культуру, особое место занимает искусство слова. Оно наряду с другими искусствами в концентрированном виде отражает духовную жизнь человечества, становится сильнейшим средством воспитания «человека культуры». В современном понимании филологии заложен глубокий культурологический смысл. В свете работ М. М. Бахтина ее рассматривают как философскую антропологию, а ее тексты как тексты-монады, отражающие и втягивающие в себя множество существовавших и возможных текстов, всю культуру в ее бытийном смысле.
КРУГ ПОНЯТИЙ
Знаниецентрическая и культуроцентрическая школа, «человек культуры», гуманизация, ноосфера, гуманитарное мышление.
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ
1. Какую школу называют знаниецентрической? В чем причина ее кризиса?
2. Какие приоритетные задачи стоят перед современной школой? В чем сущность идеи школы воспитания «человека культуры»?
3. Как с концепцией новой школы связаны идеи гуманизации образования, формирования гуманитарного мышления? Какую роль в формировании гуманитарного мышления играет искусство и литература?
Глава 2. Искусство и литература как самосознание культуры
Понятие культуры. Культура и цивилизация
Исходным пунктом культуросообразной, человекоцентрической школы является понятие культуры. В современной науке культура или «вторая природа» рассматривается как сложное материальное и духовное бытие человека. Насчитывается несколько сотен определений культуры: от ее понимания как нормативного образца поведения до аксиологических и технологических концепций.
Среди многочисленных классификаций можно выделить основные: антропологическая (А. Кренбер, К. Клакхон: культура – сокровищница всего, созданного людьми), аксиологическая (В. Виндельбанд, Г. Риккерт: культура – это мир ценностей), социологическая (Т. Парсон: культура – форма трансляции социального опыта, знаний, верований), просветителъско-образователъная (И. Гердер: культура – обработка, возделывание души, ума), психологическая (К. Юнг: культура – отражение коллективного бессознательного начала человеческой психики), коммуникативная (А. Моль: культура – система коммуникаций, путь от создателя культурных благ к потребителю), семиотическая (Ю. Лотман: культура – знаковая система), структуральная (Р. Барт: культура есть взаимодействие текстов), игровая (И. Хейзинга, Г. Гессе: культура – это своеобразная интеллектуальная или производственная игра).
В теоретической модели М. Кагана культура служит опредмечиванию духовных сил человека, благодаря чему и осуществляется трансляция человеческого опыта от одного поколения к другому, что обеспечивает исторический прогресс.
Обратный путь – распредмечивание того, что заложено в предметном бытии культуры. Именно такой подход к культуре наиболее удачно определяет культуросообразную сущность образования и может быть положен в основу технологий литературного образования.
Рассматривая понятие «культура», следует его дефинировать от понятия «цивилизация», хотя в научной литературе они нередко рассматриваются как синонимичные. Их разграничение началось уже в начале нашего века в философии, эстетике и филологии. Так, в статье «Крушение гуманизма» А. Блок рассматривал цивилизацию как деградацию культуры, утратившей свою гуманистическую сущность (VI, 100–103).
В культурологии наиболее распространенным подходом к разграничению этих двух понятий является обозначение цивилизации как результатов материальной деятельности людей (мира вещей), а культуры – как сферы духовности (мира идей и ценностей)[9]. Такой подход к этим понятиям, безусловно, – следствие обращения к известной книге О. Шпенглера «Закат Европы», в которой автор представляет цивилизацию в виде совокупности технико-механических элементов, противопоставляя ее культуре как сфере органически-жизненного[10].
В данном пособии понятие «культура» рассматривается преимущественно как мир внутренний, духовный мир человека, своеобразный код его жизнедеятельности, матрица цивилизации. В этой связи история являет собой развитие и смену культур, которые, однако, не считаются чем-то бытовавшим только в прошлом, но и существующим в настоящем благодаря своим архетипам, кодам, знакам, символам. Причем культуры не только живут как определенная информация, но и могут участвовать в диалоге культур современности.
Исторические типы культур
Сменяемые друг друга культуры в процессе непрерывного развития общества и человека представляют собой исторические типы культур, которые могут расслаиваться на подтипы под влияниям этнической и социальной дифференциации.
Существует множество классификаций исторических типов культур. Наиболее значительными структурообразующими элементами культуры, придающими ей цельность, выступают язык, наука, искусство, религия, этика.
Одну из первых классификаций исторических типов культур разработал русский философ Н. Я. Данилевский. Еще до О. Шпенглера в развитых культурах он выделяет древний, средневековый и современный периоды, рассматривая бытие каждого культурно-исторического типа по аналогии с жизненными циклами биологических организмов. Его классификация насчитывает 10 культур: египетскую, древнесемитскую, индийскую, китайскую, иранскую, еврейскую, греческую, римскую, аравийскую, германо-романскую, или европейскую. Кроме того, две цивилизации – мексиканская и перуанская, по его мнению, погибли насильственной смертью на ранней стадии развития. Н. Данилевский отстаивает концепцию замкнутости культур, отводя особую мессианскую роль славянской культуре.
Наиболее законченной теория замкнутых цивилизаций и локальных культур предстала в уже упомянутой книге О. Шпенглера «Закат Европы». В мировой истории автор выделяет восемь типов культур: египетскую, вавилонскую, индийскую, китайскую, майи, греко-римскую, арабскую, культуру Западной Европы.
Немецкий философ полагает, что каждая из названных культур прошла своеобразные периоды развития: весну (детство), лето (юность), осень (зрелость), зиму (старость). Такой подход О. Шпенглера к культуре интересен тем, что позволяет увидеть ее диалогичность уже в пределах одной культуры, а не только между ними, хотя его теория замкнутости культур не представляется убедительной. Свою культурологическую концепцию О. Шпенглер строит на сопоставлении, а точнее, противопоставлении культуры и цивилизации. Основанием для вычленения культуры в каждый отдельный тип он считает мифологию, религию, тип мышления человека, этику, идеологию, искусство, политическое и государственное устройство общества.
К. Ясперс, как бы споря со Шпенглером, в своей теории исходит из того, что человечество имеет единые истоки и единый путь развития. Определяющую функцию для выделения исторических типов культур он отводит философии, которая, по его мнению, является признаком духовной зрелости общества. Возникновение философии К. Ясперс связывает с существованием культур в период примерно с 800 г. до н. э. и до 200 г. до н. э., который он называет «осевым временем».
Впервые человек в это время осознал свое бытие в целом, самого себя и свои границы. Рождалось самосознание человечества, его духовное основоположение. Появился тип такого человека, который сохранился до нашего времени. Предшествующие «осевому времени» древнейшие цивилизации Востока, которые Ясперс отнес к доисторическому времени, связаны с мифологическим мышлением человечества, которое еще не достигло подлинного самосознания. В период протекания «осевого времени» «началась борьба рациональности и рационально проверенного опыта (логоса) против мифа, затем борьба за трансцендентного Бога против демонов ‹…› миф же стал материалом для языка, который теперь уже выражал не его исконное содержание, а нечто совсем иное, превратив его в символ»[11].
Народы, втянутые в орбиту «осевого времени», стали творить исторический процесс. Другие же, не соприкоснувшиеся с культурами «осевого времени», остались на уровне природного существования. Вместе с тем втягивание в орбиту «осевого времени» могло произойти и значительно позже через соприкосновение с германскими и славянскими народами на западе и японцами на востоке.
Концепция К. Ясперса является одной из самых интересных и успешно используется в культурологии и литературоведении. Так, авторы статьи «Категории поэтики в смене литературных форм» связывают художественные типы сознания с «доосевым» и «осевым временем» К. Ясперса, соответственно называя словесное искусство «доосевого времени» архаическим, или мифотворческим, а литературу «осевого» и «послеосевого времени» вплоть до XVIII в. – традиционалистской, или нормативной[12].
Культура как единый исторический процесс человечества
Несомненное достоинство концепции К. Ясперса в том, что она позволяет историю человеческой культуры представить как единый процесс, выработать общую методологию ее рассмотрения. Всемирную историю немецкий философ делит на четыре больших периода. Сначала доистория человечества – формирование человека «со всей присущей ему сферой бессознательного»[13]. В доистории (она длится сотни тысяч лет) К. Ясперс выделяет два важных момента: биологическое развитие человека и историческое, связанное, несмотря на отсутствие письменности, с передачей навыков.
Второй этап развития человечества – это, собственно, начало истории, которая составляет всего около пяти тысячелетий. По мнению К. Ясперса, скачок человечества из доисторического процесса в историю связан с развитием сознания и способности человека передавать духовное достояние, с наличием в обществе людей-мудрецов, умных правителей и героев, а также усовершенствованием условий жизни посредством научных открытий и техники.
Ко второму периоду философ относит существование древнейших культур Востока: египетской, шумеро-вавилонской, доарийской, культуры долины Инда, архаического мира Китая, Эгейского мира.
В третий период, так называемое «осевое время», происходит как бы новое рождение человека – духовный прорыв ряда народов – греков, иранцев, индийцев, китайцев – объединение народов в единое человечество. Вместе с тем с середины последнего тысячелетия до н. э. в мире начинаются процессы, которые разделяют его на Восток и Запад. К VII–X вв. н. э. в человеческой истории сложатся два этих главенствующих мира. В восточном мире можно выделить такие исторические типы культур: конфуцианско-даостская картина мира, индо-буддистский тип культуры, мир исламской культуры.
Западный мир культуры возникает на основе античности и христианства. Носители его ценностей – романо-германские народы, которые со времени Ренессанса и Реформации благодаря рациональному типу мышления, открытиям науки и достижениям техники совершили исторический прорыв, положив начало мировой глобальной истории человечества. И в этом мировом процессе смогли участвовать только те народы, которые восприняли эти научно-технические достижения. Период мировой истории, длившийся примерно с 1500 до 1830 г., стал непосредственной предпосылкой нашей духовной жизни.
Отдельно в своей работе К. Ясперс рассматривает культуру России, которая через духовную связь с Византией приблизилась к «осевым культурам». Вместе с тем православие не только сблизило Россию с Западом, но и со временем разъединило их. Потребовались реформы Петра I, духовные процессы XVIII в., которые возвратили Россию в единый мировой процесс.
На данные классификации типологий культур и опирается современная методическая мысль для разработки концепции культурологического подхода к изучению литературы.
Подсистемы культуры. Понятие о художественной культуре
На первоначальном этапе своего развития, на уровне мифологического сознания, человеческая культура не знала дифференциации на субъект и объект своего бытия, соединяя в нерасторжимое целое реальное и нереальное, мертвое и живое, метафорически очеловечивая природу и весь мир предметов. Это синкретическое состояние культуры сказывалось и в нерасчлененности знания и ценностного осмысления действительности. Позже в культуре выделились три самостоятельные подсистемы: наука, идеология, искусство. Искусство представляет собой предметное бытие художественной деятельности человека. Это некая совокупность произведений, объединяющих творца и реципиента как в синхронии, так и в диахронии.
В последнее время вошло в употребление понятие «художественная культура», которое представляет собой своего рода «звено связи» между культурой и искусством (Б. М. Бернштейн, В. И. Волков, М. С. Каган, Л. Н. Коган, В. А. Конев, Ю. У. Фохт-Бабушкин). В работах этих ученых художественная культура рассматривается в трех измерениях.
Ее первое измерение – морфологическое, которое характеризуется возникновением, развитием и функционированием всех видов, родов и жанров искусства.
Второе – духовно-содержательное – определяется образом мира и человека, единым для всех искусств в каждую эпоху (с учетом национального своеобразия). Оно характеризует специфический творческий метод и опредмечивающий его художественный стиль творца, живущего в определенную культурную эпоху и относящегося к определенному этносу.
Третье измерение – институциональное – выражается в способе организации художественной деятельности в каждом типе культуры, что проявляется в характере художественного производства и его потребления, регулируемом художественной критикой, эстетикой, искусствоведением.
Все это и объясняет, почему не искусство, а художественная культура является учебным предметом. Вместе с тем в качестве философской категории в данном пособии будет использоваться понятие «искусство».
Искусство как самосознание культуры
Искусство, являясь составной частью культуры, представляет ее целостно, ибо оно, находясь в ее центре, изоморфно самой культуре. Иными словами можно сказать, что если культура представляет собой всю полноту человеческой деятельности, то искусство является своего рода микрокосмосом, отражающим весь культурный универсум. Оно – тексты, знаковая система, коды, символы, архетипы, образы культуры. Это в одинаковой степени относится и к литературе как органической части искусства. По выражению М. С. Кагана, искусство, принадлежащее к каждому конкретному историческому, этническому типу или подтипу культуры, становится как бы его «образной моделью»[14]. Эту связь культуры, искусства и литературы можно представить в виде рис 1.
В отличие от других элементов художественного сознания – науки, идеологии, философии, которые выполняют функцию сознания культуры, искусство и его составная часть – литература – могут рассматриваться как самосознание культуры. Это обусловлено тем, что искусство не абстрагирует субъект от объекта, оно одухотворяет, одушевляет, очеловечивает все, что окружает человека в мире. Образно говоря, искусство можно представить своеобразным зеркалом, в которое смотрится культура, познавая себя и отражаемый ею мир.
Рис. 1.
Культура как текст
В современной филологии и культурологии представляется продуктивной идея Ю. М. Лотмана рассматривать культуру по аналогии с языком, что позволяет вскрыть структурные законы культуры. Известный литературовед утверждает: «Законы построения художественного текста в значительной мере суть законы построения культуры как целого»[15].
Таким образом, культуру можно рассматривать как сумму текстов, сообщений, которыми обмениваются различные адресаты, или как один текст, одно сообщение, отправляемое коммуникативным «я» человечества самому себе. С этой позиции культура может быть воспринята как суть колоссальной автокоммуникации человечества.
Первый вид коммуникации Ю. М. Лотман схематически обозначил «Я-ОН», второй – «Я – Я». При этом он полагает, что первый из них более характерен для новоевропейской культуры, второй – для средневековой культуры. Вместе с тем следует заметить, что в любом историческом типе культуры, в любом художественном направлении могут параллельно существовать обе эти системы коммуникации, что необходимо учитывать при толковании конкретного произведения искусства или литературы, которое тоже может строиться по принципу «маятникообразного качания» между этими системами.
Очевидно, что в XIX в. преобладает коммуникация, направленная на сообщения, а в литературе XX в. – автокоммуникация. Во втором типе коммуникации вводятся не столько новые сообщения, сколько новые коды, поэтому исходное сообщение часто перекодируется, приобретая черты нового сообщения, а адресант и адресат совмещаются в одном лице. Роль сюжета и жанровой специфики и в данном случае заметно ослабляется, зато возрастает роль игрового начала в произведении, увеличивается свобода авторского сознания.
Так как в художественных произведениях один и тот же текст может играть роль и сообщения и кода (все зависит от установки воспринимающего), изучение литературы и искусства предполагает не только интерпретацию текста как общение читателя (реципиента) с автором, но и интерпретацию текста в качестве кода, способа его функционирования. В процессе восприятия и анализа текста автокоммуникация автора произведения становится своего рода автокоммуникацией реципиента. «В процессе такой автокоммуникации происходит переформирование самой личности, с чем связан весьма широкий круг культурных функций – от необходимого человеку в определенных типах культуры ощущения своего отдельного бытия до самопознания…»[16].
Искусство как квазисубъект
Искусство можно рассматривать как своеобразную форму деятельности человека, в ходе которой самосознание (квазисубъект) обретает знаковое обозначение и последний как бы становится квазиобъектом. В соответствии с этим художественную деятельность и восприятие произведений искусства есть основание определять как экстериоризацию и интериоризацию, «опредмечивание и распредмечивание индивидуального самосознания, превращение квазисубъекта в квазиобъект и обратно»[17].
Таким образом, искусство является своеобразным квазисубъектом, представляющим общество в его отраженной форме, а вместе с тем и «переводчик» смыслов общественного сознания в значимости и смыслы индивидуального самосознания. При этом своей лирической стороной оно обращено к индивиду, а эпической – к обществу. В искусстве культура обретает свою цельность, искусство становится знаковой системой, кодом, матрицей культуры, а конкретные произведения отражают определенный тип сознания человека, характеризуют определенный культурно-исторический тип человека. Следует заметить, что в тексте программируется, моделируется не реальный мир вообще, а лишь пропущенный сквозь призму сознания. Художественный текст – это своеобразная мысль о мире, его виденье, а внутритекстовая действительность есть совокупность чьих-то ощущений. Поэтому читатель (слушатель, зритель) как бы смотрит на мир сквозь призму авторского сознания, которое является условной моделью отражаемого мира.
На каждой ступени своего развития искусство создало определенный образ мира и человека, сформированного в данном типе культуры. Осмысление сменяемых друг друга или вступающих в диалогические отношения образов, моделей мира позволяет представить историко-художественный процесс и историческую смену культур, а также смену типов человеческого сознания.
КРУГ ПОНЯТИЙ
Определения культуры, культура и цивилизация, «осевое время», этапы развития человечества, подсистемы культуры, художественная культура, сознание и самосознание культуры, квазисубъект и квазиобъект.
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Что такое культура? Какие существуют основания для ее определения?
2. В чем различие между культурой и цивилизацией?
3. Что представляют собой исторические типы культур? Что может быть положено в основу для их вычленения?
4. На чем строится теория замкнутых культур (О. Шпенглер) и теория единства культур (К. Ясперс)?
5. Истолкуйте смысл понятия «осевое время».
6. • Раскройте суть этапов исторического развития человечества (концепция К. Ясперса). Насколько она применима к объяснению развития фольклора и литературы?
7. Объясните понятие «художественная культура» и раскройте ее структурные уровни.
8. Представьте модель культуры. Как в ней отражена связь между природой, обществом, человеком и культурой?
9. Что дает основание определять искусство и литературу как самосознание культуры?
10. • Как вы понимаете идею Ю. М. Лотмана и A. M. Эткинда рассматривать культуру как текст, а искусство как квазисубъект культуры? Как эта идея находит свое воплощение в процессе анализа и интерпретации художественного текста на уроках литературы?
Глава 3. О культурологическом подходе к изучению литературы
Бытие в культуре Бахтинская теория текста
Культуру можно рассматривать как форму одновременного бытия и общения людей разных времен, эпох. В культуре человек открывает мир, обретает его лично для себя, интериоризируя (то есть переводя во внутренний план, присваивает его). Обретение этого мира осуществляется в тексте, произведении, в общении автора и читателя. Мир как бы заново рождается на глазах реципиента (потребителя культуры), он поглощает читателя с его мыслями, чувствами, ценностями, его бытием. Художественный текст, представляющий собой застывшую форму бытия, вновь обретает начало бытия при условии установления общения автора и читателя. Так начинается жизнь в культуре, представляющая собой диалог читателя с героями, авторами, другими читателями, критиками, веками, культурами.
М. М. Бахтин помещает в центр этого общения не текст вообще, а слово, взаимное общение людей. Он видит «человека там, где речь, речь там, где диалог, диалог там, где литература», литературный процесс, а шире – где существует силовое поле культуры[18]. Литературный текст дает «многогранность ракурсов», он ставит человека «на перекресток» коренных форм диалога, а тем самым и на перекресток коренных форм бытия, так как с позиций философии культуры и само бытие, его осмысление может рассматриваться «как если бы они были произведением»[19]. Поэтому бытие в культуре, общение в культуре есть общение и «проживание» жизни на основе произведения.
В бахтинских работах понятие текста дается в тройном освещении. С одной стороны, текст в узком смысле слова – это речь, отстраненная от человека, запечатленная при помощи знаков. С другой стороны, текст – это живая речь человека в процессе его общения, но понятая и доведенная до идеи текста, т. е. способная быть интерпретируемой вне присутствия человека. И, наконец, текст – это любая форма передачи смыслов в знаковых системах. Все эти три измерения текста связаны в теории Бахтина с пониманием произведения как формы самосознания и формы общения культур.
Бахтиным обоснован и новый – культурологический смысл филологии, заключенный в идее «текста текстов» – текста-монады, отражающего в себе и втягивающего в себя существовавшие и возможные тексты. Вобрав бытийный смысл других текстов, а шире – текста определенных культур, каждое художественное произведение раскрывает свой смысл на грани культур как общение, диалог сознаний, личностей, культур.
Так, например, в романе Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» главный герой оценивается не только с позиций быта и бытия русской жизни второй половины XIX в., но и с позиций христианства с его главной заповедью: «Не убий!» Вместе с тем трагедию Раскольникова можно сопоставить с трагедией Эдипа, мучительно осознающего свое преступление, которое предопределено древним хаосом, роком, с ним отчаянно, но тщетно борется герой. Преступление Раскольникова определяется его выбором между «теорией» и «натурой». Его трагедия – проникновение хаоса внешнего мира в цельное внутреннее «я» героя. И следствие этого – создание антигуманной теории.
«Малое» и «большое» время жизни произведения
Настоящее произведение культуры как бы существует одновременно в пространстве многих культур, живет одновременно в двух временах – «малом» (время сегодня) и «большом» (время всегда). «Малое время» можно определить как синхронное время, большое – как диахронное. «Малое время» проявляет себя пространственно. Это конкретный историко-географический хронотоп. Оно претендует на жизнь в «большом времени», пытается объявить себя «большим». Это свойственно многим произведениям так называемой массовой литературы, которые стремятся тотально захватить весь культурный космос.
Вершинные творения, воплощая высшие достижения художественной практики своей эпохи, ее прогрессивные идеи и тенденции, не принадлежат только этому «малому времени». Они побеждают, преодолевают тяготение пространства, его хаос, становятся культурным знаком, кодом культуры, обретая жизнь всегда. Поэтому, если жизнь в «малом времени» ограничивается вчерашним днем, то жизнь в «большом времени» – это неумирание художественного творения, его движение из прошлого через настоящее в будущее.
В культурологии и методике преподавания литературы жизнь художественного произведения в «большом времени» рассматривается как некая «биография», которую «дописывают» все новые и новые века. В ней можно выделить следующие этапы: «предысторию», «время рождения», «постисторию», «современное звучание»[20]. «Предыстория» произведения связана с его свойством заключать в себе, концентрировать сюжеты, мотивы, образы, идеи, символы, архетипы творений прошлого, принадлежащих к разным культурным эпохам, в том числе и к фольклорным сюжетам и мотивам, образам, которые можно обнаружить в художественной структуре любого крупного творения. Художественный текст, словно собирающая линза, фокусирует в себе культурную информацию, накопленную в прошедших веках. Мотивы, сюжеты, коды, образы создают ощущение культурной «объемности» художественного текста, его интеллектуальной насыщенности. Это особенно хорошо видно в произведениях, вошедших в библиотеку классики, например в романах И. С. Тургенева «Отцы и дети», И. А. Гончарова «Обрыв», М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» и др. Поэтому справедливо будет утверждать, что любой значительный автор словно стоит на плечах гигантов, которые жили до него.
«Время рождения» литературного произведения – история его создания. Для ее изучения необходимо выяснить, какие социально-общественные факты и обстоятельства, философские и нравственные идеи положены в основу художественного замысла, как работал автор над текстом, его жизненные и литературные источники. Д. С. Лихачев в этой связи писал: «Чтобы воспринимать культурные ценности во всей их полноте, надо знать их происхождение… знать, как, когда и при каких обстоятельствах оно было создано»[21].
Часто, не задумываясь о бессмертии своего творения, автор мыслил его как свое участие в диалоге о животрепещущих проблемах времени или как свой внутренний диалог человека определенного времени. Но, пройдя испытание временем, художественное произведение обретает жизнь в веках, если сумеет соединить свое время с другими временами, выразить общечеловеческое, приняв участие в непрерывающемся диалоге времен и культур. Так начинается его «постистория», или жизнь произведения в веках.
Новый этап бытования произведения в «большом времени» – это его современное звучание, т. е. прочтение произведения с позиций системы ценностей современности, его актуализация, диалог читателя как человека нашего времени с героями, автором данного текста, а через него участие в «большом диалоге культур» (B. C. Библер).
Актуализация произведения проявляется в его интерпретации. Новое прочтение художественного текста призвано сделать его актом современной духовной жизни, наших мыслей, чувств, переживаний. Только становясь «интерпретированным», произведение преодолевает время и включается в движение общественного сознания, а внутри него оно становится значимым для индивидуального сознания.
Постоянное возникновение новых интерпретаций текста обусловлено наличием временной, а следовательно, и смысловой дистанции между творцом и интерпретатором. Дистанции социальной, исторической, национальной, культурной. Подчеркнуто отстраненное восприятие художественного произведения крайне редко. Оно всегда связано с окружением воспринимающего другими контекстами, в результате чего и возникает силовое поле для понимания и интерпретации текста, а значит, и сотворчества воспринимающих текст. В школьном литературоведении всегда на первом плане находится самовыражение, самораскрытие интерпретатора, а лишь затем осмысление и оценка психологических, этических, нравственных, философских явлений.
Разнообразие интерпретаций текста в синхронном и диахронном времени создает потенциальные условия для диалога, разных толкований текста.
Среди современных интерпретаций текста особое место занимает культурологическая интерпретация, разработанная в трудах Д. С. Лихачева, В. Н. Топорова, позднего Ю. М. Лотмана, Б. Ф. Егорова. В их работах художественный текст рассматривается как культурный универсум, культурный космос. Он являет собой обобщенную модель мира, весь комплекс миропредставлений писателя, его философские, эстетические, религиозные и нравственные взгляды и их выражение при помощи системы знаков, кодов, мотивов, мифологем, символов и т. д.[22] Вместе с тем можно говорить и о национальном культурном универсуме. «В каждом Космосе складывается и особый Логос – национальное миропонимание, логика»[23]. Поэтому истолкование произведения и есть проникновение в его художественный космос, который образуют разные структурные уровни – от понятий и образов до мотивов, сюжетов, пластов культуры.
Литературный текст как отражение художественного сознания
Являясь самосознанием культуры, произведения литературы, представленные в виде своеобразных психологических образований, отражают определенный тип художественного сознания, характеризуют определенный культурно-исторический тип человека. Художественные творения – тончайший барометр, который гибко реагирует на все перемены в духовном, социально-психологическом климате эпохи в его единстве эмоционально-чувственной, бытовой, интеллектуальной, философской сферы. Тексты запечатлевают «практические» и «теоретические» формы социальной памяти, сознательные и бессознательные начала психики, мифологические и научные представления о человеке данной эпохи. По выражению О. А. Кривцуна, художественные произведения отражают разные структуры «исторической психологии с их особыми формами «сцепления» рационального и безотчетного, архетипического и новаторского»[24].
Следует заметить, что психологическую пластичность человека в истории запечатлевают не только вершинные произведения, так называемые шедевры, но и произведения второго ряда, беллетристика, которая удовлетворяет самые разнообразные вкусы и потребности обыденного сознания, гибко реагирует на общественное настроение, запросы, повседневные перипетии человеческого бытия. Именно такие произведения в значительной мере формируют стереотипы общественной и индивидуальной жизни. Поэтому для воссоздания культурного фона эпохи на уроках литературы необходимо обращаться и к произведениям беллетристики, которые, как небольшие горы, окружают высокие вершины – художественные шедевры. Вершинные произведения и произведения второго ряда составляют своеобразные культурные гнезда, отражающие специфику исторической эпохи, весь спектр в развитии приоритетов духовности – от особенностей бытовой жизни, интимных чувств до общественной жизни, своеобразия мышления, нравственно-эстетических идеалов. Так, о человеке 20-30-х гг. XIX в. нельзя судить только по произведениям А. Пушкина, но необходимо привлекать для этой цели и творения поэтов его плеяды, а также произведения таких популярных в свое время писателей, как М. Загоскин, Н. Кукольник, А. Бестужев-Марлинский, В. Бенедиктов, с творчеством которых в наше время знакомы в основном лишь узкие специалисты.
Читатель как субъект культуры
В процессе культурологического подхода устанавливается связь между исторической эпохой, типом культуры и способами мышления, особенностями восприятия мира людьми. Эту связь очень точно подметил А. Швейцер: «Кант и Гегель властвовали над умами миллионов людей, которые за всю жизнь не прочли ни одной строчки их сочинений и даже не подозревали, что повинуются им»[25].
Художественные произведения живут в сознании реципиента в виде концепций, представлений, образов, эмоциональных реакций, ассоциаций, опыта переживаний и размышлений, порождаемых текстом. Представляя собой затвердевшую форму бытия в словах, понятиях, образах, звуках, они ждут своего времени, пока не замкнется цепочка автор – читатель. И текст начинает жить, интонировать, приобретать разное звучание, обрастать новыми смыслами и ассоциациями, новыми текстами в самых разных значениях.
Текст, как воронка, втягивает реципиента с его миром эмоций и понятий, соединяет читателей в синхронии и диахронии. Происходит вхождение реципиента в культуру. Его сознание вступает в диалогические отношения с героями, автором, а через него с авторами, эпохами, культурами. Так читатель, воспринимая и интерпретируя текст, включается в «большой диалог» культур.
«Оживление» и функционирование текста возможно лишь при активной деятельности сознания реципиента, его сотворчества с автором. Читатель должен подняться до уровня авторского миросозерцания, «заразиться» его мыслями и чувствами, понять его модель мира и человека. Вхождение в текст предполагает как познавательную, так и рецептивно-эстетическую деятельность. Они амбивалентны, одна может переходить в другую, но вместе с тем каждая имеет свою особенность.
Познавательная деятельность прежде всего связана с когнитивными (мыслительными) процессами в сознании реципиента, в «расшифровке» кодов, смыслов, символов текста, постижении его философско-эстетических идей. Она осуществляется преимущественно как решение разного рода познавательных задач, разрешение диалогических коллизий. Ее во многом можно определить как процесс осмысления содержания произведения, перевод художественных образов в понятия, суждения, идеи, концепции.
Рецептивно-эстетическая деятельность предполагает духовную связь читателя с автором и его героями, которая выражается в эмоциональном отклике, сопереживании, сопричастности к происходящим событиям внешней и внутренней жизни. В ряде случаев это связано с внутренним воодушевлением читателя, эстетическими переживаниями, катарсисом.
Развитие познавательных и рецептивных способностей человека является необходимым условием овладения механизмом социальной «наследственности». Присваивая опыт определенной культуры, субъект внедряет его в свое сознание, овладевает ее нормами и сам становится носителем этой культуры. Таким образом, художественные тексты (как и тексты в широком смысле) выступают своего рода каналами передачи социально-исторического и художественно-эстетического опыта, позволяют встретиться в мире культуры двум (или многим) субъектам, независимо от того, в какую эпоху они жили или живут. Эти встречи происходят как в рамках одной культуры, так и в процессе межкультурной коммуникации.
Развитие культуры как смена типов художественного сознания
Культурно-историческое содержание той или иной эпохи преломляется в художественном сознании. Оно определяет отношение искусства к действительности и претворяется в поэтике, а «смена типов художественного сознания обусловливает историческое движение поэтических форм и категорий»[26]. Поэтому в прошлые эпохи встречи в культуре были затруднены. Вплоть до Гегеля мировая культура воспринималась как цепочка сменяющих друг друга, следующих друг за другом культур. Конечно, преемственность, диалог между культурами существовал всегда, но деление на мир «свой» и «чужой» также всегда прослеживалось. И классический тому пример – античные греческие полисы, для жителей которых все «другие» были варварами.
Единым конструктивным способом выражения особенностей определенной культурной эпохи примерно до XVI в. служил стиль, который являлся не только принадлежностью эмоционально-образного строя, но и целостной мировоззренческой программой. До конца XVIII в. роль ведущей поэтологической категории выполнял жанр. Начиная с середины XVII в. литература постепенно освобождалась от строгой жанровой регламентации, предельно сближаясь с конкретным бытием человека, отражая его мысли, чувства, мироощущение. Происходит «антропологизация» литературы. Переосмысляется понятие стиля: оно перестает быть нормативным и делается индивидуальным. Именно в это время впервые полноценно начинает осуществляться коммуникация между культурами, а, следовательно, и людьми разных типов сознания. По словам Гегеля в литературе «родилась та восприимчивость и свобода, благодаря которым стали ценить и понимать существующие великие художественные произведения нового времени, средних веков или даже ‹…› древних народов»[27]. В эпоху романтизма заканчивается длительная пора существования риторического слова, заданных форм, жанров, литературных средств. Литературный процесс в большей степени, чем в былые эпохи, определяет, с одной стороны, личность писателей, их философско-эстетические взгляды, с другой стороны, литературные направления, группировки, объединения.
Настоящий диалог между культурами, разными их субъектами стал возможен лишь в XX в., когда уже ни одна культура не могла претендовать на тотальный захват всего культурного пространства, когда в одном художнике смогли одновременно «ужиться» разные типы разумения, разные типы сознания. В качестве примера можно привести всемирную отзывчивость В. Брюсова, художественный артистизм А. Блока, удивительный протеизм О. Мандельштама. С «серебряного» века начался в русской литературе большой диалог разных поэтических школ, направлений, ориентации, художественных систем – большой диалог в культуре.
Этот новый этап в развитии человечества В. И. Вернадский обозначил ноосферой, связав его с формированием планетарного сознания. К идее планетарного сознания человека XX в. восходят представления об общечеловеческом характере современной цивилизации, гуманитарном типе мышления, предполагающем свободное перемещение в культурах. Сегодняшний человек как бы замыкает на себя культуру, общается с людьми, живущими в разных странах и эпохах. В этом его отличие от человека прошлых эпох, который выбирал и возводил в абсолют один тип поведения, один тип культуры.
Модели культур на уроке литературы
Полноценное вживание в определенный тип культуры, участие в диалоге культур на уроке литературы возможны лишь при условии понимания реципиентом кодов культуры, которые определяются национальным образом мира, географической средой, национальным складом психики, мышления. Человеческая культура не знает абсолютно неповторимых кодов, но своеобразные несоизмеримости, несовпадения тех или иных культурных реалий – лакуны – всегда обнаруживаются в процессе межкультурной коммуникации. Преодолеть эти возникающие затруднения помогают различные виды историко-культурных и этнографо-бытовых комментариев. Эти сведения – базовый культурный фонд, необходимый для проникновения в культуру. Но чтобы культура не представляла собой музей, чтобы она будоражила сознание реципиента, вызывала диалог, необходимо выстроить ее модель, определить ее ценностные доминанты. Процесс изучения литературы в свете культурологического подхода и предполагает знакомство обучаемых с моделями мира и образом человека в культурах, преломляющихся в разных типах художественного сознания, культур Древнего Востока, античности, Средневековья, Возрождения, классицизма, романтизма, реализма, модернизма, постмодернизма.
В рамках одной исторической эпохи эти типы художественного сознания могут пересекаться, перекрещиваться, диалогизировать: барокко и классицизм, романтизм и реализм, реализм и модернизм. Могут они также и дифференцироваться в более узкие литературные направления, объединения, в индивидуальные типы художественного сознания.
Рассмотрим два примера моделей культуры, которые позволят задать культурное пространство для изучения художественных текстов. Целесообразно начать с античности, поскольку западная культура именно от нее ведет свое исчисление.
Основой античного понимания мира является идея эйдоса (т. е. внутренней эстетически значимой формы), образа, составляющего основу понятия, позволяющего упорядочить хаос, определить его в эстетически значимый космос. Человек в античные времена имел свой дом в мироздании. Его сущность определялась через вещи, он являлся их мерилом. Отсюда в искусстве акцент делался на зрительное восприятие, стремление вывести жизнь из образа. Эта иконографичность относится не только к миру реальному. Так, у Платона идеальный мир – тоже видимый мир, мир зрительных образов.
Символ античного мира – это шар, состоящий из сфер и включающий в себя: небо, где обитают боги и куда устремлены земные вершины, наиболее известной из которых является Олимп; землю, на которой живут люди; мрачное подземное царство Аид, прибежище бестелесных духов умерших.
При всем видимом единстве, цельности античная культура внутренне диалогична. С одной стороны, человек в понимании древних греков удивительно гармоничен, совершенен телом и возвышен духом, живет в согласии с природой, которая в его представлении вся одухотворена, и он ее обожествляет. Эстетический идеал античного человека воплощен в культуре в статуях богов и героев, которые отличаются величавым спокойствием, жизнелюбием, изумительной грацией и чувством меры. Эта сторона мироощущения античного человека, по мысли Ф. Ницше[28], связана с культом Аполлона, лучезарным Фебом, покровителем искусств, врачевателем, спасителем от зол, оплотом космической и человеческой гармонии.
Вторая сторона античной культуры представлена античной трагедией, которая передает ужас древнего грека перед хаосом, роком, титаническими силами природы. Человеческий разум бессилен перед ними, ничто не может его защитить от слепых стихий. Немецкий философ обозначил эту сторону мироощущения древних греков дионисийским началом, связывая ее с обрядами в честь бога Диониса, безумными оргиями, когда людям приоткрывался первобытный хаос, и они, освобождаясь от общественных запретов, очертя голову бросались в водоворот темных природных стихий.
В XX в. этот подход Ницше к античному искусству был перенесен на процесс творчества. В соответствии с ним стали выделять два типа произведений. К первому типу относили произведения с ярко выраженным рациональным началом, построенные по законам классической ясности и гармонии.
Второй тип произведений определяло, соответственно, дионисийское начало, т. е. преобладание в произведении иррационального, подсознательного, не мотивируемого разумом.
Впоследствии К. Юнг разовьет эту теорию, выделяя в деятельности писателя два типа «литературной продукции». Первый тип он назвал психологическим, второй – визионерским. «Психологический тип, – утверждал исследователь, – имеет в качестве своего материала такое содержание, которое движется в пределах досягаемости человеческого сознания»[29]. Визионерский тип художественного творчества связан с переживанием, которое происходит «как бы из бездн дочеловеческих веков или из миров сверхчеловеческого естества»[30] и порождено неким извечным хаосом.
Внутри античной культуры второй вид диалога можно рассматривать как диалог литературы и искусства Греции и Рима.
В классический период истории Греции художественная деятельность была государственным делом, и индивид отождествлял себя с коллективом, т. е. с «мы». Частная жизнь почти полностью растворялась в общественной, и субъектом творчества чаще всего выступал полис. Это обобщенное общественное сознание очень хорошо передают греческая скульптура, которая выражает идеал должного, а также хоровая лирика.
В Риме уже началось отчуждение личности от громадного государства, и искусство становится частным делом. Его покровителем выступает не только государство, но и частное лицо (например, Меценат). В римской поэзии появляется взгляд поэта на себя со стороны. Личность в произведениях Катулла, Горация, Овидия «дерзит мыслить и судить обо всем и нести ответственность за свои поступки»[31]. Весьма убедительно это наметившееся индивидуальное в человеке передает римский скульптурный портрет. В этой связи будет уместно сопоставить греческие коры и барельефные изображения надгробий со скульптурными портретами римских императоров или простых граждан.
Античный мир, погибший после нашествия варваров, не исчез бесследно и на протяжении почти двух тысячелетий являлся арсеналом европейской цивилизации. Она возникла в результате встречи, взаимодействия, диалога различных цивилизационных потоков – античного и варварского, христианского и языческого.
Особенность сознания средневекового человека, его ума заключалась в его стремлении причаститься к Богу, абсолюту. Собственное бытие человека ничтожно, не самоценно. Его цель – актуализация сверхсущего, приобщение к нему. Оно является смыслом, в нем истина, гармония, красота, любовь. Поэтому предметом искусства Средневековья является не изменчивый, скоротечный мир людей, а суть, идея Бога. Человек Средневековья как бы жил одновременно в двух временах: своей обыденной жизнью, которая проходила в его доме, и жизнью всего христианского мира, суть которой олицетворял Дом Бога. Наряду с линейным временем, переживаемым в обыденной жизни, человек жил в сакральном времени – цикличном времени ежегодно переживаемой библейской истории – от рождения Христа к его смерти и воскресению.
Средневековый христианский мир – мир противоборствующих начал: света и тьмы, добра и зла, Бога и дьявола, неба и земли, мир горний и дольний.
В этом двойственном мире двойственен и сам человек, состоящий из души и тела, духовного и телесного. Символизирует этот мир крест с двумя перекладинами. Вертикальная перекладина обозначает конечное пространство от небес до преисподней, и проходит она через человеческое сердце. Поперечная перекладина символизирует собой конечное время от сотворения Богом мира до его последнего дня.
Художественной моделью средневекового мира является храм, уменьшенное повторение Вселенной, своеобразный микрокосмос. Своей восточной частью он обращен к городу Иерусалиму с горой Голгофой, на которой был распят Иисус Христос и откуда он начнет свое новое пришествие на землю. Вход в храм находится на западе, рядом с ним размещалась крещальня как символ прихода в христианство. Сам человек тоже представлял микрокосмос. Верхняя его часть символизировала все высокое, небесное, нижняя – земное, низменное. Интерьер храма (и прежде всего православного) определяли его космические, топографические и временные факторы, которыми объясняется расположение настенной живописи и икон в иконостасе[32].
Внутренний диалог в культуре Средневековья представлен прежде всего диалогом восточного и западного христианства. Он очевиден как в идее отношения человека к Богу (в православии смысл жизни виделся в приближении к Богу, в преображении человека, в просветлении его души; в католичестве – в оправдании человека перед Богом), так и во многих христианских догматах и символах. В искусстве, пожалуй, ярче всего он заявлен в композиции и конструкции готического (католического) и православного храмов. В готическом соборе основным композиционным элементом является вертикаль, стрельчатая арка, символизирующая устремленность к небу и ничтожество земного перед Божественным. В православном храме доминирующим элементом является закругленная арка, своими плавными очертаниями как бы соединяющая небо и землю, Бога и человека.
«Причащающееся» средневековое искусство ищет свой язык, свои знаки и символы установления контакта с Богом. Одним из приоритетных искусств становится словесное с его способностью выражать непосредственно устремления человека к Богу. Слово приобретает сокровенное, сакральное значение. Оно произносится в особых случаях и не имеет ничего общего с суетным, обыденным. Личное в словесном искусстве сводилось к анониму, писатель как бы перепоручал себя Богу, чтобы отразить существенное. Отсюда поражающая современного человека анонимность средневекового искусства.
Словесное искусство в средние века существовало одновременно в двух редакциях: книжной и устной, каждая из которых обслуживала разные сферы жизни человека. Они не только вели между собой диалог, но и взаимообогащали друг друга.
Разграничение литературы на светскую и религиозную породило кризис сакрального слова, изменило ее назначение, ее функции. Это связано с тем, что в период зрелого средневековья зародилось представление о самоценности человеческой личности.
Историко-культурный подход в школьных литературных курсах
Исторические типы культур, представляющие собой цивилизационную лестницу, позволяют выстроить на практике систему школьных курсов литературы. В настоящее время можно говорить о нескольких вариантах построения таких курсов. Первый из них – библеровская концепция диалога культур, диалогического общения культур в процессе изучения литературы. По мнению B. C. Библера, участие в диалоге культур для человека XX в. – непременное условие его выживания, ибо в современном бытии человека «стягиваются в одном культурном пространстве, в одном сознании и мышлении» «разные формы культуры: Запад, Восток, Европа, Азия, Африка, или в пределах самой Западной культуры – Античное, Средневековое, Нововременное мышление»[33].
Этапы литературного образования, следуя своей логике, B. C. Библер выстраивает в такой последовательности: 3-4-е классы – Античная культура; 5-6-е классы – культура Средневековья; 7-8-е классы – культура Нового времени (XVII–XIX вв.); 9-10-е классы – культура современности; 11-й класс – диалог разных культур.
Второй вариант историко-культурного подхода – изучение литературы в старших классах в контексте культуры. В этом случае программы старших классов строятся как поступательное «восхождение» учащихся по спирали культурных эпох, начиная от античности и кончая современностью. В начальных же и средних классах учащиеся знакомятся с отдельными произведениями, принадлежащими к разным типам культур, учатся их анализировать, постигая отдельные существенные признаки этой культуры. Это усеченный вариант культурологического подхода, поскольку программы предполагают не вживание в культуру, а лишь общее знакомство с ее историческими типами.
Третий вариант рассмотрения литературы с точки зрения культурологического подхода – знакомство с основными этапами духовного развития человечества посредством обращения в каждом классе к определенному типу культуры при условии «литературоцентричности» культуры. Вместе с тем это не означает ограничение программы литературных курсов лишь содержанием данного типа культуры. При концентрическом построении программ средних классов (в новых программах и в 9 классе) он лишь является культурной доминантой программы. В старших классах, на уроках повторения, на более высоком уровне вновь обращаются к уже знакомым учащимся типам культур, но основное внимание уделяется литературе XIX и XX веков.
Так, в 5-м классе учащиеся знакомятся с миром у родного порога – фольклорно-патриархальным типом культуры. Поэтому в программах значительное место отводится славянской мифологии, календарной и обрядовой поэзии, разнообразным жанрам фольклора, среди которых отдается предпочтение жанру сказки.
В 6-м классе учащиеся овладевают основами античной мифологии и знакомятся с некоторыми произведениями античной литературы. У школьников формируется первоначальное представление об «эйдетическом» типе культуры (B. C. Библер), в основе которой лежит идея упорядочения хаоса, превращения его в эстетически «украшенное» бытие.
Духовной доминантой при изучении литературы в 7-м классе является знакомство с «причащающимся разумом», явившимся результатом сотворения религиозно-христианской модели мира. Учащиеся изучают наиболее известные произведения Средневековья: «Песнь о Нибелунгах», «Песнь о Роланде», «Тристан и Изольда», а также произведения древнерусской литературы.
В программе 8-го класса культурной доминантой является ренессансный и классицистически-просветительский тип культуры; в 9-м – классе – культура эпохи романтизма; в 10-м – антропософская культура второй половины XIX века. В 11-м классе учащиеся знакомятся с литературой XX века и участвуют в диалоге разных культур.
Таким образом, в основу методологической базы культурологического подхода к изучению литературы положены следующие идеи: 1) рассмотрение текста как текста культуры со своей «биографией», жизнью в «большом времени», своими кодами, знаками, символами, образами, архетипами, мотивами; 2) отражение каждым конкретным текстом определенного типа сознания, духовного, социально-психологического климата своей эпохи и вечных проблем жизни; 3) внедрение в школьное литературоведение культурологической интерпретации, т. е. рассмотрение художественного текста как культурного космоса; 4) знакомство с моделями мира и образа человека в различных типах художественного сознания, которое является важнейшим элементом литературного образования школьников.
КРУГ ПОНЯТИЙ
Бахтинская теория текста, «малое» и «большое» время, «биография» произведения, культурологическая интерпретация, культурный универсум, художественное сознание, «антропологизация» литературы, субъект культуры, модель культуры.
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Как происходит вхождение читателя в культуру посредством художественного текста? Что понимается под текстом в современной филологической науке?
2. Раскройте смысл понятий «малое» и «большое» время. Приведите примеры функционирования художественного произведения в этих временах.
3. • Расскажите о «биографии» литературного произведения на материале пушкинского «Каменного гостя».
4. • Какие виды интерпретаций художественного текста вы знаете? Дайте истолкование культурологической интерпретации.
5. Как в художественном тексте отражается тип сознания людей определенной исторической эпохи?
6. Когда читатель становится субъектом культуры?
7. • Почему именно в XX веке стал возможен настоящий диалог между культурами и как он проявляется в художественном творчестве писателей этого века?
8. • С какой целью обращаются к моделям культур на уроках литературы? Раскройте смысл одной из моделей.
9. Раскройте суть историко-культурного подхода к построению школьных литературных курсов. Приведите примеры из базовых программ.
Раздел II. Организация диалога на уроках литературы: от межличностного диалога к диалогу культур
Глава 1. Диалог культур и диалог в культуре на уроках литературы
Бахтинская теория диалога культур и преподавание литературы
Основа бытия и мышления человека конца XX в. – диалог, полилог по самым главным, вечным проблемам бытия. Это всеобщий способ освоения духовно-ценостных основ жизни, форма поиска самого себя в мире общечеловеческих ценностей: истины, добра, красоты, любви, счастья. Это и способ познания мира, и способ «самовозделывания», самоосуществления, самоопределения. Человек должен научиться жить в условиях множества культур, типов сознаний, логик, точек зрения. Следуя современному пониманию диалога, можно утверждать, что осознанная жизнь есть участие в непрерывном диалоге бытия, предполагающее умение слушать и вопрошать, соглашаться и сомневаться, удивляться и восхищаться, спорить и убеждать.
В этой связи М. Бахтин писал: «Истина не рождается и не находится в голове отдельного человека, она рождается между людьми, совместно ищущими истину в процессе их диалогического общения»[34]. В диалоге человек вкладывает в речь, в слово всего себя, и это слово «входит в диалогическую ткань человеческой жизни, мировой симпозиум»[35]. Диалог всеобщ, он в самих средоточиях человеческого духа.
Гуманитарное мышление после работ М. Бахтина стало рассматриваться как большой диалог образов культуры (Прометей, Эдип, Медея, Гамлет, Дон Кихот, Фауст, Онегин, Печорин, Базаров, Раскольников, Обломов и т. д.) по основным, главным вопросам бытия, как равноправное общение разных культур, художественных миров, разных сознаний, воплощенных в текстах. Метод бахтинского диалога позволяет по-новому подойти к процессу обучения и развития учащихся, сделать его более продуктивным и ценностно направленным.
Пожалуй, более всего бахтинская теория диалога приемлема к преподаванию и изучению литературы. Не случайно B. C. Библер, разрабатывая свою концепцию Школы диалога культур, отвел особое место в системе культуры словесности, в сущности выстраивая школьные предметные курсы вслед за логикой движения исторического развития литературы. Отталкиваясь от бахтинского тезиса о том, что культуры не имеют «своей собственной территории», что «культура только в глазах другой культуры раскрывает себя полнее и глубже»[36], B. C. Библер рассматривает процесс обучения как организацию диалога культур, когда «высшие» достижения человеческого мышления, сознания, бытия вступают в диалогическое общение с предыдущими формами культуры (античности, средних веков, нового времени). При этом учебный процесс в Школе диалога культур он выстраивает следующим образом: 1-2-е классы – исходный этап диалога, когда завязываются «узелки» понимания; 3-4-е классы – изучение античной культуры; 5-6-е классы – погружение в культуру Средневековья; 7-8-е классы – изучение культуры нового времени и диалог между нововременными классами и классами античными и средневековыми; 9-10-е классы – классы культуры современности; 11-й класс – класс специально диалогический. «Здесь выпускники Школы диалога культур организуют диалоги между классами, возрастами, культурами, намечают – вместе с преподавателями – основные темы и проблемы единых – для всей школы – дискуссий, придумывают темы и проблемы общения и совместной деятельности»[37].
Автор ШДК предлагает достаточно строгую схему изучения литературы как диалога культур: каждый класс соответствует определенному историческому типу культуры, что не подтверждается данными о возрастных особенностях учащихся, их личностно-ценностных ориентациях.
С другой стороны, предложенная автором схема упрощает представление о культурном онтогенезе человечества, богатстве и разновидностях его культур, таких, скажем, как египетская, китайская, ирано-таджикская. Вообще культурам Востока в концепции философа практически не отведено места, поскольку он ориентируется в основном на западноевропейскую модель развития мировой цивилизации. Не повезло в этой концепции и русской культуре, а ведь именно российская культура должна составлять основной корпус литературных программ, хотя ее, разумеется, необходимо изучать в контексте мировой культуры.
Диалог в культуре
B. C. Библер, развивая бахтинскую идею диалога культур, отмечал способность каждой конкретной культуры «смотреть на себя со стороны», быть «амбивалентной»[38]. Это очень существенное дополнение к пониманию диалога культур, но оно не требует уточнения. Амбивалентность культуры является своего рода «внутренним двигателем» ее развития, но она ни в коем случае не сводится к каким-либо двум полюсам, а характеризуется множеством антиномий. В русской культуре и русском менталитете, например, такими антиномиями Н. Бердяев называл следующие: «деспотизм, гипертрофия государства и анархизм, вольность; жестокость, склонность к насилию и доброта, человечность, мягкость; обрядоверие и искание правды; индивидуализм, обостренное сознание личности и безличный коллективизм; национализм, самохвальство и универсализм, всечеловечность; эсхатологически-мессианская религиозность и внешнее благочестие; искание Бога и воинствующее безбожие; смирение и наглость; рабство и бунт»[39].
Продолжая мысль русского философа, можно выделить и другие антиномии отечественной культуры: геополитическую – соединение признаков Запада и Востока; идейно-культурную ориентацию – западничество и славянофильство; консерватизм и радикализм, социологизм и эстетизм. Кроме того, в каждой культуре существует несколько культурно-исторических парадигм, различных модификаций одной культуры. Так, в античной культуре выделяются следующие периоды: крито-микенский, архаический, классический, поздняя классика, эллинистический, римский. В каждом из них свои социальные, политические, этнические и эстетические ценности, устремления. В соответствии с этим меняется характер искусства, его этические концепции, изобразительные средства.
Другой пример – наша отечественная культура. В ней можно выделить несколько модификаций: языческая Русь, Киевская Русь, Русь татарского периода, Московская Русь, императорская Россия, Россия советского и постсоветского периодов. Каждая модификация в свою очередь, состоит из фаз и включает в себя отдельные гнезда, своеобразные очаги культуры. В истории древнерусской литературы Д. С. Лихачев в соответствии с движением исторического процесса и культуры выделяет следующие периоды: период монументального историзма (XI-нач. XII в.); эпического стиля (период начавшейся феодальной раздробленности: ХП-первая четверть XIII в.); лироэпического стиля (период первых десятилетий монголо-татарского ига: середина ХШ-середина XIV в.), литература эпохи русского Предвозрождения (вторая половина XIV–XV в.; его также называют периодом русского исихазма); период «второго монументализма» (XVI в.); литература переходного века (демократическая литература первой половины XVII в.; «стиль барокко» – литература второй половины XVII в.)[40].
Важнейшие культурные гнезда древнерусского периода составляет искусство Киева и Чернигова, Новгорода, Пскова, юго-западных земель Руси, Владимиро-Суздальской Руси XII-начала XIII в., Московской Руси (здесь уместно будет выделить такие периоды: искусство Московского княжества XIV-первой половины XV в., Московской Руси второй половины XV – начала XVI в, Московской Руси XVI в., Московской Руси XVII в.).
Выделение разных модификаций, фаз культуры, культурных гнезд в рамках определенной культуры позволяет организовать «внутрикультурный» диалог. Этот диалог, как и диалог культур (т. е. «межкультурный» диалог), происходит в «пограничной зоне». В центре его – дефиниции в представлениях о модели мира и человека, системе ценностей, своеобразия художественного стиля культурной эпохи.
Организация данного вида диалога позволит перевести преподавание на новый качественный уровень, более концептуально и системно выстроить программу школьных курсов, представить культуру (в том числе и литературу) в динамике, развитии, нюансах. В связи с этим при разработке программ по мировой художественной культуре и литературе необходимо выбрать те произведения, которые бы наиболее ярко представляли эти периоды, фазы и культурные гнезда. Существующая же ныне практика давать представление об определенной культуре на материале одного – двух произведений постепенно должна быть изжита. И это в первую очередь относится к литературе времен Античности, Средневековья, Возрождения, Классицизма.
Кроме подбора литературных текстов для организации диалога как внутри культуры, так и между культурами, необходимо обращение к произведениям других искусств: архитектуры и скульптуры, живописи и графики, музыки, садово-паркового искусства, театра, кино и т. д. Разные искусства, взаимодополняя друг друга, создают образ определенной культурной эпохи, передают ее дух, ее эстетические и этические ценности. Конечно, поскольку разговор идет об изучении литературы, в центре внимания находятся литературные тексты, произведения же других искусств создают культурный контекст. Основной способ рассмотрения произведений разных искусств – интеграция.
Текст – дискурс – диалог культур
Диалог в культуре и диалог культур осуществляются при помощи текстов, являющих собой своеобразные высказывания, представления, концепции мира и его образы. Сами по себе тексты не могут организовывать диалог. Это пока паутина, переплетение «мертвых следов» (Р. Барт), оставленных в знаковом материале живыми речевыми процессами, связанными со смыслополаганием. Чтобы тексты порождали диалог, необходимо «воскресить» их в речевом акте, сознании реципиента. Так, «преобразившись в контексте другого сознания, но оставаясь идентичным себе в своей коммуникативной событийности»[41], текст образует дискурс как взаимоналожение языка и речи, текста и его версии, квазитекста, который создается в сознании реципиента. На основании рецепции текста выстраивается еще один текст – его интерпретация. Задача педагога заключается в том, чтобы подобрать эти тексты, выстроить их в необходимой последовательности, системе, организовать коммуникативное событие как взаимодействие сознаний учащихся, автора, учителя. При этом тексты определяют структуру и логику программ литературных курсов, а также внутреннюю организацию уроков литературы, содержание дискурсов. Следует заметить, что на каждом конкретном уроке тексты не могут быть строго запрограммированы.
Необходимость обращения к тем или иным текстам может возникнуть неожиданно, спонтанно в связи с логикой развития урока, отражая круг ассоциаций и культурный потенциал участников диалога. Здесь нет, как при простой передаче житейского или профессионального опыта, четкого деления на учителя и учеников. Диалог предполагает равноправные свободные сознания, обогащающие и созидающие друг друга.
Эти два вида диалога нередко осуществляются и в конкретном тексте, заключающем в себе знаки, символы, коды, образы, идеи, концепции определенных культур. Поэтому многие выдающиеся художественные произведения могут быть прочитаны через призму этих культурно-семантических пластов, благодаря которым произведение функционирует в «большом времени».
Культурно-семантические пласты задаются автором самыми разнообразными средствами: введением в текст сюжетов, микросюжетов, мотивов, образов, цитат, аллюзий, реминисценций, мифологем, относящихся к разным текстам культуры, а также сведений из области философии, этики, социологии, политики, науки, религиозных учений.
Кроме того, каждая культура заключает в себе Космо-Психо-Логос (Г. Гачев), т. е. единство национальной природы, склада психики и мышления, что в художественном тексте воплощено в образах растительно-животного мира, нравах, обычаях, образе жизни людей, поведении, особенностях мышления и сознания героев, своеобразии выражения авторского сознания.
Следует обратить внимание на свойство ряда произведений запечатлевать такие состояния общественно-политической и культурной жизни, которые, используя символическое название тургеневского романа, можно обозначить как ситуацию «накануне». То есть, это переломные периоды в жизни народа, страны, мира, когда «старое» еще не ушло, а «новое» еще не наступило, когда в настоящем диалогизируют, взаимодополняя и взаимоотвергая друг друга, прошлое и будущее.
Через это «настоящее», представляющее собой своеобразную нулевую отметку в качании маятника культуры, писатель рассматривает изменения в развитии, динамике мира и человека. Такие произведения вызывают, как правило, бурные литературные и общественные дискуссии. Среди подобных произведений XIX в. следует назвать «Грозу» А. Н. Островского, «Отцы и дети» И. С. Тургенева, «Кто виноват?» А. И. Герцена, «Люди 40-х годов» А. Ф. Писемского, романы И. А. Гончарова, пьесу «Вишневый сад» АП. Чехова и многие другие. Перечисленные произведения отражают те явления, которые можно обозначить как социодинамику культуры, т. е. исследование процессов и явлений движения культуры «в зависимости от изменения, развития общества»[42].
Создатели этих произведений не просто фиксируют или иллюстрируют те или иные общественно-культурные явления, а проникают, «вживаются» в них, стремясь понять их ведущие проблемы, движение общественного и индивидуального сознания. Авторская позиция в таких произведениях настолько неоднозначна, что вызывает яростную критику как справа, так и слева (что имело место при появлении «Отцов и детей»). Поэтому с позиции социодинамики культуры верным способом избавления от стереотипов интерпретаций и оценок литературного произведения является его прочтение как текста культуры, отразившего столкновение и динамику разных точек зрения: социальных, политических, этических, эстетических, философских. При этом среди сопоставлений можно различать: внутритекстовые, интерпретационные (сопоставление разных интерпретаций текста на основе авторского инварианта – историко-генетический и историко-функциональный подходы); межтекстовые (сопоставление разных произведений изучаемого автора или разных авторов, между которыми возможно установить типологические связи); надтекстовые (сопоставление произведений разных искусств)[43].
Внутритекстовой диалог
Внутри литературного текста можно выделить четыре вида диалога: а) диалог реплик, голосов героев; б) диалог смыслов, сущностей; в) диалог личностей (героев, героев и автора); г) диалог внутри сознания действующего персонажа, рассказчика, автора.
Первый вид диалога – речевое взаимодействие, вербальное общение героев. За их репликами часто отсутствуют какие-либо жизненно важные смыслы. Это диалог ситуационный, он возникает спонтанно и заканчивается в рамках ситуации. Нередко он проходит как диалог ни о чем (например, диалог Манилова и Чичикова) или как формальный диалог, когда герои говорят каждый свое, не слыша и не понимая друг друга, что создает комический эффект, как это часто бывает в пьесах Чехова. Покажем это на примере коммуникации героев «Вишневого сада».
Входит Епиходов с букетом; он в пиджаке и в ярко вычищенных сапогах, которые сильно скрипят, войдя, он роняет букет.
Епиходов (поднимает букет). Вот садовник прислал, говорит, в столовой поставить. (Отдает Дуняше букет)
Лопахин. И квасу мне принеси.
Дуняша. Слушаю. (Уходит.)
Епиходов. Сейчас утренник, мороз в три градуса, а вишня в цвету. Не могу одобрить нашего климата. (Вздыхает.) Наш климат не может способствовать в самый раз. Вот, Ермолай Алексеевич, позвольте вам присовокупить, купил я себе третьего дня сапоги, а они, смею вас уверить, скрипят так, что нет никакой возможности. Чем бы их смазать?
Лопахин. Отстань. Надоел.
Епиходов. Каждый день случается со мной какое-нибудь несчастье. И я не ропщу и даже улыбаюсь.
Дуняша входит, подает Лопахину квас. Я пойду. (Натыкается на стул, который падает.) Вот (Как бы торжествуя.) Вот видите, извините за выражение, какое обстоятельство, между прочим Это просто даже замечательно! (Уходит.)
Приведенный эпизод текста интересен еще и тем, что герои не только не понимают друг друга, но и сам Епиходов как бы ведет диалог с самим собой, и его «я» не понимает его «ты». На этом и строится комизм характера героя.
Второй вид диалога часто составляет суть конфликта произведения, он отражает семейно-бытовые, общественно-политические, нравственно-эстетические и философские коллизии, затронутые в тексте. Классическим примером такого диалога является столкновение «века нынешнего» с «веком минувшим» в комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума». Разновидностью этого диалога является и диалог культур, когда герои выступают как выразители определенных пластов культуры, культурных миров, посредством которых происходит также самоопределение героев как личностей.
Диалог личностей. В основе этого диалога – коммуникация двух или нескольких личностей, каждую из которых можно обозначить как свободный, индивидуально неповторимый, восходящий к трансцендентным смыслам субъект. У каждой такой личности может быть своя логика, своя точка зрения на мир и человека, своя система ценностей. Автор, разумеется, имеет свою концепцию бытия, но он не подавляет личность своих героев, хотя и может вступать с ними в диалог. На полифонии голосов, диалоге личностей строятся многие произведения, но в первую очередь это относится к романам Ф. М. Достоевского. «Не множество характеров и судеб в едином объективном мире в свете единого авторского сознания развертываются в его произведениях, – писал в этой связи М. М. Бахтин, – но именно множественность равноправных сознаний с их мирами сочетаются здесь, сохраняя свою неслиянность, в единство некоторого события. Главные герои Достоевского действительно в самом творческом замысле художника не только объекты авторского слова, но и субъекты собственного, непосредственно значащего слова»[44]. Диалог личностей происходит в культуре и может перерастать в диалог культур, типов сознания как, к примеру, диалог прагматика, реалиста, столичного жителя Петра Адуева с его племянником, деревенским романтиком, мечтателем, Александром Адуевым в романе И. А. Гончарова «Обыкновенная история».
Диалог личностей может быть конструктивным и полемическим. Конструктивный диалог предполагает в конечном счете консенсус, согласие; полемический диалог свидетельствует о несовпадении позиций участников диалога, нередко даже о непримиримости их взглядов, мнений, логик.
Данный вид диалога всегда связан с общим диалогом романа, который происходит в социуме, истории, культуре, «малом» или «большом» времени.
Наконец, диалог внутри сознания, или внутренний диалог, связан со способностью человека «присваивать» различные способы понимания мира, сталкивать в своем сознании разные точки зрения, разные типы логики и мышления. Иными словами, внутренний диалог – это способность человека сказать себе Ты. «Через Ты человек становится Я»[45], т. е. осознает себя личностью, «видит самое себя»[46]. Можно назвать разные уровни внутреннего диалога, которые будут свидетельствовать о масштабе и развитости личности, но, несомненно, он начинается там, где нерасчлененное «я» превращается в «Я» и «Ты». Так, если у гоголевского Акакия Акакиевича Башмачкина («Шинель») еще нет этой расчлененности, то у «маленьких людей» Достоевского она уже появляется, хотя рождение личности осуществляется небезболезненно, что нередко приводит к психическому заболеванию, как в романе «Двойник».
Более гармонично происходит становление личности в Катерине А. Н. Островского («Гроза»), ее внутренние диалоги передают этот непростой процесс, отражая всю драматичность жизни героини, которая больше уже не может существовать в этом нерасчлененном «я».
Диалог нового качественного уровня ведут в своем сознании так называемые герои-идеологи, что дает основание обозначить произведения, в которых они действуют, диалогическими. Наиболее яркий пример этому – романы Ф. М. Достоевского, в частности роман «Преступление и наказание», в котором диалог между «Я» и «Ты», «теорией», разумом и «натурой» в сознании главного героя составляет главный диалог этого полифонического романа.
Диалог культур как дидактическая проблема
Диалогическое усвоение культуры позволяет личности воспринимать мир как целое, переживая, осмысляя, осознавая свою связь с настоящим, прошлым и будущим, свою принадлежность к целостности духовной культуры.
Диалог в силовом поле культуры – это не просто общение двух или нескольких субъектов между собой в единой знаковой системе, а со-бытие с другими, со-существование с ними как в данной культуре, так и в силовом поле культур. Задача учителя литературы заключается в том, чтобы организовать этот диалог посредством художественных текстов и удерживать диалогическую ситуацию на протяжении всего акта диалога, а главное – перевести его во внутренний диалог учащегося.
Внутренний диалог происходит в сознании воспринимающего субъекта, который заключает в себе одновременно несколько сознаний, актуализируя их поочередно. В ходе диалога ему необходимо перевоплощаться, входить в «роли» героев, людей разных эпох, культур, сопоставлять их с собой, своим временем. Чтобы эпоха, культура предстали в своей ценностной сущности, реципиенту необходимо «примерять» на себя разные социальные роли: ученого, политика, историка, архитектора, поэта, художника и т. д. Педагогу на уроке диалога также необходимо играть разные роли, вести диалог от лица писателя, критика, историка, искусствоведа.
Диалогическая ситуация создается (и в этом главное отличие урока-диалога от обычного урока-беседы, на котором учитель знает наперед ответы на поставленные вопросы), исходя из реакции учащихся на сообщаемые или приобретенные факты, смыслы, ценности. Она, естественно, прогнозируется, модулируется педагогом, но никогда не может быть запрограммированной заранее, так как в этом случае обессмысливается сам диалог как свободное общение двух равноправных сознаний в силовом поле культуры, где смыслы не могут представлять некие отвердевшие образования, а всегда рождаются из рецепции, взаимодействия сознаний, непредсказуемости творчества.
Мастерство учителя заключается в умении создавать ситуации удивления, парадокса, поиска, желания кого-то выслушать и задать вопросы. B. C. Библер эти ситуации, в которых «завязываются узлы или точки удивления»[47], называет загадками слова, числа, природы, момента истории, сознания, предметного орудия. Учитывая специфику изучения литературы как искусства слова, этот перечень можно легко продолжить: загадка имени, портрета, пейзажа, интерьера, исторического персонажа, Человека, Лица, Дома, Космоса и т. д. Все в конечном смысле может быть загадкой, все, что имеет философский или бытийный смысл. При этом следует уточнить, что загадки – это побуждение к работе не только мысли, но и воображения, ассоциаций, эмоциональной сферы (т. е. той стороны деятельности, которую связывают с рецептивно-эстетической).
Выстраивание культурного пространства школьника
Достаточно полемичным в культурологической концепции преподавания литературы является вопрос о выстраивании культурного пространства школьника в каждом из учебных классов на протяжении всего его пребывания в школе. На этот счет в ныне действующих программах и учебниках существует множество противоречивых мнений. Так, в программе по литературе для 5-11-го классов под редакцией Т. Ф. Курдюмовой[48] курс русской литературы в каждом классе включает отдельные произведения мировой литературы, которые хотя и не образуют стройной системы, но задают некий контекст для изучения отечественной литературы.
В программе под редакцией А. Г. Кутузова[49] этот контекст значительно шире, ее авторы проводят идею необходимости изучения литературного процесса (пропедевтический курс), начиная с 8-го класса. Кроме того, в программе имеется установка на изучение литературы в контексте культуры, хотя эта цель не совсем убедительно отражена в ее структуре.
Ярче всего идея культурологического подхода заявлена и реализовывается в программах под редакцией В. Г. Маранцмана[50] и в особенности в его учебнике по литературе для учащихся 9-го класса, в которых литературные тексты рассматриваются как составная часть определенного исторического типа культуры. В средних классах в программах В. Г. Маранцмана и его авторского коллектива уделяется много внимания взаимодействию литературы с другими искусствами, а с 9-го класса начинается ступенчатое (в соответствии с историческими этапами развития культуры) вхождение в разные культурные контексты. Пусть эти контексты из-за малого количества часов, отведенных программой на изучение мировой литературы, не обеспечивают глубокой рецепции культуры, но все же они позволяют выходить на модели определенных исторических типов культуры и при тесном сотрудничестве уроков словесности с уроками МХК смогут обеспечить условия для выстраивания культурно-образовательного пространства школьников.
Во всех упоминаемых программах прослеживается идея поэтапного, в соответствии с историческим развитием культуры, от древности до современности, выстраивания системы литературных курсов, хотя глубокого, диалогического проникновения в культуру они не предусматривают.
Свою систему построения литературных курсов предложили разработчики Школы диалога культур (ШДК). Они ее связывают с логикой развития обучаемого, считая, что «определенные возрастные этапы развития ребенка близки определенным «возрастам» культуры»[51]. Этот «биогенетический» подход к изучению литературы в контексте культуры аргументирован материалами исследования И. Е. Берлянд. Вместе с тем автор психологической концепции ШДК утверждает, что «каждый возраст, связанный со своеобразной организацией психики, сознания, мышления, не снимается в ходе последующего развития», а дополняется новыми образованиями, голосами, сознаниями, вступающими между собой в диалогические отношения, поэтому «в полноценном сознании взрослого на правах самостоятельных диалогических голосов присутствует и сознание дошкольника, и подростка, и юноши»[52]. Это свойство психики человека было учтено разработчиками ШДК для организации как специального диалогического класса (ll-й класс), в котором в диалог вступают разные культуры в качестве разных «возрастов» человечества и разных «возрастных» сознаний, так и для диалога между классами, т. е. по их концепции, диалога разумов – «эйдетического», «причащающегося», «нововременного».
Нетрудно заметить, что в основе логики построения литературных курсов с 3-го по 10-й класс в ШДК лежит принцип последовательности: одна культура следует за другой, выстраивая цивилизационную (на основе развития западного типа культуры) лестницу. В 11-м (специально диалогическом) классе – другой принцип – параллельности, когда одновременно, синхронно изучаются тексты, относящиеся к разным типам культур.
Практика показывает, что более оправдан комплексный подход к организации изучения литературы в рамках диалога культур, сочетающий в себе принцип линейности, последовательности и принцип концентризма, т. е. возвращения к ранее изученному на более высоком витке, что позволяет в целом сохранить структуру традиционного построения литературных курсов и вместе с тем организовать учебный процесс как восхождение от простого к сложному, от первоначальных сведений о художественном произведении как тексте культуры к диалогу в культуре и диалогу культур, проникновению, «вживанию» в культуру, постижению ее модели, ее ценностей и, следовательно, вечных сущностей бытия.
Художественное сознание и художественно-эстетическая сфера личности
Для характеристики сущности разных культур B. C. Библер использует понятие «тип разумения» и дает свое обозначение разным историческим типам разумения[53]. Однако в эстетике, культурологии и литературоведении (в работах М. М. Бахтина, В. М. Бернштейна, М. С. Кагана, Ю. М. Лотмана, Л. А. Закса) используется более интегральное и привычное понятие – художественное сознание. Оно, с одной стороны, понимается как полифункциональная деятельностная система, вырабатывающая и транслирующая универсальный и вместе с тем уникальный духовный опыт человечества. С другой стороны, рассматривается как система, программирующая и регулирующая художественно-творческую и воспринимательскую деятельность в процессе художественного освоения мира и общения людей[54].
В основе любого исторического типа культуры лежит определенный тип художественного сознания, отражающий сознание человека в единстве его интеллектуальных и чувственных сторон, а также и социальную психологию времени. Проникая в художественные тексты и постигая своеобразие художественного сознания культурной эпохи, воспринимающий искусство развивает свою художественно-эстетическую сферу, интериоризируя культуру. Эту художественно-эстетическую сферу можно представить в виде синтетической многоуровневой системы. Сформированость этих уровней характеризует в целом развитие «человека культуры», т. е. реципиента, живущего и созидающего в силовом поле культур.
Первый уровень определяют общепсихические процессы и способности: эмоции, представления, воображение, мышление, память, внимание, воля и т. д.
Второй уровень составляют духовно-культурные и нравственно-эстетические процессы и способности: сопереживание, эмпатия, рефлексия, способность к перевоплощению и игре, имитации определенной деятельности, коммуникации. Этот уровень предполагает также сформированность у личности эстетического вкуса и эстетических потребностей, этических и эстетических идеалов.
Третий уровень включает в себя сознательные и бессознательно-психосоматические способности и процессы: «войти», «погрузиться» в художественный мир творца, «заразиться» его образами, ощутить всем своим существом (единством тела, души и духа) бытийность художественных явлений и свою связь с ним. Этот уровень отражает духовно-ценностное отношение человека к конкретному созданию искусства и его личностно-направленное интонирование, проявляющееся в художественном восприятии.
Четвертый уровень – уровень проникновения в художественную мироконцепцию исторического типа культуры или его отдельного явления. Это уровень сознания, содержащий универсальную «матрицу» читательского восприятия произведения искусства. Способность реципиента постичь художественную концепцию произведения характеризует интегративный уровень развития его личности. Его высшее проявление – постижение обобщенной образной модели мира и системы ценностей культуры и ее модификаций.
Художественная модель мира – это своего рода прообраз, метасистема, через призму которой преломляется и по модели которой воссоздается художником (или реципиентом) культурный универсум. Художественная модель связана с языковой способностью как творца, так и его сотворца (воспринимающего субъекта). Язык выступает своеобразным кодом культуры и проявляет себя в двух функциях. С одной стороны, он связан со способностью автора текста идеально моделировать художественную реальность, с другой, – со способностью воспринимающего раскодировать авторскую модель бытия и создать свой текст о ней.
Художественную концепцию мира уместно представить в виде трех интегративных структур: мироощущения (субьективно-ценностное, эмоциональное переживание мира), миропредставления (чувственное восприятие мира, способность воссоздавать его в воображении), миропонимания, установления причинно-следственных связей в мире, постижение его ценностей.
Важнейшим свойством сознания на мироконцептуальном уровне является способность человека, воспринимающего произведение искусства, обнаруживать ассоциативную связь своей жизни с непрерывным рядом культурно-исторических обобщений. Реципиент замыкает на себя культуру, его мир соприкасается с бесконечностью мира культуры, в результате чего любое явление ощущается, переживается и осмысливается как частица Бытия, момент всеобщей жизни человечества. Человек культуры как бы живет в открытом, бесконечном мире. В нем появляется желание «примерить» на себя, «обжить» те или иные художественные миры или эпохи, мыслить их образами и картинами, «опрокидывать» свое повседневное бытие в Вечность, жить в веках и культурах. Потребность в духовно-ценностном осознании жизни проявляется в активном противостоянии субъекта культуры всему утилитарному, банальному, обыденному. Как верно заметил В. М. Видгоф, «искусство отражает не поток реальной жизни, а жизнь, взятую в ее концентрированно-эстетическом проявлении или в эстетическом преломлении»[55]. Это бытие в культуре и отличается особой одухотворенностью, т. е. деятельностным отношением реципиента к миру, которое проявляется в потребности переживания, созерцания, осмысления, эстетической оценки, интерпретаций произведений искусства, в жажде высших ценностей, творческого освоения действительности.
Из потребителя разрозненных фактов «мозаичной» культуры учащийся в конечном счете должен превратиться в живущего и созидающего в силовом поле культур. И его активное, творческое сознание будет формироваться в этом непрекращающемся диалоге в культуре и диалоге культур, являющемся сутью человеческой истории.
КРУГ ПОНЯТИЙ
Бахтинская теория диалога, диалог в культуре, диалог культур, модификации культуры, культурные гнезда, культурно-семантические пласты текста, внутритекстовой диалог, дискурс, культурное пространство школьника, художественное сознание, художественно-эстетическая сфера личности, миропредставление, мироконцепция.
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Раскройте сущность бахтинской теории диалога культур в ее преломлении к процессу преподавания литературы.
2. Что подразумевается под понятием «диалог в культуре»? Приведите примеры диалога в культуре при изучении русской классики.
3. Как осуществляются дискурсы в культуре? Как они определяются социодинамикой культуры?
4. Что такое внутритекстовой диалог? Какие бывают его виды?
• Приведите свои примеры этих видов внутритекстового диалога на материале произведений русской литературы XX в.
5. Какие задачи стоят перед педагогом в процессе осуществления диалога в культуре и диалога культур?
6. Раскройте основные способы выстраивания пространства культуры в программах по литературе.
7. Что включает в себя понятие «художественное сознание»?
• В чем отличие художественного сознания модерниста от реалиста?
8. Какие уровни в художественно-эстетической сфере воспринимающих произведения искусства выделяет современная наука? Как они определяют понятие «человек культуры»?
Глава 2. Учебный диалог и виды культурологического дискурса на уроках литературы
Понятие о диалоге. Макро– и микродиалог
Дискурсивные («речевые») практики в процессе межличностной коммуникации на уроках словесности связаны с диалогическими отношениями, которые, по словам М. Бахтина, становятся «почти универсальным явлением, пронизывающим всю человеческую речь и все отношения и проявления человеческой жизни, вообще все, что имеет смысл и значение»[56]. При этом под понятием значения ученый понимает некую объективную совокупность понятий, действий и ценностей. Смысл же – это то субъективное содержание, которое приобретает слово и речь в целом в конкретном контексте, в конкретной ситуации общения. Поэтому диалог по Бахтину может быть понят как обмен смыслами, поиск индивидом своего собственного смысла и общего смысла для участников диалога. Полноценный диалог возможен при признании участниками диалога равноценности позиций и смыслов, которые открываются в высказываниях, суждениях, репликах, вопросах, согласии, возмущении, ожидании и т. д. В связи с этим в бахтинской теории диалог существует лишь там, где есть «диалог диалогов» – бесконечная спираль речевых высказываний и речевых ситуаций.
Все мысли Бахтина о диалоге в конечном счете связаны с культурой – бытием культуры, ее морфологией, встречей и взаимодействием культур. Сама культура им понимается как диалогическое, воплощенное в произведениях самосознание каждой цивилизации.
Обмен смыслами, взаимопонимание могут происходить в форме макродиалога, то есть диалога в «большом» времени, диалога в культуре и диалога культур, их образов, типов сознания, логик, концепций, идей, точек зрения по важнейшим вопросам бытия. Макродиалог осуществляется в форме диалога образов, авторов и реципиентов культуры в сознании участника диалога. Второй полюс диалога – макродиалог, т. е. диалог между «Я» и «Ты» в сознании личности, осуществляемый в феномене «внутренней речи».
Диалог между «Я» и «Ты» внутри конкретного сознания обозначается как внутренний диалог, и именно он является необходимым условием формирования личности, ее собственного Образа. Как заметил известный философ М. Бубер: «личность человека выражается тем полнее, чем сильней в человеческой двойственности его я – ты»[57]. Для М. Бахтина воспроизведенный внутренний диалог «конгениален высотам художественной литературы»[58]. В своей работе «Проблемы поэтики Достоевского» внутренний диалог Раскольникова он рассматривает как великолепный образец речевой деятельности.
При определенных условиях микродиалог может перерастать в макродиалог. Такой диалог в своем сознании постоянно ведут талантливые личности, погружаясь в процессе творчества в разные типы сознания и типы культур. Если школа формирует такую личность, то она решает свою главную задачу по воспитанию «человека культуры».
Свое дополнение в понимание диалога внес известный философ B. C. Библер, определив его как диалог логик, в отличие от бахтинского диалога смыслов. Если бахтинский диалог определяет сущность филологического, а шире – гуманитарного мышления, в основе которого лежит признание диалогичности любого текста, порождающего дискурс между сознаниями, а также внешней и ментальной речью внутри определенного сознания, то Библер придает диалогу больше коммуникативно-педагогические функции. Для его осуществления ученый выделяет несколько необходимых условий: постановку вопроса, проблемы; высказывание различных версий ответа на него; выявление разных культурологических подходов к решению проблемы; обсуждение этих подходов и выбор оптимального[59]. Именно библеровское понимание диалога было положено в основу разработки концепции учебного диалога, выдвинутой исследователем СЮ. Кургановым.
Учебный диалог
В последнее время учебный диалог стал объектом пристального рассмотрения многих исследователей и учителей-практиков, в том числе и филологов. Его обозначают как «форму обучения, при которой учебные задачи ставятся в виде неразрешительных проблем, парадоксов. Эти проблемы обсуждаются на уроке в споре с субъектом иной культуры, в результате чего ребенок вступает в общение с чужими культурологическими смыслами в своем сознании»[60], демонстрируя различные типы мышления и логики, характерные для определенной исторической эпохи.
При всей его объективности, данное определение требует существенного уточнения, которое можно свести к следующему.
Учебный диалог организуется посредством текстов и протекает в силовом поле культуры или культур. Он включает в себя самые разные виды диалога: диалог реплик и голосов героя, диалог сущностей и личностей героев, диалог внутри сознания персонажа, диалог образов культуры, разных логик и точек зрения, диалог читателя с героями, автором, критиками, другими читателями и авторами, диалог ученика с другими учениками, учителем, диалог внутри сознания ученика и учителя и, наконец, диалог разных полюсов культуры, диалог культур и разных типов сознания. Таким образом, учебный диалог пронизывает все бытийные смыслы ученика и учителя на уроке, создает необходимую психокультурную среду для погружения участников диалога в культуру.
Разумеется, в настоящее время в образовании еще не созданы необходимые условия для превращения нашей школы в школу культуроцентрическую, поэтому учебный диалог пока не стал главным способом организации общения и бытия на уроке. Учебный диалог ни в коем случае не является очередной технологией или педагогической инновацией. Он предполагает изменение всей парадигмы образования, свидетельствует о постепенном превращении нашей школы в школу гуманной педагогики и гуманитарного (по Бахтину, равнозначного филологическому) мышления.
Психологическими характеристиками учебного диалога являются равноправие участников диалога, «наличие вне себя другого равноправного и ответно-равноправного сознания»[61], поиск согласия и взаимопонимания, его конструктивный и созидательный характер проявления, альтруизм и эмпатия, умение слушать других и проговаривать себя, доверие и чуткость к партнеру, доверие и терпеливость к другому[62].
К сожалению, большинство современных диалогов на уроке носит монологический характер, так как при вопросно-ответном обучении учитель всегда выступает в роли «проповедника», ведущего учеников к своему (или вычитанному из литературоведческих работ) пониманию авторской позиции. Настоящий же диалог – это умение «примерять» разные позиции, разные логики, разные системы ценностей, выход не к абстрактному знанию, а к актуализированным, жизненно важным сущностям бытия.
Урок-диалог, его характеристики, этапы, фазы
Внедрение учебного диалога в образовательный процесс и разработка структуры и модели урока-диалога значительно изменили моносистемное пространство массовой школы, в которой преобладала одна системообразующая педагогическая форма – урок-задание, или как его определяет СЮ. Курганов, урок-восхождение.
Можно обозначить основные характеристики урока-диалога в свете культурологического подхода. Во-первых, это общение одного субъекта с другим субъектом, «постоянное разрешение внутренних противоречий в сознании в поисках конструктивных решений при сохранении напряжения творческой активности»[63]. На таком уроке могут возникать вопросы, на которые не знает ответа ни учитель, ни критик, ни литературовед, ни автор изучаемого текста, т. е. никто.
Во-вторых, это партнерство, сотрудничество, сотворчество учителя и учеников, которые в пространстве диалога присваивают и отстаивают определенные позиции, роли, логики, типы мышления, например читателя-художника, читателя-критика, читателя-литературоведа, проявляя при этом свой свободный выбор и поступая в соответствии с особенностями своего литературного развития.
Важнейшей характеристикой урока-диалога является также его разомкнутый, спиралевидный характер, его «опрокинутость» в культуру, восхождение участников диалога к важнейшим эстетическим, нравственным, философским смыслам.
Урок-диалог рождается из взаимодействия двух текстов: подготовленной учителем режиссуры урока и текста, рождаемого в результате коллективной работы участников диалога. В этом его отличие от традиционного урока, готовый сценарий которого в большей мере реализуется на уроке.
Пятой отличительной чертой урока-диалога является его многоплановость. Он предполагает разные виды деятельности учащихся, связанные с восприятием, оценкой, интерпретацией художественных явлений, литературно-творческой деятельностью, и может осуществляться, создаваться в разных жанрах и организационных формах, а не только в виде эвристической беседы, как полагают некоторые исследователи. Все это позволяет выделить ученым на уроке литературы несколько групп диалога: информативно-проблемный, оценочно-интерпретационный, функционально-ролевой[64].
Еще одна особенность данного урока – это активное использование на нем игровых методик, что также восходит к бахтинскому пониманию сущности диалога карнавала и интериоризации культуры участниками коммуникации.
И, наконец, последнее – урок-диалог соединяет в себе макро– и микродиалог и ставит своей целью самосозидание личности в пространстве культуры.
Можно обозначить основные структурные элементы урока-диалога. СП. Павлинский выделяет три основных его этапа: предпонимание, т. е. первоначальное самоопределение читателя, познание «чужого языка» автора, интерпретация произведения как целостного художественного высказывания. Очевидно, что выделенные выше элементы урока характеризуют его достаточно формально, поэтому необходима их конкретизация. Е. Н. Ковалевская, работающая над моделью урока данного типа и исходя из современного представления об уроке как драматургическом действии, разбила его на своеобразные мизансцены – учебные ситуации, понимая их не только как чисто учебные действия, но и мыследействия, психологические состояния участников коммуникативного действия. Учебные ситуации на уроке-диалоге, по мнению исследователя, предполагают:
– вычленение педагогами и детьми фактов, понятий, идей, концепций, которые могут стать предметом обсуждения и осмысления;
– включение предметного материала в пространство диалога;
– обеспечение духовно-личностного вхождения учащегося в учебную ситуацию;
– организацию познавательной деятельности школьников в учебной ситуации;
– осознание, формулирование учащимися индивидуальных позиций;
– интеграцию найденных подходов и выбор оптимального[65]. Вместе с тем необходимы некоторые уточнения проблемы.
Характер учебных ситуаций на уроке литературы определяется рядом факторов: психологическим состоянием участников диалога, характером изучаемого материала, индивидуально-типологическими и возрастными особенностями учащихся, задаваемыми семантико-культурными контекстами[66]. Можно выстроить технологическую цепочку урока-диалога. Вот ее основные фазы:
1. Погружение участников диалога в личностные смыслы, психологическая адаптация к предстоящей рецептивно-эстетической и познавательной деятельности (задается личностный контекст урока).
2. Обозначение темы урока и его установок (задается культурное пространство диалога).
3. Осознание учащимися своих собственных впечатлений и мыслей об изучаемом произведении, художественном явлении, возникновение в сознании школьника вопросов себе и другим. Поддержание учебной ситуации, обеспечивающей включение учащихся в культурное пространство текста.
4. «Нащупывание» нерва будущего диалога и обозначение совместными усилиями драматургической интриги урока, в основе которой создание пространства для общего переживания, вопросы-удивления, вопросы-несогласие, противоречия между знанием и незнанием, гипотезы, диалогизация текста.
5. Создание учебных ситуаций, связанных с погружением участников диалога в культурное пространство текста. Переход от стихийно целостного восприятия текста к вычленению и анализу его уровней и частей, раскрытию его знаков, кодов. Участникам предоставляется право выбора видов деятельности, а также форм участия в учебных мизансценах (возможности работать в группах, фронтально, индивидуально). Происходит эстетическая самоактуализация участников диалога, становление их участниками эстетического события.
6. Оформление речевых высказываний и взаимный обмен смыслами, создание силового ПОЛЯ смыслов.
7. Организация системы диалогов с героями произведений, автором, критиками, участниками коммуникации и выход в пространство культур. Широко используется прием «точек удивления», которые обнаруживают учащиеся и учитель. Происходит проживание читателями чужой жизни как своей собственной, а своей собственной как жизни другого человека, у учащихся появляется стремление высказаться о пережитом и прочувствованном на уроке. Диалогическая жизнь позволяет приобретать жизненный опыт и опыт переживаний.
8. Интерпретация текста с открытием его мироконцепции в результате интеграции системы диалогических смыслов.
9. Перевод диалога из синхронии в диахронию. Возникновение новых учебных ситуаций и познавательных противоречий в сфере многоголосья мнений, суждений, наблюдений, открытий по ходу движения понимания.
10. Подведение итогов. Осмысление мыследеятельности и перевод диалога во внутренний план – в индивидуальные сознания участников коммуникации.
Макродиалог в посткоммуникативной фазе, если он продолжается, свидетельствует о высокой мотивационной стороне проведенного урока. Его результаты могут быть выявлены в итоге проведения контрольных срезов и творческих работ.
Психологические механизмы внутреннего диалога
Если психологические механизмы учебного диалога к настоящему времени получили достаточно обстоятельное описание[67], то педагогическая наука находится лишь на подступах к раскрытию сущности механизмов внутреннего диалога. В работах А. Л. Леонтьева и Л. С. Выготского вычленены фазы мыследеятельности, порождающей микродиалог.
Сначала это система мотивов, которая обеспечивает положительный импульс сознанию к мыследеятельности. Мотивация настраивает на привычную ориентацию и порождает речевую (коммуникативную) интенцию. У субъекта, по мысли А. А. Леонтьева, возникает «образ результата», но еще отсутствует план мыследействия. Следующую фазу можно обозначить как этап внутренней программы речевого действия, которую Л. С. Выготский назвал «опосредованием мысли во внутреннем слове», «мысленным черновиком» внешней речи[68]. АА. Леонтьев обозначил ее «внутренним программированием», развертыванием мысли при помощи языкового кода. Это процесс двухступенчатый: сначала происходит «перевод с субъективного кода смыслов на объективный язык значений», а затем «превращение грамматики мысли в грамматику слов»[69].
Заключительная фаза внутренней программы действия – семантическая и грамматическая реализация мысли, а затем опосредование во «внешнем слове» (Л. С. Выготский), связанное с оформлением мысли в синтаксическую единицу. Это этап экстериоризации – развертывание смыслов, выход их вовне – во внешнюю речь и установление межличностной коммуникации.
Поскольку внутренний диалог представляет коммуникацию между «Я» и «Ты», то подобная программа внутреннего действия осуществляется, как от «Я», так и от «Ты». У учителя имеются свои рычаги управления внутренним диалогом: ролевые задания, написание текстов, представляющих собой поток сознания, побуждение к поочередному вживанию в образы разных героев, авторов, создание работ диалогического характера и т. д.
СА. Леонов, вслед за Г. Я. Бушем, рассматривает разновидность микродиалога – солилоквиум, представляющий собой внутренний диалог и включающий процессы самовнушения, сомнения, потока сознания. По мысли ученого, солилоквиум в школьной практике находит отражение в таких литературных жанрах, как мемуары, автобиография, интерперсональный диалог с желаемым партнером. В современной литературе данный вид внутреннего диалога стал одним из ведущих способов художественной изобразительности и выразительности. Он проявляет себя в приемах «бредового сна» (М. Пруст), потока воспоминаний (поздний В. Катаев), потока ассоциаций (Саша Соколов).
Культурологические дискурсы на уроках литературы
В условиях диалогических отношений на уроке возникает множество видов дискурсов, представляющих собой связь между системой знаков (текст) и системой смыслов (речь), т. е. текста и его версии, его интерпретации в речевом процессе.
Такие дискурсы проявляются и в традиционных приемах работы с текстом, и в новых, которые отражают культурологические тенденции в современном преподавании литературы. Но в обоих случаях учащийся рассматривается в качестве субъекта обучения, в ходе которого формируется его личность как носителя культуры, развиваются его читательские (перцептивные) и литературно-творческие способности.
Первый вид дискурсов – это разного вида комментарии историко-культурного, этнографо-бытового, лингвистического и литературоведческого плана (НА. Демидова), которые позволяют «раскодировать» язык изучаемого текста, его образный строй, проникнуть в его культурный универсум. Вместе с тем комментарий способствует созданию у школьников некоего базового фонда, необходимого для полноценного осмысления художественного мира произведения[70].
Практика показывает, что для многих учащихся комментарии, особенно историко-культурного плана, представляют огромную трудность. Большинство из них не могут раскрыть значение знаковых единиц текста в составе целого произведения, отчего комментарии учащихся носят чисто формальный характер. Поэтому в своей деятельности учителю необходимо особое внимание уделять данной проблеме, показывая учащимся образцы комментирования, учить пользоваться справочной литературой, разными типами словарей, использовать послетекстовые комментарии и комментарии к отдельным произведениям в процессе чтения художественного текста и его интерпретации, из урока в урок выстраивать систему заданий, связанных с разными видами комментария. Нередко именно через комментарии получаются интересные прочтения изучаемых произведений, которые становятся темами индивидуальных исследовательских проектов.
Так, при изучении романа И. А. Гончарова «Обрыв» именно через мотив «обрыва», уже ставший авторской мифологемой, комментаторы истолковывали мироконцепцию романа. Выяснялось, что данная мифологема связана с христианским представлением о мире, в котором пространство представляет собой дихотомическую структуру – мир горний и мир дольний, т. е. своеобразную вертикальную модель мира, где «низ» – дно обрыва, пропасть, бездна, разрыв с традициями, символ «греха», а «верх» – «райский сад», Бог, вера, гармония, нравственная чистота. Обрыв манит своей бездной, тайной, искушает. Всякая сильная и самостоятельная личность хоть раз в жизни оказывается у «обрыва», а толкают туда ее либо сильная страсть, либо новые идеи, поиск новой веры. Спуститься с «обрыва» – значит поддаться воздействию этой страсти, идеи, пойти наперекор традициям, общепринятому, нормам. Восхождение «на гору» символизирует духовный подъем, возвращение веры, нравственное возрождение и прощение.
Историко-культурный комментарий часто связан с истолкованием музыкальных, художественных и философских реминисценций, что позволяет развернуть внутренние дискурсы произведения в культурологические дискурсы урока.
С комментированием связано установление разных дискурсов, которые ведутся между художественными пластами текста, отражающими определенные мироконцепции, систему ценностей, культурные парадигмы. Например, в романе М. Булгакова «Мастер и Маргарита» четыре таких культурно-семантический пласта: христианский (история Понтия Пилата и Иешуа), конкретно-исторический (сатирическое описание Москвы 30-х гг.), романтический (романная история Мастера и Маргариты), фантастический (линия Воланда и его свиты). Обнаружение внутренних дискурсов и включение в них и являются одной из важнейших сторон культурологического истолкования текста.
На уроке-диалоге значительное место удаляется организации дискурсов между героями произведений по важнейшим ценностным смыслам. Учащиеся воспроизводят позиция того или иного героя и подвергают ее анализу. Возникает диалог между интерпретаторами текста и его персонажами.
Особенно продуктивен данный дискурс при изучении полифонических произведений Достоевского. Организация такого дискурса позволяет избежать прямолинейности в толковании авторской позиции, будет способствовать постижению мироконцепции произведения в целом. Примером такого дискурса может быть урок на тему «Раскольников, его двойники и оппоненты» по роману «Преступление и наказание». Учащиеся находят в тексте ключевые высказывания героев, озвучивают их, истолковывают от лица героя, а затем, дистанцируясь от него, дают свою личную интерпретацию.
Ниже приведены наиболее репрезентативные высказывания персонажей романа, вокруг которых могут быть организованы дискурсивные практики на уроке.
Раскольников: «…я хотел Наполеоном сделаться, оттого и убил…»;
«Я ведь только вошь убил, Соня, бесполезную, гадкую, зловредную»;
«…мне надо было узнать вошь ли я, как все, или человек? Смогу ли я переступить или не смогу!.. Тварь ли я дрожащая или право имею…»;
«Свобода и власть, а главное власть! Над всею дрожащею тварью и над всем муравейником!.. Вот цель!»
Лужин: «…возлюби, прежде всех, одного себя, ибо все на свете на личном интересе основано. Возлюби одного себя, то и дела свои обделаешь как следует и кафтан твой останется цел».
Свидригайлов: «…я нахожу, например, что единичное злодейство позволительно, если главная цель хороша».
Студент: «…не загладится ли одно крошечное преступленьице тысячами добрых дел? За одну жизнь – тысячи жизней взамен – да ведь тут арифметика! Что значит на общих весах жизнь этой чахоточной, глупой и злой старушонки? Не более как жизнь вши, таракана, да и того не стоит, потому что старушонка вредна».
Лебезятников: «Все, что полезно человечеству, то и благородно!»
Порфирий Петрович: «Солгал-то он бесподобно, а на натуру-то не сумел рассчитать».
Соня: «Страдание принять и искупить себя им, вот что надо».
Разумихин: «Станет стыдно – и воротишься к человеку!»
Одним из сложнейших дискурсов, осуществляемых на уроках литературы в старших классах, является взаимодействие текста с контекстом. В лингвистике и логике контекст понимается как относительно законченный в смысловом отношении отрывок текста или речи, в котором выясняется смысл и значение входящих в него слов, словосочетаний, предложений. В тексте художественной литературы, который весь представляет собой «сцепление» образов и смыслов, любой «знак есть знак, взятый в свете своего контекста»[71]. Ученые П. Линдсей и Д. Норман считают, что контексты задают правила, по которым строится перцептивный мир[72].
Текст весь погружен в контексты, окружен ими. В приведенных в заключительной части разработках уроков рассматривается взаимодействие текста с несколькими контекстами: авторско-биографическим, социально-историческим, философским, художественным. В психологических работах выделяют еще несколько контекстов: деятельностный, поведенческий, эмоциональный, контекст общения.
Образно текст – контекст можно представить в виде песочных часов, в которых один объем, в зависимости от его положения «верх»-«низ», может перетекать в другой. Культурно-семантические единицы текста становятся контекстами сцен, эпизодов, фрагментов жизни и даже биографий героев, произведения в целом. Иногда достаточно одного образа, мотива, чтобы возник в сознании читателя контекст для всего текста. Так, воспринимая первые строчки стихотворения А. Блока «Россия» «Опять, как в годы золотые, / Три стертых треплются шлеи», читатель ассоциативно обращается и к «Родине» М. Лермонтова, и к образу птицы-тройки из «Мертвых душ» Н. Гоголя. Блоковский текст начинает жить и интерпретироваться в сознании реципиента в окружении других текстов. Возникают ассоциативные ряды, полифония смыслов, что придает произведению поистине неисчерпаемость.
Обращаясь к контекстным дискурсам, учитель переводит диалоги на уроке в плоскость культуры, демонстрирует учащимся взаимосвязь и преемственность в жизни литературных произведений в «большом» времени. Текст, окруженный контекстами, например лермонтовская «Родина», рассматриваемая в «обойме» стихов о России Ф. Глинки, В. Бенедиктова, Н. Языкова, в свою очередь, как уже сказано, становится контекстом для других текстов.
Школьникам необходима постоянная тренировка механизма появления ассоциаций, расширение их ассоциативного поля. Свидетельством о воспитании художественных ассоциаций у реципиента является способность его обнаружить в нужный момент в своем сознании нужную художественную ассоциацию, что свидетельствует о вхождении в мир культуры.
Сложнейшую систему дискурсов представляет собой такой способ организации учебно-познавательной, игровой и интерпретационно-творческой деятельности учащихся, как «погружение» в определенную историко-культурную эпоху в общешкольном масштабе. Учащимся вместе с их наставниками предстоит не только надеть костюмы людей, живущих в воссоздаваемой эпохе, но и «примерить» на себя разные социальные роли, способы поведения, а главное понять характер и дух минувшей культурной эпохи. В современной культурологии данный способ освоения духовного наследия прошлого рассматривается как энтилехия культуры[73].
«Погружение», вживание в эпоху – это не грандиозное шоу (хотя в нем и присутствуют элементы праздника, карнавала), а система уроков, классных и внеклассных мероприятий, представляющих собой разнообразие диалогов в эпохе и с эпохой. На них ученики, воспринимая себя поэтами «обживаемой» эпохи, читают стихи и комментируют их смысл; «художники» представляют свои картины и раскрывают секреты своего мастерства; «философы» участвуют в философских диспутах; «архитекторы» ведут споры о проектируемых и сооруженных дворцах и храмах. На уроках литературы изучаются произведения писателей данной эпохи. Такие уроки, как правило, представляют два вида дискурсов – в «обживаемой» сейчас культурной эпохе (диалог в культуре) и дискурс с нею (диалог культур).
Завершается погружение театральной постановкой пьесы драматурга, представителя изучаемого исторического периода, и театрализованным балом-карнавалом.
Интересный опыт «погружения» в исторические типы культур накоплен в Гуманитарном лицее г. Томска. За годы своего обучения лицеистам представляется возможность «обжить» основные культурные эпохи от античности до «серебряного века» русской культуры. Заслуживает особого внимания и опыт негосударственной гимназии «Томь» г. Томска. Многодневные «погружения», осуществляемые два раза в полугодие в культурные эпохи под руководством учителя-словесника Е. П. Ромадановой, стимулируют творческий процесс гимназистов, диалогизируют процесс обучения, являются продуктивным способом формирования сознания «человека культуры».
Разновидностью рассмотренного вида дискурсов являются многочасовые занятия, методику проведения которых разработала И. А. Химик[74]. Многочасовые занятия включают в себя установочную лекцию учителя, самоподготовку учащихся, «погружение» в культурную эпоху.
Лекция носит информационно-методологический характер и является основой для будущей самостоятельной деятельности учащихся. Основная цель самоподготовки (учитель выступает лишь в роли консультанта) – развитие способности к самостоятельному восприятию и анализу художественных явлений в их взаимосвязях, осмысление своеобразия средств выразительности и духовного содержания художественных ценностей. Третий компонент многочасовых занятий – демонстрация учащимися своих дискурсивных практик как результата «погружения» в определенную культурную эпоху, мир того или иного писателя и организация межличностного диалога.
Интересный опыт проведения необычных дискурсов на своих уроках литературы демонстрирует известный в Санкт-Петербурге педагог Лицея «Физико-технической школы» В. Н. Шацев. Он пошел по пути театрализации учебных видов действия на уроке. На уроках петербургского словесника (а он часто их проводит вдвоем с учителем Е. А. Кудасовой) театральные приемы лежат в основе многих учебных ситуаций. Устные ответы учащихся демонстрируют разные точки зрения на изучаемую проблему и осуществляются в лицах, мизансценах. В них может быть и полемический задор, и глубина литературоведческого прочтения текста, и ирония, и карикатура, и пародия. По ходу урока школьники примеряют на себя и стараются сыграть разные роли: любознательного читателя, персонажа произведения, автора, критика, литературоведа, стилиста и т. д.
Педагоги на уроке выполняют множество функций. Они, меняясь своими ролями, могут играть, в зависимости от учебной ситуации, роль наставника, консультанта, участника диалога, режисера-постановщика, рецензента. В их практической деятельности нередко возникают диалоги между собой как по содержательной форме урока, так и его процессуальной стороне, оцениванию деятельности учащихся. Иногда в этот диалог органично вступают школьники. Так совместными усилиями создается урок-сотрудничество, на котором нет скуки, набивших оскомину вопросов-ответов, а присутствуют подлинные субъект-субъектные отношения.
Необычайно продуктивными являются уроки В. Н. Шацева по изучению драматургических произведений, которые проходят в виде репетиции спектакля. Ученики сами выбирают себе роли: актеров, режиссеров, декораторов, костюмеров, музыкальных оформителей, литературных критиков и ставят на уроке сцены из изучаемой пьесы, а затем ведут ее обсуждение, сравнивая текст и ее постановочную версию.
Заслуживает особого интереса и способ работы В. Н. Шацева по руководству творческими работами учащихся. Учитель много внимания уделяет освоению школьниками стиля того или иного писателя, литературного направления. С этой целью он предлагает своим воспитанникам написать историю из современной жизни, использую стилистику писателей изучаемой эпохи. Созданное сочинение прочитывается самим учащимся в жанре театра одного актера и оценивается в живом обсуждении. Педагогическая система В. Н. Шацева всесторонне диалогизирует процесс обучения, обеспечивает высокую степень мотивации учения, создает оптимальные образовательные условия для формирования высокой речевой и эстетической культуры учащихся, их индивидуально-личностного развития.
Еще один вид дискурса подсказан М. Н. Виролайнен. Идея ученого-литературоведа и культуролога заключается в том, что современная речевая практика утратила тот деятельный и действенный характер освоения реального мира, который был свойственен обрядовой культуре прошлого, и только в театре сохранилась такая «непосредственно действенная природа» живого слова[75].
M. H. Виролайнен анализирует опыт постановки режиссером Н. Беляком «Сцены из Фауста» А. С. Пушкина, в которой пушкинский текст повторялся восьмикратно. Менялись интерьер действия, костюмы актеров, манера исполнения, каждый раз пушкинский текст превращался в какую-то новую историю, но восемь разворотов коллизии не рассыпались на восемь интерпретаций – они соединились в некий единый текст.
Идея М. Н. Виролайнен успешно используется на практике, прежде всего на заключительных этапах изучения литературных текстов. Учащимся представляется возможность принять участие в прочтении и инсценировке сцен из драматургических и эпических произведений, драматизации лирических текстов. Разнообразие дискурсов, которые ведутся на уроках (большинство учащихся смогут попробовать себя в роли исполнителей и интерпретаторов одного и того же текста), позволяет открыть множество концептов в изучаемом произведении, перевести процесс обучения в деятельностный, диалогический план.
В новейших современных методических исследованиях рассматривается еще один вид дискурса, способствующий активному усвоению учащимися историко-теоретических знаний, формированию их читательской культуры. Он связан с системно-функциональным подходом к изучению художественного текста и предполагает уяснение роли, функции того или иного элемента текста (тропа, сюжета, портрета, пейзажа, детали и т. д.) в системе «целого». В этой связи весьма продуктивной является методика, разработанная А. В. Дановским. Она связана с активным включением теоретических знаний в процесс читательского восприятия текста и творчества учащихся, прочтения таких элементов текста, как портрет, экстерьер и интерьер и т. д., в системе целостной авторской концепции мира.
В последнее время в школьную практику активно внедряется такой новый вид учебного дискурса, как проектная деятельность и публичная защита учащимися исследовательских проектов. Это своего рода ученические курсовые и дипломные работы. Их отличие от обычных сообщений и докладов на литературные темы состоит в большей степени самостоятельности и творческой направленности учебной деятельности школьников. Учителями-словесниками и учеными вузов, принимающими участие в образовательном процессе школы, создается банк тем, недостаточно исследованных в литературе и представляющих интерес для учащихся. Это могут быть темы, связанные с истолкованием образов культуры в литературных текстах, выяснении роли отдельных компонентов текста в составе целого, как например:
1. Хронотоп дворянской усадьбы в повести И. Тургенева «Затишье»;
2. Функции снов в романе И. Гончарова «Обрыв»;
3. Опыт прочтения стихотворения М. Волошина «Трихины» в контексте сна Раскольникова;
4. Топонимика Москвы в романе М. Булгакова «Мастер и Маргарита»;
5. Гончаровский текст Петербурга в романе «Обломов»;
6. Дом Капернаумова в «Преступлении и наказании» Ф. М. Достоевского как мир «ковчега»;
7. Путешествие автора по культурным эпохам в книге «Tertia Vigilia» В. Брюсова.
Проектная деятельность требует от школьников подлинной самостоятельности, учитель выступает только в роли консультанта. Обычно исследование рассчитывается на учебный год, но, при желании, свою научную работу учащийся может продолжить и в следующем классе. В ходе проектной деятельности школьники овладевают навыками самостоятельной исследовательской работы по предмету, учатся вести научные диспуты, работать с оргтехникой, в соответствии с научными требованиями оформлять свои изыскания. Но самое главное – это один из эффективных способов погружения в культурные эпохи и их семантические пласты.
В средних классах более продуктивными являются индивидуальные проекты, которые представляют собственное творчество учащихся (или их сотворчество с писателями). Они включают в себя сочинения разных жанров и способов работы с текстом. Это может быть создание, а затем презентация собственных или коллективных сборников стихотворений и рассказов, составление писем автору или его героям, создание страничек из их дневника, дописывание сцен, эпизодов, диалогов, монологов героев, которые могли бы существовать в тексте (например, письмо Манилова к Маниловой, объяснение Ленского в любви к Ольге, описание счастливой жизни Петра Гринева и Марьи Ивановны и т. д.)
Интересными для учащихся являются проекты, связанные с написанием киносценариев по текстам изучаемых произведений, созданием инсценировок-погружений в определенную культуру или историческую эпоху.
Продуктивные дискурсы в культуре на уроках словесности организуются также при помощи ролевых игр. Именно в игре реализуется деятельностное взаимоотношение «Я» с «Другим», происходит распредмечивание бытия, заключенного в литературных текстах. Наиболее эффективными для вхождения в культуру в средних классах являются игры, наподобие хоббитских по произведениям Толкиена, а в старших классах – игры по созданию (и расшифровке) постмодернистского текста, представляющего собой зашифровку многих текстов культуры, и игры-погружения в культурную эпоху: имитация литературных гостиных, салонов, кабачков.
Сценарии игр пишут совместно учитель и учащиеся, но многие игры в средних классах возникают спонтанно. Например, познакомившись с мифами Древней Греции, школьники легко разыгрывают сцены из жизни богов и героев, импровизируя и придумывая новые ситуации. Интересные игры возникают при изучении русских народных сказок, а также сказок Пушкина. По их мотивам, сюжетам, сценам и фрагментам текста коллективно и в группах создаются, а затем воплощаются в инсценировках, диалогах, монологах, мизансценах целостные тексты. Учащиеся принимают деятельностное участие в создании космоса сказок. Такие игры становятся традицией и способствуют освоению учащимися разных моделей мира, развертывающихся в коллизиях и диалогах.
В старших классах игры требуют другого типа дискурса: здесь не столько творится мир в игре, сколько организуются диалоги в культуре и диалоги культур. Некоторые примеры таких диалогов приводятся в практической части данного пособия.
Осмысление учебного диалога как универсального способа усвоения культуры и основных культурологических дискурсов как форм и приемов работы с текстами позволяет преломить теоретические положения в деятельностный план образовательных коммуникаций.
КРУГ ПОНЯТИЙ
Микро– и макродиалог, учебный диалог, урок-диалог, мыследеятельность, внутренняя речь, солилоквиум, культурологические дискурсы, энтилехия культуры.
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Раскройте сущность бахтинского и библеровского понимания диалога. Что позволило Бахтину признать диалогичность филологического текста?
2. Что такое макро– и микродиалог? Приведите пример организации макродиалога на материале изучения трагедии У. Шекспира «Гамлет». Составьте вопросы и задания для его организации.
3. Какой смысл вкладывают в понятие «учебный диалог»? Почему подлинный диалог возможен только в пространстве культуры? Какие виды диалога включает в себя учебный диалог?
4. Определите сущность урока-диалога в свете культурологического подхода к изучению литературы. Обозначьте его основные характеристики, этапы, фазы. Используя материалы разработок уроков литературы, помещенные в журнале «Литература в школе», приведите пример урока-диалога. • Составьте свой вариант такого урока.
5. Обоснуйте мысль М. Бахтина о том, что воспроизведенный внутренний диалог «конгениален высотам художественной литературы». Раскройте психологические механизмы внутреннего диалога.
6. Расскажите о разных видах культурологических дискурсов при изучении литературы.
7. • Вы комментатор текста. Объясните незнакомые слова, выражения, имена в данном тексте, определите его название и автора:
«Леонтий был классик и безусловно чтил все, что истекало из классических образцов или что подходило под них. Уважал Корнеля, даже чувствовал слабость к Расину, хотя и говорил с усмешкой, что они заняли только тоги и туники, как в маскараде, для своих маркизов: но все же в них звучали древние имена дорогих ему героев и мест.
В новых литературах, там, где не было древних форм, признавал только одну высокую поэзию, а тривиального, повседневного не любил; любил Данте, Мильтона, усиливался прочесть Клопштока – и не мог. Шекспиру удивлялся, но не любил его; любил Гете, но не романтика Гете, а классика, наслаждался римскими элегиями и путешествиями по Италии больше, нежели Фаустом…»
8. • Из текста комедии А. П. Чехова «Вишневый сад» выпишите такие реплики персонажей, при помощи которых можно организовать дискурс между ними по важнейшим жизненным смыслам.
9. • Определите контексты стихотворения М. Волошина «Трихины». Раскройте его ассоциативные ряды, полифонию смыслов.
10. • В процессе изучения «Слово о полку Игореве» придумайте разные приемы проникновения в историческую эпоху, воспроизведенную в данном произведении. Подберите для своих учащихся социальные роли «героев» данной эпохи, составьте их монологи или диалоги.
11. • В чем принципиальное отличие образа звезды в стихотворениях А. Пушкина и О. Мандельштама?
12. • Прочитайте текст объяснения в любви Ленского Ольге. Мог ли так объясняться герой? Составьте свой текст объяснения.
Ах, Ольга, вы меня пленили, Зажгли небесную любовь, Мне кущи рая подарили – За вас я умереть готов. Мне снятся очи голубые И ваши волосы льняные. Взгляну на полную луну – Все вижу вас. Одну! Одну! Приеду, встречу – вот отрада! Вы улыбнетесь я парю И в сердце вас боготворю. Ах, Ольга, как я вас люблю! Прошу решить судьбу мою!Глава З. Педагогическая технология изучения литературного произведения как текста культуры
Понятие о педагогической технологии
Пространство культуры – дом, обиталище личности. Вхождение в него осуществляется через текст, прочтение его знаков, символов, кодов, образов, а через них происходит диалог с автором, постижение его ценностей, картины его мира. В ходе диалога с автором реципиент выходит к смыслам и ценностям культуры, определенному историческому типу сознания, которые создатель текста представляет и отражает. В этом процессе и происходит трансцендентный сдвиг, своеобразный скачок от речевой коммуникации к Я-экзистенции, когда личность сама как бы становится произведением, творит свою историю. Такой производимый культурой и самопроизводимый человек уже не является равным самому себе изначальному, а приобретает новые качественные оценки. Основными задачами каждого конкретного урока литературы является вхождение в художественный текст, постижение его системы ценностей, авторской модели мира и человека и через текст вхождение, погружение в определенную культуру или силовое поле культур. Главная же цель культуросообразной школы – это обеспечение перманентного процесса творения и самотворения личности, ее самоопределения и самоосуществления в культуре и посредством культуры[76]. Он происходит с использованием антропотехнических средств и технологий.
Педагогическая технология – это составная процессуальная часть дидактической системы (М. Чошанов). Под дидактической системой в данном случае подразумевается методика, которая, кроме процессуального компонента, включает в себя методологию, то есть образовательную стратегию конкретного предмета, и содержательный компонент. Таким образом, технология не сводится к методике, а является ее составной частью, хотя в педагогической литературе часто эти понятия не разведены.
Этапы, фазы коммуникации
Педагогическая технология представляет собой завершенный цикл (причем этот цикл может совершаться как на одном уроке, так и в системе уроков). Она включает в себя концептуальную основу, содержание учебного материала, психологический механизм и процессуальную часть – технологический процесс.
Основным звеном педагогической технологии является цикл – совокупность последовательных этапов, фаз, дидактических методов и приемов, учебных видов деятельности и операций. Исходя из идеи учебного диалога, этапы педагогического процесса в ходе изучения художественного текста можно представить следующим образом: предкоммуникативный, коммуникативный, посткоммуникативный.
На первом этапе коммуникации осуществляется установка на восприятие текста: переключение внимания, психологическая адаптация к предстоящей рецептивно-эстетической и когнитивно-логической деятельности, концентрирование внимания и воли, включение работы разных типов мышления и воображения. Он связан с погружением реципиента в свои мысли, чувства, переживания и осуществляется при помощи включения воспоминаний реципиентов, выстраивания ассоциативных рядов, осознания своего личного и читательского опыта, использования произведений смежных искусств. Например, изучение гоголевских «Вечеров на хуторе близ Диканьки» предварят обмен впечатлений, вызванных рассматриванием репродукций картин А. Куинджи «Лунная ночь на Днепре», «Вечер на Украине», «Украинская ночь». Самосознание и рефлексия свидетельствуют о готовности личности к коммуникации.
Собственно коммуникация начинается с чтения текста и его первоначальной рецепции, связанной с осознанием учащимися своих собственных впечатлений о произведении, вопросов и ответов, которые возникают спонтанно в процессе чтения. Эту фазу коммуникации можно определить как первоначальное погружение в мир автора и автокоммуникацию. Она представляет собой взаимосвязь двух сторон единого духовно-эстетического процесса, при котором устанавливается взаимосвязь между экспрессией и импрессией, эмоциями и когнитивной деятельностью. Реципиент в процессе воздействия на него произведений искусства становится объектом, на который направлена авторская суггестия. Читательская реакция во многом прогнозируется писателем и становится предпосылкой эстетического восприятия.
По мнению неизвестного античного автора трактата «О возвышенном», искусство поэзии проникает, подобно звукам музыки, в сердца людей, раскрывая перед ними то, что постиг сам автор. Одной из главных особенностей искусства является его «заразительный» элемент, благодаря которому реципиенты, даже помимо их желания, проникаются чувствами, мыслями и воодушевлением поэта[77]. При этом «содержание произведения не переходит – как вода, переливающаяся из кувшина в другой, – из произведения в голову читателя. Оно воспроизводится, воссоздается самим читателем – по ориентирам, данным в самом произведении, но с конечным результатом, определяющимся умственной, душевной, духовной деятельностью читателя»[78]. Свойство художественного текста направлять читательское восприятие обозначается как потенциал восприятия. Он содержит призыв к читателю соотнести произведение со всем жизненным опытом, сферой чувств и мыслей, сознанием и подсознанием. В работах по психологии восприятия обозначены следующие психологические процессы, происходящие в сознании реципиента: удивление, радость узнавания, волнение, погружение в строй мыслей и чувств героев и автора, переживание, сопереживание, сочувствие, сострадание[79].
В процессе восприятия читатель становится субъектом единого творчески-рецептивного процесса. Он не просто воспринимает текст как готовую данность, а отвечает на художественную мысль писателя аналогичными движениями своей художественной мысли и сам как бы становится сотворцом текста.
Внимание. Соучастие. Открытие
Текст читателя рождается из встречи сложного текстового потенциала автора и жизненного, эстетического опыта читателя. Это сотворчество реализуется на трех уровнях: внимания, соучастия, открытия[80]. На уровне внимания читатель вступает в коммуникацию с автором, следуя его художественной логике, созерцая мир, созданный его творческим воображением, внимая его мыслям и чувствам, постигая его авторскую установку. Очевидно, что можно говорить об установке каждого писателя на определенный тип читательского восприятия, вниманием которого он овладевает. Установка задается автором при помощи «системы раздражителей, сознательно и преднамеренно организованных с таким расчетом, чтобы вызвать эстетическую реакцию»[81]. Только в этом случае текст «впишется» в контекст жизни читателя, и прежде всего настоящего бытия, по отношению к которому он как бы станет со-бытием. Но чтобы коммуникация читателя с автором осуществилась, необходимо чтобы реципиент уловил сюжетно-композиционный, словеснообразный и словесно-интонационный строй текста, то есть то, что вслед за Л. С. Выготским в психологии искусства называют эмоциями формы и эмоциями содержания.
Автор сознательно и бессознательно управляет вниманием читателя, предлагая ему принять свои «правила игры». Он может с неожиданной, парадоксальной фразы, как Л. Н. Толстой, начать свое произведение: «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему».
О диалогическом взаимодействии автора и читателя свидетельствует непосредственное обращение к читателю:
Онегин, добрый мой приятель, Родился на брегах Невы, Где может быть, родились вы, Или блистали, мой читатель (VI, 6).Это обращение может быть дружеским, серьезным, фамильярным, ироничным – в зависимости от того, на кого ориентируется писатель и какие отношения с ним устанавливает. Часто рассказчик говорит от лица изображаемого мира, как бы считая читателя частью этого мира или человеком своего круга, своих интересов. Через весь текст романа А. С. Пушкина, например, проходит эта интонация дружеской беседы автора со своим читателем, который сможет гибко отреагировать как на протекающие события, так и на непосредственные обращения к нему. Можно сказать, что автор создает в своем тексте образ предполагаемого читателя-собеседника, читателя-друга, которому даже льстит, что он общается «с Пушкиным на дружеской ноге», причем современный читатель испытывает то же отношение к автору, что и его современник. Временная дистанция как бы устраняется.
Овладеть читательским вниманием автор может, удивив его необычным названием своего произведения, как В. Маяковский («Флейта-позвоночник», «Облако в штанах»), или при помощи стремительно развивающегося конфликта, как, например, в «Ревизоре» Н. В. Гоголя, лирическими пейзажами, которыми часто начинаются повести и романы И. С. Тургенева. Иногда автор вызывает внимание к своему тексту уже с первой фразы, как бы удивляя своим юмором, своей игрой. Так начинается «Евгений Онегин» А. С. Пушкина, первая фраза которого представляет собой пародирование, безусловно, знакомой современникам поэта реминисценции из басни Крылова «Осел и мужик» («Осел был самых честных правил»).
В поэтических текстах огромную роль для возбуждения внимания читателя играет ритм, звукопись, интонация. И читатель, невольно заряжаясь лирической энергией автора, начинает декламировать текст, стараясь воспроизвести «авторскую партитуру чувств».
Писателю очень важно овладеть вниманием читателя уже на первой стадии восприятия. Поэтому он огромное значение придает заглавию произведения, эпиграфу, экспозиции, предисловию, вступлению, первой ремарке, реплике героев, первой фразе, поэтической строфе или даже строке.
Овладев вниманием читателя, писатель вызывает у него активное отношение к тексту – соучастие. При этом он может прямо обращаться к нему, вызывая его непосредственную реакцию на изображенное, отраженное в тексте или намекать на что-либо, интриговать, пробуждать ассоциации. Например, знаменитое гоголевское: «Знаете ли вы украинскую ночь? О, вы не знаете украинской ночи! Всмотритесь в нее…»
Соучастие вызывается пафосом произведения, лирическими, драматическими интонациями, авторской иронией, аллегорией, сарказмом и т. д. Поддержание длительного интереса к тексту со стороны читателя осуществляется в тексте при помощи движения его сюжета, развития основных и побочных мотивов, культурно-исторических образов и реалий, риторических вопросов, опорных слов и выражений, семантических повторов, логических фигур. Соучастие осуществляется при условии, если читатель способен соединить в своем сознании разрозненные детали текста, мотивы и картины жизни в единую картину бытия. Именно в сознании реципиента текст приобретает свою художественно-эстетическую целостность, которая задана ему сознанием автора. Входя в текст, читатель как бы становится соучастником происходящих в нем событий. Он заряжается мыслями и чувствами героев и самого автора, воспроизводит и творчески дорисовывает в своем воображении сюжетные ситуации и эпизоды текста, интерьер, пейзаж, портреты героев и т. д. Поэтому в процессе установки на чтение учащихся учитель должен предусмотреть задания, направляющие их работу воображения и эмоциональной сферы. Это и устное словесное рисование, и «лента видений», и вопросы-рекомендации для чтения. Вот пример одного из заданий учащимся: обратите при чтении, как Гоголь в «Тарасе Бульбе» описывает украинскую степь – простор, небо, воздух, звуки, растительность, движение света.
Богатый простор для читательского сотворчества предоставляют тексты с преднамеренно пропущенными автором эпизодами, сценами, «открытыми» финалами.
Предусматривая реакцию читателя, автор может вступать с ним в своеобразную игру, как бы удивляя его неожиданным поворотном действия, непредсказуемым финалом. Этот прием позволяет создавать постоянную интригу, которая поддерживается благодаря соучастию читателя в действии.
Еще один очень важный прием читательского соучастия в тексте – воспроизведение в тексте читательского слова, с которым автор может соглашаться или которое он высмеивает, вышучивает, полимически переоценивает, опровергает. Слово читателя может прерывать авторскую речь, звучать как реплика или замечание, вопрос, на которые автор незамедлительно отвечает или возражает. В этой связи приведем пример из Предисловия автора к роману «Герой нашего времени», в котором он, как бы предугадывая читательскую рецепцию романа и замечания, вопросы реципиентов, вступает с ним в своеобразную полемику: «Вы мне опять скажете, что человек не может быть так дурен, а я вам скажу, что ежели вы верили возможности существования всех трагических и романтических злодеев, отчего же вы не веруете в действительность Печорина?» (IV, 276).
Нередко автор включает читателя в действие, произведя его в участника художественных событий, руководя его движениями и жестами, учитывая его реакцию в описании тех или иных сцен, картин, как бы наделяя читателя функциями персонажа, как в романе Н. Г. Чернышевского «Что делать?», в котором диалог автора с читателем даже в какой-то мере определяет композицию романа.
У каждого писателя как бы есть свой образ читателя, а точнее адресат, к которому обращено его произведение. Поэтому, чтобы состоялся полноценный диалог создателя текста и его адресата, автор мысленно представляет своего читателя. Концепция адресата является важнейшим жанрово-структурным признаком, часто определяющим построение и стиль произведения.
Автор вступает в диалог со своим адресатом, который может поддерживаться на протяжении всего хода событий. Устанавливается особая дружеская связь автора с читателем, поэтому у автора даже возникает потребность объясниться в своих чувствах со своим читателем, дружески проститься с ним. Читателю же, расставшись с героями произведения и автором, к которому он теперь испытывает искренние чувства, хочется вновь и вновь перечитывать текст, чтобы опять встретиться со своим добрым приятелем – автором. В этом особая магия искусства. И лучший пример такого текста – роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин».
Важно заметить, что автор активен лишь в пределах текста. За пределами произведения он передает свою активность читателю, который теперь как бы от его лица вступает в диалог с другимим сознаниями и культурами, становясь квазисознанием автора.
На уровне открытия сотворчество читателя с автором связано преимущественно с когнитивной деятельностью: расшифровкой кодов, знаков, символов, мотивов, имеющихся в тексте, постижением, осмыслением авторской модели мира и человека. Разумеется, что только квалифицированный читатель сможет открыть и осознать эту авторскую модель, раскодировать его эстетическую информацию в целом и художественные детали в частности. Открытие связано с постижением авторской картины мира, приобщением к его системе ценностей, поэтической тайне бытия, запечатленной в тексте. Эту сложную работу «припоминания, ассоциаций мышления» Л. С. Выготский назвал «вторичным синтезом»[82].
Сотворчество читателя обусловлено его жизненным и художественным опытом, развитием его воображения, способностью к ассоциированию, сопереживанию и перевоплощению. Оно проецируется автором с помощью многих приемов и художественных средств: построение фабулы, сюжета, композиции, конфликтов, диалогов, средств образного воплощения, пространственно-временных связей, приемов литературной техники, средств языковой выразительности, фигур речи и т. д.
Вторая фаза коммуникации начинается с актуализации впечатлений реципиентов и организации пространства диалога. Используются приемы творческих пересказов, выразительного чтения наиболее запомнившихся эпизодов и сцен, интервьюирования, экспресс-вопросов, чтения-комментирования, чтения в ролях, мизансценирования и т. д. Здесь очень сильна рецептивно-эмоциональная сторона коммуникации, установка на погружение в текст, чувства, мысли, смыслы персонажей произведения, воссоздание в воображении картин жизни, созданных писателем, присвоение читателем чужого опыта переживаний и жизни. В ходе обмена эмоциями, впечатлениями и мыслями «нащупывается» нерв будущего диалога. Он и будет представлять собой третью фазу коммуникации, которая в равной степени востребует две стороны деятельности читателя – рецептивную и когнитивную.
Две стороны читательской деятельности
Вхождение в текст и противоречие между знанием и незнанием в сознании читателя, задаваемого внутренним диалогизмом текста, создает проблемную ситуацию, с решения которой и начинается диалог. Он ведется в пространстве текста и восходит к пространству культуры. Для его создания учитель вычленяет идеи, концепции, проблемы, сцены и эпизоды текста, которые могут стать предметом общения, и формулирует познавательную задачу. Происходит вторичное, более углубленное погружение в текст.
Современная эстетика исходит из того, что знания, идеи, ценности в готовом виде не существуют. Они приобретаются в процессе восприятия, познания, коммуникации. Учитель должен обеспечить включение ребенка в педагогический процесс посредством создания постоянной учебной интриги, активизации всех психологических сфер его личности: эмоций, памяти, воображения, мышления. Диалог ведется на материале текста вокруг жизненно важных проблем – нравственных, эстетических, философских, на которые ни у кого, разумеется и у учителя, не может быть окончательных ответов. Так возникает ситуация партнерства, сотрудничества педагога и учеников в культурное пространстве художественного текста. У педагога, несомненно, есть свой взгляд на произведение, своя его интерпретация (или позаимствована у кого-нибудь из литературоведов), но его искусство организатора процесса коммуникации и заключается в том, чтобы никому из его участников ее не навязывать, а принять во внимание все высказывания как равноправные голоса, точки зрения, логики.
Рассматривая литературу и искусство как форму одновременного бытия и общения людей разных эпох и времен, процесс изучения словесности организуется как разные формы диалога в культуре: диалог с героями произведения, диалог с автором, диалог с критиками и читателями в синхронном и диахронном времени, «большой диалог культур» на основании модели воссозданного бытия в изучаемом тексте. Названные формы диалога не могут быть эффективными без наличия диалога между субъектами обучения и внутреннего диалога в сознании каждого субъекта, когда обучаемому необходимо принимать и отстаивать разные логики, разные типы сознания.
Познавательная деятельность в процессе вхождения в текст, рассматриваемый в контексте культуры, связана, с одной стороны, с когнитивными процессами в сознании реципиента. Она заключается в «расшифровке» семантических текстовых единиц, философско-эстетических идей. Осуществляется читательская деятельность как решение разного рода познавательных задач, осмысление диалогических коллизий и ситуаций. Эту сторону читательской деятельности можно обозначить как процесс осмысления содержания, поэтики произведения, перевод художественных образов в понятия, суждения, концепции. Для полноценного понимания содержания необходим некий базовый культурный фонд у обучаемых. Поэтому на уроках погружения в текст особое внимание уделяется разного рода комментариям историко-культурного, этнографо-бытового и языкового плана.
Сложность осуществления «большого диалога культур» посредством художественного текста сопряжена прежде всего с тем, что у учащихся отсутствует концептуальное представление о том или ином типе культуры. С этой целью для каждого типа культуры необходимо выстроить своеобразную модель, мироконцепцию, то есть систему ценностных доминант, образ мира и человека в разных культурах, разных типах сознания. В этой связи процесс литературного образования осуществляется как «проживание» основных этапов духовного развития человечества посредством обращения в каждом классе к определенному типу культуры. На уровень мироконцепции осуществляется выход и при изучении каждого конкретного произведения в ходе обращения к его культурным пластам, сюжетам, мотивам, архетипам и образам, создающими неповторимый национальный образ мира и вводящими его в контекст мировой культуры.
Вторая сторона читательской деятельности – рецептивно-эстетическая. Полноценное восприятие текста, его «оживление» в сознании реципиента возможно лишь при активной деятельности всех психологических сфер его личности, его сотворчестве с автором, эмоциональном отклике, сопереживании, сопричастности к событиям жизни людей разных культурных эпох. От педагога требуется умелое использование методов и приемов, обеспечивающих высокую продуктивность работы читателей. В своей практике, используя идеи деятельностного подхода в психологии, мы уделяем большое внимание креативности: сотворчеству обучаемых с автором (дописывание учащимися эпизодов, сцен, реплик, диалогов, которые гипотетически могли бы существовать в тексте, составление писем, дневников от лица героев произведения, создание работ по мотивам изучаемых текстов).
«Оживление» героев, воспроизведение духовной атмосферы прошлых культурных эпох требует сотворения мира по заданным моделям, которые запечатлены в культурных кодах. В этой связи используется широкий спектр ролевых игр. Набор ролей диктует текст и его культурное пространство. Так, например, через глубинный конфликт романа И. С. Тургенева «Отцы и дети» мы выходим к диалогу о разных типах любви и семейного счастья. Античность с ее философией стоицизма здесь полемизирует с христианским разумением сущности бытия. В диалоге романтического сознания и позитивистского, материалистического подхода к человеку постигаются истинные ценности и вечные противоречия бытия.
Увлекательным для современных школьников в информационном пространстве телекоммуникаций и компьютерных игр, является прием составления киносценария по небольшому произведению или фрагменту текста. В киносценарии происходит своеобразное «оживление» героев, творится мир по заданным сюжетам и моделям. Этот прием позволяет создать целостную картину жизни, этнографо-бытовые факты и духовные стороны жизни человека определенной эпохи. Для создания образа эпохи привлекается также и внетекстовой материал как самого писателя (дневники, письма, воспоминания и т. д.), так и другие тексты, представляющие сведения об эпохе.
Большие возможности имеются у уроков, проводимых в форме литературных салонов, поэтических кабачков. Такие уроки проходят как ролевые игры и задают художественный контекст системе уроков по изучению творчества поэтов золотого и серебряного веков. На них учащиеся «примеряют» на себя разные социальные, профессиональные и художественные роли людей других культурных эпох, ведут с ними диалог по актуальнейшим проблемам бытия. Для создания культурного пространства используются произведения смежных искусств, вступающие в своеобразный художественный диалог. Они в своем содружестве позволяют более глубоко проникнуть в своеобразие мироощущения человека определенного типа культуры и художественного направления.
Кроме ролевых игр в практической деятельности педагога используется и ряд других приемов вхождения в культурную эпоху через «озвучивание», «оживление» художественных текстов: имитация споров читателей, критиков разных эпох, театрализованные праздники «погружения» в культуру. Конечно, всегда главное внимание уделяется художественному тексту, посредством которого организовывается диалог в культуре, «большой диалог культур» и внутренний диалог в сознании реципиента, когда ему необходимо принимать или отстаивать разные логики, разные типы сознания.
Технологическая схема
Технологический цикл изучения художественного текста как текста культуры можно представить в виде технологической схемы, то есть условного изображения технологического процесса, разбивки его на элементы и обозначения логической связи между ними.
Условные обозначения: Π- педагог, У- учащийся, Т- текст, А – автор, ПД – познавательная деятельность, РэД – рецептивно-эстетическая деятельность.
Учитель организовывает рецептивно-эстетическую и познавательную деятельность учащихся. Она предполагает два главных вида деятельности и в соответствии с ними использование двух групп приемов: активизации восприятия и приемов осуществления диалога с героями и автором произведения.
К приемам рецептивно-эстетичекой деятельности относятся: устное словесное рисование, выразительное чтение, лента видений, словесное иллюстрирование эпизодов, разные виды пересказа, мизансценирование, инсценировка, режиссерские ремарки, использование произведений смежных искусств, ролевые игры, сотворчество с автором и т. д.
Познавательно-коммуникативная деятельность – это познание художественного мира писателя, открытие мира героев, диалог с их ценностными смыслами и виденьем мира, диалог с автором, постижение его мирообразов и миропредставлений. При этом текст рассматривается как текст культуры, и диалог ведется в этом пространстве культуры.
Приемы анализа текста здесь известны, они практикуются в литературоведении и адаптируются школьной методикой. Наиболее распространенные из них: многочисленные виды комментирования текста, сопоставление разных редакций текста, изучение творческой истории произведения, наблюдение над развитием сюжета и композиции, анализ внесюжетных элементов (пейзажа, портрета, интерьера и т. д.) выявление и осмысление роли микросюжетов, мотивов и образов культуры в художественном пространстве текста, анализ лексико-грамматической организации текста, поступков, высказываний, суждений, оценок и мироконцепций героев, выявление их коллизий и диалогов между ними, авторских приемов типизации как персонажей, так и картин жизни в целом. При этом главное назначение анализа не столько перевод художественных образов в понятия, суждения и концепции, сколько воссоздание в воображении читателя картин жизни, нарисованных писателем, озвучивание голосов героев, осознание их как живых людей со своими радостями, горестями, мучениями, сомнениями, заблуждениями, ценностями, идеями, вхождение в диалог с ними. В ходе этого процесса происходит постижение читателем духовной атмосферы культурной эпохи и авторской модели мира.
Дискурсивная практика прочтения повести М. Ю. Лермонтова «Фаталист»
Изучение повести «Фаталист» М. Ю. Лермонтова проходит как заключительный этап системы уроков по роману «Герой нашего времени». Выйти на уровень диалога с героями, а затем и с автором могут помочь вопросы такого характера: почему роман М. Ю. Лермонтова заканчивается главой «Фаталист»? Кого из героев этой главы и всего романа можно назвать фаталистом? Обоснуйте свое мнение. Чем определяется поведение и жизнь Печорина: его волей, характером, происхождением, воспитанием, стечением обстоятельств, идеями, жизненными целями и устремлениями, судьбой или еще чем-либо? В чем суть диалога автора со своим героем о смысле жизни? Какова ваша позиция в диалоге? Свидетельствует ли роман о понимании безысходности и абсурда жизни самим автором?
На эти вопросы, разумеется, ни у педагога, ни у какого-либо читателя или критика не может быть исчерпывающих ответов. Первые реплики учащихся – обобщение с места – слишком общи и категоричны, хотя и создают поле диалога между его участниками. Потребуется новое, углубленное обращение к тексту, его детализация. Сознание участников диалога должно объединить в единое целое разрозненные мотивы, коды, знаки художественной семантики, суть явлений быта и бытия национальной и общечеловеческой культуры. Внимание читателей сразу же останавливается на мотиве карт и игры, ведь именно этими мотивами и открывается повесть: «офицеры собирались друг у друга поочередно, по вечерам играли в карты» (VI, 461).
Мотив игры в карты – метафора жизни (Печорина, Вулича) и игры с жизнью. Вулич проверяя эмпирически теоретические размышления о предопределении, рискует собственной жизнью, а Печорин, рискуя 20 червонцами, экспериментирует с чужой жизнью. Игроком является и казак, зарубивший Вулича. Если первые играют хладнокровно, руководствуясь исключительно разумом, то казак полностью отключает рассудок под воздействием спиртного, ощущая в себе необузданную свободу, словно он сам творит свою судьбу. Итак, мотив игры превращается в мотив игры с жизнью, своей и чужой. Он сближает всех троих героев, причем в этой триаде Вулич и казак занимают крайние позиции, а Печорин – центральную. Это заявлено в тексте, как и на уровне деталей (кажущихся сперва случайными, но обретающими в составе целого удивительную связь), так и на уровне жизненно-поведенческом.
Так, Вулич держится всегда слишком обособленно, отдельно от общества и появляется он в повести из угла комнаты. Внешность, характер героя – все говорит о замкнутой, сосредоточенной постоянно на своих мыслях натуре, «существе особенном, неспособном делиться мыслями и страстями с теми, которых судьба дала ему в товарищи» (IV, 462). Странны и загадочны поступки Вулича, которые в тексте объясняются исключительно через игру, составляющую его главную страсть. Можно поэтому сказать, что между игрой и жизнью для героя не существует практически ощутимой грани. Подтверждение этому – случай из жизни Вулича, приведенный в тексте автором. Игра для героя по своей серьезности не уступает войне, причем честность и порядочность по отношению к своим партнерам сродни дружескому долгу во время сражения. Нет решительного различия между игрой и жизнью, герой поэтому может поставить на карту свою жизнь – все должен решить случай или предопределение, если оно существует. Играть Вулич продолжает и в сцене с пьяным казаком, окликая его. Он словно постоянно испытывает свою судьбу, бросает ей вызов, экспериментирует. И только перед смертью он окончательно убеждается в подчиненности жизни року, фатуму, произнеся два таинственных слова: «он прав». Смысл этой фразы был понятен только одному Печорину.
Казак занимает второй край в этой триаде героев. На уровне сюжетной детали это заявлено тем, что он запирается в «пустой хате на краю станицы». В системе образов он – прямая противоположность трезвеннику Вуличу, который «вина почти вовсе не пил» (IV, 463). Напротив, казак любит выпить, не способен себя контролировать ни в состоянии опьянения, ни в минуты аффекта после преступления. Если взор Вулича в экстремальной ситуации «спокоен и неподвижен» (IV, 465), то «выразительные глаза» пьяного казака «страшно вращались кругом» (IV, 472). Вулич хладнокровно и осознанно идет навстречу своей судьбе: коль судьба существует, ее не миновать.
Казак-волюнтарист, он словно сам весь слепая стихия, не подчиняющаяся никаким законам – ни юридическим, ни нравственным. На обращение к нему есаула покориться казак отвечает решительным отказом «Не покорюсь!». Причем в контексте есауловской фразы («уж коли грех тебя попутал, нечего делать: своей судьбы не минуешь») второй отказ казака звучит одновременно и как нежелание покориться судьбе. Это нежелание сопровождается грозным криком и щелканьем курка пистолета.
Какова же позиция Печорина? Имеет ли место в его жизни фатализм? – такие вопросы вполне закономерно поставить перед учащимися.
Отмечается, что Печорин, хроникер, от его взгляда не ускользает ни одна деталь, ни один нюанс в поведении окружающих его людей. Он видит и «бледные губы» Вулича, и бледного убийцу с «беспокойным взглядом», и глаза матери убийцы, «выражавшие безумное отчаяние». Но Печорин и непосредственный участник действия, он участвует в игре и сам предлагает ее правила. Он одновременно и сторонний холодный наблюдатель, и пристрастный игрок. Главный герой романа постоянно находится в центре событий, он их часто сам предопределяет, выступает в качестве «топора» судьбы. В теоретическом и эмпирическом споре о фатализме он также занимает центральную позицию, хотя в тот роковой вечер Печорин на какое-то время, по его собственному признанию, поверил в предопределение: «…в этот вечер я ему твердо верил: доказательство было разительно» (IV, 469). В данном случае интуиция героя, предсказывающая смерть Вулича, как бы получает в дальнейшем эмпирическое подтверждение, но окончательного вывода о существовании или отсутствии предопределения герой так и не сделал. И это объясняется в тексте и самим поведением героя, и его системой взглядов. В своих действиях герой может быть и хладнокровным, как Вулич, и отчаянным, как казак, но его жизненно правило – «ничего не отвергать решительно и ничему не вверяться слепо» (IV, 469). В этой связи уместно ввести текст «Фаталиста» в контекст споров об эмпирическом и теоретическом (рассудочном) методах познания, в которых принимает участие автор романа.
Очевидна связь проблематики «Фаталиста» с концепциями английского философа Френсиса Бэкона. Следует остановиться прежде всего на двух положениях «естественной философии» Бекона[83]. Во-первых, на бэконовской «антитезе вещей», суть которой – «очищение разума» от «идолов», т. е. предвзятых мнений, религиозных и житейских предрассудков с целью освобождения, раскрепощения ума для свободы творчества и активного действия. С этого и начинается философский спор в «Фаталисте». Реплика старого майора («Все это, господа, ничего не доказывает, ведь никто из вас не был свидетелем тех странных случаев, которыми вы подтверждаете свои мнения» (IV, 462)) как раз и может рассматриваться как прямое обращение к философии Бэкона, отвергающего мистицизм и схоластику и признающего опыт, эксперимент в качестве источника познания.
Лично поучаствовать в этом эксперименте и предлагает Вулич. Поэтому нельзя однозначно утверждать, что Вулич – фаталист. Он эмпирик, и его отношение к судьбе не имеет ничего общего ни с мусульманским повернем («судьба человека написана на небесах» (IV, 462)), ни с видоизмененным христианско-языческим («на роду написано») (IV, 474), которым Максим Максимыч объясняет жизнь и поведение человека.
Вулич как раз и предлагает активное деятельностное вмешательство в жизнь, а не пассивное ожидание судьбы. Но признание только практики, эксперимента единственным источником познания – крайность, ведь все может объясниться простым стечением обстоятельств, как в случае с Вуличем (если бы герой не заговорил с пьяным казаком, то ничего страшного в тот вечер с ним не случилось бы).
Чтобы преодолеть односторонность эмпиризма, Бэкон пытается соединить оба метода познания: эмпирический и теоретический (рационалистический). Печорин как раз и использует оба эти метода: то попеременно, то пытается один дополнить другим. Так, в случае с Вуличем он отдает предпочтение чувственному познанию, интуиции. В своих раздумьях по дороге домой ночными улицами станицы Печорин размышляет как теоретик, философ. Созерцая ночное небо, он рассуждает о наивной вере предков, думавших, «что светила небесные принимают участие в наших ничтожных спорах за какие-нибудь вымышленные права!.. (IV, 468). С позиций критического разума он делает вывод о несостоятельности их веры, их предубеждений: «И что же? Эти лампады, зажженные, по их мнению, только для того, чтоб освещать их битвы и торжества, горят с прежним блеском, а их страсти и надежды давно угасли вместе с ними, как огонь, зажженный на краю леса беспечным странником» (IV, 468). Но вместе с тем герой признается себе, что освобождение от этих заблуждений не делает человека счастливым, а жизнь лучше. Наоборот, предки были счастливее: «какую силу воли придавала им уверенность, что целое небо с своими бесчисленными жителями на них смотрит с участием, хотя немым, но неизменным!» (IV, 468).
Посмеявшись в душе над верой «наших предков» и их услужливой астрологией, Печорин, по его собственному признанию, в тот вечер «попал невольно в их колею», так как смерть Вулича, казалась, имела в себе какое-то фантастическое объяснение, недоступное здравому рационализму. И теперь он сам производит эксперимент в сцене обезоруживания и взятия убийцы Вулича. Любопытно, что эксперимент он проводит уже не в первый раз.
Участники диалога могут привести другой пример: сцену дуэли Печорина с Грушницким и раздумья героя перед ней. Печорин проверяет, насколько судьба благосклонна к нему и одновременно испытывает Грушницкого: проснется ли в нем «искра великодушия». Вместе с тем испытание Печорина это не слепое следование навстречу судьбе, а трезвый расчет, основанный на знании героем человеческой психологии: Грушницкий, по его мнению, не сумеет выстрелить в безоружного человека: «Я был уверен, что он выстрелит на воздух» (IV, 447).
В отличие от других героев, Печорин не впадает в крайность, к интуиции, чувствам он постоянно подключает рассудок, теорию: от метафизики обращается к эмпирике, земной жизни, так как взял себе за правило «ничего не отвергать решительно и ничему не вверяться слепо» (IV, 469). И это позволяет ему взять вверх над обстоятельствами, побеждать в экстремальных ситуациях, предпринимая необходимую предосторожность, как в эпизоде, когда он чуть было не наткнулся на зарубленную казаком свинью.
Метод познания Печорина можно назвать диалектическим, в котором движущей силой является постоянное сомнение, отрицание отрицания. «Я люблю сомневаться во всем: это расположение ума не мешает решительности характера» (IV, 473–474), – констатирует герой. Вместе с тем сомнение не отменяет активности, действия, поскольку не позволяет согласиться с детерминированностью жизни и признает необходимость воли и рассудка. Но диалектическая логика Печорина не делает его личностью гармонической, так как мы имеем дело с натурой внутренне раздвоенной на хроникера, аналитика и участника действия: «один живет в полном смысле этого слова, другой мыслит и судит его» (IV, 442).
Постоянное отношение к себе как к «другому» превращает его жизнь в «чужую» он не испытывает ни истинных увлечений, ни упоение мгновением бытия во время полного слияния с ним. И только в эпизоде погони за Верой Печорин на какое-то время лишен этого раздвоения, съедающей его рефлексии. Загнав лошадь, он рыдает в степи как ребенок. Отсутствие «твердости и хладнокровия» в данном эпизоде не снижает, а, наоборот, возвышает героя: в нем жизнь берет верх над мыслями о ней. Но «мысли приходят в обычный порядок» (456), и опять наступает раздвоение на участника жизни и аналитика. Этот диалог эмпирика и аналитика в душе героя заканчивается победой последнего, и герой с глубокой грустью признается в своем Журнале: «В этой напрасной борьбе я истощил и жар души и постоянство воли, необходимое для действительной жизни; я вступил в эту жизнь, пережив ее уже мысленно, и мне стало скучно и гадко, как тому, кто читает дурное подражание давно ему известной книге» (IV, 469).
Преждевременная усталость, старость души, отсутствие ясной жизненной перспективы делает жизнь Печорина онтологически абсурдной. Словно какой-то злой рок висит над ним. И напрасны усилия его ума, воли, его решительность и деятельная активность. Итогом жизни Печорина становится скептицизм как сомнение в существовании какого-либо надежного источника истины. Герой сам говорит о своем мироощущении: «‹…› кто знает наверное, убежден ли он в чем или нет?.. и как часто мы принимаем за убеждение обман чувств или промах рассудка!..» (IV, 473). Следует заметить, что говорит он как бы от лица многих других людей своего времени, героем которого он является.
Этот этап дискурса предполагает ввод новой информации о скептицизме. Возникший в античные времена (Пиррон, Тимон, Аркесилий, Карнеад) как философская система, он неоднократно переосмыслялся, главным образом как метод познания. Так в XVIII в. скептицизм стал синонимом свободомыслия, критики философских и религиозных догм. Этим и объясняется огромная популярность сочинений М. Монтеня, П. Бейля. Интерес этот не ослабевал в русской культуре начала XIX в. Не случайно П. Бейль даже входил в круг чтения Евгения Онегина как образованного человека своего времени: «Прочел скептического Беля…».
В конце 20-начале 30-х гг. XIX в. скептицизм вновь востребован жизнью, причем не только как умонастроение в жизни печоринского поколения, но и как направление в науке. В этой связи уместно будет назвать М. Т. Каченовского, редактора «Вестника Европы», редактора Московского университета с 1837 г., одного из основателей «скептической» школы в исторической науке.
Скептицизм как явление русской жизни можно оценить неоднозначно. С одной стороны, как метод познания он двигал развитие науки на пути к поиску истины, избавлял от априори, принятых на веру, заблуждений, наивно-простодушных мечтаний. С другой стороны, превращаясь в способ жизни, он лишал людей всякой инициативы, активности, жизненной перспективы, оправдывал общественное уныние и крайний пессимизм. В качестве подтверждения последнего можно обратиться к стихотворению Лермонтова «Дума», переполненном печальных и обвинительных интонаций в адрес поколения, пребывающего в беспросветном скептицизме:
Печально я гляжу на наше поколенье! Его грядущее – иль пусто, иль темно, Меж тем, под бременем познанья и сомненья, В бездействии состарится оно (I, 442).Печоринский скептицизм же в большей степени метод познания, который позволяет ему все время задумываться о «проклятых» вопросах бытия, что сближает героя с Гамлетом Шекспира. Вместе с тем последняя в хронологическом порядке глава «Максим Максимыч», очевидно, может уже свидетельствовать и о безысходном скептицизме героя, растратившего в «напрасной борьбе» весь свой «жар души и постоянство воли» (IV, 469).
Но все же Печорин не стал ни циником, ни человеконенавистником. Его эгоизм онтологический, а не бытовой. Он страдает, мучается от одиночества, неприкаянности человека в этом мире, его обреченности. Для развития этой темы уместно обратиться к стихотворениям поэта («На севере диком», «Дубовый листок», «Тучи», «И скучно и грустно»), в которых в разных нюансах звучит этот мотив. Так, глава «Фаталист» постоянно вводится в контекст всего романа и даже творчества писателя. При рассмотрении проблемы фатализма очевидна своеобразная параллель Печорина с его «двойником» Грушницким. Поведение последнего можно объяснить с позиции бытового эгоизма, перешедшего в мрачную мизантропию. В течение полутора месяцев герой из влюбленного юноши с непомерно развитым честолюбием, «драпирующегося в необыкновенные чувства, возвышенные страсти и исключительные страдания» (359), превращается в обозленного на весь мир человека.
Так, при первой встрече с Печориным его французское выражение: «-Mon cher, je haïs les hommes pour ne pas mépriser, car autremanet la vie serait une farce trop dégoûtante» (Мой милый, я ненавижу людей для того, чтобы не презирать их, ибо иначе жизнь была бы слишком отвратительным фарсом. – Фр. IV, 362), кажется просто «драматической позой». В сцене же дуэли ключевые слова этой фразы приобретут совершенно иной смысл, выражая уже истинное психологическое состояние героя: «– Стреляйте ‹…› Я себя презираю, а вас ненавижу» (IV, 451).
Эти две семантически важные фразы текста выходят к проблеме судьбы, рока. В отличие от Печорина, Грушницкий не задумывается серьезно над философскими проблемами бытия. Он играет в жизнь, постоянно позируя и как бы надевая «трагическую мантию» (IV, 360). И он наказан за это: нельзя жизнь превращать в вечный фарс. Даже в сцене дуэли Грушницкий так и не возвысился до серьезного понимания трагичности происходящей ситуации поединка, которую своими стараниями драгунский капитан пытается превратить не во что иное, как в фарс, чтобы посмеяться над Печориным, унизить его. Сказанная с показной важностью драгунским капитаном фраза: «‹…› все вздор на свете!.. Натура – дура, судьба – индейка, а жизнь копейка» (IV, 449), должна была как раз заключать в себе трагикомический смысл. Но когда Печорин разгадал замысел своих противников, заставив их вести дуэль всерьез, фраза капитана получила совершенно иное звучание, как бы обозначая сущность натуры Грушницкого и итог его жизни. Герой сам заслужил такую судьбу, так нелепо распорядившись своей жизнью.
Итак, при сопоставлении двух героев видно, насколько Печорин значительнее своего «двойника», но, замкнувшись в своей индивидуальной судьбе, он, как и его поколение, не сумел выйти из трагического тупика. И объяснение этому содержится в его натуре и времени, к которому он принадлежит. Над ним словно висит фатум, и уйти от него невозможно.
Сумел ли избежать этого тупика другой герой времени – автор? Учащимся предстоит определить, что роднит автора с его героем и что их отличает. В сознании реципиентов возникает диалог автора с его героем. Задача педагога – из множества версий выбрать наиболее убедительные. Вновь возникнет потребность обратить внимание на соотношение сюжета и фабулы романа, структуру его композиции, роль авторских предисловий. Учащиеся будут строить разные предположения, почему автор не высказывает о своем герое определенного мнения, спрятавшись за общей формулой: «не знаю» (IV, 340). Очевидно, что автор не только любуется своим героем и защищает его, но и обвиняет его. И здесь опять возникает потребность в обращении к другим произведениям автора: стихотворениям «Дума», «Родина», «Бородино», «Выхожу один я на дорогу», «Молитва» («В минуту жизни трудную…»).
В отличие от Печорина, автор постоянно ищет положительный идеал в жизни. Он поэт, патриот своей страны, гражданин, которого возмущает всеобщее бездействие, уныние и пессимизм. Автор выстрадал свою любовь к родине, ее народу, что помогает избавиться от эгоцентризма, преодолеть скептицизм. Не все в жизни так безнадежно, если можно встретить родную душу, хоть на время обрести счастье, гармонию, чувство своей сопричастности к людям, родине, истории. Кроме того, у автора «в минуту жизни трудную» есть отдушина – творчество, просветляющее душу:
С души как бремя скатится Сомненья далеко – И верится, и плачется, И так легко, легко… (I, 457).Через приобщение к авторскому сознанию происходит выход к общечеловеческим ценностям, актуализация произведения. Так оно реально начинает функционировать в «большом времени». Оказывается, многие проблемы, волновавшие автора, становятся актуальнейшими проблемами нашего бытия. Теперь в процессе погружения в текст и его интерпретации они личностно осмыслены и прочувствованны участниками диалога, стали фактом их бытия. Реципиент, обогащенный новыми ценностными смыслами, как бы проделывает качественный скачок в своем развитии, он уж не равен себе прежнему, каким он был до начала диалога. Диалог автора с другими авторами в сознании его участников осуществляется посредством текстов других авторов, как современников изучаемого писателя, так и принадлежавших к другим историко-культурным эпохам и даже историческим типам культур. Например, обратившись к роману Л. Н. Толстого «Война и мир», попытаемся выяснить, как его создатель рассматривает индивидуальную судьбу человека, солидарен ли он с автором «Героя нашего времени», который полагает, что «история души человеческой, хотя бы самой мелкой души, едва ли не любопытнее и полезнее истории целого народа»? (IV, 339). Учащимся предстоит поочередно принять позицию каждого автора, а затем перевести диалог «во внутренний план», собственное сознание. Для полноценного осуществления диалога необходимо будет ввести новую информацию, которую может сообщить педагог или воспитанник.
В процессе решения поставленного вопроса выясняется, что Л. Н. Толстой, в отличие от В. Скотта, создателя европейского исторического романа (история в его произведениях является своеобразным фоном жизни и приключений главных героев), создает исторический роман нового типа. Это произведение, в котором отсутствует традиционное деление на жизнь «частную» и «историческую». Все едино: историческая жизнь народа раскрывается через частную жизнь человека, а частная жизнь через исторические события. Эта идея общности жизни, мира, вселенной становится доминирующей идеей романа Л. Н. Толстого. В своих духовных поисках герои Толстого приходят к пониманию необходимости преодоления своего эгоцентризма, замкнутости жизни на себе самом, обусловленности своей судьбы только собственным бытием.
С выходом к миру, людям, сопричастностью личности с историей как раз и связаны пики духовных взлетов князя Андрея и Пьера. Так, возвращаясь из Отрадного после встречи с Наташей, взволнованный красотой лунной ночи, любуясь помолодевшим, обновленным дубом, который еще недавно казался старым уродом, князь Андрей вдруг неожиданно осознает, что смысл его жизни не только в его собственных мыслях, чувствах, переживаниях, а в открытости миру, связи с другими людьми, которые определяют и его жизнь: «-Мало того, что я знаю все то, что есть во мне, надо, чтобы все знали меня, чтобы не только для меня шла моя жизнь, чтобы не жили они так, как эта девочка, независимо от моей жизни, чтобы на всех она отражалась и чтобы все они жили со мною вместе!» (IV, 163). Именно князю Андрею, своеобразному идеологу романа, автор доверит высказать свою сокровенную мысль о том, что исход исторического события (в данном случае исход Бородинского сражения) определяется общим чувством, общей судьбой, объединяющей всех людей в исключительные минуты истории.
К осознанию себя как части огромного целого, мира, народа приходит и Пьер. Это позволит ему перенести все тяготы плена, породниться душой с простыми людьми, солдатами, осознать бесконечность своего существования, бессмертие своей души в условиях физической несвободы. «Поймали меня, заперли меня. В плену держат меня. Кого меня? Меня? Меня – мою бессмертную душу! ‹…› Пьер взглянул в небо, в глубь уходящих, играющих звезд. «И все это мое, и все это во мне, и все это я! ‹…› И все это они поймали и посадили в балаган, загороженный досками!» (VI, 112–113).
Следует заметить, что мысли Пьера во многом перекликаются с идеями немецкого философа Гердера о том, что начала и концы индивидуального человеческого существования выходят далеко за пределы его собственного земного бытия. Толстой, увлеченный в период работы над своим романом трудами Гердера, преломляет их применительно к историческому процессу. Человек, осознавший свою связь с огромным миром, народом, человечеством, преодолевает абсурд бытия, чувство своей незащищенности перед судьбой и хаосом жизни. Всякий индивидуализм, противопоставление одного человека общности людей осуждается писателем. С этих позиций и разоблачается в романе Наполеон, возомнивший себя исключительной личностью, имеющей право распоряжаться судьбами миллионов людей. Исходя из исторической концепции Толстого, его поражение закономерно, так как не может один человек навязывать свою волю народу, человечеству.
При необходимости этот диалог разных логик, разных голосов, разных сознаний можно продолжить, подключив к нему новых авторов, критиков, реципиентов. Так, диалог в рамках одного текста перерастает в диалог текстов, авторов, большой диалог культур. В нашем случае это диалог авторов «Героя нашего времени» и «Войны и мира» по проблемам судьбы человека и его индивидуального бытия в мире. Этот диалог обращает внимание на разные концепции судьбы и предопределенности человеческой жизни: античную (судьбу избежать невозможно, поэтому человеку только дана возможность лишь достойно вынести ее удары), мусульманскую (судьба человека «написана на небесах»), христианскую (все в воле божьей), антропософскую концепцию мира и человека, развиваемую Л. Н. Толстым в «Войне и мире» (жизнь человека, его судьба определяется его психологией, жизнью духа, исторической жизнью народа, страны, мира).
Представим схематически технологическую цепочку изучения литературного текста как текста культуры, где У – ученик, П – педагог, У1, П1 – ученик, педагог в ситуации после осуществления диалога.
Коммуникация закончилась, теперь она переносится во внутренний план, ведется диалог между «Я» и «Ты» в сознании учащегося. Это самый важный диалог. Он проходит уже без вмешательства педагога и носит сугубо интимный характер. Наличие его – свидетельство глубокого воздействия текста на личность реципиента, способности его самостоятельно творить свой Образ. Таким образом, посткоммуникативная фаза изучения художественного текста – это и приобретение реципиентом новых художественных ценностей, и его жизнь в культуре, создание своего Лица, он теперь сам начинает выступать транслятором этих ценностей.
КРУГ ПОНЯТИЙ
Педагогическая технология, предкоммуникативный, коммуникативный, посткоммуникативный этапы, автокоммуникация, потенциал восприятия, внимание, соучастие, открытие, сотворчество, рецептивно-эстетическя деятельность, технологическая схема, дискурсивная практика.
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Что такое педагогическая технология? Как в ней находит отражение процессуальная сторона чтения и анализа текста?
2. Дайте характеристику основным этапам, фазам коммуникации, которые можно выделить в процессе читательской деятельности.
3. Как автор произведения управляет процессом чтения реципиента? Раскройте смысл понятий «внимание», «соучастие», «открытие» как уровней текстового потенциала автора.
4. Прокомментируйте технологическую схему культурологической технологии процесса изучения художественного текста. Раскройте сущность двух сторон читательской деятельности и приемы управления этой деятельностью со стороны учителя.
5. Как при помощи текста создается диалог в «большом времени»? Каковы при этом функции учителя как организатора деятельности читателя?
6. • Внимательно прочитайте описание дискурсивной практики прочтения новеллы М. Ю. Лермонтова «Фаталист». Как учитель управляет читательской деятельностью учащихся и создает семантическое поле учебного диалога? Составьте его этапы и обратите внимание, при помощи каких приемов и заданий диалог героев и автора трансформируется в диалог авторов и диалог культур?
7. • Составьте программу дискурсивной практики по стихотворению М. Ю. Лермонтова «Бородино».
Раздел III. Интеграция искусств на уроках литературы
Глава 1. Интегративные процессы в современной школе и урок литературы
Общее понятие об интеграции
Одним из продуктивных путей преобразования современной школы, устранения противоречия между быстро растущим объемом знаний и возможностью их усвоения является интеграция. Она способствует преодолению фрагментарности и мозаичности знаний учащихся, обеспечивает овладение ими целостным знанием, комплексом универсальных человеческих ценностей, служит формированию системно-целостного взгляда на мир.
В условиях быстрого роста объема информации возможность ее восприятия и осмысления резко уменьшается. Выход видится в усвоении структурированных знаний, представляющих собой определенное единство, систему. Будущее школы связано с синтезом разных учебных предметов, и прежде всего предметов гуманитарного цикла в парадигме культуры, разработкой интегрированных курсов, взаимосвязью и взаимопроникновением всех школьных дисциплин. Идеи интеграции все настойчивее проникают в школьную практику. Сейчас уже не является неожиданностью увидеть уроки, на которых происходит объединение разных предметов; появились уроки, которые совместно проводят учителя-предметники. Цель таких уроков – приобретение системы знаний и ценностей, «погружение» в определенную культурную эпоху, диалог с ней, постижение ее картины мира и человека в знаках, символах, образах, моделях бытия.
Возникновение интеграции – результат высокого уровня реализации межпредметных связей, предполагающих не просто контакты, коммуникацию предметов, чаще всего в какой-либо одной области знаний, а установление связи глубинной, поскольку она основывается на общих для нескольких предметов научных идеях, концепциях, дающих целостное представление о человеке, мире, культуре.
Исторические корни интеграции в обучении можно отыскать в трудах классиков педагогической мысли. Так, еще Я. А. Коменский разработал курс «Космография», который содержал в себе материал из разных областей знания: астрономии, географии, политики, истории. При этом отец педагогики объединяющую роль всех образовательных предметов видел в «пансофии» – всеобщей мудрости, устремленной к гармонии и мировому порядку.
Выдающийся русский педагог К. Д. Ушинский объединял преподавание школьных предметов вокруг христианской идеи любви и гуманизма, а также ведущих понятий, характеризующих мир природы и человека.
В той или иной мере после Ушинского все ведущие педагоги стремились выделить интегрирующий дидактический способ деятельности: у Дж. Дьюн это узкопрактическая деятельность, у Г. Фрезинга и Е. Хофмана – проектная деятельность, у А. С. Макаренко и Н. К. Крупской – трудовая деятельность, у В. А. Сухомлинского – творческо-созидательная деятельность, у Д. Б. Эльконина – В. В. Давыдова – теоретическое мышление, мыследеятельность.
Интегративные процессы на уровне конкретных учебных предметов в отечественной школе, начиная с 30-х гг. и вплоть до 80-х гг., осуществлялись через систему межпредметных связей.
В 70-80-е гг. им уделялось огромное внимание, даже в учебных программах появился специальный раздел «Межпредметные связи». В нем выделялись опорные понятия, факты, указывались темы, которые предполагали межпредметную связь данного предмета с материалом других, чаще всего смежных учебных дисциплин. К сожалению, этот ценный опыт в последнее время стал все меньше использоваться, но в начале 90-х гг. в связи с общенаучными интеграционными поисками в педагогике на новом качественном уровне заговорили о содержательной и дидактической интеграции[84].
Научные основы интеграции
В последние десятилетия все настойчивее ведется поиск научной интеграции отраслей знаний и наук (М. Д. Ахундов, СВ. Благоцкий, М. В. Голубева, Ю. И. Дик, Б. М. Кедров, Э. С. Макарян и др.), которая рассматривается как единство, объединение в целое разрозненных частей, элементов или восстановление утраченного единства. Основные отличительные характеристики любой интеграционной модели – системность, комплексность, целостность, синтез и гармония.
Интеграция предполагает не только «наличие общих для различных областей научного знания проблем и целей исследования», но и «определенную систему познавательных средств»[85] для решения и реализации данных проблем и целей. Объединяющей категорией для всех наук – гуманитарных и естественных – является антропностъ, человекоцентричность знания и ценностей. В науке выделяются следующие направления интеграции, которые в равной степени возможно представить и в педагогической науке:
– формирование комплексных междисциплинарных проблем и направлений исследований;
– перенос идей, законов, принципов, концепций из одной области знаний в другую при их взаимодействии;
– использование понятийно-концептуального аппарата, методов и средств одной науки другими;
– универсализация средств языка науки;
– формирование новых научных дисциплин в пограничной зоне наук;
– возникновение блоков наук (технических, математических, естественных, гуманитарных) и установление взаимосвязи и взаимодействия между науками, составляющими эти блоки;
– сближение фундаментальных и прикладных наук, теоретических и эмпирических;
– выработка общенаучных и частнонаучных средств, способов и форм познания и деятельности;
– усиление интегративной роли философии.
Философская основа интеграции и ее психологические механизмы
Философской основой интеграции является синергетика (в переводе с греческого – «содействие», «сотрудничество»). В настоящее время синергетика – это современная теория самоорганизации согласно определению Г. Хакена, И. Пригожина, Ж. Николаса и др. По мнению Г. Хакена, самые разнообразные явления бытия природы и человека «подчиняются одним и тем же принципам»[86], проходят процессы флуктуации (случайные процессы) и образование новых структур – самоорганизации.
В связи с этим одной из главных задач синергетики является выяснение законов построения, организации, возникновения и упорядоченности самоорганизующихся систем. Это свойство самоорганизовываться имеется только у системы в целом, но его нет ни в одном его элементе, так как синергетика имеет дело с процессами, у которых целое обладает свойствами, которые отсутствуют у части. Синергетика выступает центром интеграции самых разных наук и культуры общества в целом, синергетический подход инициирует идеи и методы концептуального осмысления саморазвития и самоорганизации природного и социального бытия. В новейших современных исследованиях синергетический принцип организации распространяют на модель творчества и модель искусства[87]. Эти исследования позволяют рассматривать искусство в качестве продукта процесса саморазвития и самоорганизации общества. Искусство формирует единство сознания людей определенной эпохи, общие представления о мире, упорядочивает межличностные отношения, взаимосвязи и взаимодействия людей. Вместе с тем оно является необходимым условием и средством восхождения человека к вершинам культуры, а также выступает своеобразным барометром, измеряющим ступень гуманности и нравственности общества, его понимание красоты и гармонии.
Синергетический подход лежит в основе интеграционных процессов в области образования, которые должны помочь разрешить противоречия между содержанием образования, отраженным в программах, учебниках, учебных пособиях, и проблемами развития личности, воспитания «человека культуры».
Связи устанавливаются не только в предметности и содержательности образования, но и в деятельностном, социальном, культурном контекстах. Интеграционные связи в конечном счете должны установиться в сознании обучаемого, в его предметной и мыслительной деятельности. Поэтому есть все основания говорить об интегративном мышлении, под которым понимается мышление с высоким уровнем синтеза вербального и образного компонентов. При этом вербальное мышление связано с доминированием левополушарных функций человеческого мозга, образное – с преобладанием функций «энергетического блока», т. е. правого полушария[88].
Дальнейшим углублением понимания интегративной сущности мышления является холодинамическая теория разума (holos [греч.] – целый; dyne – динамика, действие; сила в действии). Холодинамша объединяет в себе многие научные подходы в концепции из области квантовой и лазерной физики, биологии и экологии, химии, психологии (наиболее значительными являются идеи биолога Руперта Шелдрейка, нейрофизиолога Карла Прибрама, физиков Фрейда Вульфа, Девида Бома, Вернона Вульфа, психолога и педагога Жана Пиаже). Она рассматривает процесс мышления, по аналогии с квантовой теорией, как производство, излучение своеобразных мыслеобразов, являющихся единицами сознания и памяти. В соответствии с этой теорией человеческий разум характеризуется двумя основными процессами – рациональным, отражающим «частичный аспект реальности» (мир состоит из кусочков, частиц), и интуитивным, связанным с «волновым» свойством правого полушария отражать мир, объединять части в целое[89].
В процессе мыследеятельности разум, наподобие лазера, излучающего кванты энергии, «излучает» и преобразовывает темы (от англ. memory – память), спрессованную в словах, понятиях, образах информацию. При взаимодействии, «содружестве» обоих полушарий приобретаемая информация о мире разворачивается в своеобразные голограммы, становится многомерной, объемной. Например, осмысление понятия «море» – большое водное пространство с горьковато-соленой водой[90] – связано только с работой нашего логического мышления. Мыслеобраз моря вызовет в сознании массу ассоциаций: мы увидим необозримое пространство, пенящиеся гребни волн, услышим их рокот, шум, ощутим на своем теле теплую обволакивающую влагу, почувствуем прилив сил и бодрости. Одна голограмма моря будет возникать за другой в связи с новыми ассоциациями, воспоминаниями. Включатся в «работу» все наших пять чувств, а также логика и интуиция, и создастся эффект полного присутствия на берегу моря. Он будет создан благодаря раздражению наших рецепторов и передачи в мозг по нервным каналам сигналов, которые в «холодинамической плоскости», находящейся между левым и правым полушарием, будут преобразованы в образы, символы, модели – холодайны. В связи с этим интеграционные процессы мыследеятельности требуют от учебного процесса включения всех этих рецепторов, подачи, кодирования информации в виде мыслеобразов, мыслеформ, холодайнов, что и составляет одну из существенных идей нашего подхода к интеграции в образовании.
Взаимодействие зрения, слуха, обоняния, осязания и других чувств в процессе восприятия и анализа художественного произведения обозначается как синестезия – «соощущение», «пересечение чувств». Психолингвистический термин был усвоен искусствоведением, культурологией, методикой преподавания искусств и литературы. Он характеризуется прежде всего нерасчлененностью разных форм человеческого существования и связан с теорией синкретизма, психофизиологические основы которого были концептуально разработаны в трудах А. Н. Веселовского и А. А. Потебни. В конце XIX – начале XX в. проблема синестезии была связана с теорией звукового символизма (М. Граммон, Луи Мишель, А. Рембо, Ш. Бодлер, В. Брюсов, К. Бальмонт, А. Белый). Позже она исследовалась в работах отечественных (Л. С. Выготский, А. Р. Лурия, СВ. Воронин) и зарубежных психологов и психолингвистов (Р. Якобсон, Л. Тейлор, Ж. Дарк).
В своей практике учитель, опираясь на теорию синестезии, использует различные виды искусств для создания целостного представления об исторической эпохе, типе культуры, художественном образе, тем самым включая различные рецепторы учащихся. При этом один психофизический механизм дополняет другой. Так, музыка вызывает слуховые представления, живопись – зрительные, архитектура – пространственные, что создает целостную картину бытия. Использование разных искусств на уроке литературы позволяет «озвучить» и «оживописать» текст, пробудить у читателей целую гамму чувств и ассоциаций. Целостную картину мира могут вызвать и синтетические виды искусства – кино, театр.
Вместе с тем использование произведений искусств на уроке литературы может иметь и другой смысл – развитие чувств и эмоциональной сферы учащихся. В идеале реципиент должен воспринимать и произведение словесного искусства с включением всех механизмов синестезии. В этой связи В. В. Ванслов замечал, что можно «слышать» живопись и «видеть» музыку[91].
Талантливый читатель слышит, видит, постигает в звуках, красках, картинах культурный универсум художественного произведения. Поэтому одним из основных психологических механизмов интеграции является возникновение в сознании обучаемого цепи ассоциаций, связанных между собой общими звеньями. К. Д. Ушинский в своей работе «Человек как предмет воспитания» говорит о семи видах различных ассоциативных взаимосвязей: связь по сходству, противоположностям, по единству времени, места, логическая (рассудочная) связь, связь на основании чувств, развития.
Другой психологический механизм интеграции – выделение доминант и сопутствующих элементов (Б. Г. Ананьев, Дж. Брунер, Ж. Пиаже, С. Л. Рубинштейн, Ю. А. Самарин, Д. Н. Узнадзе). В практической деятельности педагога эти психологические процессы побуждаются учебными приемами, связанными с эмоциональной и мыслительной деятельностью.
При этом особая роль отводится ведущим идеям (понятиям, законам, принципам, теориям, концепциям, картинам мира), которые выполняют функцию «системообразующих связей»[92], объединяют, концентрируют учебный материал в узлы знаний (учебные темы, разделы, учебные курсы), выступают «стержнем», осью этого содержания и как бы «сшивают» узлы знаний (учебные темы, разделы) в единую систему. В сознании ребенка они выступают как опорные сигналы, которые являются своего рода указателями направлений синтеза знаний. Так появляется возможность разработки интегрированных уроков, комплексных программ, курсов.
Типы, виды и уровни педагогической интеграции
В рамках педагогической интеграции выделяют общенаучный и частнонаучный способы интеграции[93] (иногда их называют метапредметной интеграцией). Первый связан с использованием в учебном процессе общенаучных форм и средств познания. К нему относятся следующие типы интеграции: понятийный (источником интеграции являются общие для нескольких предметов понятия); предметно-образный (формирование целостных представлений о предметах, явлениях, человеке, мире); проблемный (разные предметы связываются общими проблемами); методический тип (интеграция осуществляется посредством общих методов, приемов и подходов к процессу обучения); деятелъностный (интеграция происходит при помощи общих видов, способов деятельности); методологический (объединение разных фактов, явлений, теорий, концепций единым образом и картиной мира).
Частнонаучная интеграция осуществляется во взаимосвязи близкородственных предметов, например гуманитарных. В данном случае источником интеграции являются общие структурные элементы содержания этих предметов, идеи, понятия, проблемы, способы, методы и приемы познания мира и деятельности. В некоторых случаях источником интеграции могут быть комплексные науки, например природоведение.
Опираясь на исследования в области интеграции наук, можно выделить четыре вида усложняющейся интеграции школьных предметов: цементацию, переплетение, стержнезацию, комплексообразование[94].
Цементация связана с возникновением между двумя или несколькими предметами или областями знания новой дисциплины промежуточного характера, которая как бы «цементирует» эти науки или области знания. Такова роль, например, современной экологии.
Переплетение – это новая ступень тесной взаимосвязи предметов, которая образует на месте их состыковки новые междисциплинарные связи, приводит во взаимодействие сразу несколько предметов или областей знания. Так, недавно оформился новый предмет изучения – валеология (от лат. vale – будь здоров!), который «переплетает» в себе знания из области анатомии, физиологии, психологии, физической культуры.
Стержнезация основывается на способности одного учебного предмета или области знания более обобщенного характера выполнять роль своеобразного стержня, который является общим для нескольких наук или учебных предметов. Такова роль философии по отношению к предметам гуманитарного цикла, эстетики – применительно к предметам художественного цикла.
Высшую ступень интеграции школьных курсов представляет собой комлексообразование, которое предполагает тесное переплетение нескольких предметов вплоть до их слияния. Примером такого явления в интеграции послужило возникновение природоведения, обществоведения, мировой художественной культуры.
В соответствии с данными видами усложняющейся интеграции можно выделить несколько ее уровней. Первый уровень – осуществление интеграции на основании общности структурных элементов содержания образования, а также общности понятий, идей, концепций в изложении отдельных разделов учебных программ. Ведущие идеи, понятия, концепции придают изучаемому материалу внутреннее единство, целостность, выполняют функцию системообразующих связей в содержании учебных предметов, являются своего рода стержнем, вокруг которого и происходит концентрация, объединение этого учебного материала. Ведущие идеи «как бы сшивают» узлы знаний (учебные темы) в единую систему». Для осуществления данного уровня интеграции в содержании учебных дисциплин необходимо выделять дифференцированную часть (базовую, присущую только данному предмету) и интегрированную, которая может стать структурным элементом и других предметов (например, изучение истории культуры на уроках литературы и истории). Интеграция содержания на данном уровне исключает дублирование в изложении материала ряда предметов, позволяет более концентрированно изучать многие разделы и темы.
Второй уровень интеграции представляет собой дидактический синтез, который осуществляется как на уровне содержания, так и на уровне приемов, методов, форм поведения учебных занятий. Процессуальная интеграция осуществляется посредством различных способов деятельности: алгоритмизации, анализа, синтеза, конкретизации, абстрагирования, формализации, систематизации, обобщения, моделирования, экстраполяции, которые обеспечивают проблематизацию, концентрацию и уплотнение учебного материала, а также оптимальный способ его подачи. Интеграция может осуществляться в данном случае при использовании разных организационных форм занятий: интегративный урок, лекция, практическое занятие, семинар, читательская конференция, урок-диалог и т. д.
Высший уровень интеграции связан с созданием нового учебного курса, школьной дисциплины, имеющей собственный предмет изучения (например, обществоведение, мировая художественная культура, природоведение). На этом уровне основным источником интеграции являются комплексные науки: для обществоведения – философия, для МХК – эстетика и искусствоведение, для природоведения – биология. Интегративные курсы представляют собой учебные предметы с высоким уровнем целостности, содержания, общности понятий, идей, законов, явлений, сущностей, концепций, образов мира и человека.
Эти три уровня интеграции обеспечивают интеграцию на уроке, в рамках учебного курса, между учебными курсами, но самое главное – они способствуют формированию системности и целостности в знаниях, умениях, навыках учащихся, их взглядах на мир, культуру и ее ценности.
В качестве структурных элементов педагогической интеграции выступают общие для нескольких предметов материальные и духовные объекты изучения, общие структурные элементы содержания образования (факты, понятия, идеи, законы, теории, концепции, образы мира), комплексные проблемы и методологические науки). При интеграции гуманитарных предметов такими ведущими, сквозными идеями и концепциями являются философские, религиозные, социально-политические, нравственно-эстетические, связанные с жизненными ценностями, идеалами, смыслом жизни, представлениями о мире и смысле человеческого существования как в синхронном, так и в диахронном времени.
Применительно к литературным курсам можно говорить о трех видах интеграции. Первый представляет собой разработку единых универсальных курсов, включающих такие предметы гуманитарного цикла, как литература, русский язык, этика, мировая художественная культура[95]. Второй вид интеграции – установление на уроках литературы взаимосвязи с другими гуманитарными предметами[96] (русским языком, историей, мировой художественной культурой, философией) посредством сквозных идей, узлов знаний, сохраняя при этом автономию каждого учебного предмета.
Третий вид интеграции представлен в программе по литературе для учащихся 9-го класса, завершающих образование[97]. В ней литературные темы представлены в сопровождении разнообразных явлений художественной жизни, позволяющих установить взаимосвязь искусств: литературы, живописи, архитектуры, скульптуры, музыки, театра, кино, которые в синтезе дают учащимся представление о разных способах изображения в искусстве человека и мира, расширяют знания о художественных школах и направлениях. Вместе с тем прием сравнительного использования разных видов искусств позволяет выделить, подчеркнуть своеобразие и особенности каждого из них и сопоставить читательские интерпретации литературного произведения с интерпретациями зрителя и слушателя, овладеть приемами анализа различных видов искусств.
В качестве примера приведем из указанной программы аннотацию и систему заданий для учащихся по изучению одной из тем, посвященных сопоставлению. Поэмы А. С. Пушкина «Медный всадник» и памятника Петру I работы Фальконе.
«Поэма «Медный всадник» – размышление Пушкина о личности и государстве, о свершениях истории и судьбе частного человека. Петр и Евгений как герои-антиподы (мечты одного и другого, отношение к природе и человеку). Групповая работа учеников над вариантами текста поэмы. Контраст – основной принцип композиции произведения. Вступление и эпилог и проблема цены величия государства в сознании Пушкина. Природа и человек в поэме. Петр – основатель города и памятник ему. Два лика памятника и два бунта (стихии и маленького человека) как центральные события двух частей поэмы. Размышления учеников над вопросом: «Каким видят город Петр, Евгений и Пушкин,» Создание киносценария к эпизодам «Наводнение», «Бунт Евгения». Дискуссия: Почему Медный всадник преследует Евгения, а не остается в «неколебимой вышине», как при наводнении? Прославляет или обвиняет Пушкин Петра Великого? Почему поэма названа «Петербургской повестью»? «Лик державца полумира» в изображении Фальконе. История работы над памятником, открытым в 1782 г. Стремительность движения и величие как доминанты образа. Размышление учеников о том, зачем была уменьшена скульптором скала постамента, почему ей придана форма волны. Вдохновенное лицо императора, созданное М. Калло. Властность жеста и победная гордость осанки. Размышления учеников о том, чем отличается пушкинский образ от памятника Фальконе»[98].
Как видим по характеру вопросов и заданий, представленных в программе под редакцией В. Г. Маранцмана, на данном уроке по изучению поэмы А. С. Пушкина «Медный всадник» учащиеся учатся сопоставлять литературный и скульптурный портрет, наблюдать, как два искусства взаимодополняют друг друга.
Типы интегративных связей на уроках литературы
В современной педагогической практике на уроках словесности используется несколько типов интегративных связей. Простейшим из них является последовательный тип интеграции. На таком уроке материал, относящийся к разным видам искусств, организован в своеобразные блоки. Например: литература – Бл. 1, 4; музыка – Бл. 2; изобразительное искусство – Бл. 3, 5.
На практике нередко такой урок могут вести два педагогапредметника (бинарный урок), что значительно повышает его содержательный и операционный уровень, так как словесник не всегда может на одном уровне анализировать произведения смежных искусств и вынужден обращаться к помощи коллег. Но какая бы форма урока ни была выбрана, он должен иметь стройную методическую концепцию, а все его блоки связываются между собой общими темами, идеями, проблемами и т. д.
Так, приведенные выше материалы программы по планированию урока литературы, посвященного изучению поэмы А. С. Пушкина «Медный всадник», предполагают последовательное обращение сначала к пушкинскому тексту, а затем к скульптурному портрету Петра I работы Фальконе. Вопросы, обращенные к учащимся, позволяют выявить, как один вид искусства дополняет другой, преломляется в нем.
Второй тип интеграционных связей на уроках литературы – параллельная связь литературы и других видов искусств (или учебных предметов), которые изучаются синхронно на каждом из этапов урока. По всей структуре такой урок значительно сложнее предыдущего, так как требует более высокого уровня синтеза. На нем разные искусства, взаимопроникая и взаимодополняя друг друга, создают целостное представление о художественном явлении, времени, эпохе. Данный тип интеграции особенно эффективен на вводных и заключительных уроках по изучению как творчества отдельного писателя, так и историко-литературного процесса в целом.
Пример такого урока также подсказывает уже упомянутая программа по литературе под редакцией В. Г. Маранцмана. Он может быть построен на сопоставлении рецепций учащихся романа И. А. Гончарова «Обломов» и его киноверсии – фильма Н. С. Михалкова «Несколько дней из жизни Обломова». В центре урока – параллельное обращение к эпизодам, сценам романа и фильма и беседа по вопросам, которые требуют от учащихся выявления авторской позиции в романе и в кинофильме, а также «исследование» режиссерских приемов перевода языка книги на язык кино. Каждый эпизод, сцена на уроке рассматривается как один из дней жизни Обломова. Вот пример нескольких из них: «В квартире Обломова», «Поэзия сна и проза обыденности» («Сон Обломова»), «Отъезд из родительского дома», «Ария Нормы «Casta Diva» в исполнении Ольги Ильинской», «Объяснение в любви», «Приезд Штольца».
В ходе сопоставления сцен и эпизодов романа и фильма продуктивными могут оказаться вопросы следующего характера: Как в книге и фильме создается поэзия сна и проза обыденности существования? Нравится ли авторам изображаемая ими жизнь? Что собой представляет жизнь Обломова на Гороховой? На каких деталях сосредоточил свое внимание режиссер фильма, чтобы показать эту жизнь? Почему он отказался от изображения визитов к Обломову Пенкина, Судьбинского, Тарентьева, оставив только посещение Алексеева? Что символизирует в фильме обломовский пирог? Почему философский спор о жизни, описанный Гончаровым во второй части романа, режиссер фильма переносит из кабинета Обломова в русскую баню?
Представим схематически параллельный тип интеграционных связей на уроках литературы, где Э1, Э2, ЭЗ – этапы урока, на которых синхронно с изучением литературного текста обращаются к разным видам искусств.
Урок со смешанным типом интеграционных связей характеризуется тем, что может включать в себя как последовательную, так и параллельную интегративную связь литературы, истории, изобразительного искусства и т. д. Смешанный тип интеграции чаще всего распространен на практике, так как он обладает более гибкой структурой и позволяет комплексно привлекать разные виды искусств, выходит к концепциям, идеям, понятиям других учебных предметов, сохраняя при этом автономность литературы как учебного предмета. Такой тип урока используется как в ходе анализа художественного текста, так и при изучении основ теории и истории литературы, но чаще всего на вводных, заключительных этапах изучения литературной темы и особенно на уроках изучения биографии писателя.
Вот схематическое изображение урока со смешанным типом интеграционных связей:
Первые три типа интеграционных связей на уроках литературы довольно часто встречаются в современной практике. Они осуществляются как на уровне содержания, так и форм и способов деятельности. Значительно реже встречается опоясывающий тип интеграционных связей.
На таком уроке при изучении конкретного произведения или темы привлекаются сведения из самых разнообразных предметов и искусств, которые дополняют, уточняют, развивают литературный материал, преломляют его в новых идеях, образах, понятиях, картинах. Структура урока напоминает собой «ромашку», в центре которой литературный текст, а ее «лепестки» – материал других предметов, объединенный на уровне содержания, способов и форм деятельности.
Приведем конкретный пример такого урока, связанного с изучением памятника древнерусской литературы – «Поучение Владимира Мономаха». Его главная цель – понять нравственный смысл «Поучения Мономаха» и вписать его в историко-культурный контекст. К уроку всеми учащимися был прочитан текст «Поучения», а затем школьники выполняли ряд заданий и готовили ответы на следующие вопросы:
1. Какие качества мы больше всего ценим в человеке? А что больше всего в нем ценилось в древние времена? Свое заключение сделайте, исходя из анализа древнерусского текста.
2. Каким предстает в «Поучении» Владимир Мономах? Насколько его мысли, чувства близки нам сегодня? Нарисуйте психологический портрет древнерусского князя.
3. Как Владимир Мономах служил своей родной земле, что он завещает своим детям, своим потомкам?
Кроме заданий, связанных непосредственно с анализом текста, учащиеся получили групповые и индивидуальные, выходящие в область других учебных предметов, т. е. исполняли своеобразные учебные роли. Историки должны были подготовить материал о Киевской Руси конца XI-начала XII в. Картографы составляли карту Киевской Руси этого периода, выявляли ее политические, экономические и культурные связи с другими государствами Европы и Азии. Биографы на материале исторических трудов В. Татищева, Н. Карамзина, С. Соловьева, А. Ишимовой (и материалов школьных учебников) дополняли сведения о личности древнерусского князя. Книжники комментировали реминисценции в тексте «Поучения» из Псалтыри и рассказывали о летописании на Руси после принятия христианства. Историки литературы знакомили с другими древнерусскими текстами этого периода – «Словом о Законе и Благодати» Илариона, «Житии Бориса и Глеба». Архитекторы на материале Софии Киевской и Черниговского Спасского собора – стиля монументального историзма – рассказывали о древнем зодчестве. Искусствоведы раскрывали секреты мозаики, фресковой живописи (интерьер Софии) и иконописи («Владимирская Богоматерь», «Ангел Златые власа»).
Для активизации рецептивной и познавательной деятельности учащихся, осуществления учебного диалога использовались разнообразные «точки удивления», т. е. вопросы, мысли, реплики учителя и учеников, которые задавали диалог на уроке. Приведем основные из них.
«Поучение» начинается с самоумаления князем Мономахом своей значимости как человека, признания своей греховности. Что это – закон жанра поучения или христианский «ритуал» в представлении человека?
Как вы понимаете выражение «сидя на санях», с которого начинается непосредственное обращение князя к детям и всем читателям его «грамотки»?
Зачем переписчик включил в цикл произведений Владимира Мономаха – его собственного «Поучения» и рассказа о собственной жизни – письмо Мономаха к Олегу Святославичу, именуемому на Руси «Ториславич»?
Владимир Мономах христианин, проповедует любовь, милосердие и смирение, но не стесняется рассказывать о своих жестоких расправах не только с врагами Киевской Руси, но и с другими древнерусскими князьями и их воинами. Как можно объяснить эту противоречивость в поступках, делах и мыслях Мономаха?
После проведенного урока учащимся были предложены вопросы и задания для самопроверки и систематизации полученных сведений: Как возникла древнерусская литература? Назовите ее первые памятники и основные жанры. Расскажите о «Повести временных лет» Нестора и «Слове о Законе и Благодати» Илариона. Определите их жанры. Что вы знаете о первых памятниках каменного зодчества на Руси? Опишите Киевский Софийский и Черниговский Спасский соборы. Охарактеризуйте стиль «монументального историзма» в древнерусской литературе, зодчестве и живописи. Что такое мозаика, фреска, икона? Расскажите о них на материале интерьера Софийского собора.
В качестве творческого задания для групповой работы учащимся было предложено создать свой вариант летописного сказания о Владимире Мономахе и его поучении современникам и потомкам. Разрабатывая современный урок-диалог, педагог стремится избежать жестокого программирования его содержательной и дидактической стороны. Главная задача учителя – выстраивание образовательного пространства своих учащихся, создание мотивации и предпосылок для их мыследеятельности и творчества. На таком уроке много импровизации, творческой непредсказуемости, свободного ассоциирования на уровне содержательных и дидактических связей между искусствами и отраслями знаний.
В связи с этим данный тип урока обусловливает и другой тип интегративных связей, которые можно определить как свободные ассоциативные связи литературы, других искусств и учебных предметов. Эти свободные ассоциативные связи возникают непременно в сознании художника во время творчества, на что очень убедительно указывал А. Блок в своей статье «Без божества, без вдохновенья»: «Писатель должен помнить о живописце, архитекторе, музыканте, тем более – прозаик о поэте и поэт о прозаике» (VI, 175).
Приведем пример такого урока, посвященного изучению поэзии импрессионизма на уроках литературы в 11-м классе. К уроку учащиеся читали стихи Поля Верлена («Белая луна сеет свет над лесом» – из сборника «Добрая песня»; «Осенняя песнь», «Сплин» – из «Романсов без слов» в переводе Ф. Сологуба), импрессионистские стихи А. Фета, Ф. Сологуба, И. Анненского, Б. Пастернака (по своему выбору), а также, в соответствии со своими интересами, знакомились с музыкой К. Дебюсси, М. Равеля, А. Скрябина, живописью К. Моне, О. Ренуара, Э. Мане, Э. Дега, И. Грабаря, К. Коровина и других известных французских и русских композиторов и живописцев, творчество которых связано с этим художественным направлением. Учитель и учащиеся обращались к специальной литературе по этой теме. Конечно, главным в подготовке к уроку было не столько чтение специальной литературы, сколько рассматривание репродукций картин художников, прослушивание музыкальных произведений. Заданий, жестко регламентирующих подготовку учащихся, не предполагалось.
Урок начался с выяснения происхождения термина «импрессионизм». Было установлено, что он восходит к французскому слову impression – впечатление. Его первое употребление связано с названием картины Клода Моне «Впечатление. Восходящее солнце» (1874), а затем он получил распространение для обозначения направления в живописи, скульптуре, музыке и литературе. Далее вполне логическим было раскрытие сущности философско-поэтической концепции мира и человека в творчестве художников этого направления. В ходе свободной беседы было установлено, что импрессионисты, отталкиваясь от конкретно-чувственной реальности, стремились отразить ее не в общих чертах, статичных формах, но во всем богатстве тонких, сложных, еле уловимых быстролетних видоизменениях. Отсюда их обостренный интерес к неповторимости каждого конкретного мгновенья жизни, к оттенкам, нюансам и деталям предметного мира и вызванных им душевных переживаний. Поэтическое впечатление преобладает над фабулой и сюжетикой в любом произведении импрессионизма, создавая второй, более значимый план, наполненный психологическим подтекстом. Поскольку импрессионизм зародился в живописи и именно ею был ярче всего представлен, обращение к конкретным произведениям импрессионистов и началось с живописи. Учащиеся делились своими впечатлениями от картин Клода Моне («Завтрак на траве», «Сирень на солнце», «Бульвар Капуцинок в Париже», «Скалы в Бель-Иль», «Белые кувшинки», «Чайки (река Темза в Лондоне, здание Парламента».) и др.), Эдуарда Мане («Автопортрет», «Сидящая девушка»), Огюста Ренуара («Завтрак гребцов», «Портрет мадам Энрио» и др.).
Отмечался необычайный колорит картин художников, многоцветье их гаммы, новый принцип подачи пейзажного мотива в границах одного брошенного взгляда, подвижность, мимолетность мгновений жизни, запечатленной на полотнах, способность художников заразить зрителя радостным чувством гармонии и красоты окружающего мира. Кроме репродукций картин французских имрессионистов, рассматривались и комментировались работы К. Коровина, И. Грабаря.
Обращение к поэзии импрессионистов началось с чтения и беседы о стихах Поля Верлена. Отмечалось, что стихотворение «Белая луна сеет свет над лесом» обращено к любимой девушке. Оно имеет два плана. Первый – это три пейзажных зарисовки, которые создают зрительные образы луны, звезд, отраженных в реке силуэтов деревьев. Этот зрительный ряд усиливают звуковые образы: звонкая и чистая трель соловья, «плач» ветра. Живописная музыкальность пейзажа отражает состояние души поэта, в которой звучит музыка, доминирует нежный «покой». Пейзаж, данный несколькими отдельными мазками, заменяет слова любви. Каждая пейзажная зарисовка обладает незавершенностью, зыбкостью. Верлен всякий раз использует многоточие, словно подменяя намеком законченное объяснение. Вместо банальных признаний он обращает внимание своей возлюбленной на красоту ночного неба, леса, реки. Отдельные фразы прямого разговора, вклиниваясь в картины природы, объединяют, как в фокусе, разрозненные впечатления души: «Милая моя! / Вспомним наши грезы/ В этот час ночной».
На французском языке было также прочитано стихотворение «Il pleure dans mon coeur» из сборника «Песни без слов», которое не имеет адекватного русского перевода, хотя к нему обращались такие известные поэты, как В. Брюсов, Ф. Сологуб, И. Анненский, Б. Пастернак. Учащиеся, изучающие французский язык, наблюдая над стилистикой и фразеологией стихотворения, пришли к выводу, что в нем слияние пейзажа и душевных переживаний доведено до такой полноты, что преображаются даже привычные, грамматические формы. В противовес традиционной логике Верлен заботится не о точном смысле, а о созидании ассоциативных зрительно-музыкальных образов. С этой целью он отбирает многозначные слова, использует повторы, звукопись, отказывается от точной рифмы. В результате проделанной работы делается вывод, что поэзия Верлена в ее лучших образцах – это непосредственное словесно-живописно-музыкальное излияние души человека.
В форме свободных ассоциаций учащиеся обращаются к стихам А. Фета («Шепот. Робкое дыханье…», «Это утро, радость эта…»), И. Анненского («Перед закатом», «Утро»), Б. Пастернака («Определение поэзии», «Тема»), обнаруживая в стихах русских поэтов удивительную слиянность природы и человеческой души, запечатленность мимолетнего, соединенность в сознании воспринимающего мир лирического героя воедино разрозенных впечатлений, из которых рождается целостный образ.
Разговор об импрессионизме завершает музыка Клода Дебюсси. Учащиеся обнаруживают, что связь музыки композитора с излюбленными жанрами художников-импрессионистов – пейзажем и портретом – выражена уже в названиях его прелюдий: «Ветер на плоскогорий», «Парусники», «Девушка с волосами цвета льна», «Потопленный кафедральный собор» и т. д. Прослушивание нескольких прелюдий и их фрагментов дает возможность почувствовать своеобразие импрессионистской мелодики, отличающейся созерцательным настроением, гибкостью нюансов и в то же время расплывчатостью, неопределенностью музыкальной темы.
Данный тип интегративного урока, хотя и нередкое явление в школьной практике, но он может осуществиться только в классе с высоким уровнем ответственности и самостоятельности учащихся, так как свободные ассоциации в рамках определенной литературно-культурной темы предполагают высокую мотивированность обучения, широту кругозора школьников, овладение умениями самостоятельной интерпретации произведений искусств.
Таким образом, идеи интеграции в совершенствовании учебно-воспитательной функции современной школы чрезвычайно плодотворны. Они отражают сегодняшние тенденции развития фундаментальных и гуманитарных наук, философской основой сближения и взаимодействия которых является синергетика. В педагогической теории и практике происходит объединение, взаимодействие, взаимопроникновение различных школьных курсов, создание интегрированных программ, разработка разных типов интегрированных уроков. Этот процесс характерен для всех предметов, но в первую очередь для уроков литературы, искусства слова, которое может по-настоящему реализовывать свой огромный эстетический и нравственно-философский потенциал воздействия на сознание реципиента только в содружестве с другими искусствами, другими смежными гуманитарными предметами.
КРУГ ПОНЯТИЙ
Интеграция, синергетика, холодинамика, холодайны, мыслеобраз, мемы, синестезия, типы интеграции, цементация, переплетение, стержнезация, комплексообразование, типы интегративных связей на уроках литературы.
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. С чем связан огромный интерес современных педагогов к вопросам интерации? В чем отличие ее от межпредметных связей?
2. В чем заключается разница между общенаучной и частнонаучной интеграцией? Какие научные идеи лежат в основе педагогической интеграции?
3. • Раскройте философские основы и психологические механизмы интеграции. Приведите свои примеры мыслеобразов и подумайте, как виды деятельности вы будете осуществлять с учащимися, создавая мыслеобраз грозы в процессе изучения стихотворения Ф. И. Тютчева «Весенняя гроза». Придумайте также холодайны к этому стихотворению.
4. Дайте научное истолкование синестезии. • Какие средства других искусств использованы в стихотворениях: А. Фета «Чудная картина, как ты мне родна…», «Венера Милосская», «Это утро, радость эта…»; И. Бунина «Октябрьский рассвет», «Листопад», «Сиваш»; А. Белого «Променад»; О. Мандельштама «Айя-София».
5. Прокомментируйте разные виды, типы и уровни педагогической интеграции. Приведите примеры содержательной и дидактической интеграции на уроках литературы.
6. • Раскройте сущность последовательных, параллельных и смешанных типов интегративных связей на уроке словесности. Приведите свои примеры планов уроков, в структуре которых используются данные типы связей.
7. • Разработайте конспект урока по «Слову о полку Игореве», положив в основу опоясывающий тип интегративных связей.
8. • Составьте свой вариант урока по импрессионизму.
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
Андреев Л. Г. Импрессионизм. – М., 1980.
Асафьев Б. В. Русская музыка: XIX и начало XX века. – Л., 1968.
Божович В. И. Традиции и взаимодействие искусств. Франция. Конец XIX-начало XX в. – М., 1988.
Каменский А. Константин Александрович Коровин. Игорь Эммануилович Грабарь // Огонек. 1988. 21 мая.
Корецкая КВ. Импрессионизм в поэзии и эстетике символизма // Литературно-эстетические концепции в России конца XIX – начала XX в. – М., 1975.
Левая Т. Н. Русская музыка начала XX века в художественном контексте эпохи. – М., 1991.
Рапацкая И. А. Искусство «серебряного века». – М., 1996. Рубцова В. В. Александр Николаевич Скрябин. – М., 1989. Сарабьянов Д. В. Русская живопись конца 1900-начала 1910-х годов: Очерки. – М., 1971.
Глава 2. Литература и музыкальное искусство
Внешняя и внутритекстовая наглядность
Явление синестезии на уроках литературы связано с использованием двух видов наглядности: «внутренней» и «внешней»[99]. Внутреняя наглядность – возникновение в воображении читателя зримых картин и образов, своеобразной «ленты видений». Читатель не только должен воспроизвести в своем воображении то, что создал писатель, но и довообразить, довоссоздать намеченное только пунктиром. Вот почему в современной эстетике процесс чтения рассматривается как сотворчество с автором. Оно находится в прямой зависимости от уровня читательской культуры и жизненного опыта. В этой связи известный философ и эстетик В. Ф. Асмус отмечал, что читательское сотворчество зависит «не только от того, какие литературные произведения я читал, но и от того, какие музыкальные произведения я знаю, какие я видел картины, статуи, здания, а также с какой степенью внимания, интереса и понимания я их слушал и рассматривал»[100]. С целью активизации и развития воображения учащихся в процессе рецептивно-эстетической деятельности, а также углубления восприятия художественного текста используется «внешняя» наглядность, осуществляемая при помощи других видов искусств. В методике преподавания литературы это взаимодействие разных видов искусств на уроке литературы имеет богатую традицию, которая своими корнями уходит к работам таких известных русских педагогов, как А. Алферов, Ф. Буслаев, К. Ушинский, Ц. Балталон.
Наименее описанной и технологически практически неосвоенной является внутритекстовая интеграция, то есть сближение отдельных искусств во внутренней организации художественного текста, когда автор сознательно использует в своих произведениях возможности других «муз», привлекает их с целью усиления изобразительно-выразительных возможностей текста и более полного представления о духовной жизни своих героев. Глубинный синтез между разными видами искусств может происходить не только на уровне образности, но и концепций мира и человека. Это внутритекстовое взаимодействие словесности чаще всего осуществляется с музыкой, архитектурой, садово-парковым искусством, живописью, скульптурой, а также театром и кино.
Слово и музыка
Наиболее тесную связь между собой предполагают литература и музыка. В самом своем зарождении эти искусства представляли единое целое. Известно, что Аристотель дает свою классификацию, исходя из единства искусств. Оно строится на теории подражания искусства природе, «ритмом слова и гармонией или раздельно, или вместе»[101]. Это единство искусств проявлялось прежде всего при исполнении поэтических произведений – мелодекламации: звучащее слово сопровождалось игрой на музыкальном инструменте, что способствовало особой суггестивности искусства, воздействию его на чувства, сознание слушателей. В этой связи Аристотель писал, что музыка более других искусств приближается «к действительности отображения гнева и кротости мужества и воздержанности и всех противоположных им свойств»[102]. В слове музыка находила мыслительную оформленность; в музыке слово обретало высшую эмоциональность и выразительность. Эта органическая связь была закономерной, так как у музыки и звучащего слова имеется много общих свойств: темп, ритм, частота, тембр, диапазон, эмоциональность, певучесть, мелодичность. Передавая чувства, настроения, переживания человека, музыка как бы следует интонациям речи. Это и служит основанием рассматривать музыку как искусство интонирования смысла. Эти свойства музыкальности звучащей речи хорошо использует народно-поэтическое творчество. Поэтому произведения фольклора, кажущиеся современным учащимся такими скучными при чтении, вдруг неожиданно могут вызвать неподдельный интерес, бурю эмоций, если они получают музыкально-речевое оформление.
Со временем в своем социально-историческом развитии музыка и литература стали отделяться друг от друга. Каждое искусство обрело свой язык, свою знаковую систему для хранения и передачи своих текстов. Вместе с тем в истории культуры неоднократно делались попытки вновь синтезировать эти два искусства в силу того особого значения, которое приобрела музыка в их идеологии и художественной практике. Их взгляды на музыку как самое романтическое из искусств, на взаимовлияние и синтез искусств сохранили свое значение в творчестве ряда художников слова. В русской литературе XIX века эта тенденция наблюдалась прежде всего в творчестве Тургенева, Фета, Аполлона Григорьева, Апухтина. У поэтов «серебряного века», и прежде всего у поэтов-символистов, были также настойчивые попытки «вернуть слово в музыку» (О. Мандельштам «Silentium»).
Отделяясь друг от друга, эти два искусства постоянно взаимодействовали: к художественным текстам композиторы создавали музыку, к мелодии поэты писали слова. Наиболее показательными примерами взаимодействия этих искусств может быть музыкально-песенное искусство и опера. Сам процесс поэтического творчества близок к созданию музыкальных произведений. Работая над стихотворением, поэты пытаются вслух проговорить, озвучить текст, проверить его гармонией, мелодией. Многие стихи рождаются из услышанной или звучащей в сознании музыки, ритма, поэтому иногда даже трудно определить, что появилось раньше – ритм, музыка или слово, строка, поэтический образ. А. С. Пушкин, подчеркивая «музыкальность» стихотворной речи, определил ее как «союз волшебных звуков, чувств и дум». Поэтому есть основание говорить о стилевой и интонационной близости значительной части поэтических произведений, музыки и вокала.
Можно выделить ряд лирических произведений, особенно поэтов-импрессионистов и поэтов-символистов, которые основаны, как и музыкальные произведения, на ассоциативных связях и носят суггестивный характер. Семантика слов в таких текстах играет второстепенную роль, их легко заменить другими, ассоциативно связанными с данным контекстом. Главное – музыкальный рисунок, настроение, которое они внушают. На этом основании строятся многие стихотворения А. А. Фета, который музыкальность избирает одним из основных средств передачи «невыразимого», т. е. непередаваемого мыслью, логикой. Его приемы поэтики и эстетические принципы продолжает К. Бальмонт, воплотивший в своем творчестве девиз П. Верлена: «О музыке – прежде всего» («De la musigue avant toute chose»: «Art poetigue»). Звонкость, певучесть, мелодичность, щедрая звукопись его строк до сих пор пленяют читателей. Поэт очаровывает плавными возвратными повторами, разнообразием ритмов, изысканными словесно-музыкальными созвучиями. Сам поэт видел в этом свою главную заслугу перед русской поэзией:
Я – изысканность русской медлительной речи,
Передо мною другие поэты – предтечи,
Я впервые открыл в этой речи уклоны,
Перепевные, гневные, нежные звоны.
Я – внезапный излом,
Я – играющий гром,
Я – прозрачный ручей,
Я – для всех и ничей.
К. Бальмонт в своих критических статьях отмечал, что музыка есть начало любви, красоты, поэзии, молодости, самой жизни.
В музыке, гармонии видел начало поэзии и даже самой культуры его младший современник А. Блок. Он создал оригинальную концепцию мира-оркестра, в котором искусства выполняют роль стихий, а через них проявляет себя дух музыки. Поэт, творец должен отдаваться «музыкальной волне, исходящей из мирового оркестра» (VI, 101), в противном случае он утратит связь со временем, эпохой, культурой, не сможет ощущать гармонию. Сам Блок создавал стихи, всю жизнь слыша этот мировой оркестр («оглох» после написания «Двенадцати») и видел цель творчества в служении гармонии: «звуки и слова должны образовывать единую гармонию» (VI, 163).
Среди приемов ритмической организации стиха можно выделить следующие: ассонансы, аллитерации, звуковые повторы, рефрены, звукопись, разные способы рифмовки и т. д. Именно они позволяют создать звуковой рисунок поэтического текста, приблизить его к музыкальному произведению, что очень хорошо обнаруживается при сопоставлении словесного текста с созданным на его основе музыкальным произведением. Передача мелодии стиха, его ритмики является непременным условием выразительного, а в идеале – художественного чтения.
О музыкальной композиции художественных текстов
Второй аспект сближения словесных и музыкальных текстов возможен на уровне композиции. Многие художники слова строят свои произведения используя принципы построения музыкального произведения, его инструментовки. В этой связи в первую очередь следует вспомнить произведения И. С. Тургенева. Музыкальность Тургенева заключена в самом слоге, в выверенной, изящной, гармонической манере повествования, по которой узнаются его тексты, как по мелодии узнаются создания того или иного композитора. Многие произведения писателя строятся по законам музыкальной композиции. Сначала следует увертюра – пейзажная зарисовка, описание интерьера, портретов героев, рассказ об их встрече. В увертюре на эмоциональном уровне присутствует заданность будущей темы произведения, ощущаются будущие конфликты. Светлое мироощущение переплетается со скрытой тревогой, печалью.
В центре произведения находится развитие темы; она то разветляется, дробится на подтемы, то все сливается, переплетается в единой теме. В этом плане показательно самое музыкальное произведение И. С. Тургенева «Дворянское гнездо». Развитие темы достигает максимальной экспрессии в сцене идеологического поединка Лаврецкого с Паншиным и особенно в сцене его любовного объяснения с Лизой. Чтобы передать душевное состояние влюбленного Лаврецкого, его волнение от предощущения счастья, автор вводит в художественный текст описание музыки Лемма, которую, кажется, слышит читатель. Затем мажорное звучание ослабевает, усиливаются нотки тревоги, печали – наступает драматическая развязка.
В эпилоге-финале звучит музыкальная тема весны, молодости, вечной смены поколений, необходимости примирения с быстротекущей жизнью, восходящая к пушкинскому – «Здравствуй, племя младое, незнакомое!». Заканчивается она щемящей нотой вечной любви и невозможности счастья, рожденной немой сценой последней встречи Лаврецкого с Лизой в монастыре.
Музыкальную структуру воспроизводят многие произведения русских поэтов. Как музыкальные периоды, завершающиеся полной каденцией, так и стихотворные строфы содержат законченную мысль, связанную с главным мотивом стихотворения. Убедительным примером такой музыкальной композиции является пушкинское «Я помню чудное мгновенье» Не случайно сразу же после его возникновения оно обрело музыкальное бытие в музыке Глинки. Как и в музыкальном искусстве, главным его композиционным принципом является повторение, реприза, постоянное возвращение к заданной теме.
Первая часть в композиции стихотворения – рассказ-воспоминание о любви, мимолетном приближении к ее высшему идеалу красоты, гармонии; вторая – угасание любви, опустошение души, оскудение жизни; третья – счастье, восторг от ощущения полноты бытия, гармонии, вызванной новой встречей с «гением чистой красоты».
Еще один убедительный пример использования принципов музыкальной композиции для построения своего поэтического текста являет собой «Симфония» А. Белого, название которой даже указывает на связь с музыкальной структурой симфонии. Пример музыкальной формы рондо – стихотворения А. С. Пушкина «Ночной зефир», «Не пой, красавица, при мне».
Транспонирование искусств
Процесс изучения разных искусств протекает от их расчленения к синтезу и затем в обратном направлении от синтеза к постижению своеобразия каждого искусства. Вступая во взаимодействие, разные искусства могут транспонироваться, т. е. один вид искусства может переводиться на язык другого вида искусства. Так, перевод литературного произведения на язык музыки, например, создание романса на слова поэта, позволяет добиться большей эмоциональности воздействия произведения на реципиента, особой музыкальной выразительности текста. Сама словесность, взаимодействуя с музыкой, передает ее звуковые образы, ее ритм, мелодию, музыкальное настроение и ассоциации. Особую роль играет упоминание и описание музыкальных произведений для передачи чувств, состояния души героев произведения.
Наиболее сложный характер взаимодействия искусств – совпадение эстетического идеала, художественного мышления писателя и композитора, поэта и музыканта, что проявляется в эстетических взглядах, стилевой манере авторов разных видов искусств. Философско-эстетическая сторона взаимодействия словесности и музыки раскрыта в работах известных эстетиков и деятелей искусств (В. В. Ванслов, Б. В. Асафьев, Ю. Б. Борев, М. С. Каган, Д. Б. Кабалевский, Д. Н. Журавлев). Педагогическим аспектам изучения литературы и музыки как смежных искусств посвящены работы В. Т. Маранцмана, Т. Ф. Курдюмовой, З. С. Смелковой, Е. Н. Колокольцева, Е. А. Финченко.
В процессе школьного изучения литературы выделяются четыре группы приемов, направленных на выявление взаимодействия словесности и музыки. Их можно обозначить следующим образом: 1) приемы, позволяющие раскрыть факты биографии писателя, его художественные пристрастия, в том числе и музыкальные вкусы, интересы, характер мироощущения; 2) приемы, связанные с анализом музыкальных образов и музыкальных страниц художественного произведения, которые позволяют глубже постичь характеры героев и выявить авторскую позицию; 2) приемы, направленные на создание образа определенной исторической эпохи, раскрывающие культурные пристрастия ее представителей, тип сознания человека этого времени; 4) приемы, служащие сопоставлению образов музыкального и словесного искусства, позволяющие увидеть, как одно искусство преломляется в другом.
Музыка в жизни писателей
Знание музыкальных пристрастий писателя позволит рассказать о его биографии, поможет ярче и тоньше раскрыть его внутренний мир, создаст особую атмосферу «проживания» его жизни. Это убедительно можно показать на материале изучения жизни и творчества И. С. Тургенева. Музыка прошла через всю жизнь великого русского писателя[103]. Музыкальность, тонкий слух и музыкальный вкус, постоянное на протяжении всей жизни пребывание писателя в атмосфере музыки и красоты способствовали глубокому пониманию им музыкального творчества. Сам Тургенев признавался: «Музыку я люблю, люблю ее весьма давно, смею думать – знаю».
Произведения композиторов Бетховена, Шопена, Шуберта, Моцарта, Гуно, Глинки, Чайковского, Римского-Корсакова могут сопровождать рассказ о разных периодах жизни и творчества писателя, стать органической частью литературно-музыкальной композиции или биографического очерка.
Продуктивным жанром урока может быть его проведение в форме литературно-музыкальной гостиной (например, «В музыкальном салоне Полины Виардо»). На таком уроке прозвучат отрывки из художественных произведений Тургенева в исполнении учащихся или мастеров художественного слова, романсы на его стихи «На заре», «Разгадка», «Разлука», положенные на музыку Полиной Виардо, знаменитый романс «Утро туманное» в исполнении Б. Штоколова или других известных артистов, музыка любимых писателем композиторов.
Прослушивание музыкальных произведений позволит передать духовную атмосферу жизни XIX века, раскроет музыкальные вкусы Тургенева. Особое место на таком уровне будет отведено рассказу о великой любви писателя к Полине Виардо. Рассказ сопровождается звучанием романсов Алябьева, Глинки, Чайковского, которые любил он слушать в исполнении знаменитой певицы. Небезынтересно будет сообщить учащимся, что великая певица сама создавала музыку на стихи русских поэтов. Так, ею не без влияния Тургенева, создан целый лермонтовский цикл, включавший в себя романсы: «Русалка», «Утес», «Ветка Палестины», «Казачья колыбельная».
Уместно будет на уроке по изучению биографии писателя использовать выразительное чтение стихотворений И. С. Тургенева в прозе, посвященных его возлюбленной. Первое – «Когда меня не будет» – звучит как полная скорби и светлой печали песнь о любви, которая сильнее смерти. Второе – «Стой!» – передает взволнованно-восторженное состояние души писателя, вызванное пением Полины Виардо. Тургенев запечатлел в своем стихотворении великое мгновение в своей жизни. Только что закончила петь певица, но голос ее еще, кажется, звучит и звучит; писателю удалось передать как бы голос самой Полины Виардо, музыку этого мгновения. Возлюбленная Тургенева, выразившая в своем пении красоту любви и глубину человеческих чувств, словно является олицетворением этой красоты мира, его тайны, высшего смысла бытия. Все вдруг соединилось в этом миге – красота, любовь, поэзия, бессмертие.
На этом уроке могут быть также заслушаны и индивидуальные сообщения учащихся о музыкальных вкусах и предпочтениях писателя, его творческом сотрудничестве с Полиной Виардо (вместе сочинили несколько музыкальных пьес: «Слишком много женщин», «Последний колдун», «Людоед»), музыкальных интерпретациях произведений Тургенева (Балет А. Шварца «Накануне», опера А. Гольденвейзера «Вешние воды», опера А. Симона «Песнь торжествующей любви», опера А. Кастальского «Клара Милич»).
Обращение к музыке нередко помогает понять источники творчества художника. Например, большинство стихотворных произведений Есенина удивительно песенные и напевные. Не случайно сам поэт их часто называет песней: «Песнь о собаке», «Песнь о Евпатии Коловрате», «Песнь о великом походе», «Песнь о хлебе». Образный строй стихотворений Есенина настолько близок к песне, что многие его произведения напоминают народные лирические и исторические песни, частушки, городские романсы. Встречается даже мелодия серенады, как в стихотворении «Ночь» («Тихо дремлет река»).
Таким образом, музыка помогает создать особый эмоциональный настрой урока, раскрывает эстетические вкусы писателя, его «томления и озарения духа», позволяет создать эмоциональный образ эпохи, в которую он жил.
Внутритекстовая связь литературы и музыки (на примере романов Тургенева)
Особую роль играет музыка в художественном творчестве писателей. Так, примерно три четверти произведений Тургенева связано с музыкой. Его герои музицируют, поют или слушают музыку и высказывают свои суждения о ней. Музыка становится средством характеристики героев, выражением авторской позиции. Для писателя важно, какую музыку предпочитают герои, что они играют и поют, и как они это делают. Любовь к музыке, потребность в ней, наличие музыкальной одаренности, способность глубоко чувствовать красоту мира и красоту музыки являются важнейшими качествами личности близких автору персонажей. Нередко он наделяет их своими музыкальными вкусами и даже страницами своей музыкальной биографии. Иногда музыкальные произведения, включенные в картины жизни героев, позволяют определить их личностную позицию, тонко передать художественный подтекст, то невыразимое в словах и понятиях, что может выразить только музыка.
Среди приемов, используемых при изучении «музыкальных» страниц художественных текстов, следует в первую очередь выделить такие: комментирование музыкальных эпизодов и музыкальных образов; озвучивание названных в тексте музыкальных мелодий и определение колорита настроения сцен, эпизодов, в которые они включаются; раскрытие способов передачи посредством музыкальных произведений чувств и настроений героев; сопоставление «музыкальных характеристик» героев, образов музыкальных и литературных произведений.
Пример такого комментирования музыкального эпизода можно провести на материале изучения романа И. С. Тургенева «Рудин».
В романе упоминается композитор Тальберг, очень модный в русском обществе в конце 30-начале 40-х гг. его этюды отличались особой сложностью музыкальной композиции и требовали от исполнителей не столько развитого эстетического вкуса, сколько виртуозной техники. Сам автор считал интерес к Тальбергу дурным вкусом, и его могли любить только те герои, которые фальшивили в жизни. Не случайно этюды модного композитора «твердит» Панделевский, чтобы доставить удовольствие своей благодетельнице Дарье Михайловне Ласунской, женщине избалованной, с большими претензиями, но неглубокой, лишенной музыкальности и душевной чуткости.
Из приведенного в тексте романа эпизода становится ясно, что музыка для Ласунской не является высокой духовной потребность, она больше внешний атрибут дворянской усадебной культуры. Слушая игру Константина Диомидыча, Дарья Михайловна произносит по-французски заученные фразы, за которыми нет никакого душевного волнения. Интересно, что ее дочь Наталья, несравненно более глубокая натура, сначала настроившись слушать музыку с вниманием, через несколько мгновений оказалась к ней совершенно равнодушной и «опять принялась за работу» (V, 214).
Примечательно также, что «вещицы» Тальберга, как иронично выразился автор, играет и Варвара Павловна Лаврецкая (в романе «Дворянское гнездо»), женщина насквозь фальшивая и безнравстенная, не способная чувствовать настоящую музыку.
При изучении романа И. С. Тургенева «Дворянское гнездо» обращаем внимание учащихся на то, что музыкой, музыкальными сценами, образами буквально наполнено все произведение. Оно звучит как симфония о любви, красоте, редких мгновениях счастья и вечной грусти по его быстротечности, по неизбежно уходящей молодости.
Прежде всего следует сказать о музыкальности самого текста тургеневского романа. Автор часто, особенно в эпизодах описания состояния души героев и природы прибегает к выразительным средствам: повторениям, словам-полутонам, экспрессивным эпитетам, ритмически организованной речи. Как и в музыке, Тургенев часто пользуется приемом нагнетания, усиления звука – crechendo (крещендо) и угасания, затухания звука – diminuendo (диминуэндо). Так, фразу текста: «Ночь, безмолвная ласковая ночь, лежала на холмах и долинах; издали из ее благовонной глубины, бог знает откуда – с неба ли, с земли, – тянуло тихим и мягким теплом» (VI, 85) – сначала хочется произнести с усилением звука, а в концу предложения его понизить. В итоге она звучит как музыкальная мелодия.
Если обратить внимание на восемнадцатую главу и внимательно, не торопясь ее прочитать, то невольно возникают ассоциации с музыкальным произведением, написанным в трехчастной форме. Начинается глава и заканчивается одними и теми же мыслями о доме, благодаря чему формируется своеобразное обрамление, которое намечает репризность. В первом разделе описывается вид, который открывается из тарантаса Лаврецкого во время пути по проселочной дороге: «Лаврецкий глядел на пробегавшие веером загоны полей, на медленно пробегавшие ракиты…, на длинные межи, заросшие чернобыльником, полынью и полевой рябиной;… и эта свежая, степная, тучная голь и глушь… – вся эта, давно им не виданная, русская картина навевала на его душу сладкие и в то же время почти скорбные чувства…» (VI, 59). Предложение получилось точно такое же длинное, как просторы, описываемые автором. А в третьей репризной части: «Те же поля, те же степные виды… рубаха ямщика, желтая, с красными ластовицами, надувается от ветра…» (VI, 60) – опять повтор в описаниях и мыслях Лаврецкого.
В среднем разделе пятикратное повторение слова «вспомнил» в точности передает нагнетание чувств путем повторения одной и той же интонации в романтической музыке: «Вспомнил он свое детство, свою мать, вспомнил как она умирала, как поднесли его к ней и как она прижимая его голову к своей груди, начала было слабо голосить над ним, да взглянула на Глафиру Петровну – и умолкла. Вспомнил он отца, сперва бодрого, всем недовольного, с медным голосом, потом слепого, плаксивого, с неопрятной седой бородой; вспомнил, как он однажды за столом, выпив лишнюю рамку вина и залив себе салфетку соусом, вдруг засмеялся и начал, мигая ничего не видевшими глазами и краснея, рассказывать про свои победы; вспомнил Варвару Павловну – и невольно прищурился, как щурится человек от мгновенной внутренней боли, и встряхнул головой». И вдруг, внезапно, бурный поток воспоминаний прекращается: «Потом мысль его остановилась на Лизе» (6, 60). И далее уже развивается тихая, лирическая, возвышенная тема Лизы.
Таким образом, средний раздел делится еще на две части: одна бурная, с динамическим накалом, а вторая плавная, спокойная, звучащая контрастно. Восемнадцатая глава не просто читается, а именно звучит и напоминает пьесу Чайковского из «Времен года» или одну из медленных частей симфонии (чаще всего это вторая часть).
Кроме повторов, по аналогии с музыкальными рефренами, для создания музыкального рисунка речи Тургенев использует синонимические вариации слов, синтаксический параллелизм. Такие части текста задают настроение, служат эмоциональному усилению, нагнетанию чувств, передаче многообразных оттенков одного и того же психологического состояния героев. Сказанное выше можно продемонстрировать хотя бы на примере описания влюбленного и счастливого Лаврецкого, услышавшего игру Лемма. Описание музыки звучит как сама музыка: «Вдруг ему почудилось, что в воздухе над его головою разлились какие-то дивные, торжествующие звуки; он остановился: звуки загремели еще великолепней; певучим, сильным потоком струились они, – и в них, казалось, говорило и пело его счастье» (VI, 106). Следует заметить, что характер этого ритмически организованного отрывка текста отличается полифонизмом, который достигается обилием в тексте качественных прилагательных, глаголов.
Сцены, где на переднем плане Паншин, можно рассматривать как сцены гомофонного характера, т. е. одноголосно звучащие. У Паншина словно заранее заготовлены жесты, движения, слова, все рассчитано на внешний эффект, и ни одним словом автор не обмолвится, что происходит в его душе. Писатель не обращается к дополнительным, музыкальным средствам передачи состояния души этого персонажа, потому что кроме него самого его ничего в мире не волнует.
По законам музыкального контраста, forte (форте – громко), piano (пьяно – тихо) автор романа расставляет своих героев. Обратим внимание, что излюбленное пушкинское слово «тихий» на протяжении всего романа служит для обрисовки образа Лизы, передачи состояния внутренней просветленности героини, несуетности ее характера, какой-то особой гармоничности: «тихо светились ее глаза», «тихо склонялась и поднималась ее голова». У нее и голос тихий, и разговор она ведет неторопливо, тихо, и даже внутреннюю жизнь героини автор называет «тихой». «Лаврецикий первый нарушил ее тихую (курсив мой. – В.Д.) внутреннюю жизнь» (VI, 113).
Этот эпитет «тихий» употребляет автор также для характеристики Маланьи, матери Лаврецкого. «Он [Иван Петрович] полюбил ее робкую походку, стыдливые ответы, тихий голосок, тихую улыбку» (VI, 31). «Тихоней» называют в романе и самого Лаврецкого, ведущего жизнь внешне скромную, небогатую яркими событиями. Сцены с участием этих героев выстраиваются как сцены – piano.
Как контраст перечисленным героям представлены в романе образы Варвары Павловны и Паншина. Там, где они появляются, обязательно раздается громкий смех, экспрессивный разговор, шумная игра, пение. Их автор описывает с непременными размашистыми жестами, активной мимикой. Речь Варвары Павловны, например, полна эмоциональных всплесков, выкриков, эффектных фраз. Поэтому сцены с участием Паншина и жены Лаврецкого звучат как сцены – forte.
Все сюжетные узлы романа, его герои в той или иной мере мотивируются музыкой. Она появляется с первых страниц книги, когда завязывается ее конфликт, и сопровождает действие до самого его финала.
Уже первая значительная сцена романа прочитывается через музыку. Владимир Паншин, добивающийся руки Лизы Калитиной, пытается вызвать благосклонность девушки и ее родных, демонстрируя свои таланты. Он исполняет романс собственного сочинения. Автор подчеркивает эту нарочитость, демонстративность «таланта» Паншина. Он больше сосредоточен на внешней стороне игры и пения, нежели на содержательной. Читатель не знает, что собой представляет мелодия романса, но хорошо видит эту сцену, героя, стремящегося придать своему исполнению «особое выражение и силу» (VI, 17). Все рассчитано на эффект, театральность, особенно вздох и понижение голоса в конце пения. Оказывается, для Паншина важна не сама музыка, а ее демонстрация. Слушатели его пения сказали те дежурные слова, которые обычно говорят в таких случаях. Музыка их не взволновала, не всколыхнула их чувств. Отрицательное отношение к игре и пению героя выражает всем своим поведением профессиональный музыкант Христофор Лемм, появившийся в это время в передней. Интересно, что он не видит Паншина, но слышит его голос, и этого ему достаточно, чтобы уловить фальшь в его исполнении. Особенно покоробит, вызовет у него смущение объяснение Паншина, в котором тот очень странно будет мотивировать свое понимание «серьезной музыки»: «Вы, пожалуйста, не думайте, что я не имею ценить серьезную музыку, – напротив; она иногда скучна, но зато очень пользительна» (курсив мой. – В.Д.) (VI, 18).
Анализ V и VI глав романа позволяет заключить, что Лемм и выражает авторскую позицию по отношению к Паншину. Не случайно Тургенев в биографии музыканта, которую он приводит сразу же после рассмотренной сцены, назовет его «поклонником Баха и Генделя» (своих любимых композиторов), определит его как «знатока своего дела, одаренного живым воображением» (VI, 20), выделит в нем «что-то доброе, честное» (VI, 20), т. е. те качества, которые так ценились им самим. Именно Лемм через отношение к музыке объясняет Лизе, кто такой Паншин: «но он не может ничего понимать: как вы этого не видите? Он дилетант – и все тут!» (курсив мой. – В.Д.) (VI, 24). На возражения Лизы музыкант очень точно заметит, обозначая главную сущность Паншина: «Да, все второй нумер, легкий товар, спешная работа. Это нравится, и он нравится, и сам этим доволен – ну и браво» (VI, 24). Здесь следует заметить, что дилетантизм в понимании Лемма (как и самого автора) относится не только к музыке, но и к сфере чувств. Дилетант – поверхностный, неглубокий человек.
Справедливость оценки Леммом Лизиного поклонника подтвердят другие сцены романа, среди которых и музыкальные страницы. Пошлость героя, отсутствие в нем глубины чувств и подлинного художественного вкуса автор вновь передает через музыку. Вот Паншин снова поет романс, «придавая мелодраматическое дрожание своему голосу» (VI, 130). Тургенев карикатурно изображает эту сцену, издеваясь над чуждыми ему героями: «Голос у Варвары Павловны утратил свежесть, но она владела им очень ловко. Паншин сперва робел и слегка фальшивил, потом вошел в азарт, и если пел не безукоризненно, то шевелил плечами, покачивал всем туловищем и поднимал по временам руку, как настоящий певец. Варвара Павловна сыграла две-три тальберговские вещицы и кокетливо «сказала» французскую ариетку» (VI, 131). Герои спелись и в прямом и в переносном смысле, и именно через музыку открылось их сходство. Ненастоящей оказалась влюбленность Паншина в Лизу. Не прошло и двух часов, отмечает автор, как «та самая Лиза, которую Он [Паншин] все-таки любил, которой он накануне предлагал руку, – исчезла как бы в тумане» (VI, 131).
Музыкальные эпизоды романа позволяют Тургеневу раскрыть характер Варвары Павловны, передать ее пустоту, фальшь, наигранность чувств. Становится понятно, что между ней и Лаврецким – пропасть.
Совсем другие качества раскрываются через музыку в Лизе и Лаврецком. Их музыка волнует искренне, глубоко, выражая красоту и трепет их чувств. Лиза любимая ученица Лемма. В ее игре нет той легкости и беглости, какую мы видели в игре Варвары Павловны, но она чувствовала музыку, никогда не фальшивила.
«Играла… очень отчетливо» (VI, 67), заметит автор. Но самое главное – музыка звучала в душе Лизы.
Была она и в душе Федора Ивановича Лаврецкого. Хотя он не играл ни на каком инструменте, но «страстно любил музыку, музыку дельную, классическую» (VI, 67), что имеет большое значение, как мы знаем, в авторской оценке героя. Зарождение любви в сердце Лаврецкого и начинается с музыки. Рассматривая любовный сюжет романа, обратим внимание учащихся на музыкальные сцены, сопровождающие и отражающие этот сюжет, и попытаемся их истолковать.
Лиза Калитина играет Бетховена. Лаврецкий, взволнованный музыкой, провожает Лемма домой и до трех часов ночи сидит у него, слушая его сочинения, среди которых особенно ему понравилась положенная на музыку баллада Шиллера «Фридолин». Потребность в музыке передает новое состояние души героя. Происходит сближение Лаврецкого с Леммом. Он приглашает музыканта к себе в Васильевское и даже привозит для него из города фортепьяно. XXII глава вся наполнена музыкой. О музыке, «потом опять о музыке» (VI, 68) говорят герои по дороге в деревню. Музыка постоянно ассоциируется с Лизой. У Лаврецкого почему-то возникает желание, чтобы Лемм написал для него либретто. Что-то неясное, но прекрасное входит в жизнь главного героя. Описание ночи, которая волнует его, звучит как ноктюрн Шопена. Звуки природы словно наполнены музыкой. Соловьиная песнь, «чистая девушка», «чистые звезды», сладкая мелодия, которая будоражит сознание Лемма, вот те ключевые образы, звуки и ассоциации, которые зарождают в дуще Лаврецкого самую прекрасную музыку – музыку любви. И она все отчетливее и сильнее начинает звучать особенно в XXVII главе, которая воспринимается как стихотворение в прозе, переполненное образами красоты, молодости, светлой печали. Кажется, в этой главе оживают и развиваются мотивы пушкинского стихотворения «На холмах Грузии…». Автор не только подбирает слова и образы, ассоциирующиеся со звуками, мелодией, но и воссоздает соответствующую звуковую атмосферу.
Кульминационными в романе являются XXXIII и XXXIV главы. В первой из них звучит «могучая, по дерзости звонкая песнь соловья» (VI, 102), как бы знаменующая победу патриотически настроенного Лаврецкого в идеалогическом поединке с ультразападником Паншиным, а также нарастающее, несмотря на все преграды, чувство любви Лаврецкого и Лизы. Следующая глава содержит, быть может, самое изумительное описание музыки и связанных с нею чувств в творчестве Тургенева.
Музыка Лемма как бы знаменует собой апофеоз любви героев; она звучит сразу же после этого прекрасного, ночного свидания героев в саду, передавая все, что невозможно объяснить словами, все, чем переполнена душа Лаврецкого: «…сладкая, страстная мелодия с первого звука охватывала сердце; она вся сияла, вся томилась вдохновением, счастьем, красотою, она росла и таяла; она касалась всего, что есть на земле дорогого, тайного, святого; она дышала бессмертной грустью и уходила умирать в небеса» (VI, 106). Описание автором музыки волнует как сама музыка. В ней читатель словно слышит звуки «Лунной сонаты» Бетховена, этюдов Шопена, песен Шуберта. Интересно, что эта «чудная композиция» (VI, 106) родилась у старика Лемма лишь тогда, когда он чутким сердцем музыканта уловил музыку любви в сердцах близких ему людей, счастье, которое светилось на их лицах.
Музыка вместе с описанием пейзажей создает особый поэтический колорит романа, в нем постепенно нарастает настроение светлой печали, грусти, увядания, заката.
Прокомментируем с музыкальной стороны финал-эпилог, действие в котором происходит спустя восемь лет. В нем, как в финале симфонии, вновь проходят перед читателем в описаниях и диалоге все темы и персонажи произведения. Напоминает он форму рондо, в качестве рефрена выступает тема весны, молодости, веселья, радостного пробуждения надежд. Почти на протяжении всей главки звучит веселый смех, шум, гам. Бурно радуется жизни молодежь, которая теперь приходит на смену уходящему старшему поколению.
Рядом с общим действием проходит тема воспоминаний Лаврецкого. Он несколько раз заходит в дом, подолгу сидит в гостиной, подходит к той самой скамейке в саду, «на которой он провел несколько счастливых неповторившихся мгновений» (VI, 156). Скамейка почернела и искривилась, «но он узнал ее, и душу его охватило то чувство, которому нет равного и в сладости и в горести – чувство живой грусти об исчезнувшей молодости, о счастье, которым когда-то обладал» (VI, 156). Этот эпизод, как и другие эпизоды эпилога, приобретает необыкновенную эмоциональную насыщенность, и пик ее – снова музыка. «Лаврецкий… коснулся одной из клавиш: раздался слабый, но чистый звук и тайно задрожал у него в сердце» (VI, 157). Опять зазвучит в душе Лаврецкого вдохновенная мелодия Лемма, прерванная мелодия о высоком, прекрасном, несбыточном: счастье было «так возможно, так близко…»
Заключительные строки романа: «Что подумали, что почувствовали оба? Кто узнает? Кто скажет? Есть такие мгновенья в жизни, такие чувства…» (VI, 158) – звучат как последние музыкальные аккорды сонаты, говорящие о чем-то недосказанном, недопонятым до конца.
В других романах Тургенева музыки значительно меньше, но музыкальные эпизоды, как всегда, играют важную роль в раскрытии психологии характеров героев и движении сюжета. Так, в романе «Накануне» совсем немного упоминаний о музыке и музыкальных сцен. Все они в основном связаны с Зоей, девушкой несложной, но интересной, со вкусом. Она отличалась музыкальностью, играла на фортепиано, причем не только «веселенькие и чувствительные вещицы» (VI, 173), но и Вебера и «недурно пела русские романсы» (VI, 173).
Елена Стахова не играет, но, безусловно, музыкально развита. Именно через ее восприятие подается автором опера Верди «Травиата», которую она слушает вместе с Инсаровым в Венецианском театре.
Сцена в театре, наряду со сценой размышлений Елены у постели своего больного мужа, занимают ключевое место в заключительной части романа. Музыка, оказалась, сумела передать, предощутить то, о чем и не смела думать героиня. Вся XXIII глава полна трагических предзнаменований. Сначала тема смерти, «увядания в самом расцвете и торжестве красоты» (VI, 286) появляется в описании весенней Венеции. Но молодые люди, в которых «кипят еще силы» (VI, 286), в этом великолепном городе-музее еще острее ощущают свое счастье. «Подобно весне, красота Венеции и трогает и возбуждает желания; она томит и дразнит неопытное сердце, как обещание близкого, не загадочного, но и таинственного счастия» (VI, 285). Вот почему были так счастливы в начале своего пребывания в этом прекрасном городе Елена с Инсаровым. И самые беззаботные и веселые минуты их жизни – это прогулка по каналам Венеции и посещение академии Изящных искусств. В минуты своей «неожиданно нашедшей на них» (VI, 286) светлой веселости, какую знают только дети, все показалось им забавным: и картины итальянских мастеров, и строгие англичане «с длинными, заячьими зубами и висячими бакенбардами», и торговка. Их смех, хохот над святым Марком Тиноретта в музее показался чопорным англичанам святотатством, но влюбленные не были равнодушными к шедеврам великих мастеров. Испытывая земные чувства, они искали и в искусстве земного. Вот почему их «поразила» Мадонна Тициана (картина «Вознесение Богоматери»), «прекрасная, сильная женщина», с влажно блестящими глазами и полуоткрытым ртом, чувственная красота которой вызвала в свое время недовольство монахов-заказчиков. Состояние душ героев во время прогулки по Венеции в целом перекликается с последними оптимистическими интонациями Альфреда и Виолетты. Герои «Травиаты», как и герои романа, в последний раз чувствуют себя счастливыми и мечтают о новой жизни в другом краю: «Край мы покинем, где так страдали…».
Это «игривое расположение духа, которое нашло на них в академии «délie Belle arti» (VI, 288), не проходило и в начале оперы Верди. (Следуею заметить, что премьера «Травиаты» состоялась в венецианском театре La Fenice (6 марта 1853 г.) Герои романа слушают оперу примерно через год после ее премьеры весной 1854 г. Отношение автора к опере Верди, как и многих его современников, вначале было отрицательным. Он называет ее «довольно пошлой», а над игрой героев откровенно издевается: «все певицы не возвышались над уровнем посредственности; каждый кричал, во сколько хватало сил» (VI, 287).
Образованной публикой опера вначале действительно была воспринята недоброжелательно. Ее сюжет рассматривали как дерзкий вызов общественной морали, покушение на незыблемые семейные устои, так как Верди вывел на сцену в качестве главного персонажа отверженную обществом женщину. Отсюда и ее название – traviata – по итальянски – «падшая женщина». Но композитор показал ее с огромной симпатией. По своим душевным качествам, способности любить она превосходит всех окружающих ее персонажей. (По всей видимости, Тургенев описывает оперу по собственным впечатлениям и использует их для передачи глубочайших переживаний своих героев.)
По ходу действия в опере Елена и Инсаров искренне увлекаются игрой и пением актрисы, исполнительницы роли Виолетты. «Молодая, не очень красивая, черноглазая девушка с не совсем ровным и уже разбитым голосом», сумела «отбросить все постороннее, все ненужное и нашла себя» (VI, 288). «Она вдруг переступила ту черту, которую определить невозможно, но за которой живет красота (VI, 288). Произошло чудо: «некрасивая девушка с разбитым голосом» начала овладевать публикой.
Но самое главное в этой сцене другое: убедительная игра молодой актрисы передает ожидание чего-то страшного, непоправимого уже не в опере, а в жизни. Не случайно Инсаров заметит: «она не шутит: смертью пахнет» (VI, 288). За мелодраматической историей Виолетты прочитывается трагедия Инсарова и Елены, трагедия жизни, освещенной высокой любовью. Не случайно автор, описывая восприятие оперы героями, передает ассоциативно возникающие по ходу развития сюжета «Травиаты» мысли и чувства Елены: «Елена дрогнула при виде этой постели, этих завешанных гардин, стеклянок с лекарством, заслоненной лампы… Вспомнилось ей близкое прошедшее… «А будущее? А настоящее?» – мелькнуло у ней в голове» (VI, 288). Кажется, искусство отражает теперь саму жизнь, передает грозно приближающийся призрак смерти. Это страшное предзнаменование, ощущение того, что жизнь не шутка, очень хорошо передают и «глухой, неподдельный кашель Инсарова» в ответ на притворный кашель актрисы, и глаголы, обозначающие внутренне состояние героини («Елена дрогнула», «Елена похолодела»), и рукопожатие героев в театре. Это рукопожатие так непохоже на то другое в гондоле, когда они были счастливы и беззаботны.
Можно сделать вывод, что музыка передает то, что не способно выразить ни одно другое искусство. В романе она созвучна событиям и смене настроений героев, является своеобразным эмоциональным центром всего повествования. Уже в оркестровой прелюдии звучат две темы: одна трогательная и печальная в еле слышном pianisimo одних только скрипок, поделенных на несколько голосов. Другая – широкая, полная чувства, распевная. Ярким примером второй темы может быть застольная песня Альфредро «Высоко поднимем мы кубки веселья» в первом акте оперы.
В романе ей соответствуют сцены прогулок героев по вечно праздничной Венеции. Тревожные предчувствия Елены перекликаются с беспокойным звучанием кларнетов, сопровождающих скорбные реплики Виолетты во второй картине оперы. Финал оперы, особенно ее мелодия «Как страшно и горько умирать, когда жизнь так пленяет», передает всю скорбную палитру чувств Инсарова и Елены.
Пребывание героев в опере – это словно высшая точка их счастья и одновременно трагическое ощущение невозможности продолжительности его мига. И его причину автор видит в том, что «счастье каждого человека основано на несчастии другого, что даже его выгода и удобство требуют, как статуя – пьедестала, невыгоды и неудобства других» (VI, 291). Музыка, оперное пение, как никакое другое искусство, выражает всю глубину чувств влюбленных героев у самой пропасти небытия. Любовь, высочайшее счастье и неотвратимость смерти словно сошлись вместе.
Для более полноценного понимания функции музыкальных страниц в романе учитель знакомит своих учащихся с либретто оперы и предоставляет им возможность прослушать некоторые его ключевые отрывки, в частности финальную арию Виолетты, описанную в романе: «Lascia mi vivere… morir si giovane!» («Дай мне жить… умереть такой молодой!»).
С сюжетом оперы в романе связана и последующая сцена романа. Елена стоит у постели смертельно больного Инсарова, смотрит через окно в небо и вопрошает: «Зачем смерть, зачем разлука, болезнь и слезы?‹…› Ужели мы одни… одни… а там, повсюду, во всех этих недосягаемых безднах и глубинах – все, все нам чуждо?» (VI, 290). За вопросами и размышлениями героини трагические раздумья автора о мгновенности счастья, хрупкости человеческого бытия, бессилии человека перед стихиями «равнодушной» природы.
Создание музыкального образа эпохи
Особенно продуктивно обращение к музыке на вводных и заключительных уроках с целью создания атмосферы исторической эпохи или раскрытия картины мира определенной культуры, художественного направления. На таких уроках музыка звучит и интерпретируется во время лекции или рассказа учителя, сообщений учащихся, прочтения художественных текстов и их анализа. Особенно эффективна интеграция музыки и словесности, как уже отмечалось, при изучении романтизма и символизма – самых музыкальных художественных систем.
Один из первых теоретиков и художников романтизма Людвиг Тик признавал единство всех искусств, возможность их взаимопереходов, смешений, синтеза. Причем он соотносил не только другие искусства с поэзией, но и разные искусства между собой. Его идеи развивал Гофман, поэт и музыкант, который говорил о сложных ассоциациях при создании музыки композитором и ее восприятии слушателем, утверждая, что краски, запахи, ощущения могут быть представлены в виде звуков.
Новалис рассматривал поэзию как промежуточное искусство между музыкой и живописью. Всех этих романтиков объединяло стремление к стиранию границ между искусствами и признание музыки как самого романтического искусства. Эти идеи и будут отправными точками при разработке урока по романтизму. В основе урока – сопоставление, взаимопроникновение музыки и поэзии. Их связь прежде всего обнаруживается в идее двоемирия, трагического разрыва между идеалом и действительностью. И в поэзии и в музыке главным предметом изображения является внутренний мир души человека, возвышенный характер чувств. Он противопоставляется грубой действительности мещанско-филистерской жизни, миру меркантилизма, который является первопричиной бездуховности человеческого бытия. Подлинный человек – это совершенная, свободная, духовно богатая личность, в которой обобщены лучшие качества людей.
В соответствии с идеей двоемирия в романтической музыке вырабатывается особый тип образного контраста. Особенно он характерен для произведений, написанных в сонатной форме. Первая тема сонаты – выражает драматически напряженный мотив, полный бурных, порывистых, неуравновешенных чувств. Контрастная ей тема заключает в себе образ светлой мечты, грез о счастье, любви. Она выражает чистые и возвышенные лирические переживания, устремленность к гармонии, идеалу. Этот контраст достигается чередованием минора и мажора, быстрого и медленного, бурного и спокойного темпов, тихого и громкого звучания. Такой тип музыкального контраста характерен в первую очередь для многих произведений Гайдна, Бетховена и особенно Шуберта, Листа, Шопена.
Воздействие музыки на литературу сказывается в лиризации романтической прозы (Новалис, Арним, Брентано), насыщении ее музыкальными образами, ритмами, интонациями, проникновением в поэтическое творчество принципов музыкальной формы.
Поэзию и музыку в эстетике романтиков роднит и то, что они являются «самым естественным способом воссоздания внутреннего мира человека»[104].
Героям романтиков достаточно сыграть музыку свою или чужую или прочитать, написать лирическое произведение, чтобы дать знать о себе, кто они такие. Но самые бурные и страстные исповеди происходят посредством музыки. Поэтому описание музыки, песен, которые исполняет тот или иной герой, значит иногда даже больше, нежели психологический анализ. Без сомнения, дальше всех романтиков в сближении музыки и поэзии пошел Гофман. Его новеллы «Кавалер Глюк» и «Дон Жуан» – наполовину новеллы, наполовину критические эссе о музыке композиторов Глюка и Моцарта, а его «Крейслериана» – сплошное излияние и размышления на музыкальные темы. В музыке Гофман видит слитность и цельность мировой жизни, Вселенной. Через нее оглашается тайна, скрытая в недрах космоса. Музыка – «санскрит природы» («Sanskrita der Natur»), в ней через звуки недоступное становится доступным. «В музыке слышна песня песен деревьев, цветов, зверей, камней и вод»[105].
Отсюда у романтиков природа как бы сама себя перелагает на музыку. И эта идея проходит через большинство музыкальных и поэтических творений. Эту «музыкальность» природы очень хорошо передает баллада Гете «Лесной царь» и написанная по ее мотивам музыка Шуберта. Образ природы в произведениях романтиков предстает в двух видах: прекрасный, светлый, гармонический и контрастный ему – бурный, мятежный. Оба они соответствуют двум состояниям духа романтического героя. Эти состояния природы и человека удачно можно продемонстрировать на примере этюдов Шопена и «Лесных сценах» Шумана, лирике Новалиса, Брентано, Шиллера и Гете.
Особое место в романтической музыке занимает жанр ноктюрна. В «Гимнах к ночи» Новалиса (из романа «Генрих фон Офтердинген») ночь объявляется истинной сущностью бытия. В ней и покой, и самопознание, и Эрос, и единение человечества. День прозаичен, он дробит человека на части, ночь делает его целостным, гармоничным человеком.
В лирике Гете, Шиллера образ ночи приобретает двойственный характер. С одной стороны, ночь открывает подлинную сущность мира, душа человека вступает с ним в интимное соприкосновение. С другой стороны, ночь полна потусторонних сил, она созвучна пессимистическим переживаниям, раздумьям о смерти. В ночном пейзаже особую роль играют луна и звездное небо, связанные с тайной, загадкой бытия, меланхолическим состоянием души, неясной тревогой, возвышенными мечтаниями и устремлениями. Эти настроения и образы гениально передают ноктюрны Шопена, опера Вагнера «Тристан и Изольда», к которым учитель может обратиться на уроке по романтизму.
Следует заметить, что и в поэзии, и в музыке романтики часто прибегают к созданию иного мира – предполагаемого, воображаемого, мистического. В этой связи целесообразно будет проанализировать мотивы и образы «ночных» произведений Гофмана, баллад Жуковского, балета Адана «Жизель».
Так, содружество двух искусств позволяет почувствовать сам дух романтизма, окунуться в его стихию, воссоздать в сознании учащихся романтическую модель мира.
Сопоставление литературного и музыкального произведения
Сопоставление литературного текста с музыкальными произведениями более всего описано в методической литературе. Данная деятельность позволяет пробудить читательское воображение и эмоциональную сферу воспринимающих искусство, побуждает углубленно прожить многие эпизоды текста, расширить границы одного искусства (в нашем случае словесного) посредством обращения к другому его виду, посмотреть, как одно искусство преломляется в другом, что способствует активизации воспринимающе-интерпретирующей деятельности учащихся, созданию ситуации учебного диалога на уроке.
Наиболее распространенными приемами сопоставления двух этих искусств являются следующие: 1) прослушивание произведений и вычленение общих компонентов сопоставления (темы, мотивы, образы, композиция, эпизоды, сцены); 2) сопоставление центральных образов музыкального и литературного произведения; 3) выявление особенностей претворения литературного сюжета в музыке или музыкальной темы в художественном произведении (развитие сюжета, конфликт, характеры, мироконцепция); 4) наблюдения над средствами выразительности словесного и музыкального искусств; 5) сравнительный анализ музыкальных произведений разных композиторов, написанных на один и тот же литературный текст.
В качестве примера использования ряда данных приемов в практической деятельности учителя приведем фрагмент заключительного урока в 8-м классе по трагедии У. Шекспира «Ромео и Джульетта».
Урок проходил в форме урока-диалога с элементами интеграции искусств. Главными целями и задачами данного урока являлись: помочь учащимся почувствовать красоту и поэзию любви главных героев трагедии Шекспира, раскрыть ее гуманистический пафос, победу природы человека над враждой и предрассудками, рассмотреть пьесу в вечном потоке времени и культуры. Каждому из участников диалога предлагалось определиться в своем понимании сущности любви и трагедии героев пьесы.
К музыке – опере Ш. Гуно – прибегали на двух этапах урока. Первый раз музыка использовалась для более глубокого погружения учащихся в мир влюбленных героев трагедии. Прослушивание сцены «В комнете Джульетты. Прощание» в исполнении Сергея Лемешева и Ирины Масленниковой помогло школьникам почувствовать поэзию, красоту и силу чувств героев, их горе от неизбежности расставания. Музыка, лирические голоса исполнителей одухотворили восприятие учащихся, они словно погрузились на несколько минут в переживания героев. Учащиеся обратили внимание, что в опере трагизм расставания особо подчеркивался мотивами соловья и жаворонка, которые явились своеобразной интонационной вершиной дуэта. Накал чувств героев передавался переходами по несколько раз от крещендо в диминуэндо.
Звучала музыка и на заключительном этапе урока. Прослеживалась заключительная сцена оперы «В склепе» и сопоставлялись финалы трагедии и оперы. Отмечалось, что убрав из оперы сцену примирения двух враждующих родов над трупами своих детей, Гуно тем самым усилил ее лирическую сторону, передачу психологического состояния героев в предсмертные мгновения. Ромео, увидев в гробу Джульетту и думая, что она мертвая, выпил яд. Ему осталось жить несколько минут. Неожиданно из гроба подымается просыпающаяся Джульетта. Счастье встречи переполняет героев, Ромео зовет возлюбленную из склепа, забывая о яде. Но смерть его уже настигает. Падая, он из последних сил тянется к Джульетте. Герои клянутся друг другу в вечной любви, и Джульетта вонзает кинжал себе в грудь. Умирая, герои соединились в поцелуе. Такая музыкальная интерпретация трагедии позволяет ее прочитать как гимн верности и любви, которая оказывается сильнее всех предрассудков, сильнее самой смерти.
Интеграция искусств на уроках литературы предполагает систему работы, которая выстраивается в ходе календарного и тематического планирования. Ниже приводим в качестве примера планирование уроков в 6-м классе, на которых осуществляется взаимосвязь словесного и музыкального искусств. 1. Былина новгородского цикла «Садко» и одноименная баллада А. К. Толстого. Музыкальная интерпретация былины в опере Н. А. Римского-Корсакова «Садко».
2. A. C. Пушкин «Зимнее утро» и Г. Свиридова «Зимнее утро». Фрагмент хорового концерта «Пушкинский венок». Средства воплощения поэтического слова в музыкальном произведении.
3. А. С. Пушкин «Дубровский» и опера Э. Направника «Дубровский». Речитатив. Лирический и драматический тенор. Кульминационная сцена в опере.
4. М. Лермонтов «Парус». А. Варламов «Парус». В. Шебалин «Парус». Сопоставление разных музыкальных интерпретаций поэтического текста.
5. М. Ю. Лермонтов «Песня про купца Калашникова». И музыкальная сцена М. П. Мусоргского «Рассвет на Москве-реке» из оперы «Хованщина».
6. Н. В. Гоголь «Майская ночь» и опера НА. Римского-Корсакова. Ария Левка в исполнении С. Я. Лемешева.
7. «Тарас Бульба» и одноименная опера Н. Лысенко и балет В. Соловьева-Седого. Способы воплощения литературного сюжета в музыкальных произведениях.
8. Стихи поэтов о весне. П. И. Чайковский «Подснежник» («Апрель»). С. Рахманинов «Вешние воды». Музыка стиха. Вокальная партия (в исполнении С. Лемешева) и аккомпанемент. Изучение литературного произведения как текста культуры требует от учителя овладения двумя видами сопоставлений словесности и музыки – внутритекстового и надтекстового. Одно искусство дополняя, продолжая другое, воздействует на новые рецепторы учащихся, служит созданию холодинамического образа. Тем самым достигается глубина восприятия текста, постижение авторской картины мира, а самое главное – происходит полноценное развитие личности читателя.
КРУГ ПОНЯТИЙ
Внешняя и внутритекстовая наглядность, суггестивность искусства, принцип музыкальной композиции, транспонирование искусств, внутритекстовая связь музыки и литературы, функции музыки в тексте, музыкальный образ эпохи, приемы сопоставления музыкального и словесного искусств.
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Раскройте специфику внешней и внутритекстовой наглядности?
2. На чем основывается глубинная связь музыки и словесного искусства?
3. С какой целью художники слова при создании своих текстов обращаются к принципам построения музыкального произведения? Приведите примеры музыкальной композиции в стихотворениях Пушкина, Лермонтова, Фета.
4. Что подразумевается под понятием «транспонирование искусств»? Какие группы приемов, направленных на выявление взаимодействия словесного и музыкального искусств, имеют место в школьной практике?
5. В чем смысл обращения к музыке на вводных уроках и уроках изучения биографии и творчества писателя? Какие приемы привлечения музыкальных произведений на таких уроках имеются в арсенале учителя?
6. Раскройте смысл обращения художника слова к музыке, вокалу в своих текстах. Назовите приемы прочтения «музыкальных страниц» литературного произведения. Определите их функции на материале одного из романов И. С. Тургенева.
7. • Обратившись к роману И. С. Тургенева «Отцы и дети», выясните в нем роль музыкального эпизода – исполнение Катей Одинцовой сонаты-фантазии c-moll Моцарта. Подумайте, какие приемы обучения вы будете использовать для истолкования этого музыкального эпизода текста. Для своих рассуждений воспользуйтесь описанием музыки Моцарта. «Фантазия» (1785) и соната (1784) были сочинены Моцартом как два самостоятельных произведения, но позднее композитор опубликовал их вместе, так как придавал особенное значение родству эмоционального содержания обоих сочинений. Фантазия строится по принципу пятичастности. Она передает развитие чувств, связанных с осознанием человеком своей судьбы. Ее характеризуют резкие переходы от праздничного настроения к драматизму. Вначале неосознанная покорность судьбе, а затем попытки найти выход, преодолеть рок. Но эти попытки обманчивы: чем светлее надежды и желания, тем более жестока неудача.
В этом и таится причина того, что творчество Моцарта стало одной из великих мировых загадок: удивительно, казалось бы, ясный и прозрачный по психологическому строю художник вызывает едва ли не максимально непонятное сложное восприятие и толкование.
Главная тема первой части сонаты – упрямо атакующий трезвучный мотив. Он передает силу судьбы, которая безжалостно подчиняет себе волю человека. А в ответном предложении – полный перелом в настроении – короткие, молящие фразы. Это контраст самым резким образом проявляется в тематизме, динамике и регистровке. Он определяет характер всей сонаты.
Adagio сонаты подобно элегии, сотканной из страстного желания и тихого страдания, это впечатление, которое осталось в глубоко раненной душе после предшествующей бури. Медленная часть сонаты наряду с ре-мажорным эпизодом в фантазии полна трогательной печали. Эти музыкальные части подобны мечте, самым искренним человеческим чувствам, которые каждому человеку надлежит испытать хотя бы раз в жизни.
По характеру музыки финал перекликается с первой частью, с которой он даже тематически родствен. Музыка, с ее неразрешающимися синкопированными задержаниями, следующими друг за другом без перерыва, приобретает характер какого-то мучительного самобичевания. Стучащее forte в завершении главной темы подстегивает еще раз прежнее упорство, однако теперь в нем есть нечто зловещее, фатальное. Часть заканчивается напористой кодой, которая не приносит ни просвета, ни тем более избавления[106].
8. Как используется музыка для создания музыкального образа эпохи? • Произведения каких композиторов вы бы привлекали на уроке по изучению темы «Модернизм в поэзии»?
9. • Раскройте приемы работы, связанные с сопоставлением литературного и музыкального произведений. Приведите в качестве примера фрагменты урока по изучению романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин» с обращением к опере П. И. Чайковского.
10. • Продумайте систему работы по взаимодействию словесного и музыкального искусств в 7 классе (по одной из базовых программ).
Глава З. Литература и изобразительные искусства
Изобразительная наглядность, ее функции и способы использования
Одним из наиболее распространенных видов связей на уроках литературы является содружество словесного и изобразительного искусств. Об использовании живописи на уроках литературы и близкородственных к ней искусств – графики и скульптуры – написано немало методических работ, и это закономерно, так как со времени появления «Великой дидактики» Я. А. Коменского принцип наглядности стал одним из основных в педагогическом процессе. Произведения живописи на уроках литературы, обладая зримой отчетливостью, позволяют учащимся конкретно представить портреты героев, их внутренний мир, быт, обстановку действия, картины жизни, исторических лиц и историческую эпоху в целом.
Функции изобразительных искусств и технология их использования в преподавании словесности в последнее время, пожалуй, наиболее полно описаны в методических пособиях B. C. Гречинской, З. С. Старковой и Е. Н. Колокольцева[107].
В первом из них рассмотрен психолого-педагогический аспект применения наглядности на уроках литературы. Прежде всего автор исходит из того, что обращение к произведениям живописи на уроках литературы предполагает наличие у школьников элементарных сведений, необходимых для полноценного восприятия и истолкования произведений изобразительных искусств. В этой связи выделяются три вида сведений: сведения о жизни и творчестве художника, к произведениям которого обращаемся на уроках, виды и жанры изобразительных искусств, их образные средства и изобразительные возможности. В каждом классе учащиеся знакомятся с творчеством нескольких художников, творчество которых наиболее продуктивно используется на уроках. Например, для 10 класса это В. Г. Перов, И. Н. Крамской, И. Е. Репин, Н. Н. Ге, И. И. Левитан.
Использование произведений на уроках литературы носит не спонтанный характер, а предполагает четко продуманную учителем систему работы. Практически к каждой изучаемой теме возможно подобрать необходимый изобразительный материал, имеющий непосредственное отношение (на уровне сюжета, пейзажей, портретов, бытовых и исторических сцен, идей, концепций, настроений) к творчеству изучаемого писателя. Это могут быть портреты писателя и его современников, героев его произведений, пейзажи, художественные иллюстрации к тексту, рисунки самих авторов. Ниже приводится пример системы использования произведений живописи на уроках литературы в 10 классе (см. с. 156).
Большое место в деятельности учителя-словесника занимает работа с художественной иллюстрацией. Вслед за B. C. Гречинской можно выделить следующие виды иллюстраций:
– иллюстрация, дающая характеристику литературному герою;
– иллюстрация психологическая, помогающая проникнуть во внутренний мир героя;
– иллюстрации к эпизодам, сценам произведения (иллюстрация сюжетная);
– иллюстрация предметно-бытовая, историческая;
– иллюстрация концептуального характера (т. е. передающая пафос произведения, его общую идею, состояние изображаемого мира).
Использование произведений изобразительных искусств на уроках словесности не только помогает проникнуть в мир произведения и его автора, но нередко создает диалог разных точек зрения на него, разных представлений о его художественном мире, героях, изображенных событиях. В этом плане показательно может быть привлечение на уроки по изучению романа Л. Н. Толстого «Война и мир» произведений В. Серова («Салон Анны Павловны»), Д. Шмаринова («Именины у Ростовых»), А. Кившенко («Совет в Филях»), В. Верещагина («На большой дороге. Отступление, бегство»), В. Прянишникова («Партизаны 1812 года»), Д. Шмаринова («Партизаны ведут пленных французов»), а также иллюстраций П. Боклевского, В. Серова, Д. Шмаринова.
В пособии из опыта работы З. С. Старковой подробно описан сам процесс уроков литературы, на которых содружество искусств создает особую эмоционально-интеллектуальную атмосферу, позволяет дать обобщенный образ определенной культурной эпохи.
Е. Н. Колокольцев значительно конкретизировал различные типы образно-опосредованной наглядности на уроках литературы, т. е. наглядности, представленной другими видами искусств, и рассмотрел разные способы работы с ней, стремясь при этом увидеть связь «внешней» наглядности с «внутренней», т. е. зримыми представлениями, которые возникают у читателя во время восприятия художественного текста.
В частности, в его книге впервые серьезное внимание уделено художественной иллюстрации. Во-первых, это рисунки самих писателей (Жуковского, Пушкина, Гоголя, Лермонтова, Тургенева, Толстого, Достоевского, Блока и др.), которые, являясь неотъемлемой частью творческого процесса, позволяют уловить смысл тех или иных художественных образов, концепцию произведения и авторское понимание многих художественно-эстетических проблем.
Второй вид иллюстрации к художественным текстам автор обозначил как «режиссерский комментарий» художника к драматургическому произведению, представляющий собой серию рисунков к тексту, в частности к комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума». Художественный «режиссерский комментарий» позволяет увидеть ход действия, конкретные его мизансцены, систему персонажей, включить иллюстрации в комментированное чтение и интерпретацию текста[108].
Еще один вид иллюстраций Е. Н. Колокольцев обозначил как своеобразное сотворчество художника с писателем, преломление его образов и художественных идей в сознании иллюстратора текста, выделяя при этом два основных типа созвучия произведений искусств – на уровне сюжетно-событийном и на символико-метафорическом уровне. Свою методику сопоставления иллюстраций автор пособия построил на материале рисунков Н. В. Кузьмина к «Евгению Онегину» и ДА. Шмаринова к «Войне и миру», справедливо заметив, что первый, изображая героев и события романа, больше стремился овладеть техникой, характерной для пушкинских рисунков, и тем самым как бы выступил сотворцом Пушкина-художника. Использование иллюстраций ДА. Шмаринова способствует глубокому проникновению учащихся во внутренний мир героев Толстого. Художнику удалось создать портреты персонажей в типичной для них обстановке в минуты душевного напряжения. Достаточно подробно рассматриваются автором данного пособия и такие формы работы с иллюстрациями, как привлечение иллюстраций при изучении биографии писателя и лирических произведений, использование произведений изобразительных искусств для скрытого анализа литературных текстов.
Внутренняя связь литературы и живописи. Изобразительность литературы
Литературный текст как творение, обращен к разным искусствам, являет собой универсальную форму эстетического сознания. Об этой синтетичности мышления писателя очень хорошо в свое время сказал А. Блок: «Россия – молодая страна, и культура ее синтетическая культура. ‹…› Так же, как неразлучимы в России живопись, музыка, проза, поэзия, неотлучимы от них и друг от друга – философия, религия, общественность, даже политика» (VI, 175–176). Эту же мысль о взаимовлиянии искусств, о закономерностях обращения писателя к средствам живописи высказал он в известной своей статье «Краски и слова» (1905): «…разве не выход для писателя – понимание зрительных впечатлений, уменье смотреть? Действие света и цвета освободительно. Оно улегчает душу, рождает прекрасную мысль» (V, 22).
Внутренняя связь литературы с живописью проявляется в том, что писатель, запечатлевая зрительные ощущения, создает иконописные образы, опираясь на ассоциации, контекст, слова-символы, переносное значение слова. Слово, таким образом, в художественном тексте выступает условным знаком предметов и понятий, в то время как в изобразительном искусстве художник передает зримые подобия изображаемых предметов при помощи красок, линий, тонов, цвета. Это опосредованно-визуальное свойство литературы называют пластикой. Микеланджело высказал в свое время очень интересную мысль о сходстве поэзии и живописи: «Между живописью и поэзией существует поразительное сходство; это, конечно, и дало основание назвать одно из этих искусств немой поэзией, другое – говорящей живописью»[109]. Визуальные образы ориентированы на зрительные ассоциации реципиента, работу его образного мышления, воссоздающего и творческого воображения, в то время как музыкальные образы больше воздействуют на слуховые рецепторы. Данное свойство художественного текста подсказывает способы работы с ним в процессе восприятия и анализа-интерпретации.
Способы работы со словесными пластическими образами
На стадии первоначального восприятия зрительных образов текста необходимо добиться их конкретизации, так как в словесном искусстве то, что «поражает нас яркой изобразительностью, при внимательном анализе оказывается в большей мере яркой выразительностью, то есть силой переживания, осознания предмета, а не силой его изображения»[110]. Так, например, при чрезвычайной насыщенности образами весны известное фетовское стихотворение «Это утро, радость эта…», хотя и вызывает в воображении читателя ленту образов весны, все же больше оно передает движение чувств лирического героя; его настроение, ассоциативно вызванное весной, становится пейзажем его души.
Даже в тех случаях, когда, как кажется, художественный текст захватывает силой чувственно-зрительных картин, все равно изобразительность здесь не прямая, а опосредованная, так как словесные пластические образы всегда воспринимаются ассоциативно и связаны с субъективным восприятием реципиента. Поэтому, чтобы развернуть, конкретизировать изображенные автором картины, необходимо использовать такие приемы активизации восприятия, которые способствуют работе ассоциативного мышления, воображения. В связи с этим в методике принято сближать школьный анализ текста с законами художественного мышления. Раскроем данные приемы на примере изучения стихотворения Пушкина «Зимнее утро», исходя из главной цели урока: помочь учащимся увидеть в пушкинском стихотворении красоту и очарование зимнего утра, алмазной русской зимы, почувствовать ее праздничную атмосферу, торжество солнца, света над мглой и мраком. Первым приемом, действующим на читательские зрительные ассоциации, было написание учащимися домашнего сочинения о зимнем утре. Оно явилось личностным читательским контекстом для восприятия стихотворения. После выразительного чтения пушкинского шедевра определялось название пяти картин стихотворения, созданных пятью пушкинскими строфами. Затем выяснялось состояние лирического героя и «компоненты» движения его настроения.
Ярче представить картину зимнего утра, конкретизировать впечатления учащихся поможет репродукция картины Б. Кустодиева «Морозный день». Учащиеся отмечают, что она, как и пушкинское стихотворение, вызывает ощущение душевного подъема, радости, прилива бодрости. На ней визуально посредством сочетания холодных цветов (голубого и белого) и теплых (янтарного и золотого) запечатлен пушкинский образ «мороза и солнца». Вместе с тем это разные картины зимы. В поэтическом тексте она увидена из окна деревенского дома, а на картине Кустодиева показана посредством описания уголка небольшого провинциального русского города: поднимается ввысь яркое, горячее солнце, заливая своим янтарным светом небо, дома и колокольню небольшой церквушки. В синем инее, словно завороженные, стоят деревья. По занесенной снегом улице резво скачут сани с красивой четой.
Рассматривание кустодиевской картины активизирует работу воображения учащихся, включает все новые и новые ассоциации. Возвращаясь вновь к пушкинскому тексту, они более конкретно и зримо разворачивают в своем сознании картины зимы, какими они их увидели в стихотворении. Создается своеобразная «лента видений». Приводим один из вариантов такой «ленты», созданной в процессе коллективного труда. (У каждого ученика могут быть свои субъективные зрительные ассоциации.)
Картина 1. Утро. Через закрытые шторы в комнату проникают солнечные лучи. Лирический герой (молодой, красивый человек в белоснежной рубахе) подбегает к окну и раздвигает шторы. Всю комнату заливает яркий солнечный свет. Лицо молодого человека сияет от переполняемого его восторга, и он с воодушевлением обращается к своей подруге, которая еще нежится в постели.
Картина 2 (дана как воспоминание). Еще не поздно, но в комнате уже сумерки. Ветер воет и бросает в окно снежные хлопья. Становится все темнее и темнее. Страшно: ревет ветер, мрачное мутное небо, лишь изредка, как желтое пятно, появляется луна и вновь скрывается за черной мглой.
Картина 3 (вновь зимнее утро). Вид из окна. Чистое, голубое небо, алмазным блеском сияет снег, лежащий повсюду толстым ковром. Вдали синеет река, чернеет лес, кое-где зеленеют елочки.
Картина 4. Залитая солнцем комната. Трещит затопленная печь, блики от огня пляшут на стене. Возникает ощущение тепла и уюта.
Картина 5. По зимней дороге несутся сани, из-под копыт лошади летит снег. В санях, укутанные в шубы, оживленно разговаривая, сидят молодой человек и его подруга. Мелькают поля, лес; сани подъезжают к берегу реки. Разговор обрывается, лицо молодого человека становится грустным.
Изобразительные ассоциации усиливают выразительные, чувственные ассоциации учащихся, помогают представить состояние души лирического героя. Обращение к другим пушкинским текстам о зиме позволяет выйти к его концепции зимы, по-своему волшебной и очаровательной, с ее необычными красками, ощущениями. Она может знаменовать и мрак, оцепенение, даже смерть и пробуждение новых чувств, зарождение новой жизни, победу солнца, света в морозные январские дни и часы февральской лазури над мраком, тьмой.
У каждого писателя имеются свои приемы и способы изображения, создания картин жизни, пейзажей, портретов героев, бытовых сцен. Они определяются как творческим методом писателя, так и литературной школой, направлением, к которым он принадлежит. Все это необходимо учитывать в процессе анализа текста. Так, у романтиков и символистов изобразительная сторона часто уступает музыкальной, хотя в их стремлении к синтезу живопись рассматривалась как искусство, обладающее своей особой музыкальностью: созвучием ритмов, тонов, красок, цветовой гаммой, певучестью линий, цветовой гармонией. И наиболее убедительным примером этому могут служить «музыкальные картины» М. Чюрлениса: «Фуга», «Соната моря», «Соната солнца».
Реалисты в своем стремлении к конкретности показа жизни больше внимания уделяют предметности бытия. Эту предметность, вещественность, трехмерность мира акмеисты возносят до концептуального уровня, делая ее знаками, символами культуры.
Авторские приемы изобразительного письма
Можно говорить и об особенностях «изобразительного письма» каждого писателя и поэта в отдельности. Пушкинские картины кратки, но чрезвычайно емки, динамичны. Одна картина сменяет другую. И классический пример этому знаменитое пушкинское описание весны, отрывок из «Евгения Онегина»: «Гонимы вешними лучами…».
Гоголь на изобразительном уровне соединяет эпическо-этнографическую детализацию, прежде всего в описаниях быта, с грандиозностью, пышностью, величавостью и динамичностью, свойственным эстетике барокко, в пейзажах и героических картинах. В этой связи можно привести ряд примеров грандиозных гоголевских пейзажей из «Вечеров на хуторе близ Диканьки» и «Миргорода», а также героических сцен описаний битвы в «Тарасе Бульбе». Пейзажи Гоголя не только видишь как широкие полотна, но и слышишь их ритм, музыку, то торжественно-величавую, то уныло-протяжную. Во втором томе «Мертвых душ» характер пейзажа меняется. Он лишается своей монументальности и приобретает большую реалистическую конкретность. Меняется как бы сам вид, тип изобразительного «мазка»: вместо широких полос автор использует более частые мазки.
Монументальность и торжественность стиля описаний использует писатель и в сатирических сценах для создания комического эффекта. Учащиеся очень хорошо чувствуют эту особенность гоголевского письма и охотно пародируют, используя «гомеровский слог», сцены из поэмы «Мертвые души». К примеру, приводим одну из таких пародий:
«Обед у Собакевича»
Муза, воспой, как два уважаемых обществом мужа
Обед поглощали обильный долго, размеренно, чинно.
Три неспешно тарелки откушав борща с потрохами,
Бок бараний с блинами доели, запивая его оковитой.
А затем от стола отвалили, почуя пудовые гири в желудке,
И всхрапнули немного, от трудов утомившись великих.
Есть услада в еде, это признано теми, кто смог насладиться,
Испытав многократно эту радость пирующей плоти.
Удивительно пластичны и музыкальны пейзажи Тургенева. В них предстает перед взором читателя природа в тончайших нюансах и изменениях. Видишь не только картины, но и слышишь звуки, ощущаешь запахи. Все дышит, движется, живет, разворачивается во времени и пространстве, одна картина сменяет другую. Его пейзажи создают хронотоп действия, передают жизнь души героев, открывают красоту мира, говорят о мгновенности, краткости человеческой жизни. Можно говорить о движении писателя в изображении пейзажа к эстетике импрессионизма. Некоторые его пейзажи звучат как стихи в прозе, как поэма о лирическом герое, открывающем и постигающем природный мир и мир своей души.
Примером такого пейзажа может быть начало рассказа «Свидание». Он изучается в средних классах, и на его материале можно открыть учащимся красоту и поэзию тургеневского пейзажа. Как показывает опыт, дети нередко при чтении этого рассказа пейзаж пропускают или читают его очень невнимательно, так как их сознание не подготовлено к восприятию такого развернутого описания природы, оно не успевает за авторскими картинами и непроизвольно отключается. Поэтому необходимо использовать разные способы включения ассоциаций школьников, активизации работы их воображения. Сначала пейзаж разбивается на части, дается название каждой из них, затем учащиеся его выразительно читают, наблюдая за сменой «кадров», ракурсов видения. Для этого учащимся необходимо представить себя в этом пейзаже, постараться побыть на месте рассказчика.
Для анализа изобразительно-выразительных средств можно выделить два объекта: описание березовой и осиновой рощ. Учащиеся наблюдают за движением света и способами передачи освещения автором, сменой кадров, планов изображения, движением настроения. Дома к разным «кадрам» пейзажа они рисуют свои иллюстрации или фантазируют по мотивам тургеневского пейзажа. Завершается работа над пейзажем «Свидания» его выразительным чтением и выделением средств изобразительности. В заключение, отталкиваясь от данного пейзажа, учащиеся создают свои сочинения-миниатюры.
Для закрепления приобретенных умений школьникам уместно предложить самостоятельно проанализировать утренний пейзаж в финале рассказа «Бежин луг», обратив особое внимание на изображение света и воздуха, цветов меняющегося неба. При этом пейзажную стилистику Тургенева целесообразно сравнить со стилистикой художника Коро, пейзажи которого очень любил писатель и даже приобретал их для своей собственной художественной коллекции. Картины певца предрассветной мглы и гаснувших закатов, его трепетная гамма красок, как замечают учащиеся, очень напоминают изобразительную манеру русского писателя, хотя его колорит значительно ярче, чем у Коро, что нетрудно увидеть в таком рассказе, как «Лес и степь». Описанная система работы позволяет добиться нового качественного уровня усвоения тургеневского пейзажа.
Если природоописания в литературных текстах продуктивнее всего сопоставлять с живописными пейзажами, то портреты персонажей – с портретной живописью. Такие сопоставления позволяют учащимся ярче выявить изобразительную манеру художника слова, особенности его таланта. Так, у Тургенева описание внешности героев хотя и является одним из основных средств выражения их психологии, но отличается большей статичностью, чем описания пейзажа. Вот почему у него нередко менее сложные по своему внутреннему миру герои получают более развернутые характеристики по сравнению с натурами глубокими, хотя в портретах первых передано не столько индивидуально-личностное, сколько типичное для данной категории людей. Примером такого описания может быть портрет Сергея Петровича Гедеоновского в «Дворянском гнезде»: «Вошел человек высокого роста, в опрятном сюртуке, коротеньких панталонах, серых замшевых перчатках и двух галстухах – одном черном сверху, другом белом снизу. Все в нем дышало приличием и пристойностью, начиная с благообразного лица и гладко причесанных висков до сапогов без каблуков и без скрипу» (VI, 10).
В то же время в первом представлении автором главной героини – Лизы Калитиной – описания внешности сведены до минимума, это просто штрихи к портрету: «…на пороге другой двери показалась стройная, высокая черноволосая девушка лет девятнадцати – старшая дочь Марьи Дмитриевны, Лиза» (VI, 14). Зато описание внутреннего мира героини, ее психологического склада несравненно более развернуто, причем оно дается уже после того, как читатель достаточно хорошо познакомился с ней. Психологический портрет приобретает мотивированность, выполняет функцию некоего характерологического обобщения: «Она была очень мила, сама того не зная. В каждом ее движенье высказывалась невольная, неловкая грация; голос ее звучал серебром нетронутой юности, малейшее ощущение удовольствия вызывало привлекательную улыбку на ее губы, придавало глубокий блеск и какую-то тайную ласковость ее засветившимся глазам. Вся проникнутая чувством долга, боязнью оскорбить кого бы то ни было, с сердцем добрым и кротким, она любила всех и никого в особенности; она любила одного бога восторженно, робко, нежно» (VI, 113).
Даже в психологическом портрете Тургенев больше передает постоянные свойства натуры своих героев. Мимолетную жизнь их души главным образом запечатлевают штрихи к портрету: бледные губы, пальцы бледных рук, прижатых к лицу, едва внятный звук, срывающийся с губ, дрожь тела, дрожание ресниц. За каждой деталью множество нюансов душевных переживаний героев, целая гамма чувств, которые необходимо помочь учащимся прочитать в каждой конкретной психологической ситуации. Тургенев ждет от своего читателя сотворчества, реконструкции движения мыслей и чувств своих героев, что требует в процессе изучения его произведений использования приемов драматизации текста, вживания в эти психологические ситуации.
Совсем другое свойство имеет талант Гончарова. В своих описаниях он стремится к полному, детальному охвату изображаемого. Особо можно говорить о пластичности портретов его героев. Он не только дает их развернутые описания, но и старается запечатлеть движение настроения, чувств и мыслей, изобразить то едва уловимое мерцание жизни души, что делает людей одухотворенными, живыми. Писатель словно спорит с художником и даже скульптором по силе своего изображения. Вот, например, портрет главного героя «Обрыва» Райского, с представления которого начинается роман: «У Бориса Павловича была живая, чрезвычайно подвижная физиономия. С первого взгляда он казался моложе своих лет: большой белый лоб блистал свежестью, глаза менялись, то загорались мыслию, чувством, веселостью, то задумывались мечтательно, и тогда казались молодыми, почти юношескими. Иногда же смотрели они зрело, устало, скучно и обличали возраст своего хозяина. Около глаз собирались даже три легкие морщины, эти неизгладимые знаки времени и опыта. Гладкие черные волосы падали на затылок и на уши, а в висках серебрилось несколько белых волос. Щеки, так же как и лоб, около глаз и рта сохранили еще молодые цвета, но у висков и около подбородка цвет был изжелта-смугловатый…. рот его сохранял, в неуловимой игре тонких губ и в улыбке, молодое, свежее, иногда почти детское выражение» (V, 7).
Как видим, в изображении своего героя Гончаров проявляет себя как тончайший психолог, физиономист. Он «рисует» лицо Райского как живое, чрезвычайно подвижное, находя необыкновенно точные средства изобразительности и мимической экспрессии. Несмотря на то, что это портрет словесный, как и все литературные описания, он, кажется, не уступает тонко выполненному живописному полотну. Своеобразным центром своей выразительности писатель сделал глаза героя. Сколько нюансов и тончайших психологических изменений они выражают! Столь же подробно обрисована область лица «около глаз».
Писатель по нескольку раз обращается к лицам своих главных героев, всякий раз находя в них что-то новое, неожиданное, неуловимое. Возникает целая галерея портретов персонажей (например, Обломова, Веры), которые запечатлевают стадии жизни их души.
От читателя при чтении произведений Гончарова требуются другие качества, чем при чтении Тургенева: воспринять в нюансах полноту изображенного, осмыслить его психологическую, обобщенно-символическую и даже философскую сторону, сопоставляя, сравнивая при этом разные портреты, которые действительно предстают в сознании как законченные картины. Если литературную манеру изображения сопоставить с живописью, то психологические портреты Тургенева будут ближе к акварели, а Гончарова – к масляным полотнам, причем к последним нет необходимости рисовать иллюстрации, так как писатель фактически лишил иллюстратора его же изобразительных средств, описав их подробно словом.
Эту особую пластичность, удивительную точность и рельефность в обрисовке персонажей (их внешности, костюма, обстановки, в которой они живут, деталей быта), характерную для стиля Гончарова, отмечали многие исследователи, а первым среди них был В. Г. Белинский, который в рецензии на «Обыкновенную историю» (1847) писал, что Гончаров «рисует (курсив мой. – В.Д.) свои фигуры, характеры, сцены, прежде всего для того, чтобы удовлетворить своей потребности и насладиться своею способностью рисовать ‹…› Главная сила таланта Г. Гончарова – всегда – в изящности и тонкости кисти, верности рисунка…»[111].
После рецензии А. В. Дружинина на роман «Обломов» стало общепринятым сопоставлять манеру письма русского писателя с живописцами фламандской школы, которая видится в обстоятельности описания, разработанности деталей, точности рисунка, сочности красок, рельефности изображения. Поэтому школьное изучение творчества Гончарова, учитывая своеобразие его творческой манеры, должно использовать такие приемы анализа, которые бы раскрывали эту яркую сторону его мастерства. Таким образом, литературные портреты героев романов писателя можно использовать как внутреннюю наглядность для более глубокого постижения обстоятельств их жизни и «диалектики души». С этой целью отбирается несколько портретов литературных персонажей и проводится своеобразная экскурсия в «картинную галерею». Выразительно прочитываются литературные портреты, отгадываются эпизоды романа, к которым они относятся, реконструируются обстоятельства и весь жизненный фон, который окружает того или иного героя в данных обстоятельствах, а затем при помощи портрета учащиеся стараются понять душевное состояние персонажа и движение авторской мысли о нем.
Выше было приведено всего несколько примеров использования писателями приемов «рисования» портретов и пейзажей, идущих от изобразительного искусства, знание которых позволяет читателю ярче воспринять текст, постичь авторские способы создания картин жизни мира и человеческой души. Вместе с тем следует заметить, что есть писатели (как, например, Достоевский), у которых изобразительность всецело косвенная, основанная на ассоциациях и рождается посредством монологов и диалогов героев.
Связь литературы и живописи по общей тематике и мотивам изображения
Следующий способ связи литературы и живописи можно обозначить как связь по тематике и мотивам изображения, при которой взаимодействие искусства слова с другими искусствами «скрывается в глубине творческого замысла» авторов[112], их мироощущении и миропредставлении. Наиболее прозрачный пример такой связи – близость многих произведений НА. Некрасова с их достоверными бытовыми деталями к полотнам передвижников. В этом плане уже традиционным стало сопоставление картины В. Г. Перова «Похороны крестьянина» с эпизодами смерти и похорон Прокла в поэме Некрасова «Мороз, Красный нос», не случайно репродукция этой картины давно используется в качестве иллюстрации к некрасовскому произведению в учебнике-хрестоматии.
Нередко перекличка тем, мотивов и сюжетов литературного текста и произведения изобразительного искусства обусловлена тем, что художник создает свою картину по мотивам первого: например, картина В. Е. Маковского «Ночное», несомненно, ассоциируется с рассказом Тургенева «Бежин луг», а картина В. Г. Перова «Родители на могиле сына» с финальной сценой романа И. С. Тургенева «Отцы и дети». В этом случае художник выступает не как прямой иллюстратор, а соавтор и нередко и оппонент писателя. Для него важен не живописный комментарий к эпизодам, сценам произведения или изображение бытовых деталей, обстановки действия, а свое видение мира, понимание фактов и явлений бытия.
В указанных примерах это чарующая, пугающая атмосфера ночи и безутешное горе родителей, сломленных безжалостной судьбой. Поэтому и сама методика сопоставления произведений разных искусств, близких по тематике и мотивам, должна быть иной, чем использование иллюстраций на уроках литературы. В основе ее – взгляд автора на мир, выражение духа времени и концепции бытия посредством специфических для каждого вида искусства средств: для писателя это сюжет, композиция, словесные образы и способы выражения авторской позиции, а для художника – цвет, колорит, освещение, характер линий, выбор сюжета, плана, отбор художественных деталей, композиция.
Такое сопоставление предполагает определенную последовательность учебных действий: выяснение характера связи между произведением живописи и литературным текстом (по тематике, мотиву, картине жизни), анализ-интерпретация произведений разных искусств, установление общего и отличительного в мироощущении и мировидении их авторов. Конечно, такое сопоставление возможно лишь в старших классах, когда учащиеся знакомятся на концептуальном, философско-мировоззренческом уровне с творчеством того или иного писателя. В средних классах это сближение осуществляется больше на уровне тематики, общности мотивов, мироощущения авторов.
Так, на одном из вводных уроков по поэзии «серебряного века» на уровне мотивов возможно сопоставление стихотворений А. Белого «Объяснение в любви», «Менуэт», «Променад» из цикла «Прежде и теперь» с картинами мироискусников: К. Сомова («Осмеянный поцелуй», «Дама в голубом»), А. Бенуа («Прогулка короля»), Е. Лансере («Императрица Елизавета Петровна в Царском Селе»). В данном случае не случайно названо несколько картин художников из объединения «Мир искусства», изображающих разные сцены жизни. Здесь нет прямых перекличек сюжетов. Но все они, как и стихотворения А. Белого, изображают ушедшую былую жизнь XVIII века с чопорными дамами и кавалерами в напудренных париках и платьях старинных фасонов, т. е. жизнь театральную, церемониальную, неестественную. Действие происходит в старинных классических парках. В нем участвуют персонажи, напоминающие кукол, изображенные в заученно-манерных позах. Перекличка здесь между произведениями разных искусств осуществляется на уровне целостного создания картины жизни, в которой есть и ностальгия по прошлому, и ирония, и пародия, и игра.
И эту перекличку искусств очень хорошо чувствуют юные читатели. В своих рецензиях на стихотворения поэта-символиста они отмечают, что у них создается впечатление, словно произведения А. Белого написаны по мотивам мироискусников. Автор изображает знакомые сцены прогулок, театрализованного танца, классического объяснения в любви, где все – «привычно заученная роль». Поэт достигает высокой живописности, «картинности» изображения, потому что картинна сама воспроизведенная в них жизнь, а в ритме стихов словно слышится музыка менуэта, извлекаемая из старинного клавесина, который упоминается в тексте «Объяснение в любви».
«Театральность» картин мироискусников и стихотворений А. Белого вместе с тем передает атмосферу «театральности» самой жизни российской богемы начала века, которая, предощущая грядущие катастрофы XX в., создавала искусство, содержанием которого было оно само, не грубая, не живая жизнь, а жизнь искусственно смоделированная. Этим объясняется во многом и необычайный расцвет в начале века театрального искусства, в котором виделся высший синтез искусств. Можно сказать, что творческая деятельность практически всех мироискусников, и прежде всего Л. С. Бакста как выдающегося создателя театральных костюмов и декораций к спектаклям, была связана с театром.
По законам театральных жанров создавались и функционировали многочисленные артистические кабаре и театры миниатюр, ставшие своеобразными знаками русской культурной жизни начала XX в. В них поэты и художники знакомили со своими новыми творениями. Здесь, в атмосфере споров, а часто и литературных скандалов (вспомним литературные эпатажи футуристов) формировались и заявляли о себе разные поэтические группы. Такие кабаре и театры миниатюр и являли собой удивительный синтез искусств, в том числе и прикладных: поэзии, живописи, театрального и эстрадного искусства, музыки, моды. Поэтому одной из удачных форм проведения вводных и заключительных уроков по русскому модернизму, позволяющих в какой-то степени почувствовать атмосферу художественной жизни начала века, могут быть уроки, по жанру напоминающие собой заседания и встречи в артистических кабаре.
«Театральность» коснулась и сути самого творчества поэтов «серебряного века». Лучшее подтверждение этому – ряд произведений А. Блока, созданных в самый театральный период его творчества, начиная со знаменитого «Балаганчика». Небольшая, но очень важная пьеса, раскрывающая сложный этап в творческой эволюции поэта периода его отхода от мистики, несомненно, должна быть знакома учащимся выпускного класса. Трагикомический характер «Балаганчика» может быть хорошо понят лишь в контексте литературно-театральной жизни эпохи. А вместе с тем и сама атмосфера эпохи прочитывается посредством пьесы Блока. В этой связи обращение к эскизам костюмов Пьеро, Арлекина, Коломбины или других героев «арлекинаиды» (в рисунках Н. Сапунова, С. Судейкина, Л. Бакста). Она стала для символистов одной из основных мифологем и наряду с рассказом о театральной истории постановки пьесы В. Мейерхольдом является не просто иллюстративным материалом, а демонстрирует интегративную связь искусств, вместе воссоздающих образ эпохи. Продолжением такого урока может стать постановка «Балаганчика» в исполнении учащихся.
Диалог литературного текста и произведения изобразительного искусства
Еще один вид взаимодействия литературы и живописи представляет собой прочтение литературного текста как своеобразного диалога с произведением изобразительного искусства, созданного по одному и тому же сюжету, образу или мотиву культуры. Такое сопоставление позволяет раскрыть внутренние изобразительные возможности каждого вида искусства, интерпретировать литературный текст через контекст произведения живописи. Раскроем это на материале прочтения некоторых произведений А. Блока, для которых своеобразным контекстом является творчество М. Врубеля.
Нет необходимости обосновывать правомерность такого контекста, так как Врубель воспринимался символистами, и прежде всего Блоком, как своего рода старший брат, с которым у них было много общего, родственного. Художник был для Блока знаком эпохи, человеком, отразившим в сине-лиловых красках напряженно-беспокойное время, свою тоску по невоплощенной гармонии. Врубель был для поэта гением, которого до конца не поняли при его жизни. Об этом Блок говорил в своей речи на похоронах художника, из которой потом родилась его статья «Памяти Врубеля». Поэт нередко сопоставлял себя с Врубелем, смотрел на многое сквозь призму его цветов и ассоциаций, и свидетельство тому – аллюзии в его известной речи «О современном состоянии русского символизма». Но главное указание на близость двух этих художественных миров содержится в самом творчестве Блока. Возможно выделить ряд таких сближений. Остановимся лишь на двух примерах. Первый из них – это ассоциативная связь стихотворения А. Блока «Плачет ребенок. Под лунным серпом…» из цикла «Распутья» (1906) с картиной М. Врубеля «Пан» (1899). Анализ данного текста позволяет раскрыть учащимся то новое видение мира, которое было характерно для поэта после его прощания с Прекрасной Дамой. Поэт открывает в это время сказочную, загадочную Русь, в которой, наряду со светлыми образами, существуют злые, колдовские силы (воплощенные в образах ведьм, ведунов, русалок, леших), пугающие и одновременно влекущие к себе своей тайной. Таким предстает мир в рассматриваемом стихотворении.
При чтении текста возникает настроение беспокойства, тревоги и напряженного ожидания. Одновременно хочется понять, что собой представляют загадочно-устрашающие мифические существа – «горбун», «косматый», «бледные девушки». Здесь возникают две группы ассоциаций. Одна связана с греческой мифологией: «горбун» – сатир, «косматый» – пан, «бледные девушки» – нимфы; другая восходит к национальному сказочному миру, населенному мифологическими существами (хотя упоминание о «серебристой трубе» – явная аллюзия с трубой пана, который, как известно, даже вызывал на соревнования самого Аполлона). Впрочем, и сатиры играли на духовых инструментах, поэтому их часто изображали с трубой. У Блока античные и славянские мифологические образы резко не разграничены, так как они означают одни и те же природные силы, вместе с тем явно просматривается национальный колорит. В стихотворении «Русь» эти демонические силы заявлены еще более определенно:
… ведуны с ворожеями Чаруют злаки на полях, И ведьмы тешатся с чертями В дорожних снеговых столбах (II, 106).Обращение к врубелевскому Пану позволяет зримо, конкретно представить мир стихотворения Блока, раскрыть его неопределенное «кто-то». Открывается, что многое в стихотворении поэта словно взято из мира Врубеля, и учащиеся легко находят эти общие детали и образы. Прежде всего само художественное пространство стихотворения очень напоминает врубелевское: это российские перелески, рощицы, поля и луга. Даже месяц двурогий садится за рощу куда-то в поля (в стихотворении «Месяц упал в озаренные злаки» – I, 306). Но самое главное – это образ «косматого», т. е. Пана. Когда Блок писал свое стихотворение, он словно видел перед собой врубелевского героя. Художник не только переместил его из античной на национальную почву, но и наделил русскими чертами: мясистый славянский нос, голубые глаза, в глубине которых затаенная усмешка. Созвучны и краски этих двух произведений: бледно-холодные тона ночи и кроваво-красные отблески вокруг серпа месяца, они передают состояние тревоги и тайны. Но Блок не ограничился лишь поэтическим описанием образа Пана. Он ввел в текст стихотворения, как уже было сказано, и других мифологических героев, развернул картины, используя преимущества словесного искусства, во времени, включил природные божества в единое действие ночных стихий. При этом, прибегнув к кольцевой композиции, он в конце стихотворения опять напомнил о первоначальных мотивах стихотворения. Снова возник плач ребенка, как бы сообщая, что тревожное состояние мира не снято, наоборот, оно еще больше усиливается, так как «в роще косматый беззвучно дрожит» (I, 306). Дрожит то ли от холода, то ли от страха, жути. Усиливает это гнетущее состояние и приближение трубы, и наступивший полный мрак после заката луны. Оказывается, в этом мире, где действуют демонические силы, нет ощущения покоя и той беззаботной веселости, которые были присущи этим существам в античности. Все эти уродцы: «косматые», «горбатые», «бледные девы» – ощущают себя незащищенными и неприкаянными.
На картине Врубеля изображен лишь один эпизод, который перекликается со сценой описания «косматого» в роще, но и она передает то же состояние мира природы и самого героя картины. В этот сложный период движения Блока от сказочной Руси (рассматриваемой больше всего в мифологическом, народно-поэтическом контексте) к России Врубель из всех русских художников оказался наиболее близок поэту по своему мироощущению. Это можно было бы показать и на материале других сопоставлений, например врубелевской картины «Царевна-Лебедь» со сказочными образами «необычайной» красоты девушки-Руси.
Ярким примером своеобразного творческого диалога между поэтом и художником может быть Демон Врубеля и Блока. Хотя стихотворение «Демон» (19 апреля 1910 г.)[113] и не включено ни в одну из программ для выпускного класса, факультативно оно может быть рассмотрено как развитие этой лермонтовской темы в творчестве Блока, тем более что помещено оно в один из самых главных его циклов «Страшный мир». По признанию самого поэта, как раз в период написания им «Демона», самый безысходный период жизни, он во многом смотрел на мир сквозь призму «лиловых миров» Врубеля: «… мой собственный волшебный мир стал ареной моих личных действий, моим «анатомическим» театром, или балаганом ‹…› Золотой меч погас, лиловые миры хлынули мне в сердце….я не различаю жизни, сна и смерти, этого мира и иных миров…» (V, 429). И далее: «Если бы я обладал средствами Врубеля, я бы создал бы Демона; но всякий делает, что ему назначено» (V, 430).
Блок в это время демонстративно воспевает зло, демонические силы. Даже его «Незнакомка» (в школе она почему-то традиционно трактуется как явление прекрасных миров в пошлой обстановке загородного ресторана) «это вовсе не дама в черном платье со страусовыми перьями на шляпе. Это – дьявольский сплав из многих миров, преимущественно синего и лилового» (V, 430). Сказанное выше говорит о том, что мотив Демона в творчестве Блока необходимо рассматривать в комплексе его работ, а не выдергивать лишь один его текст.
Сопоставляя блоковского героя с героями картин Врубеля, предлагаем учащимся среди демонов художника найти того, который ближе всего к поэтическому демону. Так как краткая справка о картинах Врубеля на эту тему была им сообщена заранее, то они без сомнения называют «Демона поверженного» (1902). В качестве аргументов приводятся как отдельные строки, указывающие на «поверженность» Демона («плети изломанных рук», «я, горний, навеки без сил…» III, 26), так и внутренний монолог в целом, раскрывающий надломленность лирического героя стихотворения.
Затем сопоставление осуществляется более конкретно с учетом специфики каждого из искусств на уровне лирического сюжета, отдельных мотивов, образных средств и мироконцепции в целом. Обнаруживается прежде всего, что и Блок, и Врубель изображают Демона лежащим на «дымно-лиловых горах». Художник рисует своим знаменитым «орнаментальным» мазком распластанное тело Демона на горном хребте. На заднем плане бесконечно простираются «сине-лиловые горы», обозначающие хаос. Сломленные крылья тянутся куда-то далеко к горной снеговой вершине. Вокруг тела разбросаны крупные золотисто-лиловые перья – свидетельство крушения. Плети рук бессильно обвили приподнятую голову. В пронзительном, гордом взгляде безысходная скорбь. По мнению искусствоведа Д. Сарабьянова, врубелевский Демон поверженный выражает «борьбу с судьбой, угнетающей личность, в конце концов убивающей ее. Герой сопротивляется до конца. Образ его смерти – и реквием, и своеобразный гимн сопротивлению. В этом гимне что-то торжественное, возвышающее»[114].
Поэт «рисует» при помощи слов и образов, связанных со зрительными ощущениями, которые требуют от читателя довообразить, представить общую картину. Много поэтических деталей стихотворения и его цветовая гамма ассоциируются с врубелевской картиной. Но блоковский Демон другой. Он сам признает свою слабость и обреченность и лишен той исступленной гордости, которую мы читаем в глазах врубелевского Демона. Перед нами Демон смертный, напоминающий сломленных героев цикла «Страшный мир». Он страдает, жалуется на судьбу, как простой человек, ищет тепла и ласки, «устав блуждать среди чужих» (III, 26).
Композиционно стихотворение включает в себя исповедь-бред лирического героя и его навязчивый сон о Тамаре. Стихотворный текст не только полон лермонтовских реминисценций, но и сам мотив сна как художественный прием восходит к поэтике русского классика, даже повторяется конструкция: «и снится…». Это и сон сосны о далекой пальме, с которой ей никогда не встретиться («На севере диком стоит одиноко…»), и «мертвый сон» героя стихотворения «В полдневный жар в долине Дагестана…» («Сон»).
Таким образом, при первом ассоциативном сходстве двух этих Демонов открывается их различие, обусловленное мировидением двух художников.
«Живописность» стиля писателя
Интегративные связи между произведениями живописи и литературы, разными видами образности определяются характером мироощущений художников, их мироконцепций и своеобразием художественного стиля. Интересное явление в этом плане представляет творчество раннего Маяковского. Живопись изначально стала определять его художественный метод. Прямо не обозначая своих чувств, поэт выражает себя в создаваемом словом зримом живописном образе. Это обнаружилось уже в его первом дошедшем до нас стихотворении «Ночь». Поэтому и первая встреча с поэтом может начаться посредством знакомства с особенностями его «живописного стиля». Здесь нужна определенная система работы с текстом, чтобы изначально стихи Маяковского не показались какой-то бессмыслицей. Читая упомянутое стихотворение, обратим внимание учащихся на то, что поэт, стремясь живописать словом, вместо слов-образов, передающих состояние души лирического героя, использует слова-образы, обозначающие цвета, краски, за которыми нужно увидеть реальные предметы и явления.
Багровый и белый отброшен и скомкан, в зеленый бросали горстями дукаты, а черным ладоням сбежавшихся окон раздали горящие желтые карты (I, 11).Если при анализе стихотворений других авторов необходимо было довоссоздать недостающие зрительные картины, чтобы ярче представить художественное пространство действия, то в данном случае, наоборот, возникла потребность расшифровать эти пластические образы: «багровый» – вечер, «белый» – день, «зеленый» – растительный мир, вечерние окна – «желтые карты». Это вовсе, конечно, не означает, что стихотворение Маяковского не требует работы воображения: воспринимающему текст надо за красками и их сменой увидеть развернутую картину наступления ночи. Но в данном случае движение воображения осуществляется от одного типа изобразительности к другому, поэтому выразительность кажется не прямой, а опосредованной зрительными образами. Город возникает в стихотворении как гигантский, неизвестно кем нарисованный натюрморт. Вот почему учащиеся охотно выполняют задание представить в рисунках первую строфу текста как свой вариант этого натюрморта.
На следующем этапе работы с живописными образами стихотворения обращаем внимание на их предметность, «вещественность»: «Толпа – пестрошерстая быстрая кошка», «черным ладоням сбежавшихся окон //раздали горящие желтые карты» (I, 11). Причем эта «одержимость веществом» относится и к абстрактным понятиям: «каждый хотел протащить немножко // громаду из смеха отлитого кома». Таким образом, в стихах Маяковского происходит «подмена космоса вещью», духовность мира сводится к чувственным ощущениям[115].
Используя живописные приемы для обновления стиха, Маяковский нередко демонстрирует «сделанность» своего поэтического текста с использованием приемов изобразительного искусства. Это очень хорошо можно показать учащимся на примере стихотворения «А вы могли бы?» В нем поэт уподобляет работу над стихотворением процессу создания картины: «Я сразу смазал карту будня, / плеснувши краску из стакана» (I, 18). Но он не только «рисует», но и читает будничную картину, открывая в неживых предметах живое, одухотворенное процессом творчества, которое Маяковский уподобляет творению мира.
Еще один пример необычного способа преломления одного искусства в другом демонстрируют поэтические тропы поэта-футуриста – его «овеществленные образы». Учащиеся, как показывает опыт, часто недоумевают от кажущихся алогичных, словно бредовых поэтических строк Маяковского, в которых вроде отсутствует всякая логика. Чтобы преодолеть этот синдром, необходимо опять обратиться к живописи, показывая школьникам, что многие метафоры поэта строятся на зрительных образах. Иногда его метафоры – это ответвленные от лирического сюжета картины, которые представляют неожиданные ассоциации, заслоняющие сам сюжет и затрудняющие восприятие текста. В некоторых случаях метафоры, как, например, описание «пожара сердца» в поэме «Облако в штанах», превращаются в самостоятельные микросюжеты, ассоциативно связанные с общим сюжетом. При этом они являются не просто зрительной картинкой или несколькими такими картинками. Часто это картины в движении, развитии картины, которые можно уподобить кинематографу, искусству, так полюбившемуся Маяковскому. Осознав «механизм» создания таких метафор, школьники с увлечением находят их в поэме, устанавливают тип ассоциативных связей в них и сами пытаются по аналогии создать подобные, овладевая необычным поэтическим языком и образностью. Приведем в качестве примера одну из таких метафор-микросюжетов, в которой картины слились с экспрессией слова и обогатились ею:
Полночь, с ножом мечась, догнала, зарезала, – вон его! Упал двенадцатый час, как с плахи голова казненного (I, 101).Учащиеся охотно выполняют иллюстрации к данной метафоре и даже составляют по ней диафильм, а также разыгрывают сценку, продумав «одежды» ночи, пространство ее действия, основные мизансцены. Так язык одного искусства, взаимодействуя с другим, способствует развитию образного мышления школьников, созданию своеобразных холодайнов (мыслеобразов) обучения.
В ходе рассмотрения поэтической образности Маяковского устанавливается, что характер его изобразительности напоминает во многом творческий метод кубистов, которые, отказавшись от художественной перспективы, заменили ее комбинацией из плоскостных планов, словно разложив целостный предмет на его части. Этот прием лежит в основании многих произведений поэта, например в описании улицы в рассматриваемой поэме:
Улица муку молча перла, Крик торчком стоял из глотки. Топорщились, застрявшие поперек горла, пухлые taxi и костлявые пролетки. Грудь испешеходили. Чахотки площе. Город дорогу мраком запер (I, 106).Постигая принципы «живописной» образности стихов Маяковского, учащиеся начинают совсем по-другому относиться к поэту, открывая для себя его концепцию мира и иные способы художественной изобразительности, которые были изобретены в XX в.
Изобразительные контексты художественного текста
В своей практической деятельности учителю-словеснику приходится сталкиваться с произведениями, в которых героями являются люди искусства, художники. Изобразительному искусству отводится роль своеобразного композиционного стержня и способа создания художественного контекста, благодаря чему в произведении достигается особая живописность и пластичность характеров и изображенных картин жизни.
Примером такого произведения является роман И. А. Гончарова «Обрыв». Это вершинное произведение русского классика, одно из самых значительных произведений отечественной литературы, которое, однако, только в последнее время творчески прочитано исследователями литературы и возвращается к своему читателю. Пришло оно и в школу, если и не вошло в основные программы литературных курсов, то на спецкурсах по русскому реализму рассматривается непременно. В своем романе автор широко привлекает в создаваемое им художественное пространство произведения музыки, литературы, но прежде всего живописи, которые раскрашивают ткань повествования, добавляют к основным сюжетным картинам, образам новые эмоционально-смысловые оттенки. И. А. Гончаров выступает сразу в нескольких ипостасях: как умелый рисовальщик, хорошо знающий, что такое четкая линия, штрих, законченная композиция; как живописец-колорист с безошибочным чувством цвета, выразительных красок; как тонкий психолог, физиономист и, наконец, как эстетик, искусствовед, знающий настоящую цену подлинным произведениям искусства. Писатель модифицирует классическую форму реалистического романа, органически сочетая социальный план с символическим, метафорическим. В его художественном пространстве на реальный сюжет постоянно проецируются мифообразы, образы культуры. Происходит постоянное взаимообогащение, трансформация смыслов, их метафоризация. В этой связи особую роль играет образ главного героя – художника Бориса Райского, в сознании которого из хаоса жизни образуется гармония, объединяется жизнь и искусство, быт и бытие, мгновенное и вечное. Классическая гармоничность романа достигается при помощи приема зеркальности, причем функцию своеобразного зеркала выполняет не только Райский (он создает свой роман о происходящем в Малиновке – роман в романе), но и произведения изобразительного искусства, в которых отражаются героини романа.
В творческом воображении главного героя романа, художника, «жреца искусств», сосуществуют различные культурные эпохи и эталоны красоты и любви. Это Раннее Возрождение и творчество Пьетро Перуджино, Высокое Возрождение и картины великого Рафаэля, а также знаменитых Паоло Веронезе и Корреджо, фламандское барокко и Рубенс, испанская живопись «золотого века» и ее яркие представители – Мурильо и Веласкес, французская живопись XVIII в. и «добродетельный» Жан Батист Грез. Прекрасные, возвышенные образы, составившие целую художественную галерею, характеризуют творческие поиски Райского, его эстетические идеалы, вкусы, эмоциональные состояния, жизненные и писательские ассоциации, связанные с женскими портретами и характерами. При этом автор не просто сравнивает своих героинь с портретами того или иного художника, но созданные им литературные портреты, как в зеркале, отражаются в произведениях живописи.
Таким образом, произведения изобразительного искусства выполняют своеобразную функцию внутренней наглядности, являются художественным контекстом романа. Но это создает дополнительные трудности для юных читателей произведения, так как требует от них обширной художественной эрудиции. И учитель должен им помочь преодолеть эту трудность, используя прием текстовых культурологических комментариев, сопоставления литературных описаний с живописными и пластическими портретами. В этой связи эффективными могут оказаться индивидуальные проекты учащихся, связанные с образами героинь романа, представляющими собой как разнообразные типы красоты и любви, так и ассоциируемые с ними «основные периоды человеческой, по крайней мере европейской, истории»[116]. Читатель, следя за развитием действия романа и любовными увлечениями Райского, словно путешествует по культурным эпохам.
Сначала он знакомится с кузиной главного героя – Софьей Беловодовой, напоминающей внешне прекрасную античную скульптуру. Перед нами аполлоновский тип безмятежной красоты, «сияющей ровно, одинаково, никогда не бросавшей ни на что быстрого, жаждущего, огненного, или наконец скучного, утомленного взгляда… Она, кажется, не слыхала, что есть на свете страсти, тревоги, дикая игра событий и чувств, доходящие до проклятий, стирающие это сияние с лица» (V, 23). Это тип красоты, навечно застывший в своих формах, бесчувственная статуя, лишенная страстей и внутреннего огня. И тщетны попытки Райского пробудить эту безжизненную женщину. Вот почему не удается ему ее портрет, поскольку глаза, в которых Борис Павлович хотел запечатлеть огонь души, даны «кукле», в которой нет трепета жизни, а без этого невозможно настоящее искусство. И только в своем «артистическом сне» он видит ее, эту прекрасную статую, просыпающейся, оживающей: «… веки медленно открылись, и искра пробежала по груди, дрогнуло холодное тело, бледные щеки зардели, лучи упали на плечи.
Сзади оторвалась густая коса и рассыпалась по спине, краски облили камень, и волна жизни пробежала по бедрам, задрожали колени, из груди вырвался вздох – и статуя ожила, повела радостный взгляд вокруг…» (V, 154–155). Но это только сон, Райскому не удалось, как скульптору Пигмалиону, оживить свою Галатею.
Исчерпанным, статичным оказался для Райского и другой тип женской красоты, ассоциируемый с Наташей. В художественном сознании она сравнивается с «Перуджиниевской фигурой». В своем маленьком исследовании автору индивидуального проекта предстоит выяснить, почему тихая, кроткая, ласковая девушка сопоставляется с Мадоннами Пьетро Перуджино (1446–1524), учителя великого Рафаэля, главы умбрийской школы мастеров. Знакомство с творчеством знаменитого итальянского мастера последней четверти XV в. позволит выяснить, что его картины преисполнены религиозно-мечтательного настроения, проникнуты неподдельным чувством благочестия. Почти все Мадонны художника исполнены тишины и спокойной созерцательности, наделены душевной кротостью. Вместе с тем, как считает искусствовед М. Алпатов, Перуджино не избежал «слащавой сентиментальности»[117]. Видимо, эти ассоциации позволили Гончарову провести паралелли между своей героиней и женскими образами Перуджино. Измученная болезнью, умирающая Наташа может быть сопоставима с Марией Магдалиной (картина «Распятие»), в образе которой художник стремился раскрыть психологическую глубину женщины, постигшей истинный смысл страдания как великого чувства очищения и искупления. Вот почему Райский, устав от однообразия кроткой, безропотной любви девушки, «оцепенел от ужаса», увидев умирающую Наташу, «это угасающее лицо, страдающее без жалобы, с улыбкой любви и покорности» (V, 122).
Вместе с образом Марфеньки в роман входит еще один великий художник – Жан-Батист Грез (1725–1805), одна из самых ярких величин французского Просвещения XVIII века, известный как мастер «жанра», бытовых сцен. Огромную популярность приобрели среди почитателей живописи его женские портреты («головки Греза») изображения миловидных, скромных девушек, склонившихся над умершей птичкой, держащих цветок или письмо. Они воплощают патриархальные идиллические представления: семейные добродетели, моральную чистоту, кротость и наивность, простодушие. Не составляет труда различить учащимся эти качества и в Марфеньке, которая словно сошла с полотен французского писателя.
Она предстала перед своим «братцем» «наивным, милым ребенком», блестя красками здоровья, веселостью серо-голубых глаз и летним нарядом из прозрачных тканей. Вся она казалась сама какой-то радугой из этих цветов, лучей, тепла и красок весны» (V, 180). Обстановка ее комнаты также указывает на сентиментальность ее натуры. Марфенька окружает себя идиллическими, нравоучительными сюжетами, характерными для Греза: «По стенам висели английские и французские гравюры…, изображающие семейные сцены: то старика, уснувшего у камина, и старушку, читающую библию, то мать и кучу детей около стола…» (V, 238). Слова самой героини: «Я и о котенке плачу, и о птичке плачу» (VI, 128) вызывают прямые ассоциации с картиной Греза «Девушка, оплакивающая мертвую птичку». Райский распознал в Марфеньке «идеал простой, чистой натуры», и в душе его «созидался образ какого-то тихого, семейного романа…» (V, 182).
Следующим художником, которого писатель представляет в своей «картинной галерее», является Веласкес (1599–1660). Именно с «портретами старух Веласкеса», запечатлевшими мудрость и величественную красоту старости, связывается в романе Татьяна Марковна Бережкова. Писатель пытается «рисовать» литературный портрет бабушки в живописной манере великого испанского живописца, одного из родоначальников психологического портрета в европейском искусстве нового времени. Диего Веласкес удачно сочетал в своей живописи черты парадного портрета и умение изображать внутренний мир человека, силу его страстей, глубину женской натуры. В центре сопоставительного анализа будет эпизод изгнания бабушкой из своего дома зарвавшегося «его превосходительства» Нила Андреевича Тычкова, когда Райский увидел бабушку, словно сошедшей с полотен великого испанца: «Она вдруг выросла в фигуру, полную величия, так что даже на него напала робость» (VI, 25–26). Это открытие «новой бабушки», «ее сверкающие глаза, гордая поза, честность, прямота» (VI, 28) так потрясли его, что он немедленно решил создать ее портрет. Уже первый его эскиз не вызывает сомнения, что он будет выполнен в манере знаменитого испанского художника: «Он натянул холст и сделал удачливый очерк ее фигуры, с намерением уловить на полотно ее позу, гнев, величавость…» (VI, 29).
Самым сложным и во многом таинственным, загадочным является в романе образ Веры. В ней много скрытой поэзии, богатство нюансов и едва уловимых полутонов в движениях ее души. В своих эстетических поисках идеала красоты Дон Жуан от искусства, художник Райский, именно в Вере обнаружил наибольшее приближение к нему. «От его жадного взгляда не ускальзывало ни одно ее движение… Нет в ней строгости линий, белизны лба, блеска красок и печати чистосердечия в чертах и вместе холодного сияния, как у Софьи. Нет и детского, херувимского дыхания свежести, как у Марфеньки, но есть какая-то тайна, мелькает невысказывающаяся сразу прелесть, в луче взгляда, во внезапном повороте головы, в сдержанной грации движений, что-то неудержимо прокрадывающееся в душу во всей фигуре.
Глаза темные, точно бархатные, взгляд бездонный. Белизна лица матовая, с мягким отливом около глаз и на шее тенями. Волосы темные, с каштановым отливом, густой массой лежали на лбу и на висках ослепительной белизны, с тонкими синими венами» (V, 294).
Писатель дает несколько словесных портретов своей героини, стремясь в них запечатлеть все «души изменчивой приметы», и у читателя создается впечатление, что это описание какого-то гениального полотна, причем изображение одновременно сопровождается авторским комментарием. Происходит взаимодействие двух искусств, которые вместе создают необыкновенно привлекательный образ героини. Но силы изобразительности писателю кажется мало, и он прибегает к ассоциативным сближениям Веры с произведениями живописи, которые улавливают не только психологические нюансы, но и могут являться определенными философско-эстетическими символами. Если Марфенька кажется «лучом, теплом и светом», то Вера – «вся мерцание и тайна, как ночь, полная мглы и искр, прелести и чудес!» (V, 295).
Многократное сравнение героини с ночью (V, 295, 364; VI, 165, 232) вызывает ассоциации с картиной Корреджо «Ночь», одним из любимых художником Райским живописных полотен, к которому он поедет впоследствии в Дрезден «на поклон».
Управляя читательской деятельностью своих воспитанников, учитель ставит перед ними задачу увидеть то общее в способе изображения, что позволяет сопоставить манеру создания словесного портрета Веры с художественной манерой Корреджо. С этой целью придется обратиться к творчеству этого великого мастера Высокого Возрождения. Живопись пармского художника Антонио Аллегри (1494–1534), прозванного по месту рождения Корреджо, отличается удивительно нежными и сочными красками, воздушностью, магическим блеском светлых тонов и прозрачностью теней. Особо широкой известности достигла его картина «Рождество Христа», или «Ночь» (1530), поражающая и восхищающая всех необычным мерцающим эффектом ночного освещения. Все это присутствует и в словесном портрете Веры, словно написанном кистью Корреджо. Это красота «с блеском, с теплым колоритом жизни, с бархатным, гордым и горячим взглядом, с мерцанием «ночи» (курсив мой. – В.Д.), как он [Райский] назвал ее за эти неуловимые искры, тогда еще таинственной и неразгаданной прелести» (VI, 368).
Совсем иной предстала Вера перед Райским после ее «греха» и вызванного им страдания. «Бессознательное блистание молодости и красоты, разливающей яркие и горячие лучи вокруг себя, – исчезло. Томная печаль, глубокая усталость смотрела теперь из ее глаз. Горячие живые тона в лице заменились прозрачной бледностью. В улыбке не было гордости, нетерпеливых, едва сдерживаемых молодых сил. Кротость и грусть тихо покоились на ее лице, и вся стройная фигура ее была полна задумчивой, нежной грации и унылого покоя» (VI, 368). Такая Вера вызовет в сознании Райского «фигуры Мурильо», последнего из больших мастеров «золотого века» испанского искусства. Его Мадонны, большеглазые, стройные, грациозные женщины: «Мадонна с четками» (Мадрид, Прадо), «Мадонна с салфеткой» (Севилья, Музей изящных искусств), «Цыганская Мадонна» (Рим, галерея Корсини), содержали в себе спокойствие, нравственную глубину и задушевность земной женщины. Все это, как видим, заключает в себе литературный портрет «новой» Веры.
Отдельный сюжет для небольшого исследования учащихся может явить собой сопоставление героини с полотнами Тициана, который также упоминается в эпилоге романа как одна из ассоциаций Райского в связи с Верой. Очевидно, здесь в первую очередь можно говорить о картине «Кающаяся Мария Магдалина». Героиня Гончарова, как и Мария Тициана, наделена сильным и ярким характером. Ее страдания также неподдельны, глубоки и искренни. Здесь не следует сопоставлять с картиной художника какое-либо одно описание раскаивающейся Веры. Полотно великого итальянца и символически, и психологически, и эстетически передает всю ситуацию последствий «греха» гончаровской героини. Вместе с тем в романе есть одна из самых сильных сцен, описывающих страдание Веры – ее исповедь бабушке, на которую непременно указывают внимательные читатели: «Вера, очнувшись на груди этой своей матери, без слов, в судоргах рыданий, изливала свою исповедь, раскаяние, горе, всю вдруг прорвавшуюся силу страданий» (VI, 333). Здесь нетрудно заметить, что слова «исповедь», «раскаяние», «горе», «страдания» вполне точно определяют и состояние души «кающейся Магдалины».
Наблюдение над изобразительным пластом романа позволяет сделать вывод, что сквозным образом, характеризующим женские персонажи романа, является образ Мадонны в том значении, как его понимали великие мастера эпохи Возрождения. Наташа – кроткая, тихая, страдающая Мадонна. Вера – Мадонна, сочетающая в себе глубокую натуру, красоту чувств, силу характера и строгую религиозность. Марфенька – символ ясной, земной красоты, невинности, хотя в ней сильно просвечивает материнское начало. Она Мадонна домашнего очага, человеческой теплоты и уюта. Бабушку символизирует Мадонна, совмещающая в себе женскую мудрость и подвижническую любовь, величие и суровую простоту, христианское страдание и глубокую религиозность.
Гончаров не только использует образы изобразительного искусства для внутренней наглядности, но и создает образ «служителя муз», который чувствует и мыслит художественными картинами. Он ищет свой идеал любви и красоты в жизни и искусстве, и посредством женских образов его сознание организовывает большой диалог культур, в который вовлечены разные культурные пласты и их художественные тексты. Культурно-семантическая организация романа подсказывает и способ его изучения – технологию диалога культур.
Вершиной художественно-эстетических поисков Райского, высшим идеалом красоты и гармонии становится «Сикстинская мадонна» Рафаэля. Она объединяет в себе всех Мадонн, которые составляют художественный контекст «Обрыва». Знакомя с картиной величайшего мастера итальянского Возрождения, подводим учащихся к ее структурно-семантической функции в романе, используя при этом прием интерпретации словесно-образного текста при помощи художественного. При этом открывается, что исключительное обаяние «Сикстинской мадонны» заключается в сочетании простоты и торжественности, нежной женственности и царственного величия. Прекрасное, серьезное и кроткое лицо Богоматери овеяно затаенной печалью, но остается ясным и спокойным. Нежно, трогательно прижимает она к себе сына, предчувствуя ожидающие его страдания, и все же готова жертвовать им во имя спасения человечества.
В искусстве создан великий идеал красоты и женственности, но есть он и в жизни. Это увидел Райский в бабушке в исключительные минуты ее жизни, когда от нее требовался духовный подвиг. Есть это и в его Вере, Марфеньке. Все они вместе как бы заключают то, что есть лучшего в русской женщине, самой России.
Эстетический идеал Райского близок и самому автору, продолжающему пушкинскую традицию поклонения «чистейшей прелести», «гению чистой красоты» («Мадонна», «Я помню чудное мгновенье…»). Пушкин также находит свой высший идеал любви и женской красоты в Мадонне. В этой связи интересны мысли Н. Н. Скатова о стихотворении «К А. П. Керн». Исследователь подчеркивает, что оно не посвящено, а обращено к Анне Петровне. В нем создан образ, родственный «Сикстинской мадонне», никогда им не виденной, но чудесно угаданной[118]. Взяв у Жуковского образ – «гений чистой красоты» – Пушкин представил свою «Рафаэлеву Мадонну». Она – воплощение гармонии, красоты и полноты бытия, символ развития идеального жизненного, духовного начала во всей его полноте.
Так художественные пласты, рассматриваемые в школьном литературоведении, позволяют установить связи и между текстами, и между авторами в поле диалога в культуре и диалога культур. Художник Райский по складу своего мироощущения во многом напоминает лирических героев Пушкина. Он также беззащитен перед красотой, его увлечения – бесконечный поиск идеала. Искусство для него представляет собой вечные образцы гармонизации жизни по законам красоты. В своих творческих поисках он поочередно обращается то к одному, то к другому виду искусства, взвешивая художественную силу и пределы каждого из них в передаче духовной и чувственной жизни человека. Это и объясняет непреклонное стремление самого писателя осуществлять синтез искусств в художественном пространстве своего романа, так как только в совокупности искусства могут передавать всю сложную палитру бытия.
В связи с обращением к образу художника Райского, этого «Дон Жуана» от искусства, следует рассмотреть понимание им цели творчества. Для героя, как и самого автора романа, она не в успехе, не в славе, а в самом процессе творчества, в тех минутах истинного творческого наслаждения и счастья, когда дух художника обретает высшую свободу и неограниченные возможности. Вдохновляясь и созидая, пишет автор «Обрыва» о своем герое, «он написал бы Рафаэлеву Мадонну в эти минуты счастья, если б она не была уже написана, изваял бы Милосскую Венеру, Аполлона Бельведерского, создал бы снова храм Петра!» (VI, 197). Здесь также видна пушкинская традиция, что открывается учащимся после перечитывания таких пушкинских шедевров, как «Поэту» («Поэт, не дорожи любовию народной…») и «Поэт» («Пока не требует поэта…»).
Обращение к творчеству И. А. Гончарова в связи с проблемой взаимосвязи и взаимодействия литературы и изобразительного искусства позволяет сделать вывод, что важно принимать во внимание личную творческую одаренность писателя, его художественные пристрастия, которые могут так ярко сказываться на изобразительной стороне его творений, его эстетических и этических поисках. Это касается и творчества других писателей.
Сравнительный анализ стилистических систем изображения мира и человека в древнерусской литературе и живописи, методологически разработанный Д. С. Лихачевым[119], применим и к литературному процессу в целом. При этом следует заметить, что развитие этих искусств не всегда идет синхронно: в одних случаях литература опережает живопись, в других развитие живописи обгоняет литературу. Так, например, М. В. Алпатов считает, что Кипренский в начале XIX в. опередил литературу в создании женского обаятельного образа, овеянного мечтательностью и романтикой юности, и его портрет Н. В. Кочубей и других задумчивых героинь в чем-то предугадывал образ пушкинской Татьяны.
Поэтому литературные курсы в старших классах необходимо строить таким образом, чтобы вскрывать это взаимодействие искусств, показывая, как одно искусство дополняет другое или даже намечает его пути развития. Наиболее яркий пример этому – живопись конца XVIII в.: творчество Ф. С. Рокотова, Д. Г. Левицкого, В. Л. Боровиковского. Не случайно Н. Заболоцкий в своем известном стихотворении «Любите живопись, поэты…», изумленный «Портретом А. П. Струйской» Ф. Рокотова, увидал в живописи способность художника заглянуть в самую глубину человеческой души, уловить неуловимое, ускользающее от взора поэта. Действительно, до пушкинской Татьяны в предромантический и романтический период развития русской культуры поэтам не удавалось преодолеть некий шаблон в изображении портрета красавицы, который Пушкин представляет в своем знаменитом описании Ольги:
Глаза как небо голубые, Улыбка, локоны льняные, Движенья, голос, легкий стан, Все в Ольге… но любой роман Возьмите и найдете верно Ее портрет… (VI, 41)Интересно, что иногда литературный портрет мог выполнять некую функцию рекомендаций художнику-портретисту, признавая за ним, однако, приоритет в передаче «примет души». В этом плане показательно стихотворение Г. Р. Державина «Изображение Фелицы» (1889), которое можно рассматривать как пожелания художнику Левицкому изобразить Екатерину II<і>:
Изобрази ее мне точно Осанку, возраст и черты, Чтоб в них я видел и заочно Ее и сердца красоты, И духа чувствы возвышенны, И разума ее дела: Фелица, ангел воплощенный, В твоей картине бы жила. Небесно-голубые взоры И по ланитам нежна тень…Одновременно это и скрытая рецензия на «Портрет Екатерины II» (1883) художника Д. Г. Левицкого, который хотя и выполнен технически безупречно, но в нем парадность и холодная торжественность затмевает, по мнению поэта, живую душу:
Но что Рафaэль! Что ты пишешь? Кого ты, где изобразил? Не на холсте, не в красках дышишь, И не металл ты оживил…КРУГ ПОНЯТИЙ
Изобразительная наглядность, типы образной наглядности, художественная иллюстрация, изобразительность литературы, изобразительно-выразительные средства текста, пейзаж, портрет, тематическая связь искусств, общность мотивов, внутренние изобразительные возможности текста, «живописность» стиля писателя, метафоры-микросюжеты, изобразительные контексты текста
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Что такое изобразительная наглядность, каковы ее функции на уроках литературы? Какие существуют способы, приемы ее использования?
2. • Раскройте методику системного использования произведений изобразительных искусств в преподавании словесности. Предложите свою систему работы с художественными иллюстрациями на уроках по изучению романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин» или поэмы Н. В. Гоголя «Мертвые души». (Для подготовки используйте книги B. C. Гречинской и Е. Н. Колокольцева.)
3. Что подразумевается под изобразительностью литературы? В чем проявляется внутренняя связь литературы с живописью?
4. Как учитель осуществляет деятельность учащихся, связанную с восприятием и анализом «живописных» образов текста?
5. • Составьте «ленту видений», которая возникает в вашем сознании во время чтения описания деревни в одноименном стихотворении А. С. Пушкина.
6. Раскройте приемы «изобразительного письма» русских писателей. Как учитель помогает своим воспитанникам понять секреты «рисования» художниками слова пейзажей и портретов?
7. • Опишите «высоким слогом» игру в шашки Ноздрева с Чичиковым.
8. Раскройте на конкретном примере способы работы с произведениями словесного искусства и живописи, близкими по тематике и мотивам изображения. Каков педагогический эффект сопоставлений этих близкородственных искусств?
9. • На каком основании строится претворение одного вида искусства в другой? Как осуществляется интерпретация литературного текста посредством контекста, создаваемого произведением живописи?
10. Что вкладывается в понятие «“живописность“ стиля писателя»? Как эта особенность художественного метода писателя учитывается в процессе школьного анализа текста? Покажите это на материале прочтения произведений В. Маяковского.
11. • Расшифруйте пластические образы стихотворения В. Маяковского «Порт», истолкуйте его поэтическую картину мира.
12. Как эстетические, художественные пристрастия писателя сказываются на изобразительной стороне его произведений?
13. • Какую функцию выполняет обращение И. А. Гончарова к произведениям живописи в романе «Обрыв»? Как они вводятся в текст? Какую роль играет образ художника Райского? Назовите основные приемы работы с литературным текстом, насыщенном мотивами и образами изобразительных искусств.
Глава 4. Литература и скульптура
Скульптура в истории культуры
Исследуя развитие разных искусств в истории человечества, можно заметить, что каждая из исторических эпох проходила под знаком доминирования одного из искусств, что весьма важно для постижения ее культурно-ценностных ориентиров. Так, в античные времена скульптура была самым массовым и популярным искусством. Это объясняется тем, что она обладает трехмерностью пространственного изображения, и скульптурное произведение «это уже не увиденное, а пребывающее, это как бы самостоятельное существо, созданное художником»[120]. Не случайно поэтому в древности скульптуру воспринимали как реальное существо (подтверждение этому миф о Пигмалионе и Галатее) и создавали ее как воплощение богов и героев. Не менее существенным объяснением приоритета данного искусства является и то, что скульптура, как ни одно из искусств в античные времена, говорила о красоте как органическом соединении совершенных форм и духовного содержания.
Христианство ниспровергло древние идолы, наступила эпоха живописи – иконописи, которая утверждала прежде всего красоту духа, духовную субстанцию бога в идеальном, а не в обычном трехмерном пространстве. Высший расцвет живописи – эпоха Ренессанса. Леонардо да Винчи в своем трактате «Спор живописца с поэтом, музыкантом и скульптором» именно живопись считал главным ведущим искусством.
В XVIII в. Лессинг в своей знаменитой статье «Лаокоон, или О границах живописи и поэзии» отдает преимущество словесному искусству как искусству динамическому, разворачивающему свои образы во времени. Весь XIX в. проходит под знаком словесного искусства, и это связано с той полифункциональной ролью, которую начинает играть словесность в жизни людей. Такая схема, конечно, условна, так как в определенных областях изображения человека и мира, как уже неоднократно отмечалось, другие искусства могут доминировать, но несомненно, что именно литература в большей степени определяла «золотой век» русской культуры. Развивая свои художественные средства, словесность обогащалась за счет освоения арсенала других искусств, в большей мере музыки, живописи, но и во многом и скульптуры. В школьной практике обращение к скульптуре на уроках словесности крайне редко, хотя есть произведения, которые открываются и постигаются именно через образы скульптуры.
Приемы обращения к скульптуре на уроках литературы
Наиболее простой способ прочтения одного искусства через другое – это «литературная иллюстрация»: художественный текст описывает то, что выражает скульптура. В качестве примера можно привести стихотворение Пушкина «На статую играющего в бабки»:
Юноша трижды шагнул, наклонился, рукой о колено Бодро оперся, другой поднял меткую кость. Вот уж прицелился… (III, кн. 1, 435)На материале сопоставления пушкинского стихотворения с одноименной скульптурой Пименова педагог учит школьников языку этого изобразительного искусства, который очень хорошо передает поэт. Это язык пластических движений; он немногословен, скуп, но в нем столько нюансов, столько обобщений. Поза, мимика, напряжение или расслабление мышц, положение частей тела в пространстве – все емко и значительно. В пушкинском стихотворении очень хорошо передана игра мышц юноши, пластика его тела, а за всем – ловкость и удальство русской натуры. Параллельно с анализом текста учащиеся представляют свой прозаический вариант описания статуи.
Следующий прием работы – это прочтение «общей идеи» скульптуры, выяснение способов ее передачи и интерпретации этой идеи через художественный текст. В качестве примера остановимся на стихотворении Пушкина «Царскосельская статуя», посвященном известному фонтану «Девушка с кувшином» («Молочница», 1810. Выполненная скульптором П. П. Соколовым по мотивам басни Лафонтена «Молочница и кувшин»). Оно может быть предметом отдельного сюжета на уроках по изучению лирики поэта, а также войти в урок о лицейском периоде его жизни и творчества («В садах Лицея»). В обоих случаях необходимо вписать статую в контекст ландшафтных садов и парков Царского села, где «являться муза» стала юному Пушкину, а также в контекст лицейского периода его биографии.
Сначала учим школьников воспринимать статую, выявляя общее настроение от ее созерцания. В данном случае это будет задумчивость, светлая печаль, меланхолия. Затем обращаем внимание на способы передачи настроения; здесь будет двойной способ опосредования: через внутреннее состояние изображенной девушки, которое, в свою очередь, связано с ее позой (сидит пригорюнилась, подперев голову рукой), а также через положение тела, наклон головы, задумчивость лица.
Поэт, в отличие от первого проанализированного нами стихотворения, не описывает подробно скульптуру, а только передает свое впечатление:
Дева печально сидит, праздный держа черепок (III, кн.1, 231).При этом развивая тему, он вводит мотив чуда, вечной струи жизни, текущей из обезображенной формы – «урны разбитой». Последняя строфа: «Дева, над вечной струей, вечно печальна сидит» говорит о вечной печали, которая сопровождает вечную струю жизни. Так за незатейливым сюжетом произведения скульптуры стихотворение открывает глубокий метафорический смысл. Постигая его, обращаем внимание на форму стиха, написанного пентаметром, чередующимся с гекзаметром, т. е. стихотворным размером, который, в отличие от шестистопного дактилического стиха гекзаметра, состоит из четырех дактилических стоп и двух дополнительных долгих слогов (один помещается вслед за первыми двумя стопами, второй – в конце стиха). Цезура после первого дополнительного слога делит стихотворную строку на две равные части. Представим ритмическую схему стихотворения:
–∪∪–∪∪–// ∪∪–∪∪–∪∪–∪
–∪∪–∪∪–// –∪∪–∪∪–
–∪∪–∪∪–// ∪∪–∪∪–∪∪–∪
–∪∪–∪∪–// –∪∪–∪∪–
Элегический дистих, который в античные времена обычно использовался для скорбных песнопений, позволяет создать совершенное по своей архитектонике стихотворение, возникает впечатление пластичности его формы. Пластические образы и пластичность формы как нельзя лучше передают сущность остановленного в вечности мгновения, говорят о вечной печали и неиссякаемом источнике жизни.
Экфрасис как жанр литературы
Приведенные пушкинские стихотворения генетически восходят к эллинистическому жанру экфрасиса, под которым современные исследователи понимают «словесное описание любого рукотворного предмета, будь то храм, дворец, щит, чаша, статуя или картина»[121]. В школьном литературоведении на этот принцип изображения обращается мало внимания, вместе с тем через него могут неожиданно открываться многие важные эстетические проблемы. Это предмет и содержание искусства, соотношение природы и искусства, объективного, беспристрастного и пристрастного, субъективного в описаниях «второй природы».
В данном случае очень показательны стихи А. Фета, и в первую очередь так называемые антологические. В них отчетливо звучит мысль, что цветение жизни, ее красота и нюансы являются содержанием искусства, а цель самого искусства состоит в передаче этой красоты, его способности остановить прекрасное мгновение в вечности. Именно эти мысли как нельзя лучше развиты в экфрасисе «Венера Милосская» (1856), который можно рассмотреть на уроке по изучению лирики Фета. Поэт в нем менее всего стремится подробно изобразить пластические формы знаменитой статуи, хотя в тексте имеются точные детали, которые ученики тотчас обнаруживают, обращаясь к фотографии луврской богини. Главное в стихотворении – это личное впечатление лирического героя, его восторг от неувядающей вечной красоты, воплощенной в богине любви. И здесь мы встречаемся с иным способом организации поэтического текста. В нем автор, отталкиваясь от пластических образов, переводит их в выразительные, сохраняя при этом пластическую осязаемость образов. Возникает эффект чуда: богиня, кажется, живет, дышит, чувствует. И достигается это при помощи глагольных словосочетаний: «сияя наготой», «цветет божественное тело», «дыша пафосской страстью», «млея пеною морской», «вея властью». Всем пафосом стихотворения поэт утверждает свою излюбленную мысль о том, что настоящее искусство должно говорить о подлинно прекрасном, неувядаемом, вечном. Таким образом, экфрасис Фета может стать опорным в разговоре на уроке об эстетических спорах, которые велись на рубеже 50-60-х гг. XIX в.
Ниже приводим одну из ученических работ, посвященную анализу данного стихотворения, в которой удачно прочитана «скульптурность» поэтического текста.
«Венера Милосская – божественная женщина, бесподобная по своей красоте. О ней уже много сказано и написано. Известные скульпторы увековечивали ее прекрасное тело в статуях, знаменитые художники – на полотнах, писатели и поэты в бессмертных произведениях. Фет как истинный ценитель красоты тоже не обошел эту тему.
Главный мотив этого стихотворения – красота вечна и нетленна. Какие же приемы помогают раскрыть его? Это прежде всего эпитеты: «божественное тело», «неувядаемая красота», «небесный лик», «всепобедная власть», «морская пена»; метафоры: «цветет божественное тело», «ты смотришь в вечность пред собой». Эти художественные средства помогают выразить чувства поэта, передать его мысли о красоте.
Читаешь стихотворение – и создается впечатление, что нега, страсть, и в то же время необычайное целомудрие разлито во всем созданном поэтом образе Венеры. (Божественная дева, вышедшая из морской пены, «сияет наготой» «целомудренно и смело». Она кажется недоступной: «Как много неги горделивой В небесном лике разлилось». Но она живая, дышит пафосской страстью.)
Венера необычна и неразгаданна. Кто она? Роковая дева, обладающая совершенным телом, или небесный ангел, неземной чистоты и красоты? Эту загадку не под силу никому разрешить. Каждый видит в ней свое.
Стихотворение, как и скульптура, без лишних деталей, четко и пластично, создает образ богини красоты. Автору удается передать в нем мысль о вечности красоты и некую горделивую холодность, которая исходит от статуи».
Значительно диалогизировать данный урок может другой экфрасис – стихотворение под таким же названием «Венера Милосская» французского писателя, «парнасца» Леконта де Лиля:
Привет! Перед тобой сильней сердцебиенье! У белых ног твоих вал мраморный бурлит, Нагая, ты идешь – и целый мир, в смятенье, О, пышнолонная, – тебе принадлежит!..[122]Сравнительное сопоставление на уроке двух текстов-экфрасисов (дословный перевод с французского также может прилагаться) позволяет увидеть между ними не чисто формальную связь, а некое сходство эстетических позиций авторов, для которых красота, искусство – идеал жизни. Дополнительная информация о поэтах «парнасской школы» и анализ последней строфы стихотворения Леконта де Лиля вместе с тем открывает и черты отличия. Для парнасцев «статуарность» становится основным принципом изображения. В искусстве, с их точки зрения, достойно внимания прежде всего то, что может стать предметом эстетизации. Отсюда и особая роль искусства: оно выступает как некая «сверхприрода», являет собой верный способ «избавиться от всего преходящего, преодолеть течение времени и тем самым наложить на жизнь печать абсолюта и вечности»[123]. Для Фета, певца русской природы, эта позиция, разумеется, не могла быть приемлемой.
Особую сложность для восприятия учащихся вызывают тексты, обращенные к скульптуре, выражающей абстрактные понятия, такие как Мир, Правосудие, Победа, Меланхолия, Молчание и т. д. Скульптор для их воплощения вынужден прибегать к аллегории, атрибутике, подчас сложным ассоциациям, которые он переводит на язык скульптуры. Современным читателям эти скульптурные образы очень часто ничего не говорят, воспринимаются только как понятия. Еще меньше говорят художественные тексты, в которых встречаются упоминания о статуях с такими названиями. Как они выглядят, какую функцию выполняют? – приходится только гадать. Чтобы научить детей читать такие тексты, понимать функцию скульптурных образов в описаниях интерьеров и экстерьеров домов, парков и садов, улиц и городов, учитель прибегает к приему культурно-семантического комментария. Так, в описании садов князя Верейского Пушкин обращает внимание читателя на то, что там повсеместно встречались то «мраморные статуи», то «уединенные пещеры», то «памятники с таинственной надписью, возбуждавшей в Марье Кирилловне девическое любопытство» (VIII, кн. I, 209–210). Получив небольшую справку о садах рококо и раннего романтизма с их наклонностью к идиллии, буколистическим настроениям, учащимся несложно будет догадаться, какие скульптуры могли бы их украшать. Одно из первых мест там будет принадлежать Меланхолии, особенно популярной в подобных садах.
Так как Меланхолия является не менее излюбленным предметом изображения и в поэзии сентиментализма, то в этом плане весьма результативно будет обратиться к одноименному стихотворению Н. М. Карамзина (1800), представляющему собой вольный перевод отрывка из поэмы «Воображение» известного французского поэта Жака Делиля. Это своеобразная поэтическая иллюстрация и концепция Меланхолии:
О Меланхолия! Нежнейший перелив От скорби и тоски к утехам наслажденья! Веселья нет еще, и нет уже мученья; Отчаянье прошло… Но слезы осушив, Ты радостно еще на свет взглянуть не смеешь И матери своей, Печали, вид имеешь.Постигая аллегорический смысл Меланхолии и открывая его через поэтический текст, учащиеся обучаются «читать» и другие скульптуры, обращенные к абстрактным понятиям, создавая свои прозаические и даже поэтические тексты-иллюстрации. Этот прием, как известно, часто использовался в русской классической гимназии, эффективным для усвоения образов и сюжетов мировой культуры он оказывается и сейчас на уроках словесности, обращенных к широкому культурному контексту.
Наиболее устойчивую традицию представляют собой литературные тексты, обращенные к скульптурному изображению богов. Каждый автор пытается по-своему интерпретировать то или иное скульптурное изображение Бога, вписать его в круг своих ассоциаций и концепций. Взаимодействуя и взаимодополняя, два искусства на уроках словесности приобретают огромную силу эстетического воздействия на читателя. Поэзия дает скульптуре говорящий язык, скульптура – пластику поэтическому тексту. Кроме того, в ходе такой работы происходит углубление представлений обучаемых о таких понятиях, как прекрасное, героическое, трагическое, комическое, безобразное и т. д.
Скульптура как семантические знаки парков и города
Обращение к скульптуре на уроках литературы позволяет также прочитывать и расшифровывать текст сада, парка, города. Так, в ходе заочной экскурсии по садам раннего романтизма в Павловске можно обратиться к поэтической книге В. Г. Маранцмана «Песни муз»[124], в основе которой сонеты об Аполлоне и музах павловского Парнаса. Для автора книги каждая из девяти муз имеет свою тайную загадку, которую он пытается разгадать, опираясь на их скульптурные портреты, отлитые Гордеевым. Путь поэта – от скульптурных деталей и общего впечатления от пластического портрета к постижению обобщенно-философского смысла отдельной статуи, связанного с тайной творчества. Особенность описания муз еще обусловлена тем, что автор стремится вписать их в окружающую природу и в общую культурно-семантическую среду Павловска. Поэтому каждая муза может быть воспринята только в контексте авторской концепции жизни. Вот, например, стихотворение «Тайна Мельпомены», посвященное музе трагедии. Прочитав его, выясняем с учащимися, как автор выстраивает этот свой образ, отталкиваясь от деталей скульптурного портрета (фотографии муз в его книге прилагаются). Этот прием понятен сразу: он строится на противопоставлении маски лицу. Когда лицо Мельпомены сливается с маской – вся она выражает трагедию жизни: боль, крик, отчаянье, скорбь; освободит лицо от маски – «и – позади страстей круговорот».
В чем же тайна Мельпомены? Учащимся предстоит понять авторский замысел. Он видится в том, что Мельпомена, «замкнув трагедии кольцо», полностью слившись с маской, выражает ужас и отчаяние жизни. Но она умеет мудро возвыситься над безысходностью, мужественно преодолевая страдания и, освободившись от маски, открывает свое прекрасное, одухотворенное лицо, не обезображенное страстями.
Очень интересно трактует В. Г. Маранцман и образ Талии, покровительницы комедии, которую скульпторы обычно изображали с комической маской в руке. Здесь автор «Песен муз» для постижения тайны павловской Талии использует несколько другой прием. Скульптор словно подглядел музу в минуты редкого ее отдыха после неукротимого веселья и создал ее портрет. Поэт перевел пластический портрет на язык поэзии и попытался заглянуть в глубины ее души:
Присев на камень, сбросив плащ тяжелый, прозрачно, дерзко Талия цветет. Так в голых скалах, вольный и веселый, с трудом пробившись, эдельвейс растет.Что же открыл автор книги в своей музе, в чем загадка ее мига жизни для него? А для вас? Такие вопросы побуждают учащихся к диалогу, заставляют задуматься над сущностью комического, в основе которого бичевание пороков, но за веселой маской, «игрой лукавой» скрываются искренняя грусть и печаль, то, что Гоголь обозначил как «смех сквозь слезы». Вот почему настоящее лицо Талии грустное и задумчивое и без притворства прекрасное. На заключительном этапе обращения к павловским музам учащиеся создают их словесные портреты, стремясь по-своему прочитать тайны покровительниц искусств. От осмысления отдельных муз идем к пониманию культа содружества искусств, который царит в Павловске. И книга В. Г. Маранцмана помогает его осмыслить.
Таким образом, обращение к пластическим искусствам позволяет более полноценно совершить заочную экскурсию в сады и парки на уроках литературы, погружая учащихся в определенный тип культуры (в данном случае в сады раннего романтизма).
Без скульптуры невозможно представить и текст Петербурга. Кажется, в ней сосредоточены внутренняя энергия города, его жизненный тонус. Медный всадник, атланты у Малого Эрмитажа, сторожевые львы, укрощенные кони на Аничковом мосту, гордые сфинксы, бесчисленные кариатиды, поддерживающие своды дворцов, многочисленные скульптурные группы на Эрмитаже, боги и герои в Летнем саду, памятники императорам и деятелям культуры – все это превращает Петербург в место, где встречаются и живут в вечности времена, эпохи, культуры, а скульптуры становятся героями этого вечного действия. Поэтому любой петербургский текст непременно содержит в себе указания на эти культурные знаки. Вот молодой провинциал Александр Адуев приезжает покорять столицу, занять, как ему кажется, достойное место под солнцем. Еще толком не устроившись с жильем, он отправляется на поклон к Медному всаднику и замирает от переполняемого его восхищения. «Он с час простоял перед Медным всадником, – замечает автор «Обыкновенной истории», – но не с горьким упреком, как бедный Евгений, а с восторженной думой. Взглянул на Неву, окружающие ее здания – и глаза его засверкали» (I, 38–39).
Наиболее часто упоминаемой скульптурой великого города стал памятник Петру I на Сенатской площади. После пушкинской поэмы он является главным символом Петербурга и преображенной России в целом. Можно сказать, что Медный всадник сам стал своеобразным текстом, который можно специально исследовать в русской литературе.
Приведенные нами способы работы с текстами, в которых происходит взаимодействие словесности и пластических искусств, далеко не все исчерпаны, так как в каждом конкретном случае они определяются авторским методом и историко-культурными реалиями, из которых исходим при разработке каждого конкретного урока.
Выявление внутритекстовых связей искусств позволяет значительно усилить изобразительно-выразительную сторону словесного искусства, что качественно влияет на рецептивно-эстетическую и познавательную деятельность учащихся, способствует развитию общих и специальных компонентов читательских способностей, положительным образом сказывается на эстетическом постижении художественного текста. Практически каждый писатель расширяет границы своего произведения за счет возможностей других искусств. Это и определяет методику его анализа и интерпретации, в основу которой положены приемы культурологического комментария, синхронное обращение к упоминаемым в данном тексте произведениям смежных искусств, «дешифровка», «переложение» произведения искусств на язык словесного искусства, система творческих заданий и работ по обеспечению благоприятных условий синэстезии. Такая внутренняя связь искусств на уроках литературы расширяет художественное пространство произведения, позволяет учащимся прочитать его более эмоционально и концептуально, постигая авторскую модель мира и систему его ценностей.
КРУГ ПОНЯТИЙ
Трехмерное изображение, литературная иллюстрация, «общая идея» скульптуры, экфрасис, «скульптурность» поэтического текста, аллегорический смысл скульптуры, скульптура как культурно-семантический знак.
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Какое место занимает скульптура в истории культуры?
2. Раскройте сущность основных приемов обращения к скульптуре на уроках литературы. Продемонстрируйте использование приема литературной иллюстрации на материале анализа стихотворения Пушкина «На статую играющего в свайку».
3. • Прочитайте стихотворение Пушкина «Художнику» («Грустен и весел вхожу, ваятель, в твою мастерскую…») и прокомментируйте его. Обратите внимание на пластичность поэтической формы стихотворения, его скульптурные образы. Как автор теста расширяет его возможности посредством обращения к пластическому искусству?
4. Дайте истолкование экфрасису как литературному жанру. Приведите примеры поэтических экфрасисов в произведениях А. Фета, Ап. Майкова.
5. С какой целью используется скульптура в художественных произведениях, описывающих сады, парки, усадьбы, город? Приведите примеры таких текстов.
Глава 5. Хронотоп усадьбы. литература и садово-парковое искусство
Усадебная повесть и ее культурное пространство
Русскую культуру и русскую жизнь в целом XIX века можно свести к двум важнейшим хронотопам[125]: хронотопу усадьбы и хронотопу города. Эти два хронотопа присутствуют в большинстве произведений русской классики, и учителю-словеснику необходимо овладеть методикой их анализа для формирования в сознании своих воспитанников целостных картин русской жизни, понимания авторской модели бытия, раскрытия жанровых особенностей художественных произведений, определяемых этими двумя хронотопами.
Хронотоп усадьбы определяет жанрово-композиционную структуру так называемой усадебной повести[126]. Сформировалась она как жанр в эпоху романтизма, приобретя окончательную завершенность в «Евгении Онегине» как составной части его структуры. Наивысшего уровня своего развития она достигла в творчестве И. С. Тургенева и И. А. Гончарова, произведения которых не могут быть восприняты без осознания этого хронотопа усадьбы. В этой связи необходимо выделить основные поэтические элементы усадьбы как модели мира и пространственно-временной организации художественного текста.
Русская же усадьба с ее архитектурно-парковыми ансамблями сложилась в эпоху классицизма и вначале строилась по единой планировочно-пространственной схеме, исходя из художественной философии и эстетики этого направления в искусстве, отличительными особенностями которого были симметрия, уравновешенность, одностильность, моноцентричность как архитектурных ансамблей, так и самой жизни обитателей. Очевидно, поэтому усадебная повесть тяготеет к «правильной» композиции, словно перекликаясь с архитектоникой классицистических ансамблей. После довольно затянутой экспозиции (в романах Тургенева она часто включает и биографические очерки) следует неторопливый подход к завязке, а затем плавный переход к апогею действия – кульминации, которая может иметь несколько пиков. За развязкой непременно следует эпилог, элегический по своему настроению, словно грустное прощание с полюбившимися героями.
Интересно, что и сами герои усадебной повести как бы вписаны в интерьер усадьбы, как, к примеру, Анна Сергеевна Одинцова. Все в ее усадьбе строго подчинено единому порядку: соблюдалось единство архитектурного стиля и в постройке дома, и в обустройстве интерьера гостиной («тяжелая чопорная мебель стояла в обычном порядке вдоль стен, обитых коричневыми обоями с золотыми разводами») (VII, 76), и в планировании сада и парка с «греческим портиком из русского кирпича» (VII, 163) и нишами для шести статуй (покойный Одинцов, по свидетельству автора, успел установить только одну из них – богиню Молчания, возбуждающую «суеверный ужас баб» (VII, 164). Но, главное, весь образ жизни обитателей усадьбы протекал по строго заведенному распорядку: «Все в течение дня совершалось в известную пору. Утром, ровно в восемь часов, все общество собиралось к чаю; от чая до завтрака всякий делал, что хотел… Перед обедом общество опять сходилось для беседы или для чтения; вечер посвящался прогулке, картам, музыке; в половине одиннадцатого Анна Сергеевна уходила к себе в комнату, отдавала приказания на следующий день и ложилась спать» (VII, 85).
Такой же строгий распорядок дня был заведен и в усадьбе старого князя Болконского. Читатели иногда недоумевают: Николай Андреевич не откладывает своих обычных занятий, строго регламентированных, даже узнав о приезде сына и невестки.
Читатель усадебной повести совершает такое же путешествие и по поместью, о котором говорится в тексте. Автор постепенно подготавливает его к погружению в хронотоп усадьбы. Сначала он вместе с героями проедет по подъездной аллее через ворота в парк, двор, поляну или лужайку перед домом, поднимется на крыльцо и после доклада о своем прибытии войдет в зал или гостиную. Здесь, в гостиной, и происходят основные события в жизни героев: политические и художественные диалоги и споры, литературно-музыкальные вечера, встречи и объяснения.
В действие усадебных повестей включается все культурное усадебное пространство: парки, сады, аллеи, беседки, пруды и, конечно, все составляющие романтического колорита – луна, звезды, небо, сумерки, тени и т. д. Важными знаками «пейзажного мышления» являются болота, урочища, рвы, обрывы, бугры, горки, холмы, поляны, лужайки, кладбища, руины. Так, в сиреневой беседке происходит первое свидание и последовавшее за ним объяснение в любви Рудина и Натальи Ласунской («Рудин» И. С. Тургенева). Возле не менее романтического Авдюхина пруда, но с другим поэтическим знаком, места «глухого и мрачного», описание которого настраивает читателя на что-то таинственное и страшное, состоится развязка их романа, заранее уже предопределенная этим символическим пейзажем.
Ночное романтическое нечаянное свидание в саду на скамейке Лизы и Лаврецкого – одна из самых поэтических сцен в романе «Дворянское гнездо». Здесь автор использует все, потом уже ставшие привычными, средства для описания романтического ночного рандеву. Вместе с героем читатель словно путешествует по ночной усадьбе: росистой тропинкой проходит сквозь калитку в сад, идет по липовой аллее к темному фасаду дома, садится на скамейку, слушая, как городские часы пробьют полночь и сторож «дробно поколотит по доске» (VI, 104). Ночной усадебный колорит настроит на восприятие самой божественной музыки в жизни – музыки любви.
Устройство русской усадьбы
Устройство русской усадьбы можно продемонстрировать на примере таких шедевров усадебного зодчества, как Архангельское Юсуповых, Кусково и Останкино Шереметьевых, Качановка Румянцевых-Тарновских и Диканька Кочубеев. При этом следует заметить, что если в конце XVIII-начале XIX в. крупнейшие дворянские усадьбы по своим архитектурным достоинствам мало отличались от дворцовых, то усадьбы дворян со средним и малым достатком были намного проще и скромнее: вместо дворца – усадебный дом или небольшой усадебный домик. Вместе с тем традиционность в планировке усадьбы сохранялась и здесь.
Обращаясь к усадебной архитектуре, небезынтересно будет сообщить учащимся, что к планированию усадеб привлекались крупнейшие архитекторы: Баженов, Бове, Григорьев, Жилярди, Казаков, Кваренги, Камерон; в отделке внутреннего пространства (лепке, росписях, устройстве дизайна) принимали участие известные живописцы и скульпторы: Брюллов, Гонзаго, Замараев, Скотти.
В XVIII в. своеобразными культурными гнездами являлись усадьбы богатых вельмож, удачливых царедворцев. Они и завели тот традиционный образ жизни, который неоднократно описан в литературных текстах. Типичный пример представляет образ жизни Кирила Петровича Троекурова (в романе А. С. Пушкина «Дубровский»), самодурного богатого русского барина, окруженного многочисленной дворней и проводящего свои дни в пышных и обильных застольях, охоте и различных «барских» развлечениях.
В своей практике учитель большей частью обращается к усадьбам второго типа: они чаще представлены в русской усадебной повести и образуют усадебный хронотоп художественных текстов, являясь местом заочных экскурсий в процессе знакомства с биографией русских писателей. Это прежде всего Болдино, Тригорское, Петровское и Михайловское, связанные с Пушкиным, Тарханы Лермонтова, Васильевка Гоголя, Спасское-Лутовиново Тургенева, Абрамцево Аксаковых, Карабиха Некрасова, Щелыково Островского.
Основной комплекс поместья обычно располагался на высоком берегу реки (в Михайловском, Тригорском это берег Сороти) или на холме, возвышающемся над природным или искусственном прудом (пример такого размещения усадьбы – Ясная Поляна Толстого). Главные постройки усадьбы воздвигались с установкой на хорошую видимость издалека. Поэтому в богатых усадьбах архитекторы стремились придать центральному зданию усадьбы черты величия и торжественности, как правило, используя классицистические архитектурные формы. Так выглядел Большой яснополянский дом, в котором родился Л. Н. Толстой, снесенный впоследствии в 50-е годы. Литературные примеры – Покровское Троекурова (огромный каменный дом с бельведером) и Никольское – имение Анны Сергеевны Одинцовой («Господский дом был построен в том стиле, который известен у нас под именем Александровского, дом этот был выкрашен желтою краской, и крышу имел зеленую, и белые колонны, и фронтон с гербом») (VII, 75).
Центральная часть ансамбля усадьбы строилась по принципу трехчастия: посредине господский дом, украшенный колоннами и портиком с фронтонами (на что обращают внимания уже упомянутые нами примеры текстов) и увенчанный куполом. Боковые части – симметрично расположенные по отношению к главному дому флигели. «Эта схема для крупных усадеб воспринималась почти как обязательная, естественно, в многочисленных вариациях, благодаря чему при всем своем общем классицистическом облике и общности композиционной схемы усадебные ансамбли конца XVIII-начала XIX века обладали ярко выраженной индивидуальной характеристикой»[127].
Усадьба создавалась с расчетом на столетия как собственность, переходящая по наследству из поколения в поколение, и символизировала собой социальный и культурный статус дворянской семьи, а вместе с тем и сложившуюся философию усадьбы как «приютного уголка», «золотого века», Аркадии. И все ее компоненты, в том числе и архитектурные детали, служили этой идее. Белые колонны символизировали свет и чистоту, желтые стены здания – «золотой век», зеленые крыши зданий вместе с окружающей зеленью садов и парков – надежду и вечную молодость, обширные поляны и лужайки – Елисейские поля.
В старинных усадьбах центральный комплекс ансамбля дополнялся зданием церкви, выполненной обычно в том же стиле, что и усадебный дом. Храм с устремленным ввысь объемом задавал своеобразную вертикаль в пространственной композиции усадьбы. Роль этой духовной вертикали может играть скромная деревянная церквушка (и даже часовенка, как в романе «Обрыв»). Храм нередко, как в усадьбе Троекурова, располагался на другом холме или поодаль от жилых и хозяйственных помещений и воплощал собой особый мир покоя и незыблемости устоев. В усадебных церквях часто располагались родовые усыпальницы, как бы объединяя в пространстве храма живущих и ушедших хозяев усадьбы, образуя нерасторжимую связь времен и людей. Иногда родовые усыпальницы, как в Ясной Поляне, располагались в нескольких верстах от центральной усадьбы, окруженные густым парком, создающим ощущение вечных сумерек и покоя.
Совершая заочную экскурсию в родовую усадьбу русских писателей XIX в., мы тем самым подготавливаем учащихся к пониманию художественного хронотопа усадьбы. Так, «путешествуя» по Ясной Поляне Толстого, мы одновременно расскажем о планировке усадьбы, которой подчинялись многие богатые дворянские поместья. От главного дома к деревне или проезжему тракту ведет центральная аллея (или «прошпект»), обсаженный деревьями, которая заканчивается сторожевыми башенками. Попав на территорию усадьбы, обратим внимание на две части парка – регулярную («Клины»), расположенную вблизи дома, и ландшафтную («Чепыж»). Переход от одной части к другой осуществляется, как правило, постепенно. Если в «Клинах» все пространство словно организовано при помощи циркуля и линейки, то в «Чепыже» эта «разумная» организация природы ощущается значительно меньше. Афонина роща, кажется, совсем лишена признаков регулярного парка, хотя и сажалась хозяином усадьбы (самим Л. Н. Толстым) в шахматном порядке для создания причудливой игры света и тени.
Ясная Поляна, как и любая дворянская усадьба, строилась с учетом природных факторов, определяемых связью архитектуры усадьбы с садово-парковым ансамблем и «дикой», «непричесанной природой». Первоначально сады и парки создавались «как архитектурные сооружения, способные возбуждать по преимуществу архитектурные же впечатления»[128]. Но поскольку образование садово-парковой среды осуществлялось на протяжении нескольких десятилетий, то эта связь с эстетическими концепциями прошлого терялась, поэтому Ясная Поляна уже не воспринимается как архитектурно-парковый ансамбль классицизма, хотя, несомненно, его традиции здесь явно ощутимы. Это и трехлучие, ориентированное на ось главного усадебного дома, и, как уже указывалось, геометрически прочерченная сеть дорожек и аллей «Клинов».
В ландшафтной части парка явно видны черты романтического стиля: посадка групп деревьев и кустарников, тщательно подобранных по растительным формам, окраске и цветовым соотношениям; лужайки, деревянные «горбатые» мостики из неошкуренной березы, видовые площадки, беседки, устроенные часто в затаенных уголках.
Важное место в планировке парков играли водные пространства. В Ясной Поляне это искусственно вырытые Нижний, Средний и Верхний пруды, находящиеся на разных уровнях по отношению к уровню моря, а также естественный Большой пруд, упоминаемый в произведениях Толстого. Плакучие ивы над прудами должны были вызвать у посетителей парка состояние меланхолии, связанное с ощущением утрат в быстротекущей жизни.
Две функции русской усадьбы
На материале путешествия по Ясной Поляне можно также раскрыть и две функции русской усадьбы – хозяйственную и культурную. В шестидесятые годы Толстой, как известно, подобно многим русским помещикам, увлекся хозяйственными преобразованиями, используя самые прогрессивные методы ведения хозяйства: изучал агрономию, заводил фермы, выписывал племенной скот и новейшие агротехнические механизмы. Его любимый герой Левин (как и тургеневский Лаврецкий), видящий смысл своего существования прежде всего в возделывании земли, хозяйственной деятельности, во многом может быть прочитан именно через нее.
Хозяйственные нововведения, действительно, стали явлением времени, о чем свидетельствует также замечание И. С. Тургенева в его романе «Отцы и дети» о ферме и неудачной деятельности Николая Петровича, что, впрочем, станет привычным местом в изображении предреформенной и пореформенной помещичьей усадьбы. Можно вообще сказать, что русская литература, уже начиная с «Дворянского гнезда» Тургенева и заканчивая Чеховым и Буниным, пронизана настроением увядания и заката усадебной жизни. И это чувствуется не только на уровне ее экономического уклада, но и поэтики в целом. Можно сказать, что начиная с середины XIX в., в описаниях русской усадьбы все больше звучит элегический тон. Идиллию и оду, характерные для поэтики XVIII в., сменяет элегия, повествование превращается в поэтику воспоминаний[129]. Не случайно даже самое показательное для усадебных произведений Тургенева – роман «Дворянское гнездо» насквозь пронизан элегическим настроением.
Лишь в немногих художественных произведениях описаны плодотворные результаты хозяйственной деятельности владельцев усадьбы. В этом плане показательна тушинская усадьба Дымки в романе И. А. Гончарова «Обрыв» (хотя, впрочем, она мало похожа на помещичью усадьбу, а больше на рабочую слободу, которая с конца прошлого века станет характерной принадлежностью фабричного пейзажа, знаменуя наступление индустриального века).
Вторая важнейшая функция русской усадьбы – «сложение в архитектурной среде усадьбы и в подправленной человеком естественной природе специфически творческой атмосферы, которая способствовала бы развитию и процветанию всевозможных явлений художественной культуры, притом не только пространственных искусств, но, в особенности, литературы, музыки, различных типов зрелищных искусств»[130]. Поэтому путешествие в мир русской усадьбы – это всегда путешествие в ту культурную, творческую среду, которая связана с феноменом формирования русского типа культуры. Если в богатых дворянских усадьбах XVIII в. эта культура еще не была лишена следов барства, то к середине следующего столетия культурные гнезда в большей степени представляли собой подлинную творческую среду, в которой царит культ муз и искусств. Здесь не просто поют, музицируют, рисуют, разговаривают и спорят на культурные темы, но складываются художественные вкусы, формируются эстетические представления.
Приемы погружения в культурную среду усадьбы
На уроках литературы продуктивными являются несколько приемов погружения в культурную среду усадьбы. Это прежде всего составление сценариев уроков (или их фрагментов), представляющих собой посещение усадебных художественных салонов во время изучения биографии писателя, и выявление непосредственно в тексте эпизодов, связанных с описанием художником слова этих усадебных культурных очагов, а также авторских способов их представления читателю. Практически в каждом романе Тургенева присутствуют такие описания. Особенно много внимания уделяет им писатель в трех первых своих романах, задающих культурно-пространственные рамки его «дворянских гнезд». Вот как, например, описан им этот салон в романе «Рудин»: «Салон уже начался. На широкой кушетке, подобрав под себя ноги и вертя в руках новую французскую брошюру, расположилась хозяйка; у окна за пяльцами сидели: с одной стороны дочь Дарьи Михайловны, а с другой m-lle Boncourt – гувернантка, старая и сухая дева лет шестидесяти, с накладкой черных волос под разноцветным чепцом и хлопчатой бумагой в ушах; в углу, возле двери, поместился Басистов и читал газету, подле него Петя и Ваня играли в шашки, а прислонясь к печке и заложив руки за спину, стоял господин небольшого роста… – некто Африкан Семенович Пигасов» (V, 209).
Во втором романе Тургенева культурная среда дома Калитиных, как уже отмечалось в предыдущем разделе, обрисована прежде всего при помощи музыки, хотя и здесь ведутся идеологические и политические диалоги. В этой связи особенно показателен идеологический поединок между Лаврецким и Паншиным, содержащий явную аллюзию на размежевание на «наших» и «ненаших», т. е. западников и славянофилов, произошедшее в 1842 г.
В романе «Накануне» в доме Стаховых хозяева и гости говорят и спорят о политике, общественных проблемах, философии, искусстве. Зоя Мюллер поет и музицирует, Шубин рисует и лепит, Берсеньев увлекается историей. Каждый из претендентов на руку Елены Стаховой представляет один из путей выбора смысла жизни: для Шубина это искусство, для Берсеньева – наука, Курнатовского интересует служебная карьера, а Инсарова – освободительная борьба за независимость родины. Выбор Елены как раз знаменует те новые тенденции в жизни дворянских усадеб в конце 1850-х гг., когда молодежь увлекается идеями общественного переустройства, отказываясь от тихого, романтически-созерцательного существования, что приводит в конечном счете и к угасанию самой поэзии усадебной жизни.
Еще один прием знакомства с дворянскими усадьбами в процессе изучения художественных текстов описан В. Г. Маранцманом[131]. Ученый-методист предлагает предварить систему уроков по изучению романа А. С. Пушкина «Дубровский» заочной экскурсией в подмосковное поместье Юсуповых Архангельское, затем в имение Петровское (принадлежащее ПА. Ганнибалу), а также в пушкинское Михайловское, т. е. те места, где бывал автор произведения и которые могли найти свое отражение в тексте. Как справедливо заметил В. Г. Маранцман, заочная экскурсия в эти усадьбы значительно активизирует воображение школьников, их образное мышление, поможет ввести в атмосферу произведения, даст представление о колорите исторической эпохи и топосе действия романа, вызовет у них интерес к чтению. Этот прием достаточно часто встречается на уроках литературы, он позволяет задать культурный контекст изучения произведения.
Сады разных типов и их культурно-семантические знаки
Значительно реже встречается прием развертывания культурно-семантических образов дворянских усадеб, упоминание о которых имеется в произведении. То, что автор лишь наметил и что было понятно для его культурного читателя, предполагает «раскодировку», требует комментирования, создания в воображении школьников более комплексной картины усадьбы. К сожалению, художественное мышление наших современников не способно в настоящее время постигать символические и аллегорические смыслы деревьев, кустов, цветов, фонтанов, скульптур, дорожек, аллей, «зеленых кабинетов», прудов и других водоемов. В связи с этим учителю-словеснику следует приобрести необходимые знания о садово-парковых стилях, которые он также будет формировать и у своих воспитанников, поскольку сад выражает эстетико-философское «представление о мире, отношении человека к природе; это микромир в его идеальном выражении», связь с «эстетическим климатом эпохи»[132].
Выделяются следующие типы садов, о которых в той или иной мере можно говорить и при изучении литературных произведений. Это сады Средневековья (монастырские, рыцарские, княжеские), восточные сады с цветочной символикой, сады Ренессанса, сады итальянского и голландского барокко, французского классицизма, русские светские сады XVII в., сады рококо, романтизма, сады смешанные (эклектические – с середины XIX в.), хотя между разными стилями нет резких переходов, так как деревья растут медленно и застают несколько культурных эпох.
Так, монастырские сады («винограды обильные») упоминаются в «Слове о погибели Русской земли», более конкретное упоминание о монастырском саде встречается в Киево-Печерском патерике в рассказе «О святом Григории Чудотворце. Слово 28»: «Имел этот блаженный Григорий маленький палисадник, где выращивал овощи и плодовые деревья»[133]. Эта деталь о саде и огороде служит для качественной характеристики святого Григория, в трудах праведных проводящего время. При этом он не только возделывает землю, но и свою душу совершенствует. Не случайно в христианской литературе созидательный труд часто сравнивается с трудом садовника, виноградаря, становится метафорой духовного труда вообще. В том же «Киево-Печерском патерике» подвижнический труд игумена монастыря Феодосия, распространяющего православную веру, сравнивается с «насадителем виноградника Христова, побеги которого протянулись до моря и до рек разрослись ветви его»[134]. Эта метафора сад-вертоград особенно часто употребляется в литературе барокко для обозначения труда писателя. Симеон Полоцкий даже свою главную поэтическую книгу назвал «Вертоград самоцветный».
Монастырский сад символизировал собой райский уголок, жизнь вне суеты мирской, место трудов и отдохновения. В них все имеет и практическое назначение и аллегорический смысл, например колодец, который обычно находился в центре монастырского сада на месте крестообразного пересечения дорожек. Он и источник для питья и аллегория познания глубинного смысла веры. Такую же символику имеют отдельные деревья, фонтан.
В рыцарских романах сад символизирует весну, счастье, блаженство. Особую символику имеют в нем цветы, наиболее часто упоминаются розы, обозначающие любовь к Богу или женщине, и белая лилия – символ чистоты и непорочности.
Представить сад эпохи Ренессанса учащимся будет необходимо, читая трагедию У. Шекспира «Ромео и Джульетта» (сцены в саду Капулетти). Кое-какие детали есть в самом тексте: каменная ограда сада, дерево гранат, благоуханье цветов. Так как сады Ренессанса должны были отражать идею преображенного человека и преображенной им природы, то в пьесе Шекспира сад с его запахами, благоуханьем, четкими геометрическими формами, аллегорическими скульптурами мифологических богов создает особую атмосферу возвышенной любви героев. Действие не случайно происходит в саду: сад является своеобразным продолжением дома, но если дом – замкнутое пространство, то сад воплощает свободу чувств человека, хотя ограда, через которую постоянно приходится перелезать Ромео, символизирует грань между гармонизированной человеком природой и природой неокультуренной. Гранатовое дерево, соловей и жаворонок, приводимые в тексте (как и другие деревья, цветы и птицы, которые разводили в садах Ренессанса и часто упоминаются в лирике Шекспира, Петрарки, Камоэнса: лавры, кипарисы, самшитовые кусты, лимонные деревья, розы, фиалки, маргаритки и т. д.), должны были говорить сердцу и уму человека о красоте и гармонии мира, подчеркивать несуразность и дикость всего, что мешает людям любить и жить.
В литературных произведениях XIX в. часто встречаются упоминания о садах Классицизма, голландского барокко и романтизма. Они говорят о пристрастиях их владельцев, их культурно-ценностных ориентациях, являются своего рода культурным фоном для развития действия.
Своеобразной легендой для русской литературы и культуры стал Летний сад с ярко выраженными чертами стиля голландского барокко, которому отдавал предпочтение в своих культурных пристрастиях русский император-реформатор. В нем происходят многие события в жизни людей, памятные встречи (например, встреча юного Шевченко с художником Сошенко). Этот петербургский сад, необычайно насыщенный мифологическими образами и аллегорически значимыми объектами, с непременными павильонами эрмитажа, где содержались художественные коллекции, со времен Петра I создавался как своеобразная академия изучения европейской культуры. Не случайно излюбленным местом прогулок дворянских детей в сопровождении учителей-наставников в начале XIX в. был именно Летний сад. Одно из свидетельств этому – указание о детстве Онегина. Примечательно и то, что именно в этом петербургском саду установлен памятник отцу русской басни – дедушке Крылову, произведения которого по своему аллегорическому смыслу имеют так много общего с сюжетами басен Эзопа и Лафонтена, закрепленными в скульптурных группах одного из уголков сада.
Другая особенность этого сада в стиле голландского барокко – обилие в нем цветов, уединенных «зеленых кабинетов», что превращало сад в «приют трудов, спокойства, вдохновенья». Именно этим он и привлекал Пушкина, который в письме к Н. Н. Пушкиной от 11 июня 1834 г. писал: «…Летний сад мой огород. Я вставши от сна иду туда в халате и туфлях. После обеда сплю в нем, читаю и пишу. Я в нем дома» (XV, 157).
Людям 20-30-х годов XIX в., предпочитавшим ландшафтные парки, архаичными казались сады и дворцы, выстроенные в стиле парадного классицизма. Отсюда и понятна ирония автора в описании имения покойного дяди Онегина с «огромным, запущенным садом», «замком», построенным «во вкусе умной старины» (VI, 31), гостиной со штофными обоями и портретами царей на стенах. Эти подробности как нельзя лучше говорят об эстетических вкусах дяди Онегина, человека ушедшего века. Прием контраста, несоответствия торжественных «покоев» «почтенного замка» и заурядной жизни «деревенского старожила» (VI, 32) создает комический эффект в повествовании, и поэтому вполне понятным становится иронический монолог Онегина, с которого и начинается роман.
Можно также догадаться, почему автор уточняет, что дом дяди Онегина был построен «во вкусе умной старины», т. е. стиле классицизма. Для передовых людей начала нового века регулярный сад являлся символом абсолютизма, насильственного подчинения свободной природы (как и свободного духом человека) чьей-то воле. Их предпочтения были отданы нерегулярному, ландшафтному саду, изобретенному в либеральной Англии. Различия между двумя типами этих садов, как точно подметил Д. С. Лихачев, заключались в том, что «в регулярных стилях была попытка воспроизвести природу в ее структурных и аллегорических формах, создавать как бы некий отвлеченный микромир, тогда как пейзажный парк создавал как бы реальные пейзажи и в большей мере сообразно с характером природы той местности, где он устраивался»[135]. При этом следует уточнить, что через эстетику сада выражалась и гражданская позиция его создателя и его созерцателей.
Одним из первых ландшафтных садов в России был Царскосельский сад. Он упоминается в тексте романа А. С. Пушкина «Капитанская дочка» в эпизоде случайной встречи Маши Мироновой со «знатной дамой», оказавшейся, как потом выяснилось, самой императрицей. Такая неофициальная, домашняя встреча, неожиданным образом решившая судьбу героини, не могла состояться в чопорном регулярном саду. Регулярные сады создавали атмосферу парадной торжественности и помпезности, ландшафтные были больше связаны с выражением внутренней, интимной жизни человека. Нижеприведенный пейзаж из романа Пушкина настраивает читателя на то, что в жизни героини должно произойти что-то прекрасное, чудесное: «Утро было прекрасное, солнце освещало вершины лип, пожелтевших уже под свежим дыханием осени. Широкое озеро сияло неподвижно. Проснувшиеся лебеди важно выплывали из-под кустов, осеняющих берег» (VIII, кн. I, 371).
Известно, что сама Екатерина II, неуклонно утверждающая идею абсолютизма, вовсе не была чужда просветительских идей, как и возвышенных движений души. Именно ландшафтный сад служит в романе своеобразной проекцией этой стороны натуры императрицы, которая так любила нерегулярные сады, внедряя их в русскую культуру. В письме к Вольтеру она признавалась об этом своем увлечении ландшафтными садами: «Я ныне люблю до безумия Английские сады, кривые дорожки, отлогие холмы, озерам подобные пруды, архипелаги на твердой земле, а к прямым дорожкам, однообразным аллеям чувствую великое отвращение…»[136].
В романе Пушкина как бы присутствуют две Екатерины: одна неофициальная – «знатная дама», вписанная в контекст ладшафтного сада, другая – официальная – императрица, увиденная Машей в парадном интерьере дворца.
Типы усадеб в романе А. С. Пушкина «Дубровский»
Нередко в одном произведении встречается указание на несколько стилей садово-паркового искусства. Так, в упомянутом романе А. С. Пушкина «Дубровский» говорится сразу о трех усадьбах с различными типами садов. Читателю по нескольким деталям необходимо восстановить целостную картину. Усадьба Троекурова, человека грубого, «выказывающего в домашнем быту» «все пороки человека необразованного» (VIII, кн. I, 161), вполне соответствовала склонностям и характеру хозяина. Она была возведена в стиле классицизма, о чем свидетельствует «огромный каменный дом» с бельведером (VIII, кн. I, 175), «старинный сад с его стриженными липами, четвероугольным прудом и правильными аллеями» (VIII, кн. I, 207)[137]. Усадьба явно не соответствовала эстетическим вкусам времени, в котором происходит действие, но поскольку Кирила Петрович был человеком «довольно ограниченного ума» (VIII, кн. I, 161), лишенным сколь-нибудь выраженных культурных потребностей, он поддерживал усадьбу в том состоянии, в котором она ему досталась по наследству. Монументальный, парадный стиль как нельзя лучше передавал его кичливость, его стремление к внешним эффектам, демонстрации своего богатства и влияния, а также подчеркивал широту и размах натуры самодурного русского барина, который проводил время в пирах («накрывали стол на восемьдесят приборов» – VIII, кн. I, 191), диких забавах и развлечениях, псиной охоте. Роман Маши Троекуровой и Владимира Дубровского, возникший в такой усадьбе, лишенной семантических знаков усадебного романа, заранее был обречен на неудачу.
Совсем иной представлена в романе усадьба князя Верейского Арбатово, соединившая в себе сады рококо и романтизма. Ее владелец, живший за границей и идущий в ногу с модой, старался быть человеком изысканного вкуса и стремился в своем имении внедрять все нововведения. Вот почему ему не понравился сад Троекурова, так как, по замечанию автора, он любил «английские сады и так называемую природу» (VIII, кн. I, 207).
В описании усадьбы князя Верейского очень много культурных знаков, которые вместе с фотографиями или видеосъемками Павловска и подмосковного Архангельского помогут читателю совершить заочное путешествие по этому имению. Сначала обратим внимание на архитектуру господского дома, «выстроенного во вкусе английских замков» (VIII, кн. I, 209). Для стиля рококо, как и романтизма (в этом плане весьма показателен дворец Воронцова в Алупке, бывшего «начальника» Пушкина), было характерно смешение разных национальных стилей, обращение к готике, восточным стилям.
Пейзаж, обрамляющий дом князя («чистые и веселые избы крестьян», «густозеленый луг, на котором паслись швейцарские коровы, звеня своими колокольчиками» – VIII, кн. I, 209), напоминает буколистическую картину в духе Ватто или Буше, что весьма было характерно для рококо, стремящегося создать идиллию сельской жизни.
Особое внимание обратим на ландшафтный сад князя Верейского, соединяющий в себе разные виды искусств: парковое искусство, архитектуру и скульптуру и как продолжение этого перечня – живопись. Вот почему не случайно князь знакомит своих гостей, Кирилу Петровича и Машу, со своей картинной галереей. Содружество искусств в садах рококо и раннего романтизма должно было вызывать разнообразие чувств: зрительных, слуховых, даже вкусовых и обонятельных. Поэтому игра духового оркестра, фейерверк и изысканные обед и ужин – составные части этого культурно-семантического пласта. Дополняют целостную картину сада романтические знаки: уединенные острова, беседки, пещеры, гроты, мраморные статуи, памятники с таинственными надписями, которые должны были вызывать у его посетителей множество чувственных и понятийных ассоциаций, ощущение совпадения в настроении природы и души. Так, совершая «экскурсию» по имению князя Верейского, читатель одновременно учится читать эту великолепную «книгу», созданную совместно человеком и природой.
Все имение создает иллюзию счастливой жизни, говорит об изысканности и галантности его хозяина, кажущегося полной противоположностью невежественному Троекурову. Но внешнее впечатление оказывается обманчивым, что вскоре откроется и Маше Троекуровой и читателю. Утонченный Верейский на самом деле эгоистичен, лишен необходимых душевных качеств: благородства, уважения, любви и сострадания к другим. Не считаясь с чувствами героини, он вступит с ней в брак, обрекая ее, по сути, на вечные страдания и душевную муку. Поэтому он окажется даже бесчеловечнее необразованного Троекурова, который иногда способен на благородные поступки, Верейским же движет только развращенный ум.
Усадьба Андрея Гавриловича Дубровского Кистеневка (по описанию так похожая на родовое имение автора – Михайловское) лишена всяких художественных изысков. О каком-либо художественном стиле в планировке «серенького домика с красной кровлей» (VIII, кн. I, 175) и сада здесь говорить не приходится. Даже двор, «некогда украшенный тремя правильными цветниками» (VIII, кн. I, 175), т. е. английскими клумбами, к моменту развертывания событий «обращен был в некошеный луг» (VIII, кн. I, 175). Все в имении говорит о бедности его хозяина, который был не в состоянии следовать европейской моде.
Перед нами обыкновенный домик небогатого русского дворянина. Но здесь царят добрые патриархальные отношения между помещиком и его крестьянами, в то время как в имении князя Верейского вообще мужиков не видно, так как хозяин совершенно равнодушен к ним, а крестьяне Троекурова – холопы, и между ними и их господином не может быть простых, естественных человеческих отношений. При этом крестьяне Дубровского не предстают перед читателем сплошной однородной толпой, а наделяются индивидуальными чертами. Запоминается сразу старый кучер Антон, сентиментальный дядька, напоминающий Савельича, добродушная няня Владимира Орина Егоровна (так похожая на няню самого Пушкина), кузнец Архип, спасший кошку, но не пожалевший приказных. Крестьяне Дубровского привязаны к своему хозяину, потому что видели в нем близкого им человека, «отца», разделяли его горе и решились вместе с ним мстить его обидчикам.
Так, идя от конкретных «архитектурных» образов усадьбы в процессе изучения художественного текста, мы выходим к важнейшему хронотопу в русской литературе – хронотопу усадьбы, воплощающему в себе усадебно-помещичий и крестьянский мир. Фактически в каждом произведении русской классики в художественном центре находится такой хронотоп, который можно осмыслить, исходя как из философско-эстетических взглядов писателя, так и расшифровки семантических знаков усадебной культуры.
КРУГ ПОНЯТИЙ
Хронотоп, усадебная повесть, архитектурно-парковый ансамбль, интерьер усадьбы, регулярный и ландшафтный парк, культурно-семантические знаки садов, монастырский сад, сады голландского барокко, рококо, романтизма.
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Раскройте жанровые особенности усадебной повести и ее культурные знаки.
2. Расскажите об устройстве русской усадьбы (на материале усадьбы одного из русских писателей).
3. • Создайте сценарий заочной экскурсии в пушкинское Михайловское или тургеневское Спасское-Лутовиново.
4. • Раскройте две функции русской усадьбы. Прокомментируйте их на материале описания усадьбы князя Болконского в романе Л. Н. Толстого «Война и мир».
5. Прокомментируйте приемы погружения в культурную среду усадеб, описанных в художественных текстах.
6. • Расскажите о садах разных типов и их культурно-семантических знаках. Приведите примеры литературных произведений, в которых они встречаются.
7. Как разные типы усадеб организуют культурное пространство романа А. С. Пушкина «Дубровский»?
8. • Расшифруйте культурно-семантические знаки дворянских усадеб в романе А. С. Пушкина «Евгений Онегин».
Глава 6. Литература и архитектура
Архитектура и литература как смежные искусства
Одним из самых долговечных искусств, преодолевающих забвение времени, является архитектура – своеобразная книга человечества, запечатлевающая его религиозные и гражданские устремления, эстетические и этические нормы. Это материальное, зримое искусство, которое завоевало трехмерное пространство, «очеловечило» его. Н. В. Гоголь назвал архитектуру «летописью мира», которая «говорит тогда, когда молчат и песни, и предания» (VI, 88). Говорит о нравах, быте людей, населяющих этот город или страну, их образе жизни, их истории, культуре. Архитектура пластически воплощает особенности менталитета людей определенной эпохи и его формирует. Казалось бы, литература как временной вид искусства очень далека от трехмерного пространственного искусства – архитектуры, но, на самом деле, их внутренние связи достаточно глубоки. Это легко проследить не только на уровне художественного метода или стиля, общего для нескольких видов искусств, например монументальный стиль в древнерусской архитектуре и литературе, но и тяготении литературы к архитектурной композиции, архитектурно-пространственному видению мира.
Главным, что объединяет литературу и архитектуру, является ритм. В архитектуре он создается повторением линий, объемных соотношений, форм, интервалов, периодов. В литературе – чередованием ударных и безударных слогов, фонетическим и синтаксическим строем речи, повторами, стилистическими фигурами, интонацией текста, его композицией. Каждый архитектурный объект, как и художественный текст, имеет свой ритм, вызывает определенное настроение. Строгие ритмические периоды архитектурных сооружений, выполненных в стиле классицизма, создают впечатление величия и покоя, вычурность барокко – ощущение суетности и прихотливости, эклектика романтизма – таинственности и загадочности. Вторым, общим компонентом формы для архитектуры и искусства слова следует назвать пропорцию, то есть соразмерность, соотнесенность частей и элементов. В литературе примером такой совершенной пропорции являются стихи, написанные в форме сонета или октавы. В архитектуре пример совершенной пропорции – это «золотое сечение» (термин Леонардо да Винчи).
Архитектура наиболее наглядно демонстрирует главный принцип искусства – единство формы и содержания. Кроме того, красота и гармония в ней непременно сочетаются с практической целесообразностью, то есть одновременно архитектура имеет эстетическое и прикладное значение. Архитектура использует эмблематику, символику, заимствованную из литературного творчества, особенно это явно видно в произведениях, близких к эстетике барокко.
Осуществление связи между архитектурой и литературой на уроках словесности
До недавнего времени в теории и технологии литературного образования мало уделялось внимания взаимодействию этих двух искусств. Если и привлекались на уроках словесности иллюстрации с изображением произведений архитектуры, то главным образом для создания представлений об определенных историко-культурных направлениях в искусстве. И только выход из печати программы под редакцией В. Г. Маранцмана[138] позволил решать эту проблему на новом качественном уровне. Так, в выделенном авторами программы разделе «Литература и архитектура» содержатся установки на осуществление концептуальной связи между этими искусствами как на уровне ассоциаций («Золотое слово» Святослава – Дмитриевский и Успенский соборы во Владимире), так и на уровне единства архитектурных стилей. В этом плане интересными кажутся сближения поэмы В. Маяковского «Облако в штанах» и конструктивизма в архитектуре 1919-1920-х годов. Эту связь авторы просматривают не только в модели мира двух искусств, но и в образной символике.
Привлечение архитектуры на уроках литературы выполняет ряд функций: помогает создать образ эпохи, запечатленный в архитектурном образе; способствует проникновению в художественный мир литературного текста, настроение его героев; расширяет представление учащихся о культурной эпохе, художественном стиле; проясняет мироконцепцию автора, создает модель национального образа мира; помогает понять архитектонику художественного текста.
Существует множество форм работы на уроках по установлению взаимодействия этих двух искусств:
– анализ текста, содержащего архитектурные образы, создающие городской пейзаж (А. С. Пушкин «Медный всадник»);
– заочная экскурсия по городу, по местам действия в изучаемом произведении;
– анализ фотографий, произведений графики и живописи, видеофильмов, посвященных памятникам архитектуры, упоминаемых в тексте или указывающих на место и время действия;
– сопоставление ряда текстов, описывающих один и тот же объект архитектуры или архитектурный комплекс, селение, город;
– создание рисунков архитектурных произведений, интерьеров к изучаемому тексту или подбор готовых картинок, фотографий;
– сопоставление личных впечатлений от литературного памятника с теми, которые вызвало рассматривание его фотографий, описаний в тексте;
– подбор интерьеров, жилищ, в которых могли бы жить герои того или иного литературного произведения;
– литературное сотворчество с писателем (описывание интерьеров, архитектурных объектов, упоминаемых в тексте с привлечением их фотографий, рисунков или свободное фантазирование).
Внутритекстовая связь литературы и архитектуры
Кроме надтекстовых сопоставлений архитектуры и литературы существуют внутритекстовые сопоставления. До недавнего времени в методической науке они практически не рассматривалась, хотя такие сопоставления помогают проникнуть в художественные хронотопы произведения, его образную структуру, художественную мироконцепцию в целом. Только в последнее время появилась работа, посвященная методическому аспекту данной проблемы[139].
Можно выделить несколько кругов вопросов, которые необходимо решать учителю-словеснику, устанавливая внутреннюю связь между двумя рассматриваемыми искусствами: 1) выяснение роли вводимых автором в литературное произведение описаний архитектурных ансамблей, экстерьеров и интерьеров, садово-парковых комплексов; 2) художественные способы их подачи; 3) композиционно-образная связь архитектоники художественного текста и явлений архитектуры; 4) концептуальная связь этих искусств на уровне хронотопов и модели мира в определенной культурной парадигме, 5) система работы с образами архитектуры при изучении конкретных тем школьного курса литературы.
Наиболее типичный случай обращения к архитектуре на уроках литературы – выяснение места действия, описания его историко-бытовой и культурной атмосферы. Так, например, в «Капитанской дочке» А. С. Пушкин очень скупо, всего при помощи нескольких деталей рисует Белогорскую крепость, но в воображении читателя возникает достаточно ясное представление о захолустном гарнизоне, где предстоит служить Петру Андреевичу Гриневу. Интересно, что автор строит свое описание на контрасте: вместо воображаемых героем «грозных бастионов, башен и вала» он видит «деревушку, окруженную бревенчатым забором». А когда он въезжает на ее территорию, то видит у ворот «старую чугунную пушку», «тесные и кривые улицы», «избы низкие и большей частью покрытые соломой» (VIII, кн. I, 294). За описанием крепости представление о глубинной России конца XVIII века, затерянных на ее необъятных просторах скромных деревушках, в которых размещались небольшие военные гарнизоны. Вместе с тем данные «архитектурные» образы позволяют передать и состояние души героя: в бескрайней оренбургской степи, в деревенской глуши ему суждено проводить лучшие молодые годы.
Такая же немногословность свойственна и другим пушкинским описаниям зданий, крепостей (Оренбургской и Казанской) и интерьеров домов, но вместе они создают единую картину русской провинции, передают дыхание ее дремотной жизни, быта, «развороченного» восстанием Пугачева.
Нередко описание внешнего вида дома, его интерьера играет в произведении важнейшую характерологическую роль, является способом косвенной характеристики как героев, так и среды. Имеются произведения, в которых авторы настойчиво обращаются к этому способу типизации. Показательной в этом плане является поэма Н. В. Гоголя «Мертвые души», в ней архитектурный элемент – непременный атрибут всех авторских описаний – от усадеб помещиков до губернского города в целом. У каждого из дущевладельцев, к которым совершает свое путешествие Чичиков, дом в индивидуальном вкусе, подчеркивающий главные черты его хозяина.
Так, у мечтательного Манилова, бесхозяйственного, но претендующего на исключитальность и романтическую изысканность, «дом господский стоял на юру, то есть на возвышении, открытой всем ветрам, каким только вздумается подуть» (VI, 22). Претензии хозяина на образованность и вкус очень тонко подмечают следующие детали: клумбы в английском стиле «с кустами сирени и желтых акаций» и беседка «с плоским зеленым куполом, деревянными голубыми колоннами и надписью: «Храм уединенного размышления» (VI, 22). Под стать Манилову и его «кабинет». Его описание автор начинает почти теми же словами, какими представляет портрет своего героя: «Комната была, точно, не без приятности» (VI, 33). Сравните: «черты лица его были не лишены приятности». Курсив мой. – В.Д.).
Как и при описании всех остальных комнат Манилова, так и в данном описании автор иронически подмечает отсутствие у хозяев дома подлинного вкуса и даже стремления к элементарным удобствам: вся обстановка передает вечное желание Манилова «наблюсти деликатность», то есть произвести впечатление. Вместе с тем «кабинет», как и другие комнаты, мало соответствуют его прямому назначению: «… стены были выкрашены какой-то голубенькой краской вроде серенькой; четыре стула, одно кресло, стол, на котором лежала книжка с заложенною закладкой ‹…› несколько исписанных бумаг; но больше всего было табаку. Он был в разных видах: в картузах и в табачнице, и, наконец, насыпан был просто кучею на столе» (VI, 31–32).
Если об «архитектурных достоинствах» «небольшого домика» Коробочки и дома с крыльцом Ноздрева автор нам ничего не говорит, обращая лишь внимание на их интерьеры, то на описании домов Собакевича и Плюшкина он останавливается специально, на что непременно при изучении поэмы необходимо направлять внимание учащихся. В доме Собакевича, как и в крестьянских постройках, все говорит о прочности и долговечности и каком-то «неуклюжем порядке», что образно характеризует этого героя с говорящей фамилией и к тому же всей своей фигурой и «манерами» похожего на «медведя средней величины». Приведем полностью это репрезентативное описание дома Собакевича: «… посреди виднелся деревянный дом с мезонином, красной крышей и темно-серыми или, лучше, дикими стенами, – дом вроде тех, как у нас строят для военных поселений и немецких колонистов. Было заметно, что при постройке его зодчий беспрестанно боролся со вкусом хозяина. Зодчий был педант и хотел симметрии, хозяин – удобства и, как видно, вследствие того заколотил на одной стороне все отвечающие окна и провертел на место их одно маленькое, вероятно понадобившиеся для темного чулана. Фронтон тоже никак не пришелся посреди дома, как ни бился архитектор, потому что хозяин приказал одну колонну сбоку выкинуть, и оттого очутилось не четыре колонны, как было назначено, а только три» (VI, 93–94).
Совсем иным выглядит дом Плюшкина (его автор называет «дряхлым инвалидом» VI, 112). В отличие от особняка Собакевича, который несмотря на свою неуклюжесть выглядел постройкой прочной, добротной, «странный замок» Плюшкина (эпоха рыцарства ушла, а теперь предстала в виде пародии) говорит о страшном запустении в усадьбе его хозяина. Читатель невольно обращает внимание на прохудившеюся крышу, «нагую штукатурную решетку» стен, окна, закрытые ставнями или забитые досками. Вместе с тем многие детали, и прежде всего бельведеры на крыше, «уже пошатнувшиеся» и «лишенные когда-то покрывавшей их краски» (VI, 112), свидетельствуют о прежних, каких-то привлекательных временах в жизни Плюшкина. Сейчас жизнь заглохла. Подслеповаты не только два из оставшихся открытыми окон, тьма и мрак и в душе героя, превратившегося в «прореху на человечестве».
Детали интерьера комнат героев дополняют представление о самих персонажах: у Плюшкина все свидетельствует о полной победе старости и даже смерти над молодостью и жизнью. Сам хозяин дома, «не то ключник, не то ключница» превратился в ненужную ветошь этого «странного замка», хаотического склада нелепых вещей.
При помощи описаний интерьера дома Гоголь не только представляет читателю своих героев. Иногда вещи, как в кабинете Собакевича, являются своеобразными двойниками их владельцев: «все было прочно, неуклюже в высшей степени и имело какое-то странное сходство с самим хозяином дома: в углу гостиной стояло пузатое ореховое бюро на пренелепых четырех ногах; совершенный медведь. Стол, кресла, стулья – все было самого тяжелого и беспокойного свойства; словом, каждый предмет, каждый стул, казалось, говорил: «И я тоже Собакевич!» или: «И я тоже очень похож на Собакевича!» (VI, 96).
В некоторых случаях интерьер не только представляет читателю бытовую среду и героев произведения, но и приобретает характер широкого философского звучания. Так, в комнате, куда поместила Коробочка на ночлег Чичикова, обвешанной «старенькими полосатыми обоями» и старинными зеркалами между окон «с темными рамками в виде свернувшихся листьев» (VI, 45), между картинами с изображением птиц «висел портрет Кутузова и писанный масляными красками какой-то старик с красными обшлагами на мундире, как нашивали при Павле Петровиче» (VI, 47). Деталь очень интересная: пошлому быту современности задается исторический и даже героический контекст.
Героическая история взирает на «холодные, раздробленные, повседневные характеры» (VI, 134) и в гостиной Собакевича. Здесь среди картин, изображающих дородных греческих полководцев, «гравированных во весь рост», находится портрет известного героя войны 1812 года – Багратиона. Правда, отечественная история здесь представлена в виде лубка, адаптированного к быту: поэтому Багратион изображен «тощим, худеньким, с маленькими знаменами и пушками внизу и в самых узеньких рамках» (VI, 95).
Героическое, «Илиада» здесь напоминает об утраченном богатырстве, звучит как упрек современности («Багратион с орлиным носом глядит со стены чрезвычайно внимательно» на торг Чичикова и Собакевича) и одновременно пародируется, как бы «сходит с картин на землю»[140]. «Военные действия» ведут дети Манилова с героическими именами – Алкид и Фемистоклюс, – которые сводятся к тому, что Фемистоклюс кусает Алкида за ухо. С бесстрашным, отчаянным храбрецом, неким поручиком, вдохновляемым на битву самим Суворовым, сравнивается Ноздрев в «батальной сцене» с Чичиковым, которая неожиданно возникает после его мошеннической игры в шашки.
Обращается автор к архитектуре и для описания быта, а через него и бытия, нравов губернского города. Причем, эти описания «полусмешные, полусерьезные», что создает особый комический эффект в соответствии с авторским способом изображения действительности – «смеха сквозь слезы».
Это чувствуется уже в первом таком описании – представлении номера Чичикова, «покоя» в губернской гостинице с «тараканами, выглядывающими, как чернослив, из всех углов» (VI, 8), а также экстерьера гостиницы в целом, отвечающей, по словам автора, вполне ее «внутренности». Все здесь говорит об отсутствии вкуса, халатности хозяев, неуютности: и непомерная длина гостиницы, напоминающей казарму, и неоштукатуренные «грязноватые кирпичики» нижнего ее этажа, и наводящая тоску «вечная желтая краска» (VI, 8). Дополняет картину опереточный сбитенщик у самовара «из красной меди и лицом таким же красным, как самовар» (VI, 8).
Изрядную долю сарказма приобретает смех Гоголя при описании «экстерьера и интерьера» губернского города. Дома однообразные «в один, два и полтора этажа, с вечным мезонином», которые местами «казались затерянными среди широкой, как поле, улицы и нескончаемых деревянных заборов» (VI, 11). Особенно много безвкусицы и пошлости в нелепых вывесках, «украшавших» магазины и дома. «Приукрашенная» природа в городе, в отличие от полудикого, «неистового сада» Плюшкина, чахнет и умирает, не случайно автор, рассказывая о губернском саде, указывает не на зелень деревьев, а зеленую краску подпорок к ним. Получается, что неживое дерево и живое как бы поменялись местами.
Авторская ирония сменяет сарказм и при описании дома присутственных мест: «большой трехэтажный каменный дом, весь белый, как мел, вероятно для изображения чистоты и душ помещавшихся в нем должностей» (VI, 141). Здесь Гоголь вновь обращается к излюбленному приему травестирования античности: председатель палаты присутственных мест, по своему желанию продлевающий или удлиняющий присутствие, уподобляется Зевсу, «длившему дни и насылавшему быстрые ночи» (VI, 139), «канцелярские крысы», – жрецам Фемиды. Причем Фемида здесь представлена, по словам самого создателя поэмы, «в неглиже и халате»: «Ни в коридорах, ни в комнатах взор их (Чичикова и Манилова. – Уточнение мое. – В.Д.) не был поражен чистотою. Тогда еще не заботились о ней, и то, что было грязно, так и оставалось грязным, не принимая привлекательной наружности» (VI, 141).
Совсем иной характер использования образов архитектуры и интерьера во втором томе «Мертвых душ». Здесь меняется пафос повествования и его топос. В описаниях пейзажей, в особенности вида, который открывается с балкона дома Тентетникова, появляется невиданный простор и свобода, а с ними – ощущение полета и восторга. Сам автор не сдерживается и от лица некого условного персонажа – «гостя», который мог очутиться в этих местах, произносит: «Господи, как здесь просторно!» (VII, 9) В описании дворянских усадеб, лирических пейзажей Гоголь здесь уже выступает как прямой предшественник Тургенева; за поэтическими описаниями – обобщенный образ родины, России.
Архитектурные описания органично входят в пейзажные, создавая ощущение единства природного и человеческого бытия, поэзии «дворянских гнезд», которая не могла быть изображена в условиях «ада» первого тома, пошлой среды и осколочности, раздробленности целостной картины жизни. Показательно, что пейзаж, плавно переходящий в описание усадьбы Тентетникова, увенчивается изображением церкви с золочеными крестами, как бы подчеркивая устремленность земного бытия к небу, Богу: «И над всем этим собраньем дерев и крыш возносилась свыше всего своими пятью позлащенными, играющими верхушками старинная деревенская церковь. На всех ее главах стояли золотые прорезные кресты, утвержденные золотыми прорезными же цепями, так что издали казалось – висело на воздухе ничем не поддержанное, сверкавшее горячими червонцами золото» (VII, 8).
Отличительная особенность второго тома «Мертвых душ» – новый способ организации пространства. Природа и творимая человеком «вторая природа» – архитектура – составляют единство, в основе которого порядок, чувство меры и целесоообразность. В первую очередь это чувствуется при описании усадеб генерала Бетрищева и Костанжогло. Каждое из описаний подчеркивает характерную особенность хозяина. «Кудряво богатый фронтон генеральского дома, опиравшийся на восемь коринфских колонн» и «двор чистый, подобен паркету» (VII, 37) соответствуют величественности и торжественности всей фигуры и поведения «картиннного генерала, которыми так богат был знаменитый двенадцатый год» (VII, 37). Деревня Костанжогло не случайно сравнивается с городом, так живописно и богато «высыпалась она множеством изб на трех возвышениях, увенчанных тремя исполинскими скирдами и кладями» (VII, 58). Во всем чувствуется стремление к порядку, добротности и рачительности самого владельца усадьбы. Подобная добротность и хозяйственность были и в имении Собакевича, но там совершенно отсутствовал вкус и красота, без чего не может быть одухотворенности жизни.
Эти две категории эстетического и этического, полезного в центре диалога между Чичиковым и Костанжогло в IV главе второго тома. Последний, иронизируя над чичиковским пониманием красоты, замечает, что красота не существует сама по себе, она всегда целесообразна и в человеческой деятельности определяется «надобностью и вкусом». В этой связи он приводит пример из области градостроительства: «…лучшие и красивее до сих пор города, которые сами построились, где каждый строился по своим надобностям и вкусам. А те, которые выстроились по шнурку, – казармы казармами…» (VII, 81–82).
Эта мысль о целесообразности красоты, необходимости соединения красоты и пользы наиболее полно раскрывается именно в описании имения и всей деятельности Костанжогло. Те же, кто отрывает одно от другого, как, например, Хлобуев, предстают перед читателем как пустые прожектеры, объясняющие свои неудачи особой ментальностью русского человека. Образованный, не лишенный «познанья людей и света» Хлобуев тем не менее довел свое имение до разорения, так как в нем отсутствовал здравый, практический ум и желание трудиться. Все его хозяйство – «смешение нищеты с блестящими безделушками» (VII, 84). Несмотря на то, что все дома крестьян были «заплата на заплате», в его доме многое поражало «поздней роскошью: «Какой-то Шекспир сидел на чернильнице; на столе лежала щегольская ручка слоновой кости для почесывания себе самому спины» (VII, 84).
Духовный сон, бездействие героев Гоголь ярче всего показывает через описание обстановки. Так, Тентетников, впав в душевную апатию, скуку, запустил свой дом: «В доме завелась гадость и беспорядок. Половая щетка оставалась по целому дню посреди комнаты вместе с сором. Панталоны заходили даже в гостиную. На щеголеватом столе перед диваном лежали засаленные подтяжки, точно какое угощенье гостю, и до того стала ничтожной и сонной его жизнь, что не только перестали уважать его дворовые люди, но чуть не клевали домашние куры» (VII, 25). Нельзя не заметить, как много в приведенном нами фрагменте поэмы общего с описанием обстановки квартиры Обломова на Гороховой. Но стоило приехать к Тентетникову деятельному Чичикову, возродить в нем надежду на счастье, как все в доме преобразилось: «Половина его, дотоле пребывавшая в слепоте, с заколоченными ставнями, вдруг прозрела и озарилась. ‹…› Все приняло вид чистоты и опрятности необыкновенной. Нигде ни бумажки, ни перышка, ни соринки» (VII, 28–29). Гоголь не случайно называл себя бытописателем. Быт он возводил до уровня Бытия как способа и образа жизни человека. Ничто в России не требовало (и не требует сегодня) столько ежедневного труда, даже богатырства, как преобразование нашего заскорузлого быта, разумного, хозяйственного обустройства «экстерьера и интерьера» наших городов и деревень, усадеб и домов в соответствии с эстетическими и этическими нормами жизни. И эта мысль настойчиво проходит через все сохранившиеся главы второго тома.
Храм как национальная модель мира
В архитектуре, как и в литературе, кроме типологических характеристик определенного художественного стиля находит отражение также национальная картина мира. И. Л. Шолпо выделяет три архитектурных образа, три типа храмов, в которых выражены в наиболее концентрированной форме особенности менталитета людей Востока, Запада и России. Это китайская пагода, западно-европейский готический храм, русский православный храм. Действительно, эти архитектурные образы символизируют три художественные и одновременно три религиозные картины мира, которые нашли свое отражение в религиозных и литературных текстах и живописи.
Восточный храм с раскинутыми вширь многоярусными пагодами символизирует собой плавный переход от земли к небу, в отличие от дерзкого взлета к небу и отрыва от земли в готическом храме. Вместе с тем это и концепция времени: в западном мире – представление о линейном времени, где не существует обратимости времен; в восточном мире пагода отражает представление о цикличности движения времени туда и обратно, движения по спирали. Главные архитектурные элементы, которые служат для художественного воплощения этих идей – это горизонталь в восточном храме и вертикаль в западном. Православный храм, в котором доминирующим элементом является арка, благодаря чему горизонтальные и вертикальные конструкции уравновешиваются, своими плавным очертаниям дает представление о неоторванности небесного от земного, возможности достигнуть человеком небесного идеала.
Эти три художественные мироконцепции организуют, как видим, своеобразный диалог разных культур. Но в рассмотренной схеме, как во всякой схеме, много упрощений и условностей. Во-первых, существует значительно большее многообразие мироконцепции, которые выражены как в исторических типах культур и соответствующих им архитектурных сооружениях, так и в национальных моделях мироздания. Вместе с тем в каждой национальной культуре эта модель в течение столетий претерпевает значительные видоизменения и модификации, что очень хорошо можно проследить на разных типах русской храмовой архитектуры, создающих вместе с другими искусствами образ века, отражая аксиологические, эстетические и этические искания времени.
Храмовое зодчество и древнерусская литература
Самые ранние на Руси храмы XI в. – византийские крестово-купольные, разделенные на три продольных нефа-прохода (Киевская Десятинная церковь, Черниговский Спасский собор). Венец архитектуры этого периода – Киевская София, пятинефный собор, обнесенный двумя галереями, восходящий к Константинопольской Софии. В плане соборы этого типа представляют крест, восточную часть которых замыкают апсиды с изображением Христа или Богоматери. Центральный неф в плане составляет квадрат, на котором возвышается гигантский купол, поддерживаемый с помощью колонн и парусов. Поэтому при его созерцании создается впечатление, что он парит в воздухе, точно небесный свод. Купольные соборы символизируют идею храма как образа мира, Вселенной, а также ярко выраженную догматику «нисхождения божества в мир и возможности человека собственными усилиями перейти к Богу»[141].
Литературе этого типа в архитектуре соответствовал стиль монументального средневекового историзма, связанный с феодальными представлениями о мире и обществе, рыцарским пониманием чести, долга, прав и обязанностей человека. Проявлялся он прежде всего в летописях и воинских повестях. Архитектуру и словесное искусство сближали каноничность и церемониальность в изображении человека, который был им интересен в своей сословной и онтологической сущности, а не как отдельный индивидуум.
В архитектуре ХП-ХШ вв. появляются черты, которые позволяют говорить о формировании неповторимого, особенного русского стиля, нарушающего византийский канон. Одной из первых таких построек является церковь Параскевы Пятницы, воздвигнутая зодчим Петром Милонегом. Храм похож на башню, увенчанную куполом. В нем барабан купола поставлен прямо на арки, которые словно выталкивают главу вверх, создавая ощущение устремленности ввысь. Полукруглые закомары, обрамляющие контуры полуцилиндрических сводов, и трехлистные кокошники, и возвышающаяся над ними глава словно выражают в камне главную идею «Слова о полку Игореве» – идею единения под началом Бога и верховного князя. Поэтому вполне закономерно при изучении золотого слова древнерусской литературы обратиться к данному храму, построенному, как считает историк П. Толочко, во времена княжения Игоря Святославича в Чернигове.
Однокупольный храм, в котором меньше парадности и монументальности, стал весьма распространенной культовой постройкой в указанный выше период. В одних случаях он словно напоминал воина-богатыря в боевом шлеме (Спасский собор в Переяславле-Залесском). В других он приобретал лирическое звучание как песнь о красоте и умилении перед чудом. Именно так воспринимается церковь Покрова на Нерли, построенная Андреем Боголюбским в честь Богоматери – покровительницы земли Русской. К этой белой каменной лебеди, или даже кукушке (зигзице), хочется неизменно обращаться, читая лирические строки «Слова о полку Игореве» и прежде всего знаменитый плач Ярославны. Лирическое звучание церкви придают удивительная гармоничность, стройность, пропорциональность частей (ее высота в полтора раза превосходит ширину). Аркатурно-колончатые пояса, резное украшение храма, напоминающее бахрому с рельефными фигурками царя Давида, зверей и птиц создают особое изящество декора. Церковь ассоциируется не только с культом Богоматери, но русской женщины вообще. Ее глава, высокая и легкая, с небольшими окошками, словно распахнутыми очами, напоминает лебединую шею красавицы, а стройные вытянутые колонки главы с резными капителями ассоциируются с высоким девичьим кокошником.
XIV–XV вв. – период освобождения Русской земли от Орды и развитие предвозрожденческих тенденций в искусстве. Их очень хорошо можно проследить на примере московского Успенского собора. Созданный русскими и итальянскими мастерами, он в целом напоминает Успенский собор во Владимире, а его резные украшения – храмы Андрея Боголюбского. Но в интерьере архитектор Фиораванти применил не крестово-купольную, а совсем иную систему планировки собора, используя крестовый свод, который образуется при пересечении двух половинок цилиндра. Такие крестовые своды в каждом нефе храма, они придают сооружению легкость и прочность, а главное – грациозность. Не случайно современникам казалось, что Успенский собор очень похож на царскую палату – свидетельство того, что уходит в прошлое чрезмерная строгость и суровость храмовых построек и в зодчестве, особенно в декоре, все больше появляется элементов не чисто культового назначения.
Если московский Успенский собор явился в архитектуре своего рода связующим звеном между двумя культурными периодами – домонгольским и постмонгольским, то в литературе такую роль сыграла знаменитая «Задонщина», которая и цитатно и по своему пафосу, поэтическим приемам восходит к «Слову…».
XVI в. в отечественном искусстве знаменует новый интересный этап его развития. В архитектуре он связан с появлением не встречаемого ранее типа церкви, напоминающей по своей конфигурации шатер, и значительного усиления декоративного ее оформления. В литературе намечается усиление повествовательного начала, изменения в жанрах прозы, что прежде всего связано с повышенным интересом к биографиям крупнейших государственных деятелей в период образования централизованного Российского государства. Д. С. Лихачев обозначил эти жанрово-поэтические изменения в литературе как «идеализирующий биографизм XVI века»[142]. Эту тенденцию можно очень хорошо проследить на материале биографий Степенной книги, обратив внимание на усложнение языка повествования, введение автором обилия символов, аллегорических образов и частично даже вымысла, что, как известно, не было свойственно литературе предыдущих столетий.
Второе произведение, которое весьма показательно для этических и эстетических представлений людей этого века, – знаменитый «Домострой», созданный протопопом московского Благовещенского собора Сильвестром. Книга дидактического содержания, выстраивающая нормативные отношения в семье, представленной своеобразной моделью государства, – свидетельство значительного обновления содержания древнерусской литературы, которая несет теперь не только сакральное содержание, но и становится «учебником жизни». Ее ритуальный смысл приобретает теперь и житейскую нормативность.
Это соединение идеи государственности с домашними нормами жизни чувствуется и в архитектурной композиции церкви Вознесения в Коломенском, построенной в качестве домашней церкви Василием III. По своему силуэту она напоминает шатер или стройную ель и восходит к деревянному зодчеству. В плане деревянные церкви образуют квадрат (четверик), на котором возведено основание шатра (восьмерик), увенчанный восьмигранным конусом (шатром).
Перед нами храм-башня, храм-сказка, первый шатровый храм, знаменующий отход от византийского крестово-купольного храма: на мощной подклети, напоминающей крестьянскую избу, с широко раскинувшимися галереями и лестницами, вознесся вверх граненый конус. Как лепестки цветка, возвышаясь один над другим, вытянулись килевидные кокошники, высоко в небо устремились треугольники-стрелы шатра, украшенные ромбовидной сеточкой. Весь храм словно парит над берегом Москвы-реки, соединяя в себе приземистость конструкций основания и легкость, невесомость верхней части – двадцативосьмиметрового шатра.
Самым интересным сооружением второй половины XVI в. явился собор Покрова, «что во рву», всемирно известный под названием храма Василия Блаженного, возведенный архитекторами Постником и Бармой. Он в камне выражает две очень важные идеи, имеющие место и в литературе этого периода: идею собирательства земель русских, объединение русского народа и идею Москвы – «третьего Рима» и даже города Иерусалима. Особенно мощно они зазвучали после взятия Московским государством Казани и падения Константинополя, когда Россия стала единственной свободной православной страной.
Как справедливо заметил Лев Любимов, «храм Василия Блаженного являет нам наглядный пример созвучности истинно великого произведения искусства с думами и чаяниями, воодушевляющими народное сознание в данную эпоху»[143].
Храм Василия Блаженного представляет собой не просто церковь, а город из девяти церквей, символизирующий собой священный город Иерусалим, который теперь словно находится в столице православной России. Весьма своеобразна композиция собора-града. В центре ее возвышается храм Покрова с шатром, увенчанным звездами. Крестообразно вокруг него разместились еще четыре храма-шатра, образуя четырехугольник, а между ними, по диагонали, возведены еще четыре маленьких храма с луковицеобразными главами, напоминающими горящие свечи. В архитектуре этого собрания церквей органично соединились архитектурные достижения предыдущих периодов и нового, что особенно проявилось в украшении храмов множеством декоративных деталей, разноцветной глазури на куполах. Все это великолепие создает атмосферу праздника, благолепия, чего так не хватало в старых аскетичных храмах и в суровом слоге древних книжных текстов. (При рассмотрении данного памятника архитектуры целесообразно будет обратиться к поэмам Д. Кедрина «Зодчие» и А. Вознесенского «Мастера», посвященным творению Бармы и Постника).
Переходный век» (XVII в.), может быть самый драматичный и сложный в нашей отечественной истории (не считая XX в.), принес интереснейшие опыты в области перестройки средневековой литературной системы и решительное обновление архитектурных принципов и приемов. В значительной мере это обусловлено взаимообогащением русской и украинской культур, участившимися русско-европейскими контактами.
В литературе произошло «открытие» частного человека, появились оригинальная новелла и авантюрный роман, первые стихотворные опыты. Можно сказать, что русская литература стала постепенно участвовать в общеевропейском процессе, а стиль барокко нашел свое отражение во многих видах искусства: литературе, архитектуре, устройстве садов, декоративном искусстве. В школьной практике эти тенденции очень хорошо можно проследить на примере таких произведений, как «Повесть о Горе Злосчастии», «Повесть о Савве Грудцыне», «Житие Аввакума», «Вертоград многоцветный» Симеона Полоцкого.
Настоящий бум переживает каменное зодчество. Сказочно-прекрасное московское барокко становится доминирующим стилем как в постройках храмов, так и жилых зданий, в первую очередь царских и патриарших палат, теремов зажиточных людей. Начался он с небольшой церкви Троицы в Никитниках, сооруженной во дворе купца Григория Никитина, которая стала своего рода образцом новых тенденций в архитектуре. Первое, что поражает в этой церкви, – красный цвет кирпичных стен, украшенных резными белокаменными деталями: наличниками, полуколонками, лопатками. Завершаются стены кокошником, напоминающим кедровую шишку, на них возвышаются пять красивых маковок-куполов, из которых только одна настоящая, а боковые играют просто декоративную роль. При церкви два придела, изящная галерея, крылечко и шатрообразная колокольня с окошечками в шатре-конусе. За этим храмом последовало строительство множества храмов и теремов, в планировке и отделке которых русские архитекторы словно ведут диалог друг с другом.
Красный, пылающий цвет, киноварь в оформлении храмов, обилие декора, множество окон и колонн с резьбой, словно пенящиеся кокошники, красочная роспись интерьера – все это создает ощущение какого-то невиданного праздника, буйства красок, фантазии, сказки. Конечно, как и в некоторых литературных жанрах, в зодчестве русскими мастерами не было утрачено чувство былого торжественного соборного величия, что нетрудно заметить в архитектуре храмов Борисоглебска (Ярославского), Костромы и Углича. Это свидетельство того, что в культуре века ввелся диалог, и наиболее убедительный пример этого диалога в литературе – «Житие Аввакума», произведения демократической литературы.
Учащимся будет небезынтересно узнать, что читатели того времени нередко не принимали новый тип произведений, в основе которых лежал вымысел, что «является характерной чертой своеобразного «охранительного» направления в литературе»[144].
«Переходный век» с присущей ему во второй половине XVII столетия культурой барокко действительно становится своеобразным буфером между Средневековьем и новым временем.
Так, на материале конкретных памятников храмовой архитектуры и литературных текстов учитель показывает учащимся, как эволюционирует сознание русских людей, происходит движение культуры во времени. Все века словно «втягиваются» в единую цивилизационную лестницу русской истории.
Система работы с архитектурными образами в художественном тексте определяется также и его жанровыми особенностями. До сих пор мы говорили главным образом об эпических произведениях. В лирике эта связь литературы и архитектуры осуществляется несколько другими средствами. Во-первых, это уровень композиции, а точнее один из ее приемов – принцип симметрии. Е. Эткинд утверждал, что в основе всякого стихотворения и поэмы А. С. Пушкина лежит определенная «симметрическая структура»[145]. Во-вторых, это ритм, который в архитектуре задается соотношением форм, пропорций, линий, объемов, колонн, арок, галерей и т. д. Он создает своеобразный композиционный «пульс» архитектурного сооружения, его такт. Не случайно О. Мандельштам говорил об архитектуре Петербурга как о «поющей музыке», положив в основу конструирования своих поэтических текстов архитектонический принцип. О соотнесенности архитектуры и музыки писал теоретик и архитектор И. И. Свиязев: «Что тоны в музыке, то линии в архитектуре; поэтому она есть музыка для зрения. Посредством гармонического сочетания линий и образующихся от того поверхностей плоских, округленных, вдающихся, выступающих, с приличным цветом каждый и освещением, архитектура может действовать на зрителя, как всякое изящное искусство»[146].
В свою очередь, можно уподобить «звучание» архитектурных ансамблей монументальному героическому эпосу (например, Черниговский Спасский собор), лирической песне (церковь Покрова на Нерли), пасторали (Молочный домик в Павловске), а футуристская поэма В. Маяковского «Облако в штанах» соответствует зданиям в стиле конструктивизма начала XX в.
В связи с этим можно говорить о единстве художественных стилей, которые объединяют поэзию и архитектуру. Единство определяется и общей концепцией мира и художественными средствами выражения этого стиля. Например, барокко в архитектуре характеризуется богатством декора, наличием лепки, орнамента, соединения архитектуры и скульптуры. В поэзии этот стиль будет выражен посредством словесной орнаментовки («арабесок»), изощренных метафор, поэтических троп, словесных фигур речи, а также поэтическим синтаксисом. Последний задает еще и интонационный строй, который в архитектуре создается с помощью колоннад, арок, проемов, галерей.
Наблюдение над архитектоникой[147] поэтических текстов и архитектуры позволяет выделить в них множество аналогичных композиций и «архитектурных» образов, которые свидетельствуют о тяготении поэзии к зримому, осязаемому искусству, что можно продемонстрировать на ряде примеров. Сонет, например, по своей архитектонике близок к ротонде, стихотворение «Notre Dame» О. Мандельштама – готике, «Поэт» М. Лермонтова – симметрической параллельной конструкции. Весьма интересно внутреннее строение произведений В. Маяковского: его стихотворение «Нате!» можно сопоставить с симметрической контрастной конструкцией, «Ничего не понимают» – с асимметрической конструкцией, вступление к поэме «Облако в штанах» – с конструктивистской.
Этот круг сопоставлений чрезвычайно широк, приведем примеры еще нескольких наиболее распространенных конструкций, которые лежат в основе известных текстов: ступенчатая в стихотворении К. Бальмонта «Я мечтою ловил уходящие тени…»; рамочная – у М. Лермонтова в стихотворении «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана…»), кольцевая – «Отчего» («Мне грустно, потому что я тебя люблю…»); конструкция типа «ромашка» – «Определение поэзии» («Это круто налившийся свист…») Б. Пастернака; переносная, представляющая собой цепь анафорических конструкций, – «Я пришел к тебе с приветом» А. Фета; кольцевая переносная – «В лоб целовать – заботу стереть…» М. Цветаевой; спиралевидная (представляющая собой градационное развертывание поэтического образа, мысли) – «Бесы» («Мчатся тучи, вьются тучи…») А. Пушкина. Кроме того, можно выделить еще ряд достаточно редких конструкций: анфиладно-присоединительную в стихотворении «Благодарность» («За все, за все тебя благодарю я…») М. Лермонтова, кольцевую-круговую в «Гойе» А. Вознесенского, абстракционистскую в его же «Аксиоме стрекозы». Поэтические тексты последнего часто строятся эклектически, включая в себя симметрические и асимметрические конструкции. Одним из основных способов их организации, как во многих постмодернистских текстах, является принцип коллажа, включающий в себя разные типы ассоциативного мышления (А. Вознесенский «Рапсодия распада»).
Выше перечислена только часть встречающихся в поэзии способов внутренней организации, «сцепления» текстов, в действительности же их значительно больше. Нередко в одном тексте, особенно в лиро-эпическом, можно встретить несколько перечисленных конструкций. Так, например, в поэме А. С. Пушкина «Медный всадник» первая часть Вступления представляет собой спиралевидную конструкцию, вторая часть («Люблю тебя, Петра творенье…» – анфиладно-присоединительную. В Первой части присутствует и рамочная (описание наводнения и внутри этого описание-рассказ о жизни и мечтах Евгения), и спиралевидная организация (грандиозная, развернутая картина наводнения). Вторая часть строится по принципу симметрической контрастной конструкции – угасание стихии и нарастание беспокойства, переросшего в безумие героя поэмы и его столкновение с «кумиром на бронзовом коне».
Следует заметить, что если связь поэзии с архитектурой на уровне композиции больше осуществляется строем синтаксиса, то орнаментально-изобразительный уровень определяется в большей мере образным строем, поэтическими тропами.
Кроме внутренней, архитектонической связи литературы и архитектуры можно говорить и о внешней, условно-графической, когда поэтические тексты графически напоминают архитектурные сооружения. В этом плане интересны поиски Андрея Вознесенского, архитектора по базовому образованию, который удивляет, поражает современного читателя своими поэтическими «видеомами». Интересным примером такого графического стихотворения поэта-экспериментатора является его стихотворение «Я башня Сухарева», буквенно-графически напоминающее знаменитую башню в период ее низвержения («убиения мазуриками с ромбами и кубиками»).
Анализ архитектурных образов и мотивов поэтических текстов
Анализ поэтических архитектурных образов и мотивов предполагает ряд методических приемов, среди которых наиболее часто встречается прием «оживления» и комментирования реалий текста. Он позволяет развернуть трехмерное пространство архитектурных топосов, увидеть за системой знаков и кодов определенный пласт культуры и национальный образ быта и Бытия. В этом плане весьма показательным является стихотворение Н. Клюева «Рожество избы», которое может быть рекомендовано для изучения учащимся 5-го класса. Именно с него и начнется погружение ребят в «избяной космос» поэта.
Прокомментируем основные этапы такого урока. После выразительного чтения и повторного прочтения стихотворения «про себя» учащимся было предложено реконструировать по тексту, как строится изба, какие наиболее важные моменты и детали в ее строительстве выделяет автор, как он описывает этот процесс. По ходу работы над стихотворением один из учеников из отдельных конструкций складывал макеты избы. Данный прием позволил сделать вывод, что строительство избы для поэта не рядовое событие, а светлый праздник, гимн созидающему труду. На глазах читателя словно вырастает из белых пахучих бревен сруб, а затем изба с резными наличниками, крылечком и коньком, напоминающая молодую женщину в красной шубке. Поэт любуется работой своего героя, этого умелого деревенского плотника, «крепкогрудого», который возводит избу, словно читает тайные письмена. Так материальный акт превращается в эстетический, почти религиозный, освященный тайной чуда. Это подтверждается и самим названием стихотворения.
Этот же прием используем при изучении других стихотворений поэта – «Коврига свежа и духмяна…» и «Дымно и тесно в избе…» – расширяющих представление о клюевской избе как своего рода крестьянском микрокосмосе. Учащиеся в своем сознании реконструируют сцены жизни, создают из разрозненных фрагментов единую «ленту видений». Автор переносит своего читателя вовнутрь крестьянской избы, неторопливо и подробно знакомит с ее обстановкой, дает зарисовки сценок из жизни ее обитателей, прежде всего детей. Все описание опоэтизировано, обыденность, быт приобретают сверхреальное содержание, возводятся на метафизический уровень.
Изба становится знаком для обозначения приюта спокойствия, душевного тепла, радости, одухотворенности бытия. Она превращается в своего рода убежище среди мира невзгод, своеобразным ковчегом, странствующим по океану жизни. Каждая поэтическая деталь, реалистическая подробность приобретают свое символическое значение. «Коврига свежа и духмяна» с белым как береста «исподом» (дно печи) символизирует одновременно и достаток в доме и эстетику крестьянского труда, задремавший на печи кот – уют и тепло дома, сказочно-поэтическую атмосферу жизни, он ассоциируется с котом-баюном, сказывающем детям сказки про отважного и преданного Леля, злого «Похитчика-Змея», унесшего в свой терем младую девицу-красавицу. Как и в сказке, побеждает в этом «избяном», «берестяном» мире добро и любовь, поэтому человек чувствует себя защищенным у себя в доме, живет в согласии с природой, в которой холодная зима всегда сменяется теплым апрелем, «вестником победной любви».
Мироконцепция жизни задается и на уровне языкового, образного строя стихотворений, что учащиеся постигают в ходе выяснения свойств поэтических сопоставлений и ассоциаций. Реалии избяного быта сопоставляются с природными реалиями («Коврига свежа и духмяна/Как росная пожня в лесу»), мир природы вызывает ассоциации предметно-бытового мира («Сумерки вяжут, как бабка, косматый чулок»). Все это свидетельство того, что в поэтическом мироощущении Клюева эти два мира, в сущности, составляют единый природно-бытовой, крестьянский космос, в котором прочитывается и древнее языческое сознание, и мировосприятие крестьянина, еще не утратившего ощущение целостности мира человека и природы.
Необычайно показательным явлением глубочайшей внутренней связи между поэзией и архитектурой следует рассматривать многие стихи Осипа Мандельштама. Здесь эти сближения можно найти на нескольких уровнях: ассоциативно-образном, ритмико-синтаксическом, культурно-семантическом. Хотя литературоведческий аспект данной проблемы неоднократно варьировался в работах НА. Струве, Л. Я. Гинзбург, Н. П. Анциферова, В. В. Мусатова[148], в школьном литературоведении ему не уделено должного внимания. Между тем «архитектура» и «архитектурность» приобрели у Мандельштама значение культурософских понятий, без которых невозможно проникнуть в модель мира его двух первых книг («Камень» и «Tristia»), да и вообще понять его мироконцепцию. «Строить, – для автора «Камня», – значит бороться с пустотой, гипнотизировать пространство» (II, 323). В основании мира лежит «таинственный тютчевский камень» (II, 322), а сам мир напоминает собой зримые архитектурные формы, творимую из хаоса гармонию. Отсюда и культура трактуется Мандельштамом как «идея, дающая строй и архитектонику всему историческому процессу»[149], а поэт предстает творцом, преобразующим «хаос» и «пустоту».
В связи с этим напрашивается аналогия: для символистов первейшее искусство – музыка, мир – оркестр, поэт, своим чутким ухом улавливая музыкальные ритмы, творит по законам музыки, стремясь проникнуть в сущность «невыразимого» и «неизъяснимого».
Своеобразный диалог ведут с символистами акмеисты, которые положили в основание культуры, как и мироздания, архитектуру. Она организует пространство в космос, делает его зримым, вещественным. Вместе с тем творение, преобразование мира из хаоса в космос, гармонию происходит по законам музыки, ритма, но музыка здесь уже другая – музыка зримых форм. Все это нагляднее всего и реализовано в творчестве Мандельштама, назвавшего архитектуру в стихотворении «Адмиралтейство» «пятой стихией»:
Нам четырех стихий приязненно господство, Но создал пятую свободный человек… (I, 29).Обращение к «архитектурным» стихам О. Мандельштама помогает выстроить методическую концепцию изучения творчества поэта. С этой целью можно привлечь для анализа следующие его стихотворения: «Айя-София», «Notre Dame», «Адмиралтейство», «На площадь выбежав, свободен…», «Петербургские строфы». На их материале возможно проследить как внутреннюю ассоциативно-образную связь архитектуры и искусства слова, восходящую к пониманию поэтом самой концепции мира, так и увидеть в данных стихах воссоздание культурных стилей прошлых эпох.
В первом «архитектурном» стихотворении О. Мандельштама «Айя-София» художественно воплощены эстетические принципы, заявленные им в статье «Утро акмеизма». Насыщенные богатыми культурными ассоциациями стихи поэта трудны для первичного восприятия, поэтому анализу может предшествовать краткая справка об истории знаменитого Софийского собора в Константинополе, наиболее значительном памятнике византийского зодчества, сооруженного в 532–537 гг. архитектором Анфимием из Тралл и Исидором из Милета. Рассказ сопровождается показом иллюстраций храма Святой Софии. Направление анализа идет от общей концепции «Камня», которая дается в лекции учителя или в сообщении учащегося, к «раскодированию» «архитектурных» образов стихотворения и постижению авторской модели византийского стиля в архитектуре, положившего начало русскому православному храму.
Понимая архитектуру как каменную книгу истории человечества, О. Мандельштам выделял в ней наиболее значимые памятники, которые отражали этапы развития культуры. В ряду таких архитектурных знаков-символов и храм Святой Софии. Выполнен он в форме трехнефной базилики, особой прямоугольной формы здания, пространственно разделенного на три части: центральную, перекрытую цилиндрическим сводом, и две боковые. Все эти три части напоминают корабль, поэтому и названы нефами (франц. ие/от лат. navis – корабль). В стихотворении в третьем и четвертом стихе первой строфы почти дословно приведена цитата из Прокопия Кесарийского:
Ведь купол твой, по слову очевидца, Как на цепи, подвешен к небесам (I, 23).Действительно, каждый посетитель храма, переступив его порог, поражается необыкновенным зрелищем: «Прекрасен храм, купающийся в мире». В нем купол, отделенный от арочных конструкций световым кругом (в основании купола множество окон («И сорок окон – света торжество»), сквозь которые врывается мощный поток света и в нем исчезают узкие простенки между окнами), кажется, парит над центральным нефом. Создается впечатление, что он прикреплен к самим небесам. В византийском храме применен новый способ конструкции – арочный (arcus от лат. – дуга). Он был известен еще в более древние времена, но до изобретения римлянами бетона арками могли перекрывать только крошечные пространства. Изобретенная римлянами гениально простая конструкция арочного перекрытия, стоящего на столбах и поддерживающего сферический купол, сделала переворот в архитектуре, положив начало новому романскому стилю. Этим объясняется манделыитамовский образ «мудрое сферическое зданье».
Обращает автор внимание еще на одну очень важную конструкцию храма – паруса (опять ассоциация, имеющая отношение к кораблю). Это треугольные, немного вогнутые части стен, по своей форме напоминающие распущенные паруса. Они образовались в пространстве между арками, расположенными перпендикулярно друг к другу, и куполом. Паруса символизируют также изогнутое пространство, переход от горизонтали к вертикали, от мира земного – к горнему. Не случайно на них располагались прекрасные архангелы («На парусах, под куполом, четыре / Архангела – прекраснее всего») – посланники небес на земле.
Упоминаются в стихотворении и другие архитектурные реалии: апсиды (полукруглые алтарные выступы), экседры (полукруглые ниши), «сто семь зеленых мраморных столбов». Перечисленные детали не случайны, все они связаны с арочной конструкцией, своеобразным символом изгиба культурного пространства на стыке античного и христианского миров. Одна культура проникает, питает другую: «сто семь зеленых мраморных столбов» из знаменитого эфесского храма Артемиды (Дианы) являются опорой для основания арок не менее прославленного христианского храма, воспеваемого поэтом как сакральный знак остановки, переплетения культур:
Айя-София, – здесь остановиться Судил господь народам и царям! (I, 23)Вполне логично в этом контексте упоминание византийского императора Юстиниана (482 или 483–565), и не только потому, что при нем был сооружен храм Софии. Смысл строки «Всем векам – пример Юстиниана» – указывает на тот культурный след, который оставил после себя этот талантливый политик, покровитель искусств, в царствование которого Византия строилась как наследница Римской империи (он даже территориально стремился вернуть ей прежние владения: Италию, Северную Африку, Сицилию, Испанию), только с новой столицей в Константинополе.
Следует обратить внимание еще на один очень важный образ, которым заканчивается стихотворение:
И серафимов гулкое рыданье Не покоробит темных позолот (I, 23).Как известно, собор после захвата турками Константинополя был превращен в мусульманскую мечеть. Один культ попирал другой, но автором текста собор воспринимается не как культовое здание, а как памятник культуры, связывающий между собой эпохи и народы:
И мудрое сферическое зданье Народы и века переживет… (I, 23)Таким образом, опираясь на конкретные зримые архитектурные детали и образы, О. Мандельштам конструирует культурное пространство, в центре которого культурно-семантический знак – образ святой Софии, воспринимаемый читателем и эмоционально, и зримо, и обобщенно-философски.
Интересными могут быть и наблюдения над синтаксическими конструкциями стихотворения, в которых преобладают соединительные союзы «и». Они, подобно аркам, соединяющим части здания в единое целое, семантически объединяют поэтические строки. Единожды употребленный противительный союз «но» в единственном вопросительном предложении словно нарушает торжественную и согласную музыку хорала, которая слышится при чтении стихотворения, звучит как вечный вопрос-загадка непостижимого до конца в веках замысла зодчего – строителя храма, культуры, Бога:
Но что же думал твой строитель щедрый, Когда, душой и помыслом высок, Расположил апсиды и экседры, Им указав на запад и восток? (I, 23)Своеобразную параллель «Айя-Софии» составляет стихотворение «Notre Dame». Их сопоставление позволяет организовать диалог культурных стилей, определивших развитие византийского искусства и готики. Диалог потребует от учащихся знания особенностей готического стиля в архитектуре. Поэтому создается специальная группа искусствоведов, которые дадут краткую информацию об этом художественном стиле, познакомят с планом готического храма, продемонстрируют фотографии собора Парижской Богоматери. «Нащупать» нерв диалога помогут «точки удивления», которые содержатся в самом тексте стихотворения. С этой целью мы предлагаем учащимся истолковать несколько ключевых образов стихотворения: «души готической рассудочная пропасть», «твои [Notre Dame] чудовищные ребра», «египетская мощь и христианства робость». Возникнувшие разные толкования заставят вновь обратиться к тексту, выявить, что новое в архитектуре данного собора вызывает у автора удивление, восхищение. Ответ содержится уже в первой строфе:
Стоит базилика, и радостный и первый, Как некогда Адам, распластывая нервы, Играет мышцами крестовый легкий свод (I, 24).Учащиеся отмечают переданное О. Мандельштамом ощущение легкости, воздушности в конструкции крестового свода, впервые использованного в соборе Парижской Богоматери, не случайно в тексте стихотворения возникает ассоциативная связь с Адамом, первым человеком на земле.
– Но ведь крестовый свод, возникающий при пересечении двух цилиндрических сводов, знали еще древние римляне, широко он использовался и в эпоху господства романского стиля, – возражают искусствоведы. – Значит, в этом соборе такой свод не первый.
– Неужели такого известного факта не знал поэт, тонкий ценитель искусства архитектуры?
В ходе беседы выясняется, что «первым» является не свод, а храм нового типа с совершенно новой конструкцией крепления, системой стрельчатых арок, нервюр (арочных каркасов). Он соединил в себе черты архитектуры позднего романского стиля и готики. Не случайно В. Гюго в своем знаменитом романе назвал его «зданием переходного периода».
Отыскиваются в стихотворении и другие архитектурные детали, характерные для готики: «выдает себя снаружи тайный план»: система перекидных мостиков (аркбутанов), подпирающих колонны, и мощных, противодействующих столбов, стоящих снаружи (контрфорсов). Отсюда становится понятна метафора «и всюду царь – отвес», образ «чудовищные ребра», т. е. каркасная конструкция храма. «Если античный ордер демонстрирует нам игру богатой каменной мускулатуры, то готика сбрасывает все покровы с каменной конструкции, обнажая первородное совершенство ее скелета»[150].
Особое внимание учащихся обращается на третью строфу стихотворения, которая при внимательном ее прочтении вызывает у них невольно удивление. Автор, характеризуя знаменитый собор, дает ему разные, казалось бы даже взаимоисключающие определения: «Стихийный лабиринт, непостижимый лес,/Души готической рассудочная пропасть, / Египетская мощь и христианства робость, / С тростинкой рядом – дуб…»
Выясняется, что за кажущимся стихийным нагромождением архитектурных деталей и приемов скрыты точнейший расчет и логика. Готика – высочайшее достижение духа, она концентрированно собрала в себе опыт человечества, и не только в области архитектуры, но и в моделировании мироздания. О. Мандельштам воспринимает собор как сочетание несочетаемых конструкций, египетской мощной архитектуры, суровой и мрачной, пришедшей в европейскую культуру из античности, царственной византийской базилики и каркасной готической конструкции, в которой за кажущейся хрупкостью скрывается удивительная крепость и мощь. Отсюда понятен оксюморон: «с тростинкой рядом – дуб», и проясняется, почему новый стиль («христианства робость») победоносно завоевывает культурное пространство. Эту мысль развивает и Н. Струве, который считает, что «Notre Dame» – «сгусток искусства…, здесь как бы сгущена вся человеческая история, проектированная на сегодня и на завтра»[151].
Проделанный анализ подводит к пониманию последней строфы стихотворения. Для поэта собор является также и моделью творчества, цель которого он видит в создании прекрасного из «хаоса» («тяжести недоброй»), в победе духа над тяжелой материальностью, дерзком вызове пустоте неба.
В заключение дискурса по тексту стихотворения обращаем внимание на его синтаксические конструкции (в первой строфе синтаксическая конструкция образована при помощи пары: союзного слова где и союза как, во второй – противительного союза но, подчинительного чтоб, соединительного и, в четвертой – парного союза но – тем), которые фигурально словно напоминают готическое здание с его системой аркбутанов и контрфорсов. Совсем иная конструкция в третьей строфе, в которой «архитектурность» заявлена не в форме, а на уровне художественного обобщения, объяснения стиля готики как синтетического. Этой содержательной задаче и соответствует синтаксическая конструкция с несколькими однородными членами, соединенными между собой бессоюзной и сочинительной союзной связью.
КРУГ ПОНЯТИЙ
Ритм в архитектуре, пропорция, эмблематика, архитектоника, пагода, готический собор, православный храм, храмовое зодчество, шатрообразная церковь, собор-град, киноварь, московское зодчество, единство художественных стилей, «архитектурность» текста.
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. На чем строится общность литературы и архитектуры?
2. Как на своих уроках словесник осуществляет связь между литературой и архитектурой? Расскажите о формах работы на таких уроках и их задачах.
3. Что подразумевается под внутритекстовыми сопоставлениями литературы и архитектуры? Какой круг педагогических, эстетических вопросов выясняется при этом сопоставлении?
4. Назовите и прокомментируйте основные способы обращения к внутритекстовым мотивам и образам архитектуры.
5. Какую роль играют архитектурные объекты и интерьеры в поэме Н. В. Гоголя «Мертвые души»?
6. • Раскройте функции архитектурных образов в романе Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание».
7. Что позволяет рассматривать храм как национальную модель мира? • Как православный собор, готический храм и китайская пагода организовывают диалог сознаний людей России, Запада и Востока?
8. Какая внутренняя связь между русским храмовым зодчеством и древнерусской литературой? • Дайте характеристику основным типам русских храмов, отражающих этапы развития отечественной культуры.
9. • Как можно выстроить синхронный курс по изучению древнерусской литературы и архитектуры?
10. Как вы понимаете единство художественных стилей литературы и архитектуры?
11. • Какие архитектурные конструкции можно выделить в поэтических текстах? Приведите примеры и прокомментируйте их.
12. Расскажите о приемах анализа художественных текстов, насыщенных образами архитектуры. • Выполните анализ стихотворения С. Есенина «В хате».
13. • Как вы будете руководить читательской деятельностью в процессе чтения и истолкования таких «архитектурных» стихотворений О. Мандельштама, как «Адмиралтейство», «На площадь выбежав, свободен…»?
Глава 7. Хронотоп города
Взаимодействуя и взаимопроникая друг в друга, литература и архитектура создают основные хронотопы русского бытия, русской культуры[152]: хронотоп усадьбы (деревни), провинциального города и хронотопы Петербурга и Москвы, которые стали объектом пристального рассмотрения в современных литературоведческих работах. Пришла пора и в школьном литературоведении вводить эти емкие знаковые дефиниции, поднимая изучение русской классики на уровень миромоделирования.
Если хронотоп усадьбы рассматривался выше в связи с обращением к культурно-семантическим образам «дворянских гнезд», то о хронотопе города следует сказать особо. После работ М. И. Пыляева («Старый Петербург. Рассказы из былой жизни столицы».), Н. П. Анциферова («Непостижимый город…»), П. Н. Столпянского («Петербург»), НА. Синдаловского («Легенды и мифы Санкт-Петербурга»), Ю. М. Лотмана («Символика Петербурга и проблемы семиотики города»), М. С. Кагана («Град Петров»), В.Н Топорова («Петербург и «Петербургский текст» русской литературы») в научный обиход введено понятие «петербургский текст», понимаемый как особая знаковая система, с помощью которой происходит «пресуществление материальной реальности в духовные ценности[153]. В ряду семантических знаков, образующих художественное пространство «петербургского текста», особое место отводится образам архитектуры. Они задают горизонтали и вертикали города, его стилевые культурные парадигмы, кодируют социальную иерархию, входят в состав мифообразов, т. е. организуют все, что позволяет рассуждать о городе Петербурге как гетерогенном организме со своим языком, знаками, кодами, символами.
Хронотоп Москвы
Очевидно, что в одинаковой мере можно говорить и о «московском тексте» в литературе и культуре, а также «тексте провинциального города». Последние менее разработаны, хотя диалог Москвы и Петербурга как «старой» и «младшей» столицы, двух культурных полюсов жизни, двух «архитектурных текстов» (они отличаются даже по своей цветовой гамме: Москва белокаменно-красная, Петербург – желтовато-серый), начался сразу же после основания Петербурга русским императором. В художественной литературе и критике он отчетливо заявит себя к концу XVIII-началу XIX в.
Чуть позже в сознании русских о Москве и Петербурге сложатся своеобразные стереотипы восприятия: Москва – сердце, Петербург – голова; Москва – город невест, Петербург – город холостяков («Петербург – гостиная, Москва – девичья», – как скажет А. Пушкин); Москва – Большая Деревня, Петербург – Город; Москва – Восток, Петербург – Запад; Петербург – город департаментов и дворцов, Москва – город усадеб. Эту парадигму сопоставлений можно было бы еще долго продолжать. Начавшийся активно в 1830-е годы этот диалог двух столиц велся, пожалуй, наиболее полемично в 40-е годы XIX века, так как обозначил зародившийся, а затем перманентно продолжающийся диалог славянофилов и западников[154].
Карамзин, Жуковский, Батюшков, а затем Грибоедов и Пушкин это сопоставление и противопоставление хронотопов Москвы и Петербурга сделали объектом художественного сознания. Даже в тех случаях, когда один из них в тексте сюжетно отсутствует, все равно он подразумевается как второй элемент симметрической конструкции. Так, в грибоедовской комедии «Горе от ума» фамусовская Москва рассматривается не только как анахронический «век минувший», но и как явление, контрастное по отношению к Петербургу. В таком концентрированном виде азиатское «барство дикое», низкопоклонство, подхалимство, угодничество немыслимо было в просвещенном европейском Петербурге. Кстати, и упоминается Петербург в тексте в речи людей фамусовского окружения в двух случаях: в одном как город, где добываются чины, делается карьера (Чацкому же, по мнению Молчалина, «не дались чины, по службе неуспех»), в другом случае как город, из которого распространяется «чума ученья» (в связи с «ланкастерскими школами» и «педагогическим институтом»).
Пример другой симметрической конструкции дает роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин». В нем три хронотопа, определяющих пространство русской жизни: хронотопы Петербурга, Москвы и деревни. При этом Москва находится посредине между двумя названными полюсами русской жизни. Здесь она и «сердце» России, и узел отечественной истории, и «девичья», и «ярмарка невест», и «буфер» между Западом и Востоком, Петербургом и деревней. Интересно, что Пушкин, создавая хронотоп «белокаменной Москвы», использует ряд сугубо московских архитектурных образов: это Кремль, Петровский замок, «старинные главы» соборов, монастыри. «Старая столица» показана в движущихся картинах, которые возникают в сознании читателя, совершающего вместе с Татьяной путешествие по Москве (глава VII, строфы XXXVII–XXXVIII). Но такое путешествие возможно лишь при условии знания учащимися домов и улиц древней столицы. Поэтому невольно напрашивается необходимость заочной экскурсии по городу, если нет возможности провести очную, тем более что по пушкинскому тексту легко проследить, как движется по Москве возок Татьяны: от Петровского дворца по нынешнему Волоколамскому шоссе к Тверской, а затем по Бульварному кольцу, мимо Страстного монастыря к Чистопрудному бульвару, от которого поворот налево – к Большому Харитоньеву переулку[155]
Москва не только участвует в диалоге с Петербургом, но и сама организует внутренний диалог, который на протяжении веков включает в себя все новые и новые знаки. В XIX в. содержание этого диалога составляли главным образом две антиномии. Одна из них (Москва – оплот косности и консерватизма) обозначена, как уже было сказано, А. С. Грибоедовым, другая (Москва – мир охранительной патриархальности, истинного семейного уклада), пожалуй, сильнее всего показана Л. Н. Толстым в романе «Война и мир». Эти антиномии непроизвольно выстраиваются уже на первых уроках по изучению толстовской эпопеи. Именно в Москве Ростовых мы встречаемся с настоящими русскими дворянскими семьями, где люди живут в мире и согласии, где царят любовь и сердечная привязанность.
На уроках, посвященных творчеству А. Н. Островского, знакомимся еще с одной Москвой – столицей купечества, – причем драматург в среде купечества выделяет деляг, хищников, самодуров и подлинных хранителей народных духовных ценностей. Последнее связано с близостью писателя (особенно в свой «москвитянский» период) к идеям «почвенничества».
В XX в. Москва приобретает новые черты, другие культурно-семантические знаки[156]. Традиционной темой в школьной программе стала булгаковская Москва, получившая наиболее завершенный образ в романе «Мастер и Маргарита». Ее хронотоп имеет свою топонимику: Патриаршие пруды, Арбат и арбатские переулки, Садовую, Тверскую, Александровский сад, Кропоткинскую и Остоженку, Воробьевы горы, Замоскворечье. В одинаковой степени можно говорить и об архитектуре Москвы. Булгаков обращается к знаковым образам, воссоздавая центральную часть Москвы с ее Кремлем и Манежем, Пашковым домом, Арбатской площадью, «гранитными ступенями амфитеатра Москва-реки» (V, 53).
В этой уже ставшей классической Москве проступают черты другой столицы – коммунистической, которая создавалась в 1920-30-е годы. Художественное пространство этой Москвы организуют несколько ключевых зданий и интерьеров, среди которых «неблагополучный» дом № 302-бис на Садовой, обшарпанные коммуналки обывателей с вечными примусами, тиражированные во множестве экземпляров кабинеты новых московских чиновников с неизменным графином с водой и несгораемым шкафом, здание Варьете. Своеобразная доминанта этого художественного пространства – «старинный двухэтажный дом кремового цвета» на бульварном кольце (V, 55), именуемый «Домом Грибоедова» – своеобразная кормушка «инженеров человеческих душ».
В такой Москве обитают «мелкие бесы» – продажные чиновники, взяточники, пройдохи, заказные критики, прикормленные властями литераторы, на которых особо обрушился «беспощадный смех» писателя. Булгаковская Москва предстает перед глазами читателя параллельно с вечным Ершалаимом и, оказывается, в ней много общего с историческим городом, существовавшим две тысячи лет назад. Общее не в топонимике и архитектуре, а в нравственном облике людей, который, по замечанию Воланда, практически не меняется.
Эта Москва словно вся вырастает из бытовых подробностей, квартирных дрязг, сплетен, доносов, интриг, взяток. Всего на три дня Воланд со своей свитой появляется в этом коммунистическом городе, и рушится рутина жизни, спадает покров с серой повседневности, и мир предстает в своей наготе, как посетители Варьете после сеанса черной магии. Страшно становится, когда начинаешь судить о человечестве по этим людям. С гордым презрением смотрит на этот мир автор, описывая сцену вакханалии в ресторане «Грибоедова», и не может не произнести фразу, которую в свое время, оказавшись на краю отчаяния, сказал Понтий Пилат: «О боги, боги мои, яду мне, яду!..» (V, 61).
Выделение хронотопов Москвы у разных писателей позволяет спланировать систему уроков, более концептуально выстроить стержневые линии литературных курсов, а самое главное – организовать диалог в культуре, диалог авторских моделей столицы, хронотоп которой образуют архитектурные и топонимические знаки и образы, картины быта и жизни, нравственное состояние общества, социальные и духовные устремления людей[157].
Хронотоп провинциального города
Менее всего в школьной практике обращаются к хронотопу провинциального города, а ведь он встречается в большинстве текстов русских писателей и позволяет увидеть глубинную, «нутряную» (А. Солженицын) Россию. Включенные в школьные программы темы, имеющие прямое отношение к специфике провинциальной жизни (типа «Обличение пошлости и мещанства в рассказах Чехова»), сформулированы слишком общо, не ориентируют учителя на постижение культурно-временного пространства русской провинции, которая традиционно содержит два полюса бытия. С одной стороны, провинциальный город ассоциируется с «идиотизмом» русской жизни – самодурством и рабством, невежеством и забитостью его обывателей, глупостью и бесцельностью жизни. Архитектурные образы такого города говорят о страшной заскорузлости быта, отсутствии в нем эстетического начала. Эту сторону хронотопа русской провинции можно отметить в «Ревизоре» и «Мертвых душах» Гоголя, повести «Кто виноват?» А. И. Герцена, пьесах А. Н. Островского о «самодурной силе», «Губернских очерках» М. Е. Салтыкова-Щедрина, многих рассказах А. П. Чехова. Это, конечно, только небольшой перечень текстов, связанных с данной проблемой.
Вместе с тем русский провинциальный город с его замечательным деревянным зодчеством, садами и усадьбами, неспешной, но нравственно целомудренной жизнью является той культурной средой, в которой формируются одухотворенные поэтические натуры, такие как Лиза Калитина, Любочка Куциферская,
Катерина Кабанова. Этот оазис русской духовности и красоты, «культурные гнезда» воспевали Тургенев, Достоевский, Чехов, Бунин, Зайцев.
Прочтение их текстов в школе позволяет сформировать у учащихся представление о русской культуре, не сводимой лишь к культурному пространству столиц, как это произошло в советское время, когда провинция утратила и свой неповторимый архитектурный облик и свою своеобразную специфику культурной жизни, копируя и тиражируя эрзацы столичных моделей быта и культуры. Вот почему во многих произведениях современной литературы, в центре которых стоит изображение жизни провинциального города («Печальный детектив», «Людочка» В. Астафьева; «Расплата» В. Тендрякова; «Провинциальные анекдоты», «Прошлым летом в Чулимске» А. Вампилова; «Привычное дело» В. Белова), жизнь показана в неприглядной наготе и убожестве – от внешнего облика города до картин нравов и жизни. Поэтому принципиально важно, изучая тексты о советском и постсоветском провинциальном городе, включать их в другие контексты, вовлекая учащихся в жизненно важный разговор о судьбе русской провинции. Возрождение России немыслимо без воспитания чувства гордости, патриотизма за свой родной край, свою «малую» родину, потому что, перефразируя популярную в недавние времена песенку, адрес жителей России – конкретный дом и улица, откуда и начинается Родина.
В этой связи перед школьным учителем стоит задача совмещать изучение литературы с изучением истории и культуры родного края, чему должен содействовать региональный компонент в школьных программах. Специальные спецкурсы по региональной литературе и культуре, а также отдельные часы в программах общих литературных курсов позволяют на качественно новом уровне решать эту проблему.
Хронотоп Петербурга и школьное литературоведение
Если хронотоп провинциального города только недавно стал предметом научного изучения, то хронотоп Петербурга является одной из постоянных тем обращения ученых-филологов и культурологов. Имеется некоторый опыт его осмысления в методической науке и школьной практике. Это связано в первую очередь с введением в школах города на Неве курса «История и культура Санкт-Петербурга», появлением учебника-хрестоматии «Санкт-Петербург в русской литературе»[158], сборника учительских работ, посвященных петербургским темам и текстам[159], отдельных методических разработок из опыта практической деятельности учителей-словесников[160].
Рассматривая данные работы, можно резюмировать, что к настоящему времени в методической науке во многом определена содержательная сторона «Петербургского текста» (учебник-хрестоматия), разработаны в нескольких вариантах принципы проведения литературно-архитектурных экскурсий по Петербургу (В. Н. Шацев, Е. М. Иванова), создаются тематические спецкурсы о северной столице типа «Наши ровесники в произведениях писателей Петербурга» (MA Килимова), имеется опыт прочтения некоторых литературных текстов, составляющих текст Петербурга (Е. Д. Тенютина, И. Д. Дмитриева, А. Е. Брусина). Среди названных авторов особо следует отметить И. Л. Шолпо, прочитывающей Петербург Достоевского посредством рассмотрения одного из главных компонентов хронотопа города, каковым является архитектура[161].
Дальнейшая научно-технологическая разработка данной проблемы видится в более конкретном вычленении составляющих хронотоп Петербурга, выявлении своеобразия петербургских текстов в творчестве разных писателей и научно-методических подходов к их прочтению, выстраивании ряда уроков литературы как диалога разных петербургских текстов в контексте русской и мировой культуры.
Составляющие хронотоп Петербурга можно представить как сложную систему, включающую в себя:
1. Мифологию города. Традиционно в литературе сложился взгляд на Петербург как город, сочетающий в себе реальное и фантастическое, конкретное и символическое. Это город, о котором, начиная с самого его рождения, возникло невероятное количество мифов, сказаний, как в письменных, так и в устных источниках. Отсюда составным элементом поэтики литературных текстов о Петербурге является символическая метафоричность, насыщенность мифологическими мотивами и образами, связанными с борьбой стихий – ветра, воды, камня, суши, мрака и света (А. С. Пушкин «Медный всадник»). Часто город воспринимается как «гиблое» или «заколдованное» место (Н. В. Гоголь), где человек сходит с ума или попадает во власть дьявола. Это город-монстр, пожирающий своих жителей, роковой город, лишающий людей всякой надежды (Ф. М. Достоевский, А. Мицкевич «Дзяды»). Нередко он воспринимается как город призраков и фантастических видений (А. Блок, А. Белый, А. Ремизов, Ф. Сологуб). Можно говорить и об эсхатологических и апокалиптических образах Петербурга (О. Мандельштам «На страшной высоте блуждающий огонь…», А. Ахматова «Петроград, 1919», «Поэма без героя»).
Еще один миф о Петербурге как о городе – рае обетованном, где «Нева течет молоком, а берега у ней кисельные, дождь… капает пятиалтынными, снег двугривенными, а град – рублями серебра: по улицам так и кучи навалены»[162].
2. Географию, геодезию города. Хронотоп Петербурга во многом обусловлен природно-географическими факторами, определяющими климатические условия и характер ландшафта, в который вписан город. Причем это не только климатически-метеорологические и ландшафтные признаки (туманы, сырость, мгла, мрак, ветер, холод, белые ночи, реки, острова, болота, море и т. д.), но и метафизические: «Финополис», край света, конец земли, «между царством живых и мертвых». В большинстве произведений эти факторы определяют и атмосферу действия и психологическое состояние героев, и художественную концепцию в целом.
3. Архитектурный облик и топонимику Петербурга. Это один из всемирных городов-музеев. Его проспекты, площади, набережные, каналы, дворцы, мосты, ограды, памятники не только создают пространственно-пластический образ города, но и сами являются своеобразными художественными персонажами литературных текстов. Целостный образ города как некой системы задают «четыре главных подсистемы: улица – площадь – парк (сквер) – река (канал) с набережной; элементы этих подсистем – отдельные здания, мосты, ограды, памятники, газоны и т. д.»[163]. Можно говорить о нескольких архитектурных образах Петербурга: классическом Петербурге, который складывался как «утопия идеального города будущего, воплощение Разума»[164], парадном, величественном городе, «столице полумира» и городе трущоб и хижин, городе российских царей – Петра I, Елизаветы, Екатерины II, Александра I, Николая I, определявших его застройку и архитектурный стиль, и городе его зодчих – Трезини, Растрелли, Захарова, Тома де Томона, Кваренги, Воронихина, Росси, Стасова.
Архитектурный текст города создают также его районы, которые становятся знаковыми в художественных произведениях, как и отдельные улицы и даже дома: район Невского, набережная Фонтанки, Коломна, Васильевский остров, Петербургская и Выборгская сторона, Охта и т. д. Знание специфики каждого района Петербурга, в котором поселяются герои художественных произведений, позволяет понять и их социальный статус, и имущественное положение, и род занятий, и даже семейное положение. Так, не случайно на Выборгской стороне находит покой и счастье Илья Обломов, ведь хотя она и считалась частью города, но на самом деле была пригородом: «дома сплошь деревянные, улицы немощеные, много садов, огородов, пустырей»[165]. Оказалось, что Петербург, который во всем был полной противоположностью деревне, вмещал в себе и элементы деревни. Обретенный на Выборгской Обломовым жизненный мир представлял собой один из вариантов Обломовки, и главной чертой этого мира было почти полное отсутствие движения времени: «жизнь менялась с такой медленной поспешностью, с какой происходят геологические видоизменения нашей планеты» (IV, 385).
Прочтение текста Петербурга – это во многом и раскрытие семантики его топонимов. Часто авторы не дают никаких комментариев, не описывают тот или иной район или улицу, но для его современников одного упоминания о нем было достаточно, чтобы включилась цепь ассоциаций, которые у современного читателя уже отсутствуют. Так, например, брошенное Пушкиным мимоходом замечание в первой главе «Евгения Онегина» – «с кувшином охтинка спешит» – не требовало для его современников никаких пояснений, так как все петербуржцы знали, что «охтинка» – молочница, потому что в окраинном районе Петербурга – Охте жили финны, снабжавшие жителей столицы молоком и молочными продуктами.
4. Духовно-культурную сферу города. Поскольку искусство является самосознанием культуры, то применительно к жизни города оно является своеобразным его автопортретом, отражением его исторического, социального и этнического существа. Именно в искусстве в многосторонней цельности воспроизводится город как «синтез предметно-пространственной ситуации и человеческих действий, чувств, мыслей»[166].
Произведения искусства и литературы служат своеобразным «классом текстов» (В. Н. Топоров), которые образуют текст Петербурга, являющимся по отношению к конкретным произведениям искусства своеобразным метатекстом. Происходит очень интересное явление: каждый из художников творит в культурном пространстве Петербурга, многое в его творчестве уже задано этим метатекстом, откуда предельная насыщенность цитатами большинства авторских текстов о Петербурге. Вместе с тем наиболее выдающиеся художники постоянно достраивают этот метатекст. Так в культурном пространстве петербургского текста перманентно возникает диалог разных текстов, а вместе с тем творится некий сакральный текст. Об этом поэтическом обаянии Петербурга-Ленинграда, духовно-эстетическом воздействии его на воспринимающего очень хорошо в свое время сказал К. И. Чуковский: «Ленинград – самый лирический город в России. В нем каждый закоулок – цитата из Пушкина, из Некрасова, из Александра Блока. Его Медный всадник существует не только на площади, но и во множестве сонетов, романсов, новелл и поэм. Эту гениальную статую, душу всего Петербурга, увековечили в стихах три величайших славянских поэта – Пушкин, Мицкевич, Шевченко. Петербургские белые ночи словно сошли со страниц Достоевского, и невозможно пройти по Сенной, чтобы не вспоминать Соню Мармеладову и ее «сострадальца» Раскольникова. Вот воспетый Гоголем Невский проспект, по которому через семьдесят лет прошли «державным шагом» двенадцать Александра Блока»[167].
В настоящее время в метатексте Петербурга выделяется ряд текстов, которые постепенно входят в литературный обиход. Можно говорить о Петербурге писателей XIX в.: Пушкина и поэтов пушкинской поры, Гоголя, писателей «натуральной школы», Достоевского и Некрасова, Гончарова, Крестовского; «писателей XX в.»: Блока, Белого, Ахматовой, Мандельштама, Зощенко, Ольги Берггольц; Петербурге современных поэтов: И. Бродского, Д. Самойлова, В. Шефнера, А. Кушнера. Этот перечень далеко не полный, ведь можно, очевидно, выделять Петербург многих поэтов «серебряного века», петербургский текст пролетарских поэтов и писателей, «ностальгический» Петербург писателей эмиграции, Петербург периода блокады.
Названные петербургские тексты могут стать предметом изучения отдельных спецкурсов, а на обычных уроках литературы, конечно, учителю литературы нет необходимости обращаться к такому длинному списку, а ограничиться лишь наиболее известными, выстраивая их как диалог, взаимодействие текстов авторов в соответствии с этапами истории города.
Второй путь изучения метатекста Петербурга, который намечен М. С. Каганом в книге «Град Петров в истории русской культуры», – выстраивание его как эволюции духовно-культурной жизни города на протяжении столетий. Такой подход позволяет рассматривать литературные тексты в контексте эпох Петербурга как некие культурные слои, которые отражают и определяют эти тексты. В соответствии со сказанным имеются основания выделить следующие историко-культурные пласты общего метатекста Петербурга: периода становления (XVIII в.), классического периода (Пушкинский Петербург), эклектический Петербург (как в архитектуре в это время наблюдается эклектика, так и в культуре в целом появляются разные течения, которые можно в целом свести к драматическому диалогу дворянского и демократического направления), «неоклассический» (Петербург «серебряного века»), революционный (Петербург-Петроград в трагическое время революций и гражданской войны), советский и постсоветский. В каждом историко-культурном пласте, разумеется, имеются свои полюса, антиномии, свои диалоги и дефиниции.
Данный подход позволяет более целостно выстроить систему уроков, интенсивнее использовать в комплексе произведения искусства для формирования представлений учащихся об определенной культурной эпохе. Таким образом, культурная летопись Петербурга, вплоть до советского периода, становится летописью духовной жизни России в целом.
Прочтение «петербургского текста» («Петербургские строфы» О. Мандельштама)
Тексты, относящиеся к определенному культурному слою, взаимодействуют с другими культурными слоями, другими текстами. Так происходит диффузия текстов. Возникают некоторые сквозные образы и мотивы. Отсюда предельная насыщенность петербургских текстов цитатами, символами, аллюзиями, которые требуют своей раскодировки для полноценного восприятия конкретного текста. В качестве примера остановимся на стихотворении О. Мандельштама «Петербургские строфы», неизменно вызывающем, как показала практика, затруднения у учителей и учащихся при его прочтении.
Непосредственному анализу стихотворения, очевидно, должна предшествовать краткая справка о Петербурге Мандельштама, которая соединит в себе и биографические факты, и некоторые сведения о его «петербургских стихах» – «Адмиралтейство», «Дворцовая площадь», «На площадь выбежав, свободен…», «Мне холодно. Прозрачная весна…». Так задается контекст для изучения текста «Петербургских строф». При этом подчеркивается, что О. Мандельштам является одним из создателей «неоклассического Петербурга». В его творчестве с точки зрения «архитектурной» поэтики воссозданы величавые архитектурные творения эпох классицизма и ампира: Адмиралтейство, Дворцовая и Сенатская площадь с их архитектурными и скульптурными шедеврами, Казанский собор, Стрелка Васильевского острова. Идеальные пропорции, математическая точность в планировке, гармоничность ансамблей роднит классический Петербург с архитектурой «вечного города» – Рима, его Форумом и Колизеем, явившимися высочайшими образцами организации пространства, победы гармонии над хаосом. Поэту, по мнению Н. П. Анциферова, удалось воссоздать «вполне чистый образ города, свободный от всяких идей, настроений, фантазий»[168], воспеть его стихами, соответствующими гармонии архитектурных ансамблей.
Вначале обращаем внимание на звучание стихотворения и его название. Торжественный, величавый стих «Петербургских строф», кажется, порожден самой архитектурой северной столицы. Образ «желтизна правительственных зданий» вызывает ассоциации с архитектурой позднего классицизма с его излюбленным желтым и белым цветом, в котором выдержаны здания на Сенатской площади, созданные архитекторами Захаровым и Росси. Название стихотворения отражает его жанровое своеобразие – это действительно строфы, картины, зарисовки, вереница впечатлений автора, микросюжеты, связанные воедино петербургским текстом.
По ходу чтения в сознании воспринимающего возникают конкретные районы классического Петербурга: уже упомянутая Сенатская площадь, Дворцовая набережная, Пеньковый буян. Композиция стихотворения строится по принципу ассоциаций – от архитектурного облика Петербурга, «столицы полумира» – к осознанию жесткости, незыблемости государственного строя России, не допускающего никакого диалога:
И государства жесткая порфира, Как власяница грубая, бедна (I, 26).Не случайно в цепи ассоциаций рядом с «правительственными зданиями» возникает образ «правоведа» с запоминающимся «широким жестом» хозяина жизни, опоры империи.
Следующий образ «Чудовищна, – как броненосец в доке, – Россия отдыхает тяжело» – подчеркивает одновременно и скрытую мощь, силу, и неподвижность, дряхлость государства. Покой, «тяжелый отдых» неустойчив: площадь Сената с «дымком костра и холодком штыка», аллюзии, восходящие к декабристской теме, а также образ «броненосца в доке» – заключают в себе предчувствие социальных потрясений и мировых конфликтов.
Стихотворение насыщено историческими и литературными реминисценциями и образами. В его художественном пространстве словно совмещены два века – «золотой», Пушкинский, и наступивший XX в. с предчувствиями революции и мировой войны. Один текст живет, проявляется в другом, разные Петербурги как бы сосуществуют в одном тексте, поэтому вечна и «Онегина старинная тоска», и драма «маленького человека», «чудака Евгения» из пушкинского «Медного всадника».
Таким образом, небольшое стихотворение, благодаря особой его метафоричности и насыщенности знаками петербургского текста, вместе с другими стихотворениями поэта участвует в создании особого манделыитамовского петербургского текста, в котором живет «золотой век» города и современный ему «серебряный век», обращенный к ностальгическому прошлому и наполненный эсхатологическими предчувствиями о трагическом будущем. Отсюда и возникает тема смерти, гибели Петербурга, культуры в целом:
На страшной высоте блуждающий огонь! Но разве так звезда мерцает? Прозрачная звезда, блуждающий огонь, – Твой брат, Петрополь, умирает! (I, 70)В погибающем городе, даже утратившем свое имя, не случайно стихотворение названо «Ленинград», поэт чувствует себя в роли «маленького человека», предчувствующего неизбежную собственную гибель:
Петербург! Я еще не хочу умирать: У тебя телефонов моих номера. Петербург! У меня еще есть адреса, По которым найду мертвецов голоса. Я на лестнице черной живу, и в висок Ударяет мне вырванный с мясом звонок (I, 158–159).Тематическое планирование уроков по взаимодействию искусств
Обозначенные подходы истолкования текста как внутреннего взаимодействия искусства слова и архитектуры, их диалога, расширения границ одного искусства за счет другого в практической работе учителя-словесника принесут ощутимые результаты, если выстроится система такой работы, будут выделены точки, пересечения, узлы взаимодействия этих искусств.
Приведем пример такой системы работы в 10-м классе.
Исследование взаимодействия архитектуры и литературы на разных уровнях позволяет значительно активизировать рецептивную и познавательно-эстетическую деятельность учащихся, постичь один из основных способов организации художественного пространства литературного текста. Внутритекстовые наблюдения позволяют выйти на понимание таких важнейших культурно-семантических единиц, как хронотоп усадьбы и хронотоп города, что способствует внедрению в школьное литературоведение новых приемов и способов истолкования художественного текста как текста культуры.
КРУГ ПОНЯТИЙ
Хронотоп города, симметрическая конструкция (Петербург – Москва), структурные уровни хронотопа Петербурга, метатекст Петербурга.
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Что включает в себя понятие «хронотоп города? С какой целью он вводится в школьное литературоведение?
2. В чем своеобразие хронотопа Москвы? Назовите его культурно-семантические знаки в произведениях русских классиков.
3. • Выделите знаки хронотопа Москвы в рассказе И. Бунина «Чистый понедельник».
4. Как хронотопы Москвы и Петербурга образуют симметрическую конструкцию?
5. Как организовано культурное пространство в хронотопе провинциального города?
6. Почему хронотоп Петербурга становится объектом пристального внимания современной методической мысли? Раскройте его составляющие компоненты и прокомментируйте их.
7. • Проанализируйте «петербургский текст» романа И. А. Гончарова «Обыкновенная история».
8. Что вкладывают в понятие «метатекст Петербурга»? Как введение этого понятия в методику преподавания литературы позволяет диалогизировать педагогический процесс?
9. • Прокомментируйте «петербургский текст» в стихотворении А. Ахматовой «Петроград, 1919».
10. Каким представлен «петербургский текст» в стихотворении О. Мандельштама «Петербургские строфы»?
11. • Проанализируйте тематическое планирование уроков по взаимодействию литературы, архитектуры и садово-паркового искусства. Внесите в него свои коррективы.
Раздел IV. Система уроков по изучению литературы в контексте культуры
Практическая часть пособия представлена системой уроков разных типов и видов, в которых нашли отражение изложенная выше педагогическая технология, идеи учебного диалога, диалога культур и диалога в культуре, а также продемонстрированы разные способы установления интеграционных связей на уроках литературы и прочтения художественных текстов как текстов культуры посредством истолкования культурно-семантических знаков.
Отбирая уроки для их размещения в пособии, автор преследовал цель раскрыть их методическую и литературоведческую концепцию, отобразить рецептивно-эстетическую и познавательную деятельность учащихся, педагогические функции учителя.
Представленная система уроков включает в себя три урока интегрированного типа – «погружение» в культурные эпохи. Первый из них – «Золотой век Классицизма» – проходит в форме защиты учащимися индивидуальных проектов, выполненных по теме урока. Два других урока – «Литературно-художественные гостиные начала XX века» и «Литературное кафе символистов «Аполлон и Дионис» – осуществляется в форме ролевой игры и представляет собой имитацию литературно-художественных салонов
и кабаре начала XX в. Следующий урок – «Урок-путешествие по романтическим садам Павловска (вслед за лирическим героем элегии В. А. Жуковского «Славянка») – постижение романтической концепции мира автора, культурно-семантических знаков стихотворения. В ходе урока осуществлялась интегративная связь между словесным и садово-парковым искусствами и на материале содержания урока формировалось целостное представление о романтической эстетике.
Несколько уроков представляют собой примеры учебных диалогов. Первый из них – диалог о любви и браке (на материале романа Н. Г. Чернышевского «Что делать?»), два последующих – уроки-диалоги по произведениям, в основе которых евангельские сюжеты, и последний – учебный диалог о двух художественных мирах крестьянских поэтов – Н. Клюева и С. Есенина – двух разных сторонах народной культуры со свойственными им культурно-семантическими знаками и кодами.
Кроме того, в пособии дано подробное описание системы уроков разных типов по изучению романа И. С. Тургенева «Отцы и дети» как культурного универсума.
1. Тема: Золотой век классицизма
Служенье муз не терпит суеты: Прекрасное должно быть величаво…
А. С. ПушкинОдной из эффективных форм изучения словесности на культурологической основе могут быть уроки-путешествия по культурным эпохам. По своей структуре они представляют интегрированные уроки содержательного и дидактического синтеза (смешанный тип интеграционных связей) и проходят как разработка и защита группой учащихся своих учебных проектов. Учитель в данном случае выступает лишь в качестве консультанта. Он предлагает примерный план темы, дает рекомендации в ходе ее разработки и совместно с работником библиотеки подбирает источники. Каждый из участников проекта готовится к исполнению определенной роли на уроке: философа, литературоведа, архитектора, специалиста в области садово-паркового искусства, театроведа, искусствоведа, музыковеда. Остальные учащиеся, не привлеченные к проекту, самостоятельно читают литературу по данной теме, а затем принимают участие в заключительной беседе и анализе содержательной и процессуальной стороны урока (опорный план урока предлагается заранее). Урок проходит с использованием репродукций картин, фотографий архитектурных ансамблей, садов и парков, слайдов и фонозаписей. Открывает его выступление историка культуры.
Историк культуры. Классицизм возник в XVII в. во Франции как выдающееся по своему общественному и художественному значению направление. В своей сущности он был связан с абсолютной монархией, утверждением дворянской государственности. В области культуры при Людовике XIV проводилась политика, начатая еще кардиналом Ришелье: искусство призвано прославлять монарха, служить украшением двора, утверждая тем самым идеалы монархического абсолютистского государства.
Потребность в разумном порядке сказывалась во всех сферах жизни и нашла свое выражение в рационалистической эстетике классицизма и философии Р. Декарта. Разум теперь объявлялся верховным судьей дел человеческих, а его веления отождествлялись с велением долга – ведущей нравственной идеи века.
Литературовед. Классицизм стал тем искомым художественным методом, который обосновал общественное бытие своего времени, требуя от каждого человека подчинения государственным интересам. Он требовал подчинения чувств разуму, культивировал самопожертвование во имя долга. Идеал классицизма – воспевание государства, его пафос – служение обществу, его герой – деятель, главный лозунг – разум, основные эстетические принципы – порядок и регламентация.
Разумная правильность, уравновешенность пропорций, исключение всего лишнего, второстепенного стали нормами архитектуры, живописи, литературы, музыки, садово-паркового искусства.
Архитектор (слайд «Версаль»). Версаль – город-резиденция французских королей – возведен при Людовике XIV. В нем при помощи искусств была выражена идея абсолютизма. Три проспекта, как три луча, стянуты к дворцовому комплексу.
Особого внимания заслуживает парк, созданный по проекту А. Ленотра. Природа в нем приняла рациональные, подчас строго геометрические формы, предписанные ей разумом человека. Парк отличался четкой симметрией аллей и прудов, строго выверенными рядами подстриженных деревьев и цветников, торжественным видом расположенных в них статуй античных богов и героев, среди которых и изваяния царственных особ французского двора.
В разбивке аллей господствует солнечная символика: они, как лучи, расходятся от спальни короля и статуи Аполлона, символизирующего короля-солнце.
Архитектор садово-паркового искусства. Замечательным образцом садово-паркового искусства является и российский Петродворец. Хотя он и создавался почти на столетие позже, в нем, как и в Версале, воплотились многие сильные стороны классицизма. Замысел проекта принадлежал А. Шлютеру, Ф. и Б. Растрелли и их же было исполнение. Прежде всего это строгая внутренняя соразмерность грандиозного ансамбля в целом, в котором сочетаются архитектурные строения, огромные фонтанные каскады, скульптурные группы и строгая разбивка парка, поражающего своими просторами и чистотой пропорций (диапозитив «Большой дворец»).
Ассистент 1. Каскад «Шахматная горка» (диапозитив). Строго выверенная шахматная площадка фонтанного каскада органично вписывается в геометрически расчерченный ландшафт. В комплекс входят архитектурные павильоны, которые строгим благородством линий и отдельными деталями, например колоннами, напоминают античные сооружения, а также фонтан и окружающий его ландшафт (диапозитив «Воронихинская галерея»). Можно сказать, что перед нами природа, размеченная при помощи циркуля и линейки. Мы видим строго продуманные дорожки и тропинки.
Ассистент 2. «Большой каскад» (диапозитив). Подобного каскада не было в Версале. В Петергофе находится самое грандиозное фонтанное сооружение в мире. Здесь одновременно бьют 64 фонтана. Удивляет сам синтез архитектуры, скульптуры, садово-парковых композиций, создающий поистине сказочное зрелище. Скульптуры выполнены из бронзы и покрыты позолотой.
Скульптурная группа «Самсон, разрывающий пасть льва» (диапозитив). Перед нами самый крупный петергофский фонтан (скульптор Б. Растрелли). В основе сюжета – миф о герое ветхозаветных преданий, необыкновенном силаче Самсоне. Победить льва ему помогает Бог. Скульптура создана в год 25-летия Полтавской битвы. Как любое произведение классицизма, она имела аллегорическое значение: богатырь Самсон олицетворял Петра I и русское воинство, а лев – поверженных шведов, на государственном гербе которых изображен лев.
Искусствовед. Живописцы классицизма были не в меньшей степени, чем зодчие, верны канонам этого художественного метода. Обратимся к творчеству знаменитого художника XVII в. Никола Пуссена. Сюжет его картины «Танкред и Эрминия» взят из известного литературного источника – поэмы великого итальянского поэта XVI в. Торквато Тассо «Освобожденный Иерусалим» (иллюстрация «Танкред и Эрминия»).
В основе сюжета лежит легенда о том, как герой Танкред берет в плен прекрасную волшебницу Эрминию, полюбившую его. Танкред сражается с мавром и, несмотря на победу, умирает на поле боя от ран. Эрминия спешит ему на помощь. На полотне Пуссена изображен момент, когда Эрминия отсекает мечом свои прекрасные волосы, обладающие волшебной силой, чтобы перевязать раны герою.
В изображении героев картины строго соблюдены нормы классицистической эстетики: страдание не может их обезобразить, они сохраняют изящество и величие поз, напоминая своим достоинством персонажей античных трагедий. Сходство подчеркивается и античными одеяниями Танкреда и Эрминии.
Ассистент. Другая картина Н. Пуссена – «Аркадские пастухи» – написана на античный сюжет (слайд «Аркадские пастухи»).
По античному преданию, счастливые пастухи Аркадии не знали зла и смерти. Но надпись на гробнице: «И я был в Аркадии» – повергает их в смущение и печаль. Изображенной сцене жизни присущи величавость и торжественность, соответствующие философскому осмыслению бытия.
Картина Пуссена «Царство Флоры» тоже создана на основе античной легенды, рассказанной римским поэтом Овидием (слайд «Царство Флоры»).
Герои, погибающие в расцвете сил, превращаются после смерти в цветы и оказываются в царстве Флоры. Жизнь человека трактуется в ее неразрывности с жизнью природы. Строгий порядок царит в мироздании, разумны его законы. Это чувствуется и в картине Пуссена, которая отличается уравновешенностью композиции, красотой героев, вдохновенных образами античной пластики. Логика и поэзия гармонично сосуществуют на этом полотне.
Искусствовед. Во всех своих произведениях Пуссен выражал эстетический идеал классицизма, в основе которого лежит подражание «украшенной природе». Это означает, что художник отражал только возвышенное, прекрасное и совершенное в человеке и жизни, игнорируя при этом низменное, безобразное и уродливое.
Литературовед. Теоретик французского классицизма Никола Буало в трактате «Поэтическое искусство» (1674) изложил принципы классицистической поэтики в литературе так:
Но вот пришел Малерб и показал французам Простой и стройный стих, во всем угодный музам, Велел гармонии к ногам рассудка пасть И, разместив слова, удвоил тем их власть. Очистив наш язык от грубости и скверны, Он вкус образовал взыскательный и верный, За легкостью стиха внимательно следил И перенос строки сурово запретил (61).Классицизм ввел строгое разделение жанров по теме и слогу. Оде полагалось быть величавой, стройной и воспевать знаменитых лиц:
Стремится Ода ввысь, к далеким кручам горным, И там, дерзания и мужества полна, С богами говорит, как равная она; Прокладывает путь в Олимпии атлетам И победителя дарит своим приветом (61).Поэма должна была изображать грандиозные исторические события и героические судьбы. А трагедия, как правило, становилась ареной столкновения чувства и долга, которое осознавалось как внутренний конфликт в сердцах героев.
Эпиграмма, басня, комедия принадлежали к «низким» жанрам и допускали изображение обыденной жизни и живой, разговорный язык. Буало писал:
Коль вы прославиться в Комедии хотите, Себе в наставницы природу изберите. Поэт, что глубоко познал людей сердца И в тайны их проник до самого конца, Что понял чудака, и мота, и ленивца, И фата глупого, и старого ревнивца, Сумеет их для нас на сцене сотворить, Заставив действовать, лукавить, говорить. Пусть эти образы воскреснут перед нами, Пленяя простотой и яркими тонами (92).Историк театра. Но и трагедия, и комедия должны были обладать стройностью композиции, сохранять три обязательных единства – места, времени и действия. Действие проходило в одном и том же месте и должно было продолжаться не более суток. При этом отвергалось разнообразие сюжетных линий (как, например, у Шекспира); завязка, кульминация и развязка четко соотносились с поступками главных героев. При всей искусственности «трех единств» они придавали пьесе ясность, целенаправленность и сосредоточенность на том явлении, которое изображалось.
Театр в большей степени, чем другие жанры искусства, смог запечатлеть возвышенные понятия долга и чести, представления о роли и месте человека в обществе и государстве. Крупнейшие художественные достижения французского театра классицизма связаны с именами П. Корнеля, Ж. Расина, Ж. Б. Мольера.
Пьер Корнель сознавал, что живет в столетие, которое затем стали называть «великим веком». Идея постоянного приоритета государственного над личным в ее практической реализации неизбежно рождала острейшие конфликты, выдержать тяжесть которых могли лишь недюжинные натуры. Вот почему среди созданных Корнелем образов столько натур сильных, страстных, одержимых. Среди его героев есть персонажи, пугающие своей жестокостью, мстительностью, но нет характеров незначительных, мелких.
Корнель акцентировал момент личного выбора, проявление активного начала в человеке. Драматург выдвинул теорию проблемного, политического театра, откликающегося на те вопросы, которые ставит общественная обстановка. Его трагедии были посвящены судьбам государственных деятелей, известных исторических лиц. Монархи и правители изображались в качестве главных героев не потому, что они обладали образцовыми характерами, а потому, что их личные интересы и страсти неотделимы от судеб общества и государства.
Ассистент. Трагедия «Гораций» (1640), например, основана на известном рассказе Тита Ливия о первых веках существования Рима и соперничестве этого города с соседним – Альба Лонгой. По обычаю того времени самые сильные и отважные юноши противоборствующих сторон должны были сразиться между собой перед началом боя. Три римлянина, три брата Горация, должны были выступить против трех братьев Куриациев, выставленных войском Тарквиния Гордого, стремившегося вернуть свою власть над Римом.
Юношам предстояло пожертвовать не только своими жизнями (лишь один из них остался в живых), но и своими чувствами, привязанностями: Горациев и Куриациев с детства связывала дружба, старший из братьев Горациев был женат на сестре Куриациев Сабине, а сестра Горациев Камилла приходилась невестой одному из Куриациев.
Свой долг герои ощущают по-разному. Прямолинейно понимает патриотическую миссию старый Гораций. Он сторонник слепого исполнения государственных обязанностей, в жертву которым без колебаний готов принести отцовские чувства. Его сын оказывается неукоснительным исполнителем такого понимания чести и долга. Он лишен тяжелых сомнений, которые обуревают других героев. Колебания Куриация, терзания Камиллы и Сабины лишь оттеняют и подчеркивают его твердость. Гораций непоколебим в своей приверженности интересам государства и не хочет ни о чем раздумывать:
Я должен, выбором отмеченный нежданным, Победу одержать иль пасть на поле бранном. А чтоб верней достичь победного венца, Не думай ни о чем и бейся до конца. Нет, не увидит Рим хозяев над собою, Покуда я не пал поверженный судьбою! (I, 324)В душе Куриация любовь к Родине не заслоняет чисто человеческие чувства:
Я буду ей служить, как ты – своей отчизне; Я тверд, но не могу забыть любви и жизни. ‹…› Жених сестры пойдет на будущего брата Во имя родины, но сердце скорбью сжато. Исполнить страшный долг во мне достанет сил, Но так мне тяжело, что белый свет не мил. ‹…› Мне дружбы нашей жаль, хоть дорога награда, А если большего величья Риму надо, То я не римлянин, и потому во мне Все человечное угасло не вполне (I, 327–328).Гораций чужд подобных страданий, он готов слепо исполнить свой долг:
С кем биться ни велят мне за родную землю, Я с радостью слепой такую честь приемлю: Коль скоро дан тебе почтеннейший приказ, Все чувства прочие да смолкнут в тот же час. ‹…› Коль Рим избрал меня, о чем мне размышлять? (I, 328)Историк театра. Делая Горация победителем в поединке, Корнель, как незаурядный психолог, намекает на душевную черствость этого крепкого молодого мужчины с широкими плечами, который, не рассуждая, готов пойти на смерть сам и столь же легко может предать смерти других.
Искусствовед. Этот мотив некоей человеческой ущербности исчезает при изображении Горациев на знаменитой картине Жака Луи Давида, оживившего принципы классицизма в конце XVIII в. (слайд «Клятва Горациев»).
Картина Давида «Клятва Горациев» была написана на вольно истолкованный сюжет трагедии Корнеля. На ней мы видим внутренний дворик древнеримского жилища, где старый отец семейства и глава рода провожает своих сыновей на сражение с врагами Рима. Горации клянутся выполнить свой патриотический долг. Художник убедительно передал общность устремлений, непоколебимую волю к победе всех трех братьев.
Три человека – и единый порыв. Три человека – и единая воля. Во имя отчизны клянутся они победить или умереть. Решительны и мужественны их лица, крепки и мускулисты руки. Высоко поднял их боевое оружие старый отец, благословляя сыновей на ратный подвиг, призывая небо в свидетели произнесенной клятвы – победить или умереть.
Композиция картины проста и логична. Пространство распределено неравномерно: группа воинов с отцом занимает значительно больше места, чем группа женщин, расположенная в правой части. Таким образом художник стремился привлечь внимание именно к героической группе мужчин. Фигура отца в центре воплощает идею общественно-родового начала, управляющего действиями героев. Эта фигура и является композиционным центром полотна.
Относя группу женщин несколько в глубь картины, Давид как бы подразумевал обращенные к сыновьям слова корнелевского старого Горация:
Нет, дети, жен своих оставить вы должны. Вас жалобы смягчат и, нежностью лукавой Лишивши мужества, толкнут на путь неправый. Лишь бегство победит противников таких (I, 335).Женщины изображены удрученными ожиданием неизбежной беды, предающимися сдержанной скорби. В колорите картины преобладают приглушенные желтые, белые и серые тона, среди которых резко выделяется красный плащ старика Горация.
Картина Давида была написана в 1785 г., т. е. за 4 года до Великой французской революции. Но современники художника поняли, что он стремился не столько прославить героев древнего Рима, сколько дать пример гражданского подвига. Аллегоричность и отказ от исторической конкретности, присущие классицизму, дали широкую возможность для воплощения в зрительных образах идей свободы и равенства.
Историк культуры. После непродолжительного периода «гармонии» в обществе середины XVII в. все больше стала ощущаться неустойчивость. Не выдержали проверки жизнью те идеалы, которые возлагались на монарха как выразителя общегосударственных интересов. Так, в 1655 г. молодой Людовик XIV явился на заседание Парижского парламента в охотничьем костюме с хлыстом в руках и произнес: «Государство – это я». Тем самым он дал присутствующим понять, что служение государству – это прежде всего служение ему лично. Наступает эпоха «утраченных иллюзий». Личность вступает в конфликт с государственной властью.
Театровед. Вернемся к разговору о трагедии. Выразителем настроений нового времени в трагедии явился Жан Расин. Конфликт трагедии он перенес в мир интимных переживаний человека. Расин стал создателем подлинной драмы страстей. В его пьесах любовь определяет судьбу героев, высвечивая сложнейшие переживания человека, обнаруживая его достоинства и пороки. Если Корнель показывал главным образом человека, каким он должен быть, то Расин изображает его таким, какой он есть, со всеми присущими ему слабостями. Любовь у Корнеля можно заслужить, она согласуется с разумом. У Расина она возникает как непредсказуемое чувство, не подчиняющееся рассудку.
Как и Корнель, Расин могучие страсти для своих героев искал, как правило, у героев, взятых из античной мифологии и истории. Однако важнейшим художественным открытием Расина, более глубоким по сравнению с Корнелем, стал психологизм. Раскроем это на материале его трагедии «Андромаха», сюжет которой является одним из самых распространенных в мировом искусстве.
Искусствовед. Вначале обратимся к образу Андромахи, воссозданному на полотне русского художника-классициста Антона Лосенко (слайд «Прощание Гектора с Андромахой»). Картина «Прощание Гектора с Андромахой» (1773) является одной из первых русских исторических композиций. Троянский герой Гектор, зная о предсказанной ему гибели от превосходящего его по силе Ахиллеса, отправляется защищать родной город, исполнять свой патриотический долг. Его прощание с женой и маленьким сыном Астианаксом происходит на многолюдной площади на фоне полукруглой колоннады и стен Илиона под грозным небом, предвещающим беду. По законам классицистической эстетики художник помещает главные фигуры в центре, выделяя их цветом и светом. Позы героев, их жесты полны патетики, а вся группа напоминает сцену из спектакля классицистического театра. В правой руке герой держит маленькую ручку сына, находящегося на руках страдающей Андромахи. Левую руку Гектор протягивает к согражданам, провожающим его на смертельную битву. Прекрасное лицо героя обращено к небу, он призывает богов в свидетели своей клятвы сражаться за родной Илион. Горожане все едины в своем сочувствии Гектору и переполнены восхищения им.
Изображая это торжественное и бесслезное прощание, Лосенко аллегорически прославляет героизм и беззаветную любовь к отечеству.
Ассистент театроведа. В отличие от Лосенко Расин в своей трагедии проследил судьбу Андромахи уже после падения Трои. В прекрасную пленницу влюбляется Пирр, сын Ахилла, сразившего Гектора. Андромаха с негодованием отвергает эту любовь, поскольку верна памяти мужа и видит в Пирре палача своего несчастного народа. Невеста Пирра Гермиона, оскорбленная изменой своего избранника, обращается за помощью к Оресту. Тот становится преданным исполнителем ее воли, потому что сам ее любит. И Пирр, и Гермиона напрасно пытаются подчинить свои страсти рассудку. Пирр не может отказаться от Андромахи, Гермиона – от Пирра. Андромаха, спасая своего сына, соглашается на свадьбу с Пирром, решив покончить с собой сразу же после свершения свадебного обряда. Но это решение ей не удается осуществить, потому что Пирр погибает от руки Ореста. В финале Гермиона лишает себя жизни, а Орест сходит с ума от горя и угрызений совести.
Вот как об этом новаторстве Расина-психолога говорил знаменитый французский писатель XX в. Франсуа Мориак: «Андромаха» открыла обществу, которое сочинители лирических стихотворений, романов и трагедий приучили смотреть на любимое существо как на объект завоевания, что завоевать возлюбленного или возлюбленную невозможно. Расин… порывает с условным изображением милой и нежной любовной игры, где никогда не стоит отчаиваться. Ничто не помогает – ни нежность, ни угрозы. Любимый человек не видит, не слышит вас. Он сам влюблен, сам во власти такого же наваждения он тянется к своему магниту».
Историк культуры. Шедевры, созданные Корнелем и Расином, Пуссеном и Давидом, составляют не только гордость французской национальной культуры, но имеют и общечеловеческое значение. Возникнув во Франции и получив в этой стране наиболее полное выражение, классицизм на протяжении XVII–XVIII вв. был ведущей тенденцией и в искусстве многих европейских стран: Германии, Испании, Италии, Нидерландов, России.
В развитии классицизма наблюдались периоды подъема и спада в зависимости от того, насколько велика была потребность в общественно значимом искусстве. Так, явления сентиментализма и преромантизма, получившие большое распространение в Европе второй половины XVIII в., ослабили доминирующее положение классицизма в литературе, театре, живописи. Но в конце XVIII в., в период Великой французской революции, когда снова стало необходимым искусство, несущее большие гражданские идеи, позиции классицизма вновь на некоторое время упрочились.
Музыковед. В разных видах искусства тенденции классицизма проявились по-разному. Музыка, по-видимому, менее всего подчиняется регламентации и нормативности. Тем не менее композитор Ж. Б. Люлли, современник Корнеля и Расина, стал создателем классицистической оперы. Сочинения Гайдна, Моцарта, Бетховена относят к «венскому классицизму», который не был «аналогом» классицизма в литературе, а скорее опосредованно отражал идеи Просвещения: веру в торжество добрых сил над злыми, победу разума над хаосом и стихией.
Примером может быть клавирная соната Моцарта, пронизанная светом и ясной гармонией (прослушивание фрагмента третьей части сонаты A-dur).
Даже трагические переживания и события передаются в музыке «венского классицизма» средствами, не нарушающими привычной гармонии. В опере Гайдна «Орфей и Эвридика», написанной по мотивам известного древнегреческого мифа, муки героя выражены без привычного для современного человека надрыва, отчаяния и истерии.
Послушаем арию Орфея, спустившегося в подземное царство Аид в поисках любимой Эвридики (грамзапись арии). Музыкальный рисунок этой арии сдержан, мелодичен, вместо драматического взрыва чувств мы ощущаем скорее всего светлую печаль.
Архитектор. Пожалуй, в архитектуре и садово-парковом искусстве традиции классицизма сохранились дольше всего. Всемирной славой пользуются произведения российского зодчества XVIII-начала XIX вв., в первую очередь ансамбли Петербурга и его пригородов. Они придают «Северной Пальмире» неповторимый классический облик, который превратил ее в один из самых красивых городов мира.
Ярчайшим примером синтеза архитектуры и скульптуры в искусстве петербургского классицизма является Адмиралтейство (морское ведомство), построенное в 1806–1823 гг. по проекту архитектора А. Захарова (фотография Адмиралтейства). Оно сформировало ансамбль трех площадей (Дворцовой, Сенатской, Адмиралтейской) и организовало трехлучевую систему главных перспектив города: Невской, Гороховой, Вознесенской, сориентированных на шпиль надвратной башни Адмиралтейства с его знаменитым корабликом, ставшим символом Петербурга.
Великие художники – архитекторы, скульпторы, строители – создали грандиозный классицистический ансамбль, прославляющий флот, науки, искусства, воплощающий в себе величественный образ новой могущественной России.
Чтец читает отрывок из «Медного всадника»: «Люблю тебя, Петра творенье…»
На заключительном этапе урока анализируется его содержательная и исполнительская сторона, определяются основные черты классицистической эстетики. Учащиеся называют наиболее запомнившиеся им культурные памятники эпохи классицизма в литературе, архитектуре, скульптуре, живописи, музыке.
Данный вид урока требует от учащихся серьезной самостоятельной подготовки (учитель выступает лишь в роли консультанта), поэтому в практике подобных уроков немного – 1–2 в полугодие. Но эффект от таких уроков огромный. Он сказывается прежде всего на мотивации обучения, формировании умений работать со специальной литературой, составлять текст сообщения, устанавливать интегративные связи, коллективно выстраивать текст урока как театральное действие, осваивая при этом разные социально-культурные роли.
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Прокомментируйте содержательную и методическую стороны данного урока. Определите его цель и задачи.
2. • Составьте разработку урока на тему «Архитектура классицизма в поэме А. С. Пушкина «Медный всадник».
3. Подберите материал к теме «Военная столица» в изображении Пушкина и в зодчестве Петербурга.
4. • Продумайте план урока «Парадный портрет в живописи и литературе (Г. Р. Державин «Изображение Фелицы» и Д. Г. Левицкий; А. С. Пушкин «Портрет» («У русского царя в чертогах есть палата…») и Ж. Доу).
2. Тема: Литературно-художественные гостиные начала XX в.
Она еще не родилась, Она и музыка и слово, И потому всего живого Ненарушаемая связь…
О. МандельштамДанный урок по типу – познавательная ролевая игра, по форме – имитация литературно-художественнных гостиных начала XX в., по своей структуре – урок интегрированный с последовательным типом интегративных связей.
Его главная цель и задачи – погружение школьников в атмосферу художественной, творческой жизни начала XX в., выявление общих точек соприкосновения между различными видами искусства, обучение ролевому поведению, диалогическому общению и усвоению знаний. Это один из вводных уроков в поэзию русского модернизма.
Суть ролевой игры – объяснять мир и говорить об искусстве с позиции поэта, философа, искусствоведа эпохи русского модернизма. Урок проходит как посещение разного типа гостиных – литературной, философской, музыкальной, художественной. Набор ролей: хозяин (хозяйка) гостиной, искусствовед, музыкальный критик, философ, литературовед, художник, поэты, роли которых играют учащиеся и учителя-предметники. В центре внимания урока – назначение творчества, проблема соотношения аполлоновского и дионисийского в искусстве, концепция мира и человека в русском модернизме.
Первая гостиная – музыкальная. Она создает эмоциональный настрой урока, знакомит с богатством и многообразием музыкальных ритмов эпохи. Хозяйка гостиной встречает гостей, руководит дискуссией о музыке. Вначале слово берет музыкальный критик, который знакомит с «Поэмой экстаза» Александра Николаевича Скрябина.
«Прежняя музыка – это детский наивный лепет. Настало время новых бурных ритмов, раскрывающих силу человеческого духа и разума. Скрябин своей музыкой приближает время слияния человечества в единую мировую душу. Его музыка выводит человека из тьмы и невежества, делает его духовно прекрасным и свободным.
Четыре части «Поэмы экстаза» представляют собой противостояние двух жизненных сфер – мечты, созерцательности, покоя и активного, дерзостного, мужественного действия. Душа человека, пребывающего в мире неги и грез, тянется к другой жизни. Она просыпается, начинает действовать, ощущает восторг битвы. Наконец, наступает долгожданный экстаз – торжество победы, опьянение свободой, ощущением всеединства мира» (звучит финал «Поэмы экстаза».)
Голоса из зала: «Музыка вашего композитора – это какой-то сумбур, словно поток камней сыплется с большой горы…» (Шум, крики в зале.) Хозяйка успокаивает публику и дает слово почитателю таланта Скрябина.
«Мне тоже когда-то была непонятна его музыка, так как моя душа блуждала в потемках и младенческих снах. Скрябин вывел ее к свету, на простор Вселенной. Его музыка зовет к победе сознания, разума над хаосом, в котором пока пребывает человечество» (звучит отрывок из «Поэмы огня».)
Слово берет другой музыкальный критик. «Выразитель нашего времени – Сергей Рахманинов. Музыка Скрябина выражает душу возгордившегося человека, музыка Рахманинова наполняет душу гармонией, божественным откровением. Какое русское сердце не встрепенется, не переполнится братской любовью при звуках его «Всенощного бдения!» (звучит молитва «Свете тихий».)
Участники гостиной спорят о музыке, определяются в своих пристрастиях, задают вопросы музыкальным критикам.
Действие переносится в художественную гостиную. Ее хозяйка предлагает посмотреть гостям картины М. Врубеля «Демон сидящий», «Сирень», «Царевна-Лебедь»; М. Нестерова «Молчание», «Виденье отроку Варфоломею»; В. Борисова-Мусатова «Вдвоем»; М. Чюрлениса «Соната моря». Посетители гостиной высказывают свои впечатления.
Почитатель искусства М. Врубеля. «Нет сегодня художника, равного Михаилу Врубелю. Его техника мазка – рождение гармонии из осколков, хаоса. Это словно музыкальные аккорды, сливающиеся в мощное звучание симфонии красок. Он выразитель наших мыслей, чувств и настроений. Его синие, фиолетовые, сиреневые цвета – это видение других миров, влекущих и пугающих своей тайной. Взгляните на его «Сирень», разве вы не чувствуете ее терпкого и дурманящего запаха? Вот оно, искусство, выше самой жизни! Его «Царевна-Лебедь» на наших глазах рождающаяся из пены – это же сама наша Русь, выплывающая из волшебных сказок».
Вопрос из зала: «Но как можно восторгаться Демоном, этим олицетворением мирового зла и презрения к земному миру?»
Почитатель искусства М. Врубеля. «Для меня это дух не столько злобный, сколько страдающий и скорбный. Всмотритесь в его печальные глаза, застывшую, словно на века, могучую фигуру. Он вне страстей, вне суеты, по ту сторону добра и зла. Каждый из нас так же, как и он, одинок и скорбен в этом мире пошлости и сологубовских недотымок».
Почитатель таланта М. Нестерова. «А мне чужд его Демон. Русской душе, устремленной к людям, Богу, природе, вообще чужды все демонические начала жизни. И это очень хорошо передает своими картинами Михаил Нестеров. Вот его «Молчание». Тишина и покой разлиты во всем мире. Наступил кроткий вечер, отзвучала вечерняя молитва в ближайшем монастыре. Великое молчание как ожидание божественного чуда объемлет лесистый холм, озеро, рыбаков-монахов. Дивно, светло и покойно на душе. Свет тихий, свет вечерний льется с небес».
Между посетителями гостиной возникает диалог о художниках. В него вмешивается искусствовед, который пытается примирить спорящих, высказывая мысль, что каждый из художников выразил по-своему одну из сторон русского духа. Затем разговор заходит о картине Борисова-Мусатова «Водоем». Хозяйка гостиной представляет «автора», который объясняет смысл своей картины.
Художник. «Современная живопись стремится не фотографировать предметы и явления, а передает впечатление от них, настроение. Но и это не все. Мы стремимся передать мир не только в красках, но и в звуках. Вслушайтесь в эту картину: разве вы не слышите меланхолический мотив? Две женщины, сидящие на берегу озера, застыли в молчании вне времени и пространства. Есть только их воспоминания, их грезы».
Восхищеннные возгласы из зала: «Действительно я слышу музыку, и меня обволакивает меланхолическое настроение. Грустно, печально, но как-то светло на душе. Вот это здорово!»
Искусствовед знакомит с трехчастной картиной Микалоюса Чюрлениса.
«Да, современная живопись, как справедливо заметил маэстро, «зримая музыка». Причем она может передать не только одну мелодию, а звучать как соната. Давайте всмотримся в «Сонату моря» Чюрлениса и послушаем ее музыку».
Реплика из зала: «Не морочьте нам голову, не слышу я никакой музыки».
Искусствовед. «Вы не слышите, но другие слышат. Вот первая часть сонаты – сонатное аллегро. Картина расчленена на несколько слоев, включающих в себя изображение волн, неба, морского дна, которые, как музыкальные ритмы, насыщены контрастными темами. Эти слои-темы и создают пульсацию ритма.
Вторая часть картины – медленное анданте. Где-то в глубине прозрачной дымки, в которую погружен мир, таинственно светятся окна замков. На горизонте мерцают дивные светильники, посылая свои музыкальные ритмы через все пространство моря. Весь мир погружен в покой и созерцание. Над морской бездной чья-то могучая рука грациозно держит парусник. Но и он пока замер без движения.
Третья часть – финал. Море пробудилось, штормит. Все полотно занимает гигантская бурлящая волна. Она «звучит» как заключительные аккорды симфонического оркестра. Энергию моря, могущество волны подчеркивают маленькие, почти детские кораблики. Они словно завершают свой последний танец у ее подножья. Еще миг – и они исчезнут в пучине».
Посетители благодарят искусствоведа и хозяйку и отправляются в философскую гостиную. Философ (хозяин гостиной) предлагает обсудить некоторые идеи философских систем А. Шопенгауэра, Ф. Ницше, В. Соловьева, определившие основу миропонимания русского символизма. Вначале выступает докладчик и знакомит слушателей со статьей В. Брюсова «Ключи тайн», одной из первых теоретических работ отечественного символизма. Главные тезисы его выступления: «Искусство есть постижение мира иными, не рассудочными путями. Искусство – то, что в других областях мы называем откровением»; «Искусство начинается в тот миг, когда художник пытается уяснить самому себе свои темные, тайные чувствования. Где нет этого уяснения, нет художественного творчества. Где нет этой тайности в чувстве, нет искусства».
Философ развивает эту идею интуитивного знания на материале философии А. Шопенгауэра, а затем останавливается на аполлоновском и дионисийском началах в искусстве, обращаясь к статье Ф. Ницше «Рождение трагедии из духа музыки».
Заключительная часть урока проходит в диалоге о любви на материале статьи В. Соловьева «Смысл любви». Мнения разделяются: одна часть гостей утверждает, что настоящая любовь есть соединение небесного и земного начал (Афродиты Урании и Афродиты Пандеус), другая считает, что подлинная любовь – любовь небесная, ее предмет – вечная Женственность. Дискутирующие в подтверждение своих точек зрения приводят стихи В. Брюсова «Женщине» («Ты – женщина, ты – книга между книг…») и А. Блока «За туманом, за лесами…»
Так незаметно осуществляется переход в литературную гостиную. Чопорных гостей в строгих одеждах сменяют гости в самых неожиданных одеяниях. В глаза бросаются фиолетовые брюки, желтая кофта, высокие ботфорты, непомерно высокий цилиндр. На сцене появляются поэты, принадлежащие к разным поэтическим школам и течениям. Хозяйка гостиной по очереди представляет их гостям, выделяя отличительную особенность творческой манеры каждого поэта, например: «Валерий Брюсов – глава «старших» символистов, поэт, нашедший ключи к миру тайн, связавший века, культуры, героев истории в единый сноп человечества. Его «Tertia Vigilia», «Urbi et orbi» – переложение на язык поэзии книги самой истории».
По ходу представления публике поэты читают свои стихи: В. Брюсов – «Творчество», «Ассаргадон»; К. Бальмонт – «Я изысканность русской медлительной речи…», «Я мечтою ловил уходящие тени…»; Ф. Сологуб – «Плененные звери», «О смерть! Я твой. Повсюду вижу…»; О. Мандельштам – «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…»; В. Хлебников – «Заклятие смехом»; В. Маяковский – «Послушайте!», «Нате!»
У каждого поэта своя манера чтения. Валерий Брюсов читает, гордо подняв голову, скрестив руки на груди. Лицо невозмутимое, голос ровный, бесстрастный. Константин Бальмонт, наоборот, читает выспренно, эмоционально, прыгая и размахивая руками. Федор Сологуб мрачен, угрюм, читает замогильным голосом. Осип Мандельштам, закрыв глаза, словно погрузившись в сон, читает напевно, торжественно.
У публики также имеются свои роли: наивного обывателя, непримиримого консерватора, восхищенного почитателя. Они сопровождают чтение поэтов своими репликами, задают вопросы, дают оценки их стихам. В заключение хозяйка гостиной благодарит всех присутствующих, предлагает им написать в рукописный журнал свои эссе о новом искусстве, впечатлениях от конкретных произведений, попытаться установить диалог между ними и объявляет встречу законченной. Так, вместо однообразных шаблонных сочинений создаются оригинальные творческие работы, отражающие непосредственную рецепцию учащихся, их реакцию на новые для них явления в искусстве. Вместе с тем такие работы наилучшим образом демонстрируют уровень усвоения учащимися изучаемой учебной темы, развитие их перцептивных способностей.
Приводим пример такой работы, выполненной на сопоставление живописного и словесного произведений искусств – картины М. Врубеля «Пан» и стихотворения А. Блока «Плачет ребенок. Подлунным серпом…».
«В темноте деревья оживают и тянут к дому, окну свои скрипучие, сухие пальцы, карябают и стучат, умоляют выйти к ним на простор, в ночь…
Стихотворение Александра Блока и картина Михаила Врубеля погружают нас в этот таинственный мир ночной природы. Они наполнены детскими страхами и настороженным любопытством: страшно и сладостно слушать сказки и бояться.
Блок написал свой лирический этюд через четыре года после созданной Врубелем картины «Пан». Вполне утвердительно можно сказать, что он им навеян, хотя это не стихотворное описание картины, а что-то вроде «размышления на тему», ведь на полотне нет ни «плачущего ребенка», ни «бледных девушек», ни «бледной дороги», только персонаж древнегреческой мифологии Пан сидит почему-то под русской березой. Но в одинаковой степени можно его назвать и русским Лешим. Вспомним пушкинское:
Там чудеса: там леший бродит, Русалка на ветвях сидит…Картины Врубеля узнаешь сразу – одного взгляда достаточно, чтобы понять, в чьем мире ты оказался. Его живопись необыкновенна: это какие-то фантастические цвета, мозаика, мерцание предметов, запах восточных пряностей.
Стихотворение Блока также наполнено этим мерцающим, неверным лунным светом, которым напоено полотно Врубеля. Бросается в глаза, что Блок, обычно не скупящийся на краски, доминирующим цветом изображенной им картины мира избрал бледный свет. «Бледные девушки», полупрозрачные создания, наполовину сотканные из воздуха, стоят на ветру, развевающем их легкие одежды, серебристые нити волос, и зовут, беззвучно шевеля своими бледными губами. Поддашься их уговорам, свернешь с тропы – навеки уснешь в этих травах с холодным поцелуем на губах…
Завораживает строфа с этим ирреальным бледным светом, в которой одна строчка плавно переливается в другую, новый образ рождается из предыдущего. Видишь и картину, ощущаешь эту бледность, слышишь шорохи и колыханье:
В поле дорога бледна от луны.
Бледные девушки прячутся в травы.
Руки, как травы, бледны и нежны.
Ветер колышет их влево и вправо.
Этот таинственный мир языческих образов овладевает сознанием читателя. Лешие, русалки, горбатые сатиры, эти полулюди, полубожества кажутся реальными. Они движутся, хохочут, пляшут, дрожат от холода, что-то шепчут, выкрикивают. Становится страшно так, что кровь стынет в жилах.
Глаголы действия и дактиль с ударными первыми стопами указывают на движение, жизнь в изображенном поэтом мире, а безударные последующие стопы и ассонанс, с повторяющимся гласным «о» – указывают на затухание этого действия, покой, в котором все угасает, тишина то и дело обволакивает, пугает.
Шепчет и клонится злак голубой.
Пляшет горбун под луною двурогой.
Кто-то зовет серебристой трубой.
Кто-то бежит озаренной дорогой.
Параллелизм является основным композиционным приемом, позволяющим передать эти два состояния мира: движение и бездействие, живое и неживое, наполненность мира звуками и молчание. Молчание вместе с соседствующим с ним словом «познанье» являются ключевыми словами стихотворения, одно переходит в другое. Этот мир можно только молча созерцать, воспринимать как некий сон, наваждение, фантастическое видение ночи, в которой царит «бледная луна», пугающая ребенка.
Аллитерации, создаваемые резкими звуками «ш», «ж», «з», резкие, «колючие» слова, характеризующие мифологические существа, усиливают ощущение этой жути и мути, страха и любопытства, некой тайной гармонии и первобытного хаоса.
Пан у художника и Косматый у поэта, хотя и взяты из национальной русской мифологии, разные. У художника он серьезнее, полон дум и тайн. В его голубых-голубых глазах, совсем человечьих – горечь полыни от вечного одиночества. Как-то не верится, что он может хохотать. Чувствуется, что Врубель любит своего странного героя и старается понять его тоску.
На картине преобладают темные краски, холодные тона, все предметы изображены в предрассветной мгле. Но близкий рассвет с багровой зарей не снимает напряжения, а, наоборот, усиливает тревожное состояние мира.
У Блока Пан уже не главный герой, а одно из мифологических существ этого фантастического мира ночи. Вначале стихотворения он хохочет над другим сверхъестественным существом – горбуном, а в конце стихотворения сам «Беззвучно дрожит», ощущая себя одиноким и беззащитным в этом мире бледного света.
Открывая свое стихотворение и заканчивая его мотивом плача ребенка, поэт тем самым указывает, что тревожное состояние мира не снято, страх не кончился, и ничего так и не разрешилось, как и на картине Врубеля».
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. При помощи каких методических приемов и какими средствами в ходе приведенного урока организован диалог в культуре? Какие функции учителя и учеников на данном уроке?
2. • Прокомментируйте роли участников литературно-художественных гостиных, составьте свои варианты их игровых текстов.
3. • Развивая тему предложенного вам урока, разработайте несколько диалогических ситуаций, связанных с разным восприятием искусства начала XX в.
4. • Напишите рецензию на работу учащегося, выполненную на сопоставление живописного и словесного произведений искусств – картины М. Врубеля «Пан» и стихотворения А. Блока «Плачет ребенок. Под лунным серпом…».
3. Тема: Литературное кафе символистов «Аполлон и Дионис»
Будем как солнце! Забудем о том, Кто нас ведет по пути золотому, Будем лишь помнить, что вечно к иному, К новому, сильному, к доброму, злому, Ярко стремимся мы в сне золотом. Будем молиться всегда неземному В нашем хотенье земном! К. БальмонтУрок представляет собой имитацию атмосферы артистических кабаре начала XX в. Это еще одна из форм погружения в художественную культуру начала XX в., но данный урок заключительный по изучению поэзии русского символизма. Его цель – обобщение знаний по теме, формирование системно-целостного представлення об эстетике символизма в искусстве, творческое закрепление полученных сведений в ролевой игре.
Набор ролей: поэты-символисты, философы, художники из группы «Мир искусства», ведущий, литературный критик, люди в зале – гости кабачка.
На стенах кафе размещена выставка художников: «Заморские гости» Н. Рериха, «Дама в голубом» К. Сомова, «Купчихи» Б. Кустодиева, «Бабы» Ф. Малявина, «Полдень» К. Петрова-Водкина, «Гадалка»» М. Врубеля, эскизы декораций к спектаклям А. Бенуа, «Париж ночью. Итальянский бульвар» К. Коровина. Около импровизированной эстрады висят плакаты:
«Символизм – как миропонимание», «Приблизиться к мировой душе!», «Будем как солнце!», «Только влюбленный имеет право на звание человека».
Представляем костюмы участников ролевой игры и некоторые яркие детали создаваемых образов.
Ф. Сологуб – одет в строгий костюм, носит пенсне на черном шнурке, четки. У него редкая бородка, мрачное лицо.
В. Брюсов – в черном фраке, накрахмаленном воротничке и манжетах, галстуке. Голова гордо поднятая, взгляд с чувством превосходства, руки скрещены на груди.
К. Бальмонт – небрежен, порывист, франт. Длинные волосы до плеч, на голове цилиндр, в руках постоянно вертит трость.
И. Анненский – в вицмундире директора гимназии, фуражке с высоким козырьком, носит пенсне. В руках толстая, больших размеров, записная книжка, напоминающая школьный журнал.
А. Белый – энтузиаст, вечно в движении, появляется то со скрипкой, то с грифельной доской. Играя на скрипке, записывает какие-то формулы.
А. Блок – в костюме Гамлета: на нем черный свитер, белая кружевная рубашка, черный плащ, в руке шпага. Взгляд задумчивый, рассеянный. Время от времени достает из кармана книгу, которую сосредоточенно читает, проговаривая вслух некоторые слова.
I отделение
Звучит музыка А. Скрябина «Поэма экстаза». Зажигаются свечи, включается настольная лампа. Посетители кафе рассаживаются по местам.
Собравшихся приветствует хозяин кафе (ведущий). Он знакомит с программой, дает слово литературному критику, изучающему символизм. Критик рассказывает о мироконцепции и эстетике, о двух поколениях символистов. Другой критик рассматривает символизм в живописи и музыке. Литературного критика и искусствоведа дополняет философ, который обозначает символистскую концепцию видения мира.
Д. С. Мережковский читает отрывок из манифеста «О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы». В. Брюсов читает отрывок из статьи «Русские символисты». В зале разносятся листовки с текстами этих отрывков.
Начинается чтение стихотворений. В. Брюсов читает «Поэту» («Ты должен быть гордым, как знамя…») глухо, отрешенно, назидательно. К. Бальмонт декламирует «Я вольный ветер, я вечно вею…», читает заносчиво, самовлюбленно, напевно произнося, а точнее, пропевая, строки. Ф. Сологуб с иронией и со злостью читает «Я без цели, угрюм и один…». При каждом звуке шума он вспыхивает гневом. Камерно, тихо, но с лирическим пафосом читает «Я и молод, и свеж, и влюблен» А. Блок. Речитативом, переходящим в шепот, произносит А. Белый стихотворение «Менуэт».
Реплики из зала: «Каким должен быть современный поэт?», «После вашей поэзии у меня пропал аппетит».
В. Брюсов отвечает: «Вы, кажется, ошиблись адресом. Вам надо в кабак, где продают горячительные напитки. Здесь людям открывают тайну бытия».
Один из поклонников Брюсова зачитывает стихотворение «Юному поэту» как ответ на вопрос о поэте и поэзии. Другой очень громко выкрикивает цитаты: «Живи, как пишешь, пиши, как живешь!», «Творчество как жизнетворчество!»
Стихи любимых поэтов читают их поклонники. Звучит поэма В. Брюсова «Конь блед», стихотворение «Променад» А. Белого, «К Елене» («О Елена, Елена, Елена…») К. Бальмонта.
Первое отделение заканчивается танцами и показом моделей одежды начала XX в.
II отделение
Звучит музыка С. Рахманинова – «Второй фортепьянный концерт».
К. Бальмонт читает стихотворение «Песня без слов».
Хозяин кабачка представляет группу художников «Мир искусства». Идет показ картин Н. Рериха, Б. Кустодиева, Ф. Малявина, К. Сомова, К. Коровина, К. Петрова-Водкина, А. Бенуа.
Искусствовед представляет эстетическую программу «мироискусников». Голос из зала: «Это не живопись! Какое-то буйство красок, никакой конкретики!» Отвечает сам «Кустодиев»: «Мои картины – это изображение полнокровного, яркого, жизнерадостного быта русских провинциальных городов и деревень. На них изображен уходящий в прошлое, но ностальгически прекрасный родной русский быт, русская душа, русская жизнь».
Реплика из зала: «Ваша Купчиха глупа и пошла. Как можно ею восхищаться? Это какой-то лубок». (Демонстрируется слайд с изображением картины Б. Кустодиева «Купчихи».)
Б. Кустодиев: «А я и не рисовал «академика в чепце», а красивую, дородную купчиху, о которой говорят в народе «кровь с молоком». Да, она любит вкусно и обильно поесть и даже превращает это в своеобразный ритуал. Но какой русский не любит вкусной и обильной еды?» (Аплодисменты в зале.)
Таким образом представляются и другие художники. Ведется диалог об их творчестве.
III отделение
Звучит увертюра к опере Жоржа Визе «Кармен». Свет меркнет. На сцене появляются артисты поэтического театра и представляют литературную композицию по циклу А. Блока «Фаина».
Вторая часть III отделения представляет собой гала-концерт поэтов-символистов. Один за одним поэты читают свои стихи, а в конце публика определяет короля поэтов и хозяйка кафе надевает ему на голову лавровый венок. (В гала-концерте звучат стихи В. Брюсова «Грядущие гунны», К. Бальмонта «Безглагольность», А. Блока «Незнакомка», И. Анненского «Листы», В. Иванова «Душа сумерек», Ф. Сологуба «Я также сын больного века…», А. Белого «Вечер».)
Звучит музыка Стравинского «Весна священная». Хозяйка кафе закрывает вечер, благодарит выступающих и зрителей.
Два приведенных выше урока, вводный и заключительный, проходившие в форме театрализованного действия, являются для учащихся не только интересной формой погружения в атмосферу культурной эпохи начала XX в., но и позволяют организовать продуктивный диалог в культуре, активизируют самостоятельную деятельность учащихся, о чем свидетельствуют разные виды дискурсивных практик, творческие работы.
В качестве примера одной из творческих работ, которую с большой охотой выполняют ребята, помещаем стилизацию по мотивам стихотворения А. Блока «Когда вы стоите на моем пути…»
Когда вы стоите на моем пути, Такая живая, такая красивая, Но такая измученная, Говорите о печальном, Думаете о смерти, Никого не любите И презираете свою красоту, Как понимаю я вас. Ваши нежные тонкие пальцы Неподвижно застыли В ладони моей, Холодные, как ледяные сосульки, И слезинки дрожат На ваших упругих ресницах. Вы далеки, как мечта, В своей светлой печали, В шепоте слов И приливах тоски. Мне все равно, Чтобы вы ни шептали. Ваши слова, Словно шелест листвы. Только бы ночь Никогда не кончалась, Темная ночь Сладкой, певучей тоски…Это другой тип работы, демонстрирующий уже развитие литературно-творческих способностей ученика: наличие ритмического слуха, владение техникой литературного труда, умение мыслить словесными образами, довоссоздавать топос и атмосферу действия.
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Проанализируйте содержание и структуру приведенного урока. В чем его отличие по целям и задачам от предыдущего? Довообразите, допишите некоторые диалогические ситуации урока.
2. • Взяв за основу модель данного урока, составьте план урока «Стойло Пегаса» (литературное кафе футуристов). Продумайте и прокомментируйте роли его участников.
3. • Создайте стилизацию по мотивам стихотворения В. Маяковского «А вы могли бы?»
4. Тема: Урок-путешествие по романтическим садам Павловска (вслед за лирическим героем элегии В. А. Жуковского «Славянка»)
Все к размышленью здесь влечет невольно нас.
В. ЖуковскийЦель данного урока – вслед за лирическим героем элегии совершить прогулку по садам и паркам Павловска, раскрыть романтическую концепцию мира автора, культурно-семантические знаки стихотворения.
В ходе урока осуществляется интегративная связь между словесным и садово-парковым искусствами, на материале содержания урока формируется целостное представление о романтической эстетике. Для подготовки к нему учащимся предлагалось прочитать раздел из учебного пособия В. Г. Маранцмана[169] и материал о садах романтизма[170].
Данная методика изучения стихотворения Жуковского вызвана стремлением современного словесника формировать знания учащихся о романтизме не репродуктивно, а через активную форму «погружения» их в сознание романтического героя.
Основные виды деятельности на уроке: выразительное чтение и комментирование текста, рассматривание фрагментов видеофильма о «Павловске» и озвучивание его с помощью эпизодов элегии В. А. Жуковского, анализ поэтических образов стихотворения. Основная учебная задача – проследить, как поэт прогулку по берегам Славянки лирически окрашивает движением своего настроения, развитием своих мыслей.
В начале урока выясняется, в какое время года и суток происходит действие в элегии. Какие атмосферные явления упоминаются в ней и что они обозначают?
В ходе обращения к тексту раскрывается смысл одной из главных категорий в эстетике романтизма – категории времени. Она связана с элегическим характером мироощущения романтика. «Полуотцветшая природа», т. е. осень вызывает меланхолические размышления, говорит о мгновенности красоты, непреложном увядании, быстротечности жизни. Эти размышления и чувства значительно усиливают картины дня, сменяемого вечером. В природе, как и в жизни человека, все движется от восхода, рассвета, сияния к закату, увяданию, сумеркам и тьме. О призрачности жизни, уносящей все в потоке времени, говорят и переменчивые атмосферные явления. В стихотворении Жуковского это порывы ветра, срывающие с деревьев осенние листья, сумрак, вечерняя заря, туман.
Путешествие вслед за автором начинаем с рассматривания видов Славянки, чтения ее описания в элегии. Затем выясняем символику воды. Отмечаем, что в романтической поэзии гидронимы играли особую роль. Река символизировала текучесть самой жизни, ее зыбкость и неустойчивость. У многих учащихся возникает вопрос, почему именно тихие, спокойные воды так любили романтики.
В ходе дискуссии появляется несколько заслуживающих внимания версий: 1) вода – зеркало, в котором отражается жизнь природы, как в природе отображается жизнь лирического героя; 2) отраженные в спокойной воде деревья, здания, небо, облака создают ощущение двойственности, иллюзорности мира; 3) спокойные воды со склоненными над ними деревьями как нельзя лучше передают меланхолическое состояние; 4) прозрачные воды, отраженная в них природа в ее движении, игре света и теней создают ощущение тайны; 5) с образом зеркальной воды связан мотив воспоминаний как мотив отраженной жизни.
С рекой ассоциируется еще один очень важный образ – берег. Он выражает прежде всего устремленность и направление движения, является символом приютственного уголка (у Пушкина: «На берегах родимого ручья») или желанным пределом стремлений. Именно к нему направляет свое движение лирический герой: «Спешу к твоим брегам…» (I, 261).
Читая картины описания природы в элегии, педагог обращает внимание учащихся на их подвижность, кинематичность. Постоянно движущиеся картины в элегии связаны с меняющимися точками зрения, обозначенными предлогами, указывающими на пространственное расположение, и обстоятельствами места действия: под, из, на, перед, между, сквозь, здесь, там, окрест, вкруг меня, передо мной и т. д. В смене видов во время прогулки лирического героя возникает впечатление, что сама природа живет, дышит, постоянно поражает все новыми и новыми картинами. Художник, «являясь частью природы, органично усваивает ее принципы (уподобляется вечно творящей природе)», подражая ей, «творит свой собственный мир по законам красоты»[171].
Используя книгу Р. В. Иезуитовой[172], учитель может показать виды тех уголков Павловского парка, на которых останавливает свое внимание поэт.
Романтический ландшафт парка предназначен для восприятия в движении, и Жуковский запечатлевает бесконечную смену мгновений жизни природы, разнообразие ее картин. Они меняются внезапно, неожиданно, и в стихотворении поэта эта быстрая смена картин передана наречием «вдруг», четыре раза повторяющимся в тексте, и словами «лишь изредка», «лишь», которые, по мнению А. С. Янушкевича, передают «импрессионистическую игру света и тени, тишины и звуков»[173] и, следовало бы добавить, смену цветов, красок, качества освещения и четкости изображения. «Излучистая тропа», по которой идет лирический герой, становится символом самой жизни с ее светлыми и сумрачными настроениями. Пейзаж служит не только пейзажем души, но и метафорой бытия человека:
Иду под рощею излучистой тропой; Что шаг, то новая в глазах моя картина; То вдруг, сквозь чащу древ, мелькнет передо мной, Как в дымке, светлая долина; То вдруг исчезло все… окрест сгустился лес… (I, 261)Одним из главных этапов урока является прочитывание «сообщений», которые Павловский парк «послал» автору, а он, в свою очередь, читателю. Вначале обращаем внимание на мотив смерти, который является непременным во всех романтических парках. Он передан через атрибутику уединенных часовен, мавзолеев, надгробий с таинственными надписями, урн, опрокинутых факелов. Эти знаки должны были напоминать человеку о краткости его бытия, мгновенности его величия. Учащиеся зачитывают и комментируют строфы стихотворения, запечатлевшие этот мотив. Вместе с тем отмечается, что в стихотворении он звучит в сочетании с мотивом памяти. В этом плане очень интересна шестая строфа стихотворения, в которой посредством символики деревьев и их сочетаний передана эта мысль:
И вдруг пустынный храм в дичи передо мной; Заглохшая тропа; кругом кусты седые; Между багряных лип чернеет дуб густой И дремлют ели гробовые (I, 261).«Багряные липы» напоминают читателю (и посетителю сада) о неизбежности увядания красоты, «ели гробовые» – о смерти, «дуб густой», долгожитель лесов и парков, выражает мотив памяти.
Созерцание романтического парка должно было вызывать у его посетителя меланхолическое настроение, побуждать к размышлениям, что осуществляется при помощи чередования разных видов, памятников, надписей как вызывающих грусть, так и напоминающих о счастье, славе, бессмертии. Все это обнаруживают учащиеся и в стихотворении Жуковского. Поэтому на следующем этапе урока рассматриваются фотографии архитектурных памятников, упоминаемых в элегии, и комментируются поэтические строфы, их описывающие. Отмечается, что «пустынный храм в дичи» – мавзолей Павла I, воздвигнутый архитектором Тома де Томоном в 1807–1808 гг. по желанию императрицы Марии Федоровны (строфы 63–13). Внутри мавзолея И. П. Мартосом воздвигнут памятник императору, а на его пьедестале на барельефе размещена «печальная семья кругом царицы», в том числе и Александр I, «Сей витязь на руку склонившийся главой; / Сей громоносец двоеглавый» (I, 262).
С мотивом смерти, а вернее его преодолением, связан мотив дружбы. В Павловском парке одним из совершенных сооружений можно считать Храм Дружбы, построенный в 1782 г. архитектором Ч. Камероном. Он стоит в излучине Славянки и также упоминается в элегии («Здесь храм между берез и яворов мелькает»).
Показывая учащимся фотографию этого храма, обратим внимание на его атрибутику: шестнадцать стройных дорических колонн символизируют вечность и гармонию, изображение дельфинов, которыми украшен фронтон храма, – дружбу, молодые виноградные лозы, переплетенные со старыми, ссохшимися, олицетворяют бессмертие человеческих чувств.
В ходе чтения-анализа стихотворения учащиеся приходят к выводу, что пейзажи Жуковского, возникающие «вдруг», внезапно, вовсе не прямые зарисовки природы. Они «переплавлены» в сознании поэта в связи с его романтической концепцией бытия, даны в движении времени суток (поэтому меняются их освещение, цвет, колорит) и в движении самого настроения «прогуливающегося» автора. Все зыбко и неустойчиво, каждое мгновение прекрасно, но его нельзя остановить, как нельзя остановить течение мыслей, ощущения, настроения.
Следующий этап путешествия вслед за автором – буколический пейзаж, восходящий к эстетике сентиментализма:
И вдруг открытая равнина предо мной: Там мыза, блеском дня под рощей озарена; Спокойное село над ясною рекой, Гумно и нива обнажена (I, 263).На истолковании описанной в стихотворении сельской идиллии (в элегии изображено село Глазово, существующее и ныне) можно остановиться особо. Со схожей поэтической картиной описания жизни поселян на лоне природы в счастливых трудах многие учащиеся уже знакомы по первой части пушкинской «Деревни», поэтому они легко обнаруживают характерные приметы сельской идиллии в элегии Жуковского. Это «спокойное село», «ясная река» (как правило, буколические пейзажи даются в дневном освещении), «гумно и нива», «согласный стук цепов», «песня пастуха», «скрип возов». Отмечается, что Жуковский запечатлел не конкретный сельский вид, а условный и обобщенный, словно созданный по единому образцу, картине. Вспоминаются полотна Венецианова, Ватто, Буше, репродукции которых тут же демонстрируются. Еще один непременный романтический объект, на который обращаем внимание, – это челнок рыбака, дополняющий картину несуетной сельской жизни в ее органической связи, слиянии человека с природой.
Следующий этап прогулки вслед за автором связан с вечерним пейзажем. Опять меняется настроение. По мере приближения ночи усиливаются нотки грусти, печали. Картины природы становятся зыбкими, неустойчивыми, возрастает чувство одиночества, тревоги. Встреча с Семейной рощею («в ней каждое дерево означает радостное происшествие в семействе царском») вновь меняет настроение. Возникает ощущение встречи душ. Березы воспринимаются как своеобразные двойники душ живых и умерших. Вечерняя природа в восприятии лирического героя одухотворяется, приобретает собственное тайное бытие, становится портретом некоего фантастического сверхсущества. Возникает впечатление, что сама мировая душа вступает в духовную связь с душой лирического героя:
Как бы сокрытая под юных древ корой, С сей очарованной мешаясь тишиною, Душа незримая подъемлет голос свой С моей беседовать душою (I, 264).Еще одно «послание», которое предстоит «прочитать» вместе с учащимися – это урна Судьбы (строфы 30, 34) – памятник умершей в юности княгине Александре Павловне (скульптор И. П. Мартос). Здесь уместно будет процитировать самого автора, который так комментирует памятник: «… вы видите молодую женщину, существо более небесное, нежели земное; она готова покинуть мир сей; она еще не улетела, но душа ее смиренно покорилась призывающему ее гласу…»[174].
Таким образом, путешествие по садам романтизма превращается в воспоминание-размышление о неразрывной связи мира природного и внутреннего мира человека, медитацию философского характера о жизни и смерти, славе и бессмертии, тайне бытия и неумолимости судьбы.
Прочитываются последние строфы стихотворения, и невольно кажется, что весь класс погружается в меланхолическое молчание.
В качестве домашнего задания учащимся предлагается описать палитру своих впечатлений от романтической «прогулки» с автором.
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Проанализируйте содержательную и методическую стороны данного урока. Какие семантические знаки романтических садов здесь рассмотрены?
2. • Составьте киносценарий к отдельным эпизодам урока. Продумайте музыку, визуальный ряд, смену планов.
3. • Создайте портрет лирического героя стихотворения Жуковского. Продумайте его внутренние монологи, раскройте палитру чувств.
5. Тема: Роман Н. Г. Чернышевского «Что делать?» – диалог о любви и браке
Каждый порядочный человек обязан… ставить свою жену выше себя – этот временный перевес необходим для будущего равенства… Только тот любит, кто помогает любимой женщине возвыситься до независимости. Наше счастье невозможно без счастья других.
Н. Г. ЧернышевскийЦелью данного урока является выяснение сущности любовной этики Н. Г. Чернышевского и прочтение его романа как диалога о любви и браке в «малом» и «большом» времени.
На уроке используются элементы игровой формы, поэтому учащимся заранее были предложены следующие роли: историков литературы, критиков, культурологов, читателей-современников создания романа, читателей нашего времени[175]. Эта форма работы позволяет организовать учебный диалог в культурной эпохе посредством текста романа Н. Г. Чернышевского.
Культурологический подход к прочтению романа позволяет преодолеть наметившуюся в последнее время тенденцию отношения школьников к произведению Чернышевского как устаревшему, упрощенно-идеологическому.
В начале урока литературный критик предлагает читателям определить ведущие идеи романа, выдержавшие испытание временем. Так нащупывается «нерв» урока – любовная этика Чернышевского. Недоброжелательный современный читатель скептически высказывается о романе:
«Ничего нового для себя из него я не почерпнул. Ну и что, что писатель говорит о равенстве мужчины и женщины, о том, что женщина должна иметь профессию, работу, сама решать свою судьбу. У кого это сейчас вызывает сомнение?»
Ему возражает культуролог: «Идеи Чернышевского принадлежат не только истории, но и будущему, так как осуществление идеала любви он видел лишь в перспективе, когда изменится сама жизнь. «Сменится много поколений, прежде чем осуществится то, что ты предощущаешь» (XI, 590), – говорит «светлая красавица» Вере Павловне. Чтобы по-настоящему оценить этические идеи писателя, необходимо рассмотреть жизнь романа во времени».
Историк литературы знакомит участников диалога с историей создания и журнальной публикацией романа «Что делать?», приводит высказывания о нем современников.
«Роман возбуждает сильное любопытство в публике».
«Автор… так далеко пошел в идеализации женщины, как далеко у нас никто не заходил никогда. ‹…› Придет время – лет через тысячу, а может и гораздо раньше, через пять сот лет… когда явится эта царица. ‹…› Да что теперь! Мы можем только махнуть рукой и сказать, что автор позволил себе самую чудовищную идеализацию для настоящего времени».
«Чернышевский в романе «Что делать»? «попытался выразить коммунистические и социалистические идеалы…Роман Чернышевского имел большое влияние даже на внешнюю жизнь некоторых недалеких и нетвердых в понятиях о нравственности людей, как в столицах, так и в провинциях».
Группа учащихся по мотивам первых реплик читателей на роман Н. Г. Чернышевского, а также откликов критиков, воспроизводит рецепцию романа современниками:
– Вот где настоящее уважение к женщине, вот как следует понимать человеческое достоинство!
– Какая безнравственность! И как только печатаются такие вещи!
– Как это жизненно! Автор не побоялся коснуться самых интимных сторон человеческой жизни, которые так долго ханжески скрывали. Впервые появилось произведение, отстаивающее право женщины на любовь и счастье.
– Писатель извращает идеи супружества, проповедует коммунизм женщин и мужчин, противный коренным началам религии, нравственности и общественного порядка.
Общая картина рецепции романа современниками воспроизведена, и культуролог на материале раздела книги О. Б. Кафановой дает истолкование основным его мотивам, связанным с дискуссией о любви и браке в русском общественном сознании 1840–1860 гг.
«Современники Чернышевского прочитывали его роман иначе, чем в наши дни. Он воспринимался определенной частью интеллигенции как итог русского жоржсандизма. Любовный треугольник в «Что делать?» напоминает сюжетную коллизию романа Жорж Санд «Жак». Причем сходство наблюдается не только на чисто фабульном уровне, но и в обрисовке характеров: молодая жена, отличающаяся от своего мужа экспансивностью чувств, влюбляется в молодого мужчину, характер которого напоминает в чем-то ее собственный. Благородный муж самоустраняется, чтобы не мешать счастью своей супруги.
В романе Чернышевского самоубийство Лопухова, в отличие от самоустранения Жака, мнимое, потому что для героев писателя не существует счастья, купленного ценой горя, чьей-то трагедии. Вместе с тем автор «Что делать?» позаимствовал у жоржсандовского «Жака» финал любовной интриги, чтобы найти хотя бы паллиативный выход из тупика, в котором очутились его герои. Иного разрешения любовной коллизии не было, так как уход Веры Павловны к Кирсанову при живом муже по российским законам того времени расценивался бы как уголовное преступление. Официальный развод также был невозможен; для того чтобы его добиться, необходимо было предоставить суду унизительные доказательства неверности одного из супругов.
Очевидна связь произведения Чернышевского и с жоржсандовским романом «Орас». Этика «новых людей» напоминает поведение Арсена и Теофиля, которые смотрят на женщину как на друга, человека, равного себе. В романе Чернышевского Вера Павловна после первой встречи с Лопуховым признается ему, что он совершенно иначе смотрит на нее, чем другие мужчины, в том числе и ее жених Сторешников: «Вы смотрите прямо, просто. Нет, ваш взгляд меня не обижает» (XI, 54).
Мотив фиктивного брака, впервые использованный в литературе Чернышевским, также восходит к жоржсандовскому «Жаку» (главный герой романа прекращает интимные отношения с Фернандой, узнав, что та любит другого). Поскольку в России гражданский союз был более предосудительным, чем во Франции, писатель прибегает к фиктивному браку, требующему жертвенности со стороны мужчины. Но первоначально фиктивный брак Лопухова с Верой Павловной, осуществляемый ради спасения героини от семейного гнета, со временем переходит в настоящий.
Чернышевский предложил новый вариант сюжетной ситуации русского человека на rendez-vous[176]. Молодежь видела в авторе романа «Что делать?» идеолога, властителя дум, боготворила его. Писатель указал иной тип отношений между мужчиной и женщиной. Вместо формального соблюдения нерушимости брака появилась возможность союза, основанного на взаимном уважении, доверии друг другу. Женщины могли теперь выходить замуж по любви, посещать лекции в вузах, учиться за границей, овладевать профессиями (Вера Павловна в романе стремится стать врачом). Мужчины перестали видеть в них только невест или потенциальных жен.
Писатель показал яркий идеализм русской интеллигенции, свойственное ей стремление к чистой любви, духовности, подавлению биологического начала в себе. Роман позволяет почувствовать атмосферу времени его создания, тот перелом, который происходил в любовно-бытовой сфере под воздействием идей Жорж Санд. В 1840–1860 гг. новые любовные коллизии и способы их разрешения, а также изображение разных женских характеров сделались предметом изображения во многих произведениях русской литературы».
Выступление культуролога дополняет историк литературы, который сообщает, что Жорж Санд определяет и круг чтения героинь Чернышевского, а следовательно, влияет на формирование их личности. Вере Павловне, тоскующей по одухотворенной любви, семейном счастье, героини Ж. Санд близки своим мироощущением, самовыражением и стремлением к свободе. Ей, живущей в душной атмосфере родительского дома, которой мать уготовала стать женой нелюбимого, но богатого человека, кажется, что то, о чем пишет великая француженка, – «это только мечты!» (XI, 56). И это понятно, потому что для натуры сильной и практичной мало книжных примеров. Ей необходимо осуществление их в жизни, что она и делает.
Более сильное влияние оказали романы Ж. Санд на Екатерину Полозову. Перечисляя изрядный список героинь французской писательницы, Чернышевский как бы дает понять читателям, почему такие сильные женские характеры, как Лелия, Индиана, Кавальканти («Личный секретарь») и Консуэло были не столь притягательны для Полозовой, как Женевьева из романа «Андре»: «Женевьева была ее любимая героиня» (XI, 307). Тихой мечтательнице, стыдящейся богатства своего отца, душевно близкими были простые, скромные, милые, любящие и страдающие девушки из народа. Она им сочувствовала и сострадала. Вместе с тем, симпатизируя Женевьеве, героиня мечтала о судьбе реальной женщины, мисс Нейтингель, – «любимице всей Англии», отправившейся в Севастополь во время Крымской войны сестрой милосердия и организовавшей там военный госпиталь.
Жоржсандовские героини волновали умы и сердца героинь Чернышевского, но им не только хотелось мечтать о новой общественной роли женщины, а и самим бороться за нее, что они и осуществили, открыв швейные мастерские.
На следующем этапе урока выясняется, как воспринимали роман Чернышевского в «большом времени». Литературные критики приводят и комментируют высказывания писателей, политических и общественных деятелей, давая им свою оценку. Так на уроке создается силовое поле диалога.
«Под его влиянием сотни людей становились революционерами. ‹…› Это вещь, которая дает заряд на всю жизнь»[177].
«В романе «Что делать?»… проводились идеи нового социального порядка, имевшие гибельное влияние на современное молодое поколение. Главными чертами этого направления были: отрицание начал семейного союза, требование коренного преобразования экономических условий нашего общества, прославление деятельности людей, обрекающих себя на самоотверженное служение народу…»[178].
«…Возможно ли, чтобы просвещенный и гуманнейший герой устроил свою жену замуж за другого, и потом сам появлялся перед нею для того, чтобы пить втроем чай? А то ли случается в жизни, если живешь между живых людей, а не бесстрастных и бесхарактерных кукол?»[179].
«Весь образ действий Лопухова, начиная с его поездки к Кирсанову и кончая его подложным самоубийством, находит себе блестящее оправдание в том полном и разумном счастье, которое он создал для Веры Павловны и для Кирсанова. Любовь, как понимают ее люди нового типа, стоит того, чтобы для ее удовлетворения опрокидывались всякие препятствия»[180].
«В том-то и состоит главная задача социалистов, чтобы, наполнив головы женщин нелепостями, отвратить их от прямых обязанностей и тем самым внести смугу в семейства»[181].
«Чернышевский хотел дать урок активной морали без вмешательства какого бы то ни было долга, без всякой мистики»[182].
«Почему, например, книга Чернышевского «Что делать?» читается в разные периоды жизни по-разному: в школьные годы – скучновато, несмотря на внушаемое учителем почтение к авторитету, а когда стоишь на жизненном распутье, – с жадностью изголодавшегося? Потому что нас радует открытие: мы уже не маленькие, нас радует чувство собственного роста, осознанного, благодаря книге и писателю»[183].
В диалоге этих голосов и точек зрения на роман в целом и его основные проблемы принимают участие школьники. Большинство из них признают актуальность взглядов Чернышевского на проблемы любви и брака, основанных на признании независимости и равноправия женщины. В ходе беседы выясняется, что писатель отстаивает любовь одухотворенную, возвышенную. Романтику он видит не только в добрачных отношениях, но и в самой семейной жизни (что было так ново для предшествующих «Что делать?» любовных романов). Возвышенные отношения существуют в семьях Кирсанова и Веры Павловны, Лопухова-Бьюмонта и Екатерины Полозовой. Такими они были и в семье самого Чернышевского.
Историк литературы дает краткую справку об истории любви и семейного счастья Николая Гавриловича Чернышевского и Ольги Сократовны, которая была для писателя не только женой, но и другом, соратником. Не случайно свой роман о «новых людях» он посвятил ей, назвав ее при этом «своим другом».
Некоторые стороны любовной этики Чернышевского, связанные с его теорией «разумного эгоизма», старшеклассники находят слишком рационалистическими. Соглашаясь в целом с положением, что «добро есть польза», помогая другим, человек поступает разумно, он делает счастливыми других, и в конечном счете жизнь ему тоже воздаст по справедливости, учащиеся считают, что писатель впал в крайность, «перегнув палку в сторону женщины». Требуя от мужчины разумного подавления своей чувственности, Чернышевский явно игнорирует подсознательное в человеке, отстаивая лишь интеллектуальное начало. Вместе с тем писатель претворил теорию в практику в своей личной жизни.
По ходу диалога культуролог дает этим фактам комментарий, сообщая, что Чернышевский слишком идеализировал человеческую природу, веря, вслед за просветителями и Фейербахом, что знания, идеи являются основными гарантами изменения жизни. При этом свою теорию разумного подчинения чувства мысли писатель иллюстрирует на примере нескольких любовных коллизий. Учащимся предлагается их назвать и прокомментировать. Это любовные истории Кирсанова и Крюковой, Рахметова и молодой вдовы, жизнь которой он спас, и, наконец, любовное наваждение Екатерины Полозовой к Соловцеву.
Наиболее интересным для учащихся оказывается вопрос о понимании Чернышевским сущности свободы любви, которую писатель видел не в распущенности, а в свободе выбора возлюбленного и равенстве любящих (гражданском, правовом, экономическом, трудовом), что является залогом настоящей любви. Любовь-равенство, возвышенная, одухотворенная любовь, о которой мечтали «новые люди» и в которую помогает заглянуть Вере Павловне «светлая красавица» в ее IV сне, осуществилась во многом в наше время, хотя до полного воплощения идеала писателя в жизнь еще далеко. И учащиеся понимают причину ее невозможности. Необходим высочайший уровень экономического развития, улучшения условий быта и труда, эстетического воспитания. Женщина добилась свободы, но равенства нет, так как большая часть домашних, семейных забот, воспитание детей ложится на ее плечи. Поэтому не случайно во многих развитых странах (и у нас в России) существует феминистское движение.
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Какие виды дискурсивных практик продемонстрированы на данном уроке? Прокомментируйте и проанализируйте режиссуру этого урока. Включите в диалог о романе Чернышевского высказывания В. Набокова (роман «Дар»).
2. • Как продолжение описанного выше урока продумайте вопросы и задания учащимся для организации диалога о любви и браке в русской литературе XIX века на материале произведений Толстого, Гончарова, Островского, Достоевского.
6. Тема: Евангельский сюжет об иуде в интерпретации Л. Андреева, Т. Гедберга, Леси Украинки. Диалог авторов
Предающий же Его дал им знак, сказав: Кого я поцелую, Тот и есть, возьмите Его.
Евангелие от Матфея, гл. 26, ст. 48.После того как книга книг, т. е. Библия, изъятая в советское время, была возвращена в нашу культуру, уроки по произведениям, созданным на библейские сюжеты, привлекают особое внимание учеников и учителей. И это не случайно: Библия, а точнее Евангелие, – один из главнейших источников искусства. Его нравственные и философские идеи, сюжеты и образы вдохновляли многих художников, и современный человек, воспринимая их, размышляет о вечных проблемах бытия. Но анализ таких художественных текстов на уроках словесности вызывает определенные затруднения: необходимо знать первоисточник, понять специфику цитирования евангельского текста и использования его образов в литературном тексте, истолковать их роль в авторской системе ценностей.
Данный урок проводится по произведениям трех авторов, в основу которых положено осмысление евангельского сюжета об Иуде: это рассказ русского писателя Леонида Андреева «Иуда Искариот» (1907), поэма «Иуда» шведского писателя Тора Гедберга[184], и пьеса украинской поэтессы Леси Украинки «На поле крови» (1909). Его цель – организация диалога трех авторов-современников, принадлежащих к разным национальным культурам (диалог в синхронии) вокруг проблемы предательства Иуды и диалога с ними читателей-школьников (диалог в диахронии).
В процессе подготовки к уроку учащиеся делились на три группы, каждая из которых знакомилась с текстом одного определенного автора (с главами Евангелий, в которых говорилось о предательстве Иуды, знакомились все учащиеся). На уроке каждая группа представляла авторскую интерпретацию образа Иуды. Так выстраивались три диалогические трактовки, в обсуждение которых вовлекался затем весь класс. Диалог авторов перерастал в диалог с авторами.
В начале урока информатор (учитель или подготовленный ученик) актуализировал проблему урока и давал историческую справку.
«В начале XX в. ряд писателей обращались к евангельскому сюжету об Иуде с целью разгадки тайны предательства, философско-психологическому его осмыслению. Как известно, в Евангелиях оно объясняется достаточно однозначно: в Евангелиях от Луки и Иоанна – вселением дьявола в душу Иуды («Вошел же сатана в Иуду, прозванного Искариотом, одного из числа двенадцати.» Гл. XII, ст. 3), в Евангелии от Матфея – сребролюбием. Долгое время это толкование было традиционным, хотя в рамках церковно-канонизированной традиции делались отдельные попытки связать искушение Иуды Искариота дьяволом с греховностью его натуры. Так, еще в сборнике средневековых легенд XIII в. «Золотая легенда», составленном Якотом де Ворагина, Иуде приписывались грехи Эдипа и Каина.
Попытки по-новому интерпретировать в XX в. миф об Иуде обусловлены прежде всего тем, что именно в то время стал допустим творческий диалог художника с канонизированным текстом. В этой связи интересны произведения ряда писателей, созданные в 1905–1909 гг. Появились идеологические объяснения предательства Иуды. Например, профессор Муратов в опубликованном им сочинении в «Богословском вестнике» (1905–1906 гг.) причину предательства Иуды видит в его разочаровании Христом, в котором он сначала видел борца за независимость Иудеи от Рима, а затем понял, что заблуждался, и решил его погубить. Очевидно, что такой вариант социальной мотивировки предательства Иуды подсказала автору сама историческая действительность времени первой русской революции.
Представляя интерпретацию образа Иуды Л. Андреевым, ученики-исследователи отмечают, что писатель стремился понять сознание и даже подсознание Иуды, хаотически богатой, но одинокой души, как бы состоящей из двух противоположных начал: светлого и темного, нежности и жестокости. Он вечный притворщик и лжец, и он же вечный искатель истины. По своей внешности и духовным качествам это своеобразный антипод Иисуса. Его чудовищная внешность «осьминога с огромными, неподвижными тускло-жадными глазами»[185] оттеняет божественную красоту и кротость Христа, а его могучая фигура, железная воля, ненасытный, беспощадный аналитический ум подчеркивают слабость и беспомощность учеников Иисуса.
«Двоилось также и лицо Иуды: одна сторона его, с черным, остро всматривающим глазом, была живая, подвижная, охотно собиравшаяся в многочисленные кривые морщинки. На другой же не было морщин, и была она мертвенно-гладкая, плоская и застывшая; и хотя по величине она равнялась первой, но казалась огромною от широко открытого слепого глаза» (277).
К своему учителю он испытывает двойственное чувство: истинную любовь и кощунственное бездушие. Поражает его циничный торг с первосвященником Анна в оценивании жизни Христа. Не менее впечатляют его страдания, вызванные издевательствами солдат над Христом, судом над ним и казнью. С возмущением он обращается к ученикам, которые после смерти Иисуса спокойно трапезничают: «Что это? Вы ели? Быть может, вы спали также?» (322). Страдание Иуды неизмеримо выше, чем других учеников, и упреки его им звучат вполне заслуженно. По мысли Андреева, предательство Иуды необычного рода: «Одной рукой предавая Иисуса, другой рукой Иуда старательно искал расстроить свои собственные планы» (301).
Предательство Иуды можно расценивать как эксперимент, чем-то напоминающий эксперимент Раскольникова. Здесь учащиеся указывают на любопытную деталь: Иуда, как и герой Достоевского, прячет полученные им от первосвященника тридцать сребреников под камень и не пользуется ими. Нет, он не своекорыстен. Иуда подвергает проверке и учеников Христа, и поклонников его учения, и само учение Учителя. Страшное предположение о бессилии человеческой любви, а вместе с тем и ничтожности людей, слабости человеческой природы подтвердилось.
После выступления исследователей рассказа Леонида Андреева другие учащиеся задают им вопросы, выясняющие новые нюансы текста. Приводим некоторые из этих вопросов и ответы на них, как пример того, что текст писателя вызвал у учащихся и живой интерес и глубокие суждения о нем.
– Чьим Евангелием пользовался писатель во время создания своего рассказа? Имеются ли в его тексте прямые цитаты из этого Евангелия?
Скорее всего, Евангелием от Луки, потому что в рассказе имеется дословная цитата из него. Иисус обращается к предавшему его: «Иуда! Целованием ли предаешь сына человеческого?» (308). Вместе с тем в тексте имеется неточная цитата и из Евангелия от Матфея из главы о въезде Иисуса в Иерусалим: «Осанна! Осанна! Грядый во имя господне!» (304)[186].
– Как в тексте описан поцелуй Иуды?
Писатель в поцелуе Иуды также подчеркивает двойственность натуры героя. Предав своего Учителя, Иуда вместе с тем целует его нежно, испытывая к нему необыкновенную любовь и проникаясь великим страданием:
«Вытянувшись в сотню громко звенящих рыдающих струн, он быстро рванулся к Иисусу и нежно поцеловал его холодную щеку. Так тихо, так нежно, с такой мучительной любовью и тоской, что, будь Иисус цветком на тоненьком стебельке, он не колыхнул бы его этим поцелуем и жемчужной росы не сронил бы с чистых лепестков» (308).
– Как в тексте показана и объяснена смерть Иуды? Проделав свой эксперимент, Иуда «ощутил бессилие всех сил, действующих в мире» (317), и жизнь для него утратила всякий смысл. Земля после смерти Иисуса показалась ему маленькой, а люди беспомощными. Из обвиняемого он превратился в обвинителя других – первосвященников, которым он бросает в лицо свои сребреники, учеников, трусливо бежавших во время ареста их Учителя, наконец, всех людей, которые стали немыми соучастниками его предательства и смерти Христа. Со смертью Иисуса для Иуды исчез человек на земле, остались судьи, убийцы, предатели, лжецы и трусы. Ему кажется, что сама природа ужаснулась тому, что произошло в мире: «Сегодня я видел бледное солнце. Оно смотрело с ужасом на землю и говорило: где же человек? Сегодня я видел скорпиона. Он сидел на камне и смеялся и говорил: где же человек?» (319).
На следующем этапе урока слово предоставляется исследователям поэмы «Иуда» Тора Гедберга[187]. Выступающие отмечают, что по своей психологической мотивировке образа Иуды поэма близка к рассказу Л. Андреева. Его герой также сложная, «расколотая» натура, испытывающая сильные страсти и страдания. Необыкновенно сильна его любовь к Христу, он ревнует ко всем ученикам и готов умереть за своего учителя.
Видя расколотость его натуры, Христос пытается его исцелить от эгоцентризма, сблизить с людьми. Между учителем и учеником ведется упрямый поединок. Краткие периоды душевного покоя, трогательной любви к своему учителю чередуются у Иуды с периодами сомнений, тревог, вспышек ненависти. Не один раз возникает у него мысль оставить Христа, но острое чувство одиночества не позволяет сделать это. И как выход из этого трагического тупика, разорванности между любовью и ненавистью у Иуды появляется мысль о смерти Христа. Он любил его и возненавидел как свое недосягаемое счастье, которого навеки лишен.
Предательство Иуды у Тора Гедберга заканчивается согласно версии Евангелия – поцелуем в Гефсиманском саду. Но традиционно лживый поцелуй предателя Гедберг, как и Андреев, описывает как порыв нежности Иуды к своему учителю, горячий поцелуй любви. Во взгляде Христа, как ему показалось, он увидел прощение и крестные муки. Этим поцелуем увенчалось предательство Иуды и одновременно ознаменовалось его возвращение: Иуда почувствовал теперь несравненно большую близость к учителю, чем за весь период ученичества. Он словно обрел теперь гармонию, которую раньше тщетно искал.
– Почему же после этой вновь наступившей в душе Иуды гармонии он убивает себя?
Он готов был теперь без оглядки служить делу Христа, но как жить на земле с именем предателя? Новый психологический тупик мог быть преодолен только уходом из жизни.
На следующем этапе урока третья группа учащихся представляет образ Иуды в толковании украинской поэтессы Леси Украинки.
Исследователи пьесы «На поле крови» говорят о том, что Леся Украинка словно полемизирует с предыдущими писателями. Ее Иуда совсем не похож на высоких героев, демонических личностей, раздираемых сильными страстями. Ее герой очень средний человек, который случайно на время увлекся идеями Христа и по его совету продал дом и виноградник, а деньги раздал нищим. Но став учеником Иисуса, он вскоре обвинил своего учителя в том, что по его вине лишился своего хозяйства. Поэтому при удобном случае он предает Христа, желая извлечь хоть какую-то выгоду. Свою сделку он объясняет достаточно прагматично:
Что есть товар? Кто что-то лишнее имеет, Тот может то продать. Я вот имел учителя – Как сделался он лишним, я и продал его. (Перевод мой. – В.Д.)Продал, чтобы купить небольшой каменистый участок, на котором он теперь проливает свой пот от непосильной работы.
Вопрос по ходу урока: «Почему пьеса получила название «На поле крови»?
Как известно, по Евангелию от Матфея «поле крови» или «земля крови» – это земля горшечника, которую купили первосвященники за 30 сребреников, возвращенных Иудой перед смертью. То есть это земля, оплаченная кровью Христа. «Первосвященники, взявши сребреники, сказали: не позволительно положить их в сокровищницу церковную, потому что это цена крови. Сделавши же освещение, купили на них землю горшечника для погребения странников; посему и называется земля та «землею крови» до сего дня» (Матф. Гл. XVII, ст. 6, 7).
Украинская поэтесса по-новому интерпретирует этот образ «поля крови». Это, по ее мнению, скудная материальная выгода, клочок земли, который приобрел Иуда на деньги первосвященников. Каменистый участок взамен огромного мира любви и добра, который открывал людям своим учением Христос. Стремясь извлечь пользу, предавая духовные идеалы, человек как бы становится на путь крови, путь преступлений. Полученная выгода не делает Иуду счастливым, так как заземленному человеку уготована участь раба.
Продолжая свой анализ драматической поэмы Леси Украинки, учащиеся отмечают, что ее Иуда – личность угрюмая, озлобленная на себя и весь мир. Он тщетно ищет себе оправдание, пытаясь убедить своего собеседника – Странника, с которым встречается на своем «поле крови», что Иисус такой же, как и все, что он даже хуже, поскольку увлекает людей утопическими идеями. С презрением отворачивается от него Странник, проклиная предателя.
Вопрос: «Выходит, что обыватель-Иуда у Леси Украинки не испытывает никакой рефлексии, никакого страдания. Такой Иуда неспособен лишить себя жизни из-за позора своего предательства».
Да, Иуда себя не убивает, хотя первоначальный вариант финала драматической поэмы был иным. После ухода Странника к Иуде приходят три женщины: Мария Магдалина, Сусанна и Саломея, которые сообщают, что Христос воскрес и простил его. Иуда испытывает страх загнанного зверя, тоску безнадежности существования, потому что с приходом женщин к нему возвращается вера в Мессию, которую он упрямо убивал в себе. Выход из этого тупика он видит в смерти:
Я должен умереть, если Иисус воскрес! С ним я не могу на свете вместе жить (Перевод мой. – В.Д.)В окончательном варианте Леся Украинка отказывается от усложненного психологического толкования образа Иуды. Для нее его предательство имеет очень простое объяснение. Это выбор среднего человека, собственника, который ради приземленных материальных благ предает Христа, а с ним высокие духовные ценности. Своей поэмой украинская поэтесса предсказывает торжество обывателя, в котором она усматривает опасность духовной деградации общества, отступившего от заповедей Христа. Эта победа обывателя во многом определила трагический ход истории в XX в.
Заключительная часть урока проходит как диалог современников с авторами вокруг проблемы предательства, образа Иуды. У каждой авторской трактовки Иуды имеются свои поклонники и свои оппоненты, но основные споры ведутся вокруг двух концепций – Л. Андреева и Леси Украинки. Первая объясняет причину победы зла как проявление воли сильных личностей в мире трусливых, слабых и непоследовательных людей. Вторая говорит о том, что мир погружается во зло в результате поступков средних людей, лишенных каких-либо высоких духовных устремлений. Грядущий Хам, о котором предостерегал в свое время Д. С. Мережковский, – это мещанин, обыватель.
Таким образом, на данном уроке усваивался еще один вид диалога в синхронии (диалог авторов-современников) и в диахронии (диалог сегодняшних читателей с писателями начала XX в.) вокруг проблемы предательства Иуды. В процессе урока учащиеся овладевали умениями истолковывать евангельский текст, преломленный художниками слова для выражения общечеловеческих конфликтов и ситуаций, нравственно-философских проблем. Подобные задачи, только на другом материале, с использованием новой формы, решались на уроке, разработка которого помещена ниже.
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Сравните три интерпретации образа Христа. Какая из них вам кажется самой убедительной? Приведите свои аргументы.
Какие вечные проблемы жизни поднимаются на приведенном уроке?
2. Какие методические идеи положены в основу данного урока? Какие виды диалога на нем встречаются? Как учитель управляет познавательной деятельностью учащихся?
3. • В разработке урока недостаточно освещена рецептивно-эстетическая деятельность учащихся. Продумайте вопросы и задания для ее активизации на конкретных этапах урока.
7. Тема: «Я пришел не судить мир, но спасти мир» диалог о Христе (по романам М. Булгакова «Мастер и Маргарита», Ю. Домбровского «Факультет ненужных вещей», Ч. Айтматова «Плаха»)
Евангелие читать надо так, чтобы одним глазом смотреть сквозь себя на Христа, а другим – на современную свою повседневную жизнь…
М. ПришвинЦель урока: организовать диалог авторов и диалог читателей о Христе, помочь учащимся овладеть навыками интерпретации евангельских сюжетов и мотивов в художественных текстах.
Урок проходит в форме учебного диалога об образе Христа и включает в себя диалог авторов и читателей в «большом времени». Вид урока – семинарское занятие по подготовке к сочинению в выпускном классе на обобщающую тему «Смысл евангельских сюжетов и образов в русской литературе XX века». Для его проведения ученикам предлагалась система вопросов, которые определили его структуру.
Открывался урок кратким словом учителя – введением в тему. В нем говорилось, что изображение Иисуса Христа в русской литературе, вплоть до XX в., практически отсутствует, в то время как, например, в живописи, и прежде всего иконописи, он являлся центральной фигурой. Испытывая трепетное, благоговейное отношение к Христу, которое закладывалось обязательным религиозным воспитанием, писатели долгое время не решались создать его образ. Существовал негласный запрет, попытки изобразить Иисуса могли расцениваться как кощунство. Только Достоевский в своем романе «Братья Карамазовы» впервые в русской литературе выводит его образ. Но его Христос безмолвный, почти бесплотный.
В начале XX в. все существенно изменилось. Иисус в качестве литературного героя появляется в произведениях Л. Андреева, Д. Мережковского, других писателей. Лишь у К.Р. (Константина Романова), хотя он и назвал свою драму «Царь Иудейский» (1912), Иисус в ней реально не присутствует, но все в ней вращается вокруг него, пребывающего «за кадром».
После революции, в период так называемого воинствующего атеизма, эта традиция прервалась. Писателя, обратившегося к Евангелию, немедленно обвинили б в религиозном фанатизме, мракобесии. Поэтому евангельский сюжет в романе М. Булгакова «Мастер и Маргарита» явился полной неожиданностью как для читателей романа в рукописи, так и для читателей его первого печатного варианта в журнале «Москва».
С выходом в свет «Мастера и Маргариты» образ Христа опять стал в центре сюжетных коллизий произведений многих авторов (Ю. Домбровского, Ч. Айтматова, В. Тендрякова, Л. Леонова).
На первом этапе урока учащимся предлагалось порассуждать над вопросом, чем обусловлено повышенное внимание писателей XX столетия к Евангелию и полулегендарной личности Христа?
Вот несколько ответов, составивших диалог:
– В нашу посткоммунистическую эпоху переоценки ценностей образ Ииусуса вновь становится высшим нравственным идеалом человека, вершиной восхождения на пути к добру, любви, милосердию.
– Использование евангельских сюжетов и обращение к образу Иисуса связаны с поисками писателями новых средств художественного обобщения.
– Евангелие позволяет авторам рассматривать изображаемые ими события современности сквозь призму вечных человеческих ценностей.
– Возвращение к Христу обусловлено идеей спасения, обновления мира, мира, лишенного «имени святого», трагедию которого предощущал еще А. Блок в своей поэме «Двенадцать».
На следующем этапе обращаемся к евангельскому сюжету романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита». Диалог ведется вокруг нескольких вопросов, предложенных самими учащимися: каким образом вводится в роман евангельский сюжет? Как он связан с основными событиями романа? Кто булгаковский Иешуа – Бог или земной человек? Чем он отличается от евангельского Иисуса? Почему Понтий Пилат, не желая смерти Иешуа, отступается от него?
Приводим наиболее удачные реплики, составившие поле диалога по роману М. Булгакова.
– В романе «Мастер и Маргарита» евангельский сюжет является своего рода романом в романе, составляет его идейный центр. Это роман Мастера, который ищет идеал человека и видит его в Иешуа – художественном двойнике Христа.
– Мастер не столько уходит в прошлое от своей страшной действительности 30-х гг., сколько через него пытается понять современную ему жизнь, размышляя над вопросами: что есть личностный выбор – ориентация на политические, государственные идеи или на общечеловеческие ценности? Как появляются предатели, отступники, конформисты?
– А мне кажется, что «ершалаимские» главы в сопоставлении с московскими служат для выражения авторской мысли о том, что человечество в своей сущности мало изменилось. Человеческая природа практически неизменчива. Иуды, Алоизии существуют во все времена. Вот почему с такой убийственной сатирой изображает писатель московских обывателей, особенно достается писателям МАССОЛИТа – «инженерам человеческих душ».
– Булгаков по-своему рассказывает легенду о Христе. Его герой удивительно осязаем, жизненен, весь окружен реалистическими подробностями. При чтении романа создается впечатление, что это обычный, смертный человек, по-детски доверчивый, простодушный, даже наивный, но вместе с тем мудрый и проницательный. Он слаб физически, но силен духовно.
– Иешуа воплощает в себе лучшие человеческие качества. Поражает нравственная сила героя. Ни побои, ни наказания не могут заставить его изменить своим принципам, заботе о других, вере в добро («все люди добрые») и в «царство истины и справедливости».
– Булгаковский Иешуа поражает своим милосердием: он даже жалеет своего судию (Пилата), страдающего от гемикрании. Умирая на ершалаимском солнцепеке, просит у стражника дать попить распятому рядом с ним разбойнику.
– Даже перед угрозой смерти Иешуа не отступается от добра. Его сила – в бескомпромиссности, в верности себе самому. А как не впасть в отчаяние, когда самый верный ученик, записывая за ним его проповеди, все извращает и путает?
– Иешуа больше напоминает образы людей христианского духа и святости (Сергий Радонежский, пророк Лермонтова, князь Мышкин, Алеша Карамазов), а не евангельского Христа.
– Для меня все-таки Иешуа евангельский герой, но это евангелие уже от Михаила Булгакова.
– Роман Булгакова – произведение о нравственной ответственности человека за свои поступки. Понтий Пилат погубил ни в чем не повинного человека, вступив в сделку со своей совестью. Сначала он испытывает даже соучастие к своему подсудимому. Богатый жизненный опыт Пилата помог ему поверить в невинность Иешуа. Он пытается склонить его на компромисс, а когда это не удается, стремится уговорить первосвященника Кайфу помиловать Га-Ноцри по случаю наступления пасхи.
Учащиеся, наблюдая за авторскими ремарками к репликам Понтия Пилата, обнаруживают в его поведении человеческое соучастие к Иешуа, жалость, сострадание и вместе с тем страх. Роман Булгакова показывает, что в экстремальных условиях люди в страхе за свою карьеру, свою жизнь отказываются от истины, совершают сделку с самим собой, своей совестью. Страх, зависимость от государства, следование его интересам, а не истина определяют в конечном счете выбор Понтия Пилата. В условиях любого тоталитарного государства, будь-то рабовладельческий Рим или сталинская диктатура, даже самый сильный человек может выжить и преуспеть, следуя ближайшей государственной пользе, а не истине, добру.
– Понтий Пилат для Булгакова, в отличие от установившихся в истории христианства традиций, не просто трус, отступник. Его образ драматичен: он и обвинитель и жертва. Отступившись от Иешуа, он губит и свою душу. Вот почему загнанный в угол обстоятельствами, необходимостью предать смерти бродячего философа, он про себя произносит: «Погиб!», а затем: «Погибли!» Он гибнет вместе с Иешуа, гибнет как свободная личность.
– Мы не указали еще на один важный момент. Действуя от имени императора Тиверия, олицетворяющего собой государство, Понтий Пилат испытывает к нему лишь самые неприятные чувства: брезгливость, отвращение. Не случайно в роковую для него минуту, когда необходимо подписать смертный приговор Иешуа, в его сознании возникает отвратительный облик Тиверия: «На этой плешивой голове сидел редкозубый венец. На лбу была круглая язва, разъедающая кожу и смазанная мазью. Запавший беззубый рот с отвисшей нижней капризной губою» (V, 30). Приказав тайно ликвидировать предателя и доносчика Иуду, он мстит не только за Иешуа, но и за себя.
– А мне кажется более правдоподобной такая мотивировка отступничества римского прокуратора. Будучи по своей природе конформистом, Пилат требует этого конформизма и от Иешуа. Но когда тот отказывается идти на соглашательство, чтобы спасти свою жизнь, и вновь развивает свои «безумные» идеи о власти («всякая власть является насилием над людьми» – V, 32), он становится для прокуратора преступником. Иешуа опасен для общества своими утопическими идеями о «царстве истины и справедливости», предсказаниями о времени, когда не будет «власти ни кесарей, ни какой-либо иной власти» (V, 32).
– Опасен для римского прокуратора Иешуа и тем, что безгранично верит в преобладание доброго начала в любом человеке. Жизненный опыт убедил Понтия Пилата в обратном. Вот почему он кричит страшным, сорванным командами голосом непреклонному в своей вере в «царство истины» Иешуа: «Оно никогда не настанет!» (V, 33).
Раскрытие сути конфликта «евангельской» части романа позволяет сделать вывод о том, что диалоги Иешуа и Понтия Пилата проецируются на атмосферу страшных 30-х гг. XX в. российской истории, когда личность беспощадно ущемлялась государством. Это порождало всеобщее недоверие, подозрительность, страх, двуличие. Вот почему так ничтожны и мелки в романе людишки, составляющие мир московского мещанства. Автор показывает различные стороны человеческой пошлости, нравственного разложения, высмеивает тех, кто отступился от добра, утратил веру в высокий идеал, стал служить не Богу, а дьяволу. При этом писателя постоянно интересует вопрос: что есть истина – следование государственным интересам или ориентация на общечеловеческие ценности? Как появляются отступники, предатели, конформисты? Что движет их поступками?
Выбор Понтия Пилата соотносится со всем ходом мировой истории, является отражением вечного конфликта между конкретно-историческим и вневременным, общечеловеческим.
На следующем этапе семинарского занятия обращаемся к роману Ю. Домбровского «Факультет ненужных вещей», в центре которого также стоят проблемы отступничества и предательства, суда и следствия, получившие многостороннюю разработку. Автор подробно описывает систему «обработки», ломки человека, превращения его в лагерную пыль. Чтобы добиться огромной силы художественного обобщения, он соотносит время правления Антихриста (Сталина) с христианским летоисчислением. В романе есть сцена, когда Сталин читает заведенное на него царской охранкой старое дело. Среди особых примет политического преступника – одна особо отличительная: «на левой ноге второй и третий пальцы сросшиеся». Метка Антихриста, как сказал ему кто-то в семинарии. Итак выделены два основных полюса художественного мира Домбровского – Христос и Антихрист как символы гуманного и антигуманного начал в людях и обществе – и задано пространство диалога. На первом его этапе разговор идет о том, как введены в сюжетные коллизии эти образы и какую роль в авторской модели мира они играют. Какой смысл имеет в тексте романа сопоставление философа Сенеки и Христа?
Выясняется, что в отличие от романа Булгакова в книге Домбровского самостоятельный евангельский сюжет отсутствует. Повествование о Христе органически вплетается в основное действие, в разговоры и споры героев. Особенно много в романе прямых перекличек 30-х гг. ХХ в. со временем возникновения христианства. Больше всего волнуют писателя вопросы о природе и сущности зла, предательства. Собственные страдания, которые испытал автор в сталинских застенках, помогли ему психологически достоверно передать мучения главного героя Зыбина и внутреннее состояние самого Иисуса (через ощущения бывшего попа Куторги, являющегося своеобразным двойником писателя в понимании миссии Христа).
– Спаситель у Домбровского переживает типичную ночь перед арестом: «Христос испытал все, что приходится испытать в таких случаях, – тоску, одиночество, загнанность, безнадежность, надежду, «а может быть, еще и обойдется как-нибудь», хотя было совершенно ясно, что – уже все! И под конец вот это: «Ну скорее же, скорее! Что вы медлите! Идите же, идите, идите!»[188].
– Сущность подвига Иисуса в романе объясняется необходимостью восстановления веры в человека. Мир до Христа, по мнению Андрея Кутарги, «смертельно устал и изверился» (241). У него не было сил жить. «На свет лезли упыри и уродцы. И назывались они императорами, т. е. вождями народа. Оглянуться было не на что. Настоящего не существовало. Сзади могилы и впереди могилы… Юрист Ульпиан объяснил причину этого так: «Что нравится государю, то имеет силу закона, потому что народ перенес и передал ему свои права и власть» (240).
– По мнению Кутарги, Сенека, исходя из утверждения юриста Ульпиана, пришел к выводу, что в жизни «надо опираться не на народ – его нет, не на государя – его тоже нет, не на государство, – оно только понятие, – а на человека, своего ближнего, потому что вот он-то есть и он всегда с тобой» (240). Христос не только сам стал таким человеком, но и поддержал веру в человека, приняв страшную муку.
Учащиеся указывают на важную деталь: впервые в русской литературе Ю. Домбровский смерть Иисуса на кресте показал так психологически достоверно. Создается впечатление, что автор изображает некую обобщенную картину крайнего физического страдания, характерного для всех времен, особенно для нашего века, когда насилие, садизм, измывательство над ближним извратили саму идею веры в человека и породили фашизм, сталинизм. Знаменитое горьковское: «Человек – это звучит гордо!» – в контексте романа можно расценивать как сатанинскую насмешку.
Затем диалог о романе концентрируется вокруг проблемы выбора его героями своего жизненного пути, принципов своего нравственного поведения.
Подход к ней осуществляет учитель. «В страшные годы правления «вождя всех времен и народов», когда был создан своеобразный «конвейер» по перемалыванию человеческого материала, когда страх насильственной смерти деформировал человеческую психику, рождал покорность, трусость, лицемерие, предательство, чтобы вернуть веру в человека, необходимо было последовать примеру Христа. Кто из героев романа выбирает этот путь и сумел ли он его достойно пройти?»
Учащимся предстоит понять, в чем новизна героя романа Зыбина, как авторская позиция соотносится с его жизненной позицией.
– Писатель показывает героя-интеллигента, бросившего вызов не только своим палачам, этим многочисленным хрипушиным, нейманам, Штернам, но и Антихристу (Сталину), всей дьявольской системе, где страх, как выразился критик И. Золотусский, «управляет, сортирует, возносит и низвергает, работает как мясник и как психолог, как творец и как потребитель»[189]. Не поэтому ли автор в качестве одного из эпиграфов к роману взял слова К. Маркса о плетке, которая «начинает воображать, будто она гениальна». Такой плеткой и показан Сталин, разработавший свою «модель мира» и осуществляющий идею «чистки» человечества.
– Авторская оценка событий этого периода нашей истории близка к позиции его героя. Она ярче всего выражена в своеобразной идеологической кульминации – идейном споре Зыбина со Сталиным, являющимся ему во сне. Зыбин, верующий в «разум, совесть, добро, гуманность – все, все, что выковывалось тысячелетиями и считалось целью существования человечества» (109), переживает своего рода ощущение апокалипсиса при мысли: вдруг во всем мире победит один из тоталитарных режимов – фюрера или вождя (Сталина). «Тогда мир пропал. Тогда человек осужден. На веки вечные, потому что только кулаку он служит, только кнуту и поклоняется, только в тюрьмах и может жить спокойно» (110).
Пришествие Антихриста в мир произошло не само по себе, оно было подготовлено изменениями представлений о человеке в массовом сознании. В этой связи учащиеся рассуждают о том, почему автор страшные тридцатые годы назвал временем кутейкиных. Чем страшны кутейкины?
– Средние люди, оказавшиеся во власти, эти недоучившиеся семинаристы – кутейкины (герой фонвизинского «Недоросля»), создали благодатную среду для всякого рода ничтожеств: шариковых, швондеров и т. д. Кутейкины, как размышляет Зыбин, «мелочь, придурки, петрушки…, но мир гибнет именно из-за них. Не от силы их гибнет, а от своей слабости» (107). В своем философическом сне герой предполагает, что «для любого здравомыслящего Кутейкин куда больше Христа, Христос-то миф, а он – вот он. Он истина! И как всякая истина, он требует человека целиком, со всеми его потрохами и верой. Исканья кончились. Мир ждал Христа, и вот пришел Христос-Кутейкин…» (107)
– Подмена Христа кутейкиными оборачивается попранием всех выработанных историей человечества истин. Право, юриспруденция превращаются в «факультет ненужных вещей». Вместо законов теперь действуют казуистика, фальсифицирование, передергивание слов и цитат. Даже строка из Евангелия, выдернутая из контекста: «Кто не со мною, тот против меня» – начинает служить тому, кто собирается «взорвать мост» между прошлым и будущим, между культурными эпохами, между человечностью и правом. Создается новая культура, вернее псевдокультура, построенная на прописных истинах, лицемерных фразах типа «жить стало легче, товарищи, жить стало веселее».
Последний этап диалога по роману Ю. Домбровского – обсуждение его финала, связанного с темой сохранения веры в добро, мотивом прощения, спасения души. Выясняется, что книга Ю. Домбровского, несмотря на весь трагический ее колорит, не оставляет чувства безнадежности. Не многим удалось выжить в эти трагические тридцатые годы, сохранить свою душу. Кому это посчастливилось (главный герой романа был в их числе), сохранили веру в высокие гуманные начала и тем самым спасли мир. Повторяя подвиг Христа, лучшие люди как бы спасли человечество.
– В финале романа ставится проблема искупления зла, прощения злодеев. Каждый может спастись, никому в этом не отказано. Человек начинается с преодоления страха, со способности к состраданию, с пробуждения совести.
– В этой связи уместно будет вспомнить эпизод из романа, в котором божий человек Яша вспоминает евангельский рассказ об одном из распятых вместе с Христом разбойниках. В минуту смертной муки он обратился к Иисусу с искренним покаянием, и Христос простил грешника. Ненавидя всех этих «бесов» из войска Антихриста, которые мучают народ, Ю. Домбровский никого не лишает шанса на возрождение, спасение души.
Заключительный этап урока-семинара – обращение к роману Ч. Айтматова «Плаха». В ходе дискурса учащиеся размышляют о роли в нем евангельского пласта, сопоставляют сцену суда Пилата в «Плахе» с аналогичной сценой в «Мастере и Маргарите», выясняют, как евангельский сюжет преломляется в нравственных столкновениях Авдия с Гришаном и Обер-Кандаловым, Бостона с Кочкорбаевым и Базарбаем.
– Айтматовский евангельский сюжет – своеобразный диалог автора «Плахи» с Булгаковым. Его Иисус считает, что «царство истины» наступит на земле не во время его второго пришествия, а когда люди, пройдя через страдания и наказания Страшного суда, которые они сами себе уготовили, возвратятся к гуманистическим идеалам добра, ради которых он готов принять смерть. «На то я и родился на свет, – говорит Иисус Пилату, – чтоб послужить людям немеркнущим примером. Чтоб люди уповали на мое имя и шли ко мне через страдания, через борьбу со злом в себе изо дня в день, через отвращение к порокам, к насилию и кровожадности, столь пагубно поражающим души, не заполненные любовью к Богу, а стало быть, к подобным себе, к людям»[190].
– Айтматовский Понтий Пилат также не принимает гуманистической философии Христа, но он, в отличие от булгаковского героя, находит другие аргументы, считая, что человек – зверь. Он не может обойтись без крови, как «плоть не может без соли». Смысл жизни он видит в могуществе, богатстве и сильной власти: «Людей не научат ни проповеди в храмах, ни голоса с неба! Они всегда будут следовать за кесарями, как стада за пастухами, и, преклоняясь перед силой и благами, почитать будут того, кто окажется беспощадней и могущественней всех, и славить будут полководцев и их битвы, где кровь хлынет потоками во имя владычества одних и покорения и унижения других» (156).
– Своеобразным духовным двойником Иисуса в романе Айтматова является Авдий Калистратов. Он и проповедник, и борец, вступающий в поединок со злом. Авдий мечтает о братстве людей, преемственности культур, взывает к людской совести, стремится пробудить у своих современников чувство ответственности за мир вокруг.
– Можно ли назвать Авдия двойником Христа, ведь он слаб? Он только и умеет проповедовать, а все его попытки приостановить зло, образумить людей заканчиваются неудачей.
– Да, Авдий одинок, и в этом его слабость. Но главная причина его неудач в борьбе со злом видится в том, что в мире, который его окружает, попраны высокие идеалы, торжествует бездуховность. И этот мир не принимает проповеди Авдия.
– Идейный, нравственный спор Авдия с Гришаном, главарем «гонцов» за анашой, в чем-то продолжает диалог Иисуса с Пилатом. Пилата и Гришана объединяет неверие в человека, в социальную справедливость. Но если Пилат проповедует «религию» сильной власти, то Гришан – «религию кайфа», подменяя высокое человеческое стремление к нравственному и физическому совершенству наркотическим опьянением, проникновением к Богу с «черного входа».
– Действительно, деятельность Авдия кажется бесполезной. Сначала его жестоко, до полусмерти, избивают и выбрасывают из вагона «гонцы» за анашой, а затем, как Иисуса, распинают на саксауле молодчики из «хунты» Обер-Кандалова. Но разве напрасна жизнь Авдия? Его страдания, боль его души за людей, его нравственные деяния заражают других «мировой болью», побуждают вступить в борьбу с пороком. Победа над злом начинается с личного сопротивления каждого человека своим слабостям, равнодушию, конформизму, успокоенности. Здесь не может быть коллективных мероприятий, что-то вроде коммунистических субботников.
Особое место в исканиях Авдия занимает его богостроительство. У писателя эта сторона романа наиболее противоречива, поэтому нет необходимости подробно на ней останавливаться. В нашей практике мы ограничились лишь раскрытием сущности понимания Айтматовым идеи Бога-Завтра, который приходит на смену Богу-Вчера, то есть, иными словами, идеал Бога не сзади нас, а впереди, в будущем. «… Все люди, вместе взятые, есть подобие Бога на земле. И имя есть той ипостаси Бога – Бог-Завтра… Бог-Завтра и есть дух бесконечности, а в целом – в нем вся суть, вся совокупность деяний и устремлений человеческих, а потому, каким быть Богу-Завтра – прекрасным или дурным, добросердечным или карающим – зависит от самих людей» (153–154).
Заканчивается семинарское занятие совместным выводом, являющимся своеобразным резюмированием проведенного диалога. Отмечается, что возвращение к Христу как нравственному идеалу вовсе не означает стремления писателей угодить возрождающемуся религиозному сознанию многих наших современников. Оно обусловлено прежде всего идеей спасения, обновления нашего мира, лишенного «имени святого», трагедию которого предощущал еще в далеком 1918-м Александр Блок в своей поэме «Двенадцать».
Разумеется, что это некоторый предварительный итог, а не окончательный вывод. О поставленных проблемах учащиеся продолжают размышлять и после урока, выразив себя, свои мысли и чувства в домашнем сочинении.
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Какие проблемы, нравственные, философские, поднимаются на данном уроке?
2. Осветите позиции каждого из авторов, участвующих в диалоге. Почему писатели XX века не могут обойтись без образа Христа? Отчего возникают разные интерпретации его образа и разное понимание проблемы: «Что есть истина?»
3. • Составьте текст сочинения «“Святое имя” в русской литературе XX века».
8. Тема: «Я последний поэт деревни…» Русь уходящая в художественных мирах Н. Клюева и С. Есенина
Цель урока: Углубление представлений учащихся о культуре русской деревни и выявление причин ее заката в поэтическом диалоге Н. Клюева и С. Есенина.
Урок проходит в форме учебного диалога о двух художественных мирах крестьянских поэтов, двух сторонах народной культуры.
Это урок обобщения знаний учащихся о творчестве крестьянских поэтов, изучаемых ранее, и начало дискурса о судьбе народной культуры в условиях столкновения мира «живого» и «железного» – основных коллизий XX в.
На первом этапе урока «артисты» читают стихи Н. Клюева и С. Есенина[191], представляющие крестьянский космос, а затем в ходе свободной беседы идет их сопоставление. Выделяются реалии этого космоса, определяются особенности стилевой манеры каждого из поэтов.
Выбор стихов Н. Клюева не случаен: в них особенно хорошо чувствуется стилевая манера поэта, его фольклорные истоки, восходящие к календарно-обрядовой поэзии, сказкам, былинам, плачам и причитаниям русского Севера. Это своеобразие его поэтического мастерства точно подметил Осип Мандельштам в известном всем клюеведам высказывании: «Клюев пришел от величавого Олонца, где русский быт и русская мужицкая речь покоятся в эллинской важности и простоте. Клюев народен, потому что в нем уживается ямбический дух Баратынского с вещим напевом неграмотного олонецкого сказителя» (III, 34). Раскрыть эту клюевскую самобытность поможет прием сопоставления стихотворных текстов поэта с фольклорными[192], а также со стихами другого народного поэта – Сергея Есенина.
В ходе сопоставления учащиеся приходят к выводу, что поэт ни в коей мере не стилизует свой стих под народный, а народная поэзия словно заговорила в его стихах, приобретая новые вариации, мотивы, расцветку, которую вполне справедливо можно назвать узорочьем. Действительно, стихи Клюева «украсно украшены», переливаются, сверкают образами, напоминая узорчатое шитье или искусно выполненную чеканку. Может быть, они не так мелодичны, как стихи Есенина, но в них музыка больше напоминает народные плачи, причитания, былины, а изобразительные образы – иконопись. Здесь также напрашиваются и другие параллели: стиль «плетение словес» Иоанна Златоуста и его последователя Епифания Премудрого. Если Есенин аккумулировал в своих стихах энергию народной лирической песни, частушки и городского романса, то стих Клюева в большей мере восходит к народному эпосу, старообрядческой книжности, о чем заметил и сам поэт:
О, Боже сладостный, ужель я в малый миг Родимой речи таинство постиг, Прозрел, что в языке поруганном моем Живет Синайский глас и высший трубный гром?..Вообще язык Клюева может стать предметом отдельного разговора на уроках культуры речи и стилистики. В литературе, как правило, происходит явление усвоения литературной кодифицированной речью языка отдельных говоров и диалектов. Клюевский стих же представляет совершенно уникальное явление. В нем чудом уцелевший к началу двадцатого века язык народа Русского Севера «перемолол» литературно-книжный язык. Это случилось, конечно, не сразу. В начале своего творческого пути Клюев отдал дань и книжной традиции, и поэтическим школам, здесь были и стилизации под других поэтов, что легко можно заметить, читая, к примеру, такие стихи, как «Где вы, порывы кипучие…», «Я болен сладостным недугом…». Но к двадцатым годам Клюев проник в сердцевину народного языка, а точнее языка Русского Севера, и стихия ожившего древнего русского языка заговорила клюевскими стихами. В последний раз в творчестве Клюева народная речь, уходящая в небытие крестьянская культура, составили творческую конкуренцию книжной традиции, городской культуре. С уходом этого самобытного русского поэта русская культура и история, используя определение Осипа Мандельштама, «замкнула язык извне, отгородила его стенами государственности и церковности». Клюев – последний пример этой живой жизни народно-поэтического книжно-архаического языка, который «со всех сторон омывает и опоясывает грозной и безбрежной стихией» (II, 245).
Но с отменой и разорением крестьянской культуры государством произошла унификация народного языка. И поэт спешил запечатлеть хотя бы мемориальную фазу уходящей крестьянской культуры. В этой связи огромный интерес вызывают поэмы Клюева 20-х годов: «Мать-Суббота», «Деревня», «Заозерье». В названных выше поэмах в концентрированном виде предстает клюевский поэтический космос, постижение которого поможет понять образную символику и мироконцепцию поэта в целом.
Как показывает опыт, пока самым продуктивным методом изучения поэм является комментированное чтение, в ходе которого учащиеся овладевают навыками анализа поэтических текстов Клюева, расшифровкой его художественных образов, восходящих к этнопоэтике. Комментирование осуществляют учитель и группа учащихся, получившая у него консультации.
Продуктивным на данном уроке может быть обращение к поэме «Деревня». Основной пафос поэмы – воспевание эстетики быта и красоты духа русской деревни, вписанной в контекст русского бытия, и печальная песнь о ее трагической судьбе, обусловленной победой в ней темных, бездуховных сил.
Начинается тема с ключевого клюевского образа избы. Он варьируется, приобретает новые детали. Вместе с тем в нем отчетливо задана система пространственных координат и ориентиров. Изба – космос в миниатюре со своим низом (земляным полом) и верхом («шеломом»), т. е. крышей, где «роятся звезды». Своим иконным Спасом – урожайным Богом, домашним:
У Бога по блину глазища, – И под лавкой грешника сыщет (663).Здесь важна еще одна деталь: Бог – рукотворный: «Писан Бог эографом Климом» (663).
Обитателей своей избы поэт наделяет чертами богатырства, соединяющими в себе былинные и раблезианские мотивы («баба с пузаном – / Не укрыть кафтаном, / Полгода, с телку весом»).
Пространство избы включено в обобщенный сказочно-условный русский пейзаж – «тучи с лесом». Это символ Земли русской, вечного пути, тревоги, движения. Ассоциативно возникают новые пространственные ориентиры: Бухара, Алтай, Волга, Обь, задающие ее географические рамки. Как замечают учащиеся, в поэме художественное пространство строится по аналогии со «Словом о полку Игореве» и включает в себя исторические знаки (Иван Третий, Куликово поле). Так создается образ земли, соединяющий в себе природу, топонимику, время, историю.
Этот обобщенный образ включает в себя ряд архетипов, который открывается архетипом красной девушки (у Клюева «девки») – знака красоты, молодости, любви. Он включен в лирический контекст («Ах девки – калина с малиной, /Хороши вы за прялкой с лучиной») и исторический («Вон Полоцкая Ефросинья, / Ярославна – зегзица с Путивля / Евдокию – Донского ладу/ Узнаю по тихому взгляду» (664).
Если в девках автором отмечается их красота, верность, скромность («тихий взгляд»), то в парнях – разбойничья их удаль, богатырство. Для этого автором задается контекст знаков-имен: Васька Буслаев, Коловрат:
Ах парни – Буслаевы Васьки, Жильцы из разбойной сказки, Васе лететь бы только на Буяны Добывать золотые кафтаны! Эво, как схож с Коловратом, Кучерявый, плечо с накатом (664).Дополняют систему архетипов «Деревни» архетипы матерей и стариков (дедушек). Первые ассоциируются с райской яблоней, Богородицей с «немеркнущим» светом материнской любви, вторые с «ржаными, ячменными ликами» – символизируют святость и мудрость стариков.
Интонация в поэме неожиданно меняется, звучит причитание-заклинание:
Ты Рассея, Рассея-матка, Чертовая, заклятая кадка! (664)В тексте появляется образ «черта рогатого», олицетворяющего зло. Исчезает поэтизация, эстетизация деревни, возникают мотивы крови, сжигающего огня, «маеты-змеи», «вьюги скрипучей», «волчьей тоски». Зло торжествует, гибнет духовность и сама душа деревни. Все это следствие великих прегрешений, совершенных «Рассеей»:
Мы тонули в крови до пуза, В огонь бросали детей (665).Примером вторжения этого бездуховного начала в тысячелетнюю крестьянскую культуру становится появление в деревне трактора. Здесь заметна явная перекличка с темой «железного коня» в поэме Есенина «Сорокоуст».
Поэтому следующим этапом урока может стать сопоставление этих двух произведений, системы их идей и образов. В ходе диалога выясняется, что Есенин один из первых поэтов в послереволюционные годы увидел и отразил в своем творчестве крушение тысячелетней крестьянской культуры. Приводим высказывания учащихся.
«Наступил индустриальный железный XX в., который ознаменовался столкновением города с деревней, и в этой схватке побеждал город. В нашей отечественной истории данный конфликт протекал особенно остро, так как Россия всегда была страной прочных деревенских традиций (в деревне проживала основная масса населения). Наступление этой индустриальной эпохи в поэме особенно хорошо передают следующие строки:
О, электрический восход, Ремней и труб глухая хватка, Се изб бревенчатый живот Трясет стальная лихорадка! (II, 80)»«Конфликт между городом и деревней усугубила революция, приведшая к диктату рабочих над крестьянством. Поэт тяжело переживал эту трагедию гибели голубой, «древесной» Руси. Его поэма не случайно получила название «Сорокоуст»: поэт поет заупокойную песнь уходящей в небытие родной стране».
«Через всю поэму проходят два образа: образ «красногривого жеребенка», символизирующего все живое, одухотворенное, прекрасное, и образ поезда, «железного коня», этого монстра наступившей индустриальной эпохи. В соревновании этих двух коней победа за бездушным «железным гостем», словно явившимся из другого мира:
Милый, милый, смешной дуралей, Ну куда он, куда он гонится? Неужель он не знает, что живых коней Победила стальная конница? (II, 80)»Учитель обращает внимание учащихся на звукопись поэмы, авторские интонации, другие образы этого живого мира.
Отмечается, что трагическое состояние мира уже ощущается в первой строке. Оно передается как при помощи образа «погибельного рога», так и посредством целого ряда аллитераций, представленных повторением согласных звуков и звуковых сочетаний: тр, б, п, г. Ощущение катастрофы усиливается в последующих строках. Весь крестьянский мир в ожидании беды, хотя и не предполагает своей трагической участи. Страшным предсказанием звучат слова автора:
Никуда вам не скрыться от гибели, Никуда не уйти от врага. Вот он, вот он с железным брюхом, Тянет к глоткам равнин пятерню (II, 79).Заканчивается поэма картиной смерти. Происходит прямое столкновение мира «живого», природного с миром «железным», и первый удар на себя принимает рябина, символ женщины, России, дерево, понимаемое в славянской мифологии как праматерь всего крестьянского мира[193].
Как и в поэме Есенина, в «Деревне» Клюева живой «древесный», «избяный» мир подвергся нашествию «железного коня», «скверного гостя».
Мир древесный испытывает ужас перед наступлением этого мира железа:
Утопиться в окуньей гати Бежали березки в ряд. За ними с пригорка елки Разодрали ноженьки в кровь (666).Важно заметить, что у обоих поэтов первый удар «железного коня» принимает на себя дерево. У Есенина это рябина, у Клюева береза и ель. (Береза – берегиня, символ женского начала, России. Ель – символ печали, горя). В ходе сопоставления текстов приходим к выводу, что художественная мысль Есенина выражена более однозначно: поэт-псаломщик поет заупокойную песнь уходящей Руси, что уже заявлено самим названием поэмы. Авторская позиция Клюева сложнее. Он, создавая свою поэму, словно вяжет кружева, соединяя воедино образы прошлой и настоящей деревни. Благодаря многим подробностям из жизни «избяного космоса», широким лирическим обобщениям, микросюжетам, из которых состоит поэма, создается ощущение эпического размаха изображаемого, его многослойности. Вместе с тем, как и Есенин, Клюев нередко прямо высказывает свое отношение к современным ему событиям в России, русской деревне, хотя и не отказывается от сложной образности:
Ты Рассея, Рассея теща, Насолила ты лихо во щи, Намаслила кровушкой кашу – Насытишь утробу нашу! (667).Финал поэмы также неоднозначен. Нарушен в былом уютном мире деревни покой и гармония, из жизни ушла красота и сказка, весь «избяной космос» сузился до размеров «низколобой коробейки»:
У прялки сломало шейку, Разбранились с бердами льны, В низколобую коробейку Улеглись загадки и сны (666).Живое побеждает всякая нечисть: «Домовые, нежити, мавки – / Только сор, заскорузлый прах…» (666). Уходит из жизни дед, олицетворяющий незыблемость прежних жизненных устоев. Только «железный гость» равнодушно продолжает свою разрушительную работу:
А гость, как оса в сетчатке, Зенков не смежит на миг… (667).И все же автора не покидает надежда на возможное возрождение деревни, России после того, как она достигнет предела в своем дьявольском искушении:
Только будут, будут стократы На Дону вишневые хаты, По Сибири лодки из кедра, Олончане песнями щедры (667).Эта надежда основана на вере в животворную душу народа, покровительство заступницы – матери-Богородицы, святой Пирогощи[194]. Так за символами и знаками, авторским «плетением словес» прочитывается судьба России, ее героико-поэтическое прошлое, трагическое настоящее и предполагаемое будущее.
В ходе сопоставления и диалога двух художественных миров, восходящих к народному, крестьянскому космосу, учащиеся постигают запечатленную обоими поэтами трагедию русской деревни, учатся текстовому анализу непривычных для наших современников по своей художественной стилистике клюевских произведений, долгое время пребывающих в забвении, чтобы со временем прочитать наиболее сложные его поэмы – «Погорельщину», «Песнь о Великой Матери» – ярчайшие художественные явления отечественной культуры XX в.
Этот урок может начать серию уроков, связанных с трагической судьбой крестьянской культуры, раскрытие которой стало содержанием творчества многих писателей XX в.: А. Платонова, М. Шолохова, А. Твардовского, А. Солженицына, Ф. Абрамова, В. Белова, В. Распутина. На материале текстов Н. Клюева и С. Есенина учащиеся обучаются истолкованию культурно-семантических знаков текста, связанных с народной культурой.
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Рассмотрите данный урок со стороны его литературоведческой и методической концепции. Как в нем раскрываются художественно-эстетические принципы двух крупнейших народных поэтов? Как организован диалог художественных миров?
2. • Выделите в содержании урока основные семантические знаки народной культуры и прокомментируйте их.
3. • Выполните культурологический комментарий стихотворений С. Есенина «Русь» и Н. Клюева «Я дома. Хмарой-тишиной…». Составьте фрагмент урока по этим текстам.
4. • Продумайте вопросы и задания учащимся для подготовки к семинарскому занятию по теме «Мир древесный и железный в изображении русских поэтов XX века».
9. Тема: Культурный универсум романа И. С. Тургенева «Отцы и дети». Система уроков
Масштабность и глубинная сущность произведений художественной классики определяются его культурным универсумом, включающим в себя весь комплекс представлений писателя о мире, его систему ценностей, философских, религиозных, нравственно-эстетических взглядов. В культурный универсум входят сюжеты, мотивы, образы мировой культуры; он отражается в архетипах, растительно-животной и предметной символике, культурных знаках.
Роман И. С. Тургенева «Отцы и дети» – ярчайший пример такого классического произведения, вобравшего многие бытийные смыслы своей эпохи и, благодаря своим богатым культурным пластам, обретшего жизнь в «большом времени». Долгое время в школьной практике он прочитывался главным образом как социально-психологический роман, в котором происходит столкновение двух поколений – дворянских либералов и демократов-разночинцев – в их идейном, нравственном споре о проблемах русской жизни 60-х годов XIX в. В настоящее время работы А. И. Батюто, В. М. Марковича, Ю. В. Лебедева, В. А. Недзвецкого, П. Г. Пустовойта, ГА. Тиме, введенные в школьное литературоведение, позволяют прочитывать роман на качественно новом уровне. Предлагаемая система уроков строится на этой идее рассмотрения романа И. С. Тургенева «Отцы и дети» как культурного универсума. Ниже даем их краткое описание и комментарий.
Урок 1. Тема: Роман И. С. Тургенева «Отцы и дети» и эпоха 60-х годов. Рецепция романа учащимися
Цель первого урока – выявление восприятия романа современными школьниками и реконструкция диалога о книге писателя критиков 60-х годов.
Два этих вида рецепций – современников писателя и читателей нашего времени – задают пространство диалога о романе и создают положительную мотивацию его изучения.
На первоначальном этапе урока учитель дает краткую информацию об истории создания романа и «вписывает» его в контекст жизни писателя. Диалог реплик, суждений о произведении провоцируется вопросом, создающим «точку удивления»: «Почему роман о споре двух поколений автор назвал «Отцы и дети», а не «Дети против отцов»?
Во второй части урока учащиеся от лица русских критиков (MA. Антоновича[195], М. Н. Каткова[196], Д. И. Писарева[197]) ведут диалог о романе и его главном герое. Свои реплики и монологи учащиеся готовят по книге «Роман И. С. Тургенева «Отцы и дети» в русской критике», а по возможности и журналам прошлого века, что позволяет им прикоснуться к документам эпохи.
«Антонович» отрицает жизненность, социальную и художественную значимость книги Тургенева, приравнивая ее к бездарному роману писателя третьего ряда В. И. Аскоченского «Асмодей нашего времени». В целом «Отцы и дети» характеризуются как злостный пасквиль на молодое поколение и панегирик «отцам»; главный герой романа Базаров предстает болтуном и циником.
«Катков» утверждает, что нигилизм, вопреки мнению его апологетов, есть «отрицательный догматизм со своими идолами и секстанством… религия, опрокинутая, исполненная внутреннего противоречия и бессмыслицы…. религия, которая может иметь своих учителей и фанатиков»[198]. Поэтому с болезнью нигилизма необходимо бороться путем усиления охранных начал, и Тургенев первым показал пример такой борьбы, призывая к ней и других писателей.
«Писарев» категорически несогласен с обвинениями в адрес Базарова, видя в нем знамение времени. Он рассказывает о причинах появления людей, подобных Базарову, дает анализ складу его мышления, его жизненных устремлений, поведения в обществе, подчеркивая при этом, что это тип «нового человека», которого так долго ждали, ибо «у Базаровых есть и знание, и воля, мысль и дело сливаются в одно твердое целое»[199]. На возражения других «критиков», упрекающих Базарова за его гордость и себялюбие, «Писарев» парирует: «Базарову некого любить, потому что вокруг него все мелко, плоско и дрябло, а сам он свеж, умен и крепок… Он… умрет как богатырь, которому негде повернуться, нечем дышать, некуда девать исполинской силы, некого полюбить крепкой любовью» (II, 49).
Учитель резюмирует диалог критиков, конкретизируя две полярные точки зрения на героя, приводит высказывание самого автора романа в письме к А. Фету: «Хотел ли я обругать Базарова или его превознести – я этого сам не знаю, ибо я не знаю люблю ли я его или ненавижу» (П. V, 48).
После выступлений критиков диалог возникает в сознании учащихся, так как у них пока еще не сложился сколько-нибудь определенный взгляд на роман и его главного героя. С этой целью и будут проходить уроки «погружения» в роман.
Урок 2. Тема: Биографии героев. Социально-философский контекст романа
Цель: В ходе представления героев помочь учащимся понять, как строятся романы Тургенева, какую роль в них играют биографии. Выяснить значение социально-философского контекста «Отцов и детей».
В начале урока литературоведы, опираясь на работы А. И. Батюто и В. М. Марковича[200], раскрывают своеобразие тургеневских романов, соединяющих в себе эпические и драматические характеры, диалоги и биографии героев.
Затем биографы представляют жизнеописания «отцов», обращая при этом внимание на то, как автор «вписывает» их в ход истории. Отмечается, например, что все решительные изменения в жизни старших Кирсановых связаны с революционным 1848 г.
По ходу выступления биографов возникает вопрос: почему Тургенев не дает биографии Базарова? Практически ничего не известно о годах его учения в Петербурге. Были ли у него страсти, заблуждения, поиски, сомнения?
Возникают разные предположения:
– Тургенев дает биографии только «отцов».
(С таким утверждением большинство учащихся не соглашаются и свое несогласие подтверждают текстом).
– Базаров главный герой, и его биография «рассыпана» по всему роману, дается по ходу его действия.
Наиболее убедительным является мнение, что Базаров – характер драматический. Он совершенно лишен статичности и дается весь в развитии, динамике. Все в его жизни непредсказуемо, поэтому описательный принцип биографизма к нему не подходит.
В процессе оценочно-интерпретационной деятельности на уроках литературы приходится обращаться к нескольким контекстам: биографическому контексту героев, авторско-биографическому контексту, социально-историческому, социально-философскому, культурологическому. Эти контексты – своеобразные концентрические круги, в окружении которых художественный текст представляет собой расширяющуюся вселенную[201].
Одним из важнейших контекстов романа является социально-философский контекст. Посредством его прочитываются основные коллизии романа и постигается авторская мироконцепция. В связи с этим обращение к нему на уроке является весьма ответственным моментом. Необходимо о сложных философских идеях сказать просто (но не упрощенно), увидеть, как они преломляются в мыслях и поступках героев. С этой целью ученикам под руководством учителя философии предлагается выполнить индивидуальные проекты на следующие темы: «Метафизика бытия.
«Старички» Кирсановы как русские «гегелисты»», «Нигилист Базаров и материализм Людвига Бюхнера», «Взгляд Базарова на человека и общество и антропологический материализм Л. Фейербаха», «Спор «физиков и лириков» в романе и идеи позитивизма».
Выступлениям философов предшествует слово учителя, которое определяет дальнейшую стратегию урока. Он, в частности, отмечает, что социально-философский контекст «Отцов и детей» задается основным диалогом между героем 60-х годов и «людьми 40-х годов». За идеологической направленностью этого полемического диалога явно просматривается и его философское содержание, которое можно свести к столкновению двух мировоззрений, двух жизненных правд, двух философских систем.
Ниже приводим основные положения выступлений философов.
Взгляд на человека и общество людей 40-х годов отличался тем, что он сформировался под влиянием идей Гегеля и его предшественников (Канта, Фихте, Шеллинга). «Прежде были гегелисты, а теперь нигилисты» (VII, 25), – заметит в разговоре с Аркадием Павел Петрович. Приверженцы системы Гегеля рассматривали и трактовали объективный мир – природу, общество и человека – посредством метафизических начал бытия, сверхреальных и сверхчувственных первооснов – Бога, Мировой Души, Абсолютной Идеи, Любви.
К «гегелистам» можно отнести и самих «старичков» Кирсановых, правда, с большой поправкой, так как их юность совпала главным образом с эпохой «поздних романтиков», поклонников философии Шеллинга. Эта соотнесенность их с романтиками проявляется прежде всего в понимании любви. Идеал любви романтиков состоял в восхищении сильными страстями. Возвышенная страсть, особенно если она несчастлива, высоко ценилась ими. Поэтому для Павла Петровича его несчастная любовь стала высшим смыслом его жизни. Благодаря ее существованию он мог чувствовать себя трагической фигурой, что, по его представлению, свидетельствовало о собственной значимости, даже исключительности. Но возвышенная любовь не помогла герою проникнуть в высшие, сверхреальные желания, которыми он томился. Кольцо со сфинксом и есть символ недоступной человеку загадки-тайны любви, которая имеет божественное объяснение.
Евгений Базаров категорически отвергает все то, чему поклонялись Кирсановы, определяя их чувства и идеи как «романтизм, чепуха, гниль, художество» (VII, 34). Он верит только в опыт, экспериментальную науку, отвергая отвлеченно-метафизическую философию как нечто нереальное, неприемлемое для земного человека. «Куда нам до этих отвлеченностей», – возражает он на высокопарные фразы Павла Петровича (VII, 48).
Его взгляды получили в романе определение «нигилизм»[202]. Немецкий исследователь Питер Тирген считает, что это понятие связано прежде всего с немецкой литературой и учением радикального материалиста Людвига Бюхнера (1824–1899)[203]. Действительно, Базаров разделяет взгляды и воззрения этого немецкого теоретика позитивизма, что можно уяснить из его реплик, он даже советует Аркадию дать почитать своему отцу вместо стихов Пушкина книгу Бюхнера «Stoff und Kraft» («Материя и сила»).
Бюхнер считает, что не существует вечных идей, принципов, настоящие знания можно получить только изучая естественные науки – химию, физику, физиологию. Единственным источником познания мира являются ощущения. Так, в разговоре с Аркадием Базаров вполне определенно заявит об этом: «Принципов вообще нет – ты об этом не догадался до сих пор! – а есть ощущения! Все от них зависит» (VII, 121). Даже нравственные качества человека, честность например, для Базарова тоже «ощущение».
Особенно парадоксальным было положение работы Бюхнера о том, что духовная жизнь человека – «продукт обмена веществ», поэтому душа человека и «душа» животного в естественнонаучном смысле идентичны. Лишил своего романтического ореола Бюхнер и любовь, видя в ней лишь физиологический процесс. Вполне очевидно, что многие высказывания Базарова восходят к немецкому философу, как, например, это: «И что за таинственные отношения между мужчиной и женщиной? Мы, физиологи, знаем, какие это отношения» (VII, 34).
Если собрать воедино все высказывания Базарова, то можно их представить как трансформацию вульгарно-материалистического учения Бюхнера.
Русская молодежь прошла через увлечение Бюхнером, которое началось уже с 1855 г. В 1860 г. его книга была запрещена как «экстремистское материалистическое и социалистическое учение». Так что интерес Базарова к Бюхнеру свидетельствует о его крайнем радикализме.
Много общего оказалось между учением Бюхнера и антропологическим материализмом Людвига Фейербаха (1804–1872), объявившего в 1850 г., что естественные науки восторжествуют над мистицизмом, туманным христианством. Немецкий философ рассматривал человека как биологическое существо, фактически подменив психологию физиологией, причем переносил свойства биологического организма и на человеческое общество. Базаров вполне солидарен с Фейербахом, об этом красноречиво говорят его реплики. Так, на вопрос дворовых мальчишек, зачем ему лягушки, он отвечает: «… я лягушку распластаю да посмотрю, что у нее там внутри делается; а так как мы с тобой те же лягушки, только на ногах ходим, я и буду знать, что и у нас внутри делается» (VII, 21–22).
Более обстоятельно фейербаховский взгляд на сущность человека и человеческих отношений Базаров излагает в разговоре с Одинцовой: «Все люди друг на друга похожи как телом, так и душой; у каждого из нас мозг, сердце, легкие одинаково устроены; и так называемые нравственные качества одни и те же у всех: небольшие видоизменения ничего не значат. Достаточно одного человеческого экземпляра, чтобы судить обо всех других. Люди, что деревья в лесу; ни один ботаник не станет заниматься каждою отдельною березой» (VII, 79).
Таким образом, для Базарова человек не представляет никакой тайны, все объясняет физиология, даже духовную жизнь, нравственные качества, ум. На реплику удивленной Анны Сергеевны: «Стало быть, по вашему, нет разницы между глупым и умным человеком, между добрым и злым?» – Базаров ответит: «Нет, есть: как между больным и здоровым» (VII, 79). Все отличия в людях он сводит к нравственным и социальным болезням, видя в них результат неправильного общественного устройства. Отсюда следует его безапелляционное заключение: «Исправьте общество, и болезней не будет» (VII, 79).
Одним из основных пунктов отрицания Базарова является неприятие им метафизики любви, природы, искусства. Даже сыновнее чувство он считает слабостью и стыдится его. Поэтому жизнь души Базарова – это постоянная борьба с самим собой, своими чувствами, которые противоречат его системе взглядов. «Самоломаный» – так называет себя герой.
Как и многие «люди шестидесятых годов», Базаров верил в то, что с помощью естественных наук можно решить все проблемы жизни: и природные, и социальные, и нравственные, и эстетические, а утонченные чувствования и отвлеченные философствования только уводят от реальной жизни, «это все распущенность, пустота» (VII, 34). «В отрицаниях медика Базарова, – замечает Ю. В. Лебедев, – торжествовал трезвый взгляд демократа-разночинца, который видел в отвлеченных философствованиях и поэтических фантазиях нечто несбыточное, барское, аристократическое»[204].
В своем отрицании Базаров все соизмеряет степенью пользы: «порядочный химик в двадцать раз полезнее всякого поэта», «Рафаэль гроша медного не стоит…» (VII, 28, 52) или «Мы действуем в силу того, что мы признаем полезным… В теперешнее время полезнее всего отрицать – мы отрицаем» (VII, 49). Такой прагматический подход к жизни, в том числе и ее духовной сфере, можно обозначить как позитивизм (от латинского positivus – положительный). Его возникновение связывают с именем Огюста Конта (1798–1857) и его книгой «Курс позитивной философии». Главная идея позитивизма как способа познания мира заключается в его крайней оппозиции к немецкой классической философии и противопоставлении ей знаний, полученных путем естественнонаучных и социологических исследований. Не случайно Базаров себя характеризует Одинцовой «человеком положительным», указывая на то, что он отрицает отвлеченное метафизическое знание и занимается практическими науками, которые ведут к истинному знанию, избавляют от предрассудков.
Таким образом, можно утверждать, что в романе «Отцы и дети» в споре Базарова с «отцами» впервые заявлен конфликт «физиков» и «лириков», который отныне постоянно будет возникать в русской жизни.
Урок 3. Тема: «Дети» против «отцов». Псевдонигилисты («прогрессисты»)
Цель: Углубить представление учащихся о сути конфликта между «отцами» и «детьми», выяснить роль псевдонигилистов в романе.
Урок начинается с чтения и обсуждения страничек из «дневника» Базарова, который учащимся предлагалось составить дома. Такое задание позволило психологически более достоверно представить героя, проникнуть в его внутренний мир.
Приводим в качестве примера несколько удачных дневниковых записей от лица Базарова, связанных с первыми днями пребывания его в Марьино.
«20 мая 1859 г. Приехал в Марьино, или Бобылий хутор тож. Местечко неказистое, поля неухоженные, домики крестьян ветхие. Познакомился с семейством Аркадия. Ну и семейка! Папаша стихи читает, пассию себе завел, от которой братца Аркаше прижил.
Дядя… большой оригинал! Франт. Англоман. Стоячий воротничок, перстень, розовые ногти. Это в глуши-то? Он еще себя покажет. Что ж, скучать не придется!
21 мая. Работаю. На рассвете ходил на пруд за лягушками. За мной увязались двое дворовых мальчишек. Прелюбопытный народишко!
К чаю пришел с опозданием. Этот франт, как напыщенный индюк, так и рвался меня клюнуть, но я не обращал на него внимания. Больше наблюдал за Николаем Петровичем. Добряк, хорошо бы его просветить, только поздно: человек отставной.
До вечера работал. Аркадий сибаритствовал, то и дело пытался меня несколько раз оторвать от микроскопа.
За вечерним чаем опять раздражал этот нудный, чопорный человек. Перед кем перья-то распускает?
25 мая. Николай Петрович тоже хорош! Пушкина читает, играл на виолончели. Какой бред! Посоветовал Аркадию дать ему настоящую книгу – «Stoff und Kraft». Да, верно, напрасно. Ох уж мне эти старички!
Павел Петрович, оказывается, тоже романтик, эдакий рыцарь Тогенбург; всю жизнь проволочился за какой-то княгиней, а когда его карта оказалась бита, раскис, опустился… Этакой человек – не мужчина, не самец. Таких надобно сажать в желтый дом…»
От первого задания органично переходим ко второму – чтению и комментированию X главы романа, используя при этом приобретенные на предыдущем уроке сведения об источниках системы воззрений Базарова. Основные вопросы, активизирующие деятельность школьников на данном этапе урока: «Почему неизбежно столкновение Базарова со «старичками» Кирсановыми?», «Что является предметом спора героев романа?», «Как автор выражает свое отношение к героям во время их диалога и после него?»
Как продолжение предыдущего задания вполне логичным будет после комментирования X главы романа предложить учащимся написать на уроке страничку из дневника Базарова «Схватка».
Приведем пример такой дневниковой записи.
«27 мая. Ну и жаркая была нынче схватка! Как мне надоел этот аристократишко проклятый! Все мне свои «принсипы» доказывал, либерализм свой выставлял. Видали мы таких либералов, которые в деревне сидят сложа руки, в слова красивые наряжаются! А вот когда мимо скотного двора идут – одеколон нюхают, им, видишь, назем смердит. А собственное ничтожество не смердит? Ему все подавай любовь, поэзию, художество, Рафаэля. А что от них толку, когда народ голодает, засуха грозит. Никак не могут понять эти господа либералы, что этот самый Рафаэль мизинца любого медика или химика не стоит…
О народе стал рассуждать, обвинял меня, что я не русский, народ не люблю. Его предрассудками не умиляюсь. Он любит народ! Смешно. Да любой мужик признает во мне своего, а он всегда будет барином!
Как он вздрогнул, когда услышал, что мы ломать собираемся. Все понять никак не может, что мы – сила, что их, аристократишек, песенка спета. Старичок просто возопил, когда это услышал.
Пыхтел, куражился, а ни одно положение в семейной и общественной жизни не смог привести, чтобы я его не опроверг. Но сколько желчи, однако.
Нет, пойду делом заниматься, жука смотреть».
На заключительном этапе урока докладчики представляли Ситникова и Кукшину. Выяснялся способ их изображения в романе и их роль как второстепенных героев. Было замечено, что в описании Ситникова автор использует прием пародирования, и его герой в романе выполняет функцию, чем-то напоминающую грибоедовского Репетилова. Введение Ситникова, комического «двойника» Базарова, оттеняет сильные стороны главного героя и гротескно представляет бездумное подражание многих молодых людей новомодным учениям.
В изображении Кукшиной автор карикатурно показал псевдоэмансипацию. Ее портрет дан автором с откровенной иронией: «В маленькой и невзрачной фигурке эмансипированной женщины не было ничего безобразного; но выражение ее лица неприятно действовало на зрителя. Невольно хотелось спросить у ней: «Что ты, голодна? Или скучаешь? Или робеешь? Чего ты пружишься?» (VII, 63).
Урок 4. Тема: Родные пенаты. Античный пласт культуры
Цель: Выявить, какое значение в романе имеют главы, описывающие пребывание Базарова в родительском доме (гл. XX, XXI), и с какой целью обращается автор к реалиям античной культуры.
Данный урок продолжает тему взаимоотношений «отцов» и «детей», но уже на новом материале. Если за конфликтом Базарова с Кирсановыми можно увидеть отрицание разночинцем культуры «дворянских гнезд», культуры вообще, то в главах о «старичках» Базаровых ставится вечная проблема дома, семьи, отцовства, родственных уз, т. е. традиций, восходящих уже не к какой-либо определенной культуре, а к человеческой истории вообще.
Сначала учащимся предлагается выяснить, что позволяет ряду исследователей (Ю. В. Лебедеву, А. И. Батюто) увидеть в романе мотив блудного сына? Уместно ли сравнение Базарова с блудным сыном? Так разговор о конфликте «отцов» и «детей» переходит к теме родительской любви и вечной сыновней виновности за свою запоздалую любовь и благодарность.
Проблема задана, и диалог возникает непроизвольно. Вначале он ведется вокруг вопроса: любит ли Базаров своих родителей? А если любит, то почему так странно ведет себя с ними? Почему практически бежит из родительского дома на третий день после своего приезда?
Выясняется, что прежнего конфликта здесь между «отцами» и «детьми» не существует. Старички Базаровы любят такой беззаветной любовью своего сына, что готовы идти на любые жертвы, исполнять любой его каприз. Герой тоже любит своих родителей, о чем даже сознается своему приятелю: «Люблю, Аркадий!» (VII, 118). Но он стыдится своей любви, своих сыновних чувств, считая их слабостью. Он то и дело становится мрачным, скрывая свою любовь, ведет себя с родителями непростительно грубо, даже порой жестоко, оскорбляя их. Так открывается еще одна неприятная сторона нигилизма, которая в романе получает полное осуждение автора. Как справедливо заметила Э. М. Жилякова, «Базаров взрослее своих родителей интеллектуальным развитием, напряженностью духовной рефлексии, но далеко уступает им в душевном благорасположении, в искусстве жить в гармонии с миром»[205].
Авторское отношение к «старичкам» Базаровым в этих главах передается двумя контекстами: контекстом античной культуры, связанным с образом отца Базарова, и фольклорно-патриархальным фоном, в который вписан образ матери.
Следует заметить, что незадолго перед написанием «Отцов и детей» Тургенев пережил новый прилив интереса к античности, прежде всего к римской: в 1857–1858 гг. он совершил путешествие в Италию, прочитав перед этим, по его признанию в письме АИ. Герцену (6 дек. 1856 г.), «Суетония [Светония], Саллюстрия ‹…› Тацита и частью Тита Ливия…» (П.III, 151). Для русского писателя, как и многих его современников, античная культура являлась идеальной моделью для искусства, отправной точкой отсчета основных вех развития мировой культуры.
Античность в романе заявлена на двух уровнях: лексико-фразеологическом и культурно-семантическом. Первый проявляется в передаче медицинских терминов, мифологических имен, латинских выражений и традиционных обращений Василия Ивановича к слушателям. Так, характеризуя взаимоотношения своего сына с Аркадием, Василий Иванович называет приятелей римскими мифологическими именами Кастора и Поллукса. Как известно, Кастор и Поллукс (в греческой мифологии – Кастор и Полидевк) – сыновья Зевса, Диоскуры. По одной версии мифа Поллукс – кулачный боец – был бессмертным, тогда как Кастор, укротитель коней, – смертным. Когда Кастор пал от руки Идаса, бессмертный Поллукс был взят Зевсом на Олимп. Из любви к своему брату Поллукс уделил часть своего бессмертия брату, и оба они стали появляться на небе попеременно в созвездии Близнецов. Сравнивая своего сына и его друга с Диоскурами, Василий Иванович думал, что видит между ними любовь и единство, свойственные мифологическим героям. Но смерть Базарова показала, что его отец ошибался, видя во всех реалиях жизни высокий героический план.
Первый уровень характеризует отца Базарова как чудака, человека, стремящегося продемонстрировать свою «ученость», стать с «веком наравне». Об этом своем стремлении говорит сам герой: «… для человека мыслящего нет захолустья! По крайней мере я стараюсь, по возможности, не зарасти, как говорится, мохом, не отстать от века» (VII, 109). Отношение автора к своему герою на этом уровне проявляется через мягкий, добрый юмор, который свидетельствует о его особом расположении к этому бодрому «старичку».
Второй уровень в романе заявлен мотивом родных пенат, традициями античной культуры, «пересаженной на добрую почву старорусского патриархального быта»[206]. Взаимоотношение Базарова с различными типами людей, соприкосновение героя с разными типами культур значительно усложняют проблему «отцов» и «детей». «Сыновство» в понимании автора романа не замыкается на интимных чувствах: оно предполагает сыновное отношение к прошлому и настоящему своего отечества, к тем историческим, культурным, нравственным ценностям, которые достаются в наследство детям от отцов. «Отцовство» в широком смысле этого слова также предполагает отцовскую терпимость старших поколений к идущим им на смену.
На уроке античный пласт культуры в романе рассматривается в процессе комментированного чтения (объясняются имена, выражения, мифологические образы), с помощью кратких сообщений о трактате Цицерона («О старости, о дружбе, об обязанностях») и горацианских мотивах в романе, а также их обсуждения. Античность сохраняла для Тургенева значение нравственной нормы, так как в ней еще не произошло отчуждение гражданских чувств от родственных, семейных. Своеобразным идеалом она выступала и во взаимоотношении «отцов» и «детей». Так, римский оратор и мыслитель Цицерон видел их гармонию во взаимном уравновешении молодости и старости: старость сдерживает рвение неопытной юности, молодость препятствует чрезмерному консерватизму старшего поколения.
Идеи сочинения Цицерона прозрачно просматриваются и в самом укладе жизни отца Базарова, проводящего свою жизнь в радостях и заботах земледельческого труда (что, по мнению Цицерона, наиболыие соответствует образу жизни старого человека, мудреца, философа). Василий Иванович испытывает неподдельную радость от своих занятий и даже оживляется, когда его сын порадовался за подросшую березовую рощу: «А ты посмотри, садик у меня теперь какой! Сам каждое деревцо сажал. И фрукты есть, и ягоды, и всякие медицинские травы» (VII, 111). Здесь очевидна перекличка этой деятельной стороны жизни отца Базарова и заключительных страниц «Одиссеи» Гомера, описывающих труды старого Лаэрта, который в земледельческих заботах спасается от тоски по своему сыну:
Тою порою Одиссей и спутники, вышед из града, Поля достигли, которое сам обрабатывал добрый Старец Лаэрт с попеченьем великим, давно им владея. Сад там и дом он имел… (Перевод В. А. Жуковского – IV, 354)Тема Горация и горацианства в романе заявлена на двух уровнях: биографическом и нравственно-философском. В первом случае она очевидна в подтексте разговора Василия Ивановича с Аркадием. Как известно, отец Горация, человек незнатного происхождения, не пожалел своего скромного состояния, чтобы дать хорошее образование сыну. И сын оправдал надежды отца, стал знаменитым и отплатил своему родителю любовью и благодарностью, о чем свидетельствуют строки 6-й сатиры 1-й книги:
…если друзья меня ценят, То причиной тому был отец, что при крошечном поле Не захотел меня к Флавию в школу отдать… А отважился мальчика в Рим увезти, чтоб учился Тем наукам, каким и всадник чад своих учил Или сенатор.Отец Базарова мечтает о подобной судьбе для сына и не скрывает своей гордости за него: «А я, Аркадий Николаевич, не только боготворю его, я горжусь им, и все мое честолюбие состоит в том, чтобы со временем в его биографии стояли следующие слова: «Сын простого штаб-лекаря, который, однако, рано умел разгадать его и ничего не жалел для его воспитания…» (VII, 117). Однако готовому положить жизнь за сына Василию Ивановичу не суждено было дождаться от Евгения благодарности.
Нравственно-философский пласт горацианской темы прочитывается в образе жизни и мыслей Василия Ивановича. Герой, по его собственному признанию, любит философствовать на лоне природы, обретая в этом внутреннюю гармонию: «Потом Василий Иванович повел всех в сад, для того чтобы полюбоваться красотою вечера. Проходя мимо скамейки, он шепнул Аркадию: «На сем месте я люблю философствовать, глядя на захождение солнца: оно приличествует пустыннику. А там, подальше, я посадил несколько деревьев, любимых Горацием»» (VII, 112).
Горацианские мотивы звучат и в рассуждениях старого Базарова о прелестях сельской жизни, его мыслях о противопоставлении бедности и роскоши, «хижин» и «дворцов» Всем своим поведением он утверждает чувство гордости и достоинства простого человека. В этом плане интересно, что в одном ряду в философской сентенцией Василия Ивановича оказываются два имени из разных культурных эпох – Цинцинната, римского сенатора, образца скромности, добродетели и трудолюбия (сохранилось сведение, что о своем назначении на высшую государственную должность диктатора он узнал, когда собственноручно пахал землю) и Жан Жака Руссо, просветителя, отстаивающего идею равенства: «А я здесь, как видите, как некий Цинциннат, грядку под позднюю репу отбиваю. Теперь настало такое время, – да и слава богу! – что каждый должен собственными руками пропитание себе доставать, на других нечего надеяться: надо трудиться самому. И выходит, что Жан-Жак Руссо прав» (VII, 114–115).
Можно сделать вывод, что «тип поведения старого Базарова, манера рассуждать, сама лексика речи, ориентированная на мифологический стиль и античные сюжеты… создает колорит уравновешенного, созерцательного бытия»[207], а изображение патриархальной жизни родителей Базарова в контексте античной культуры возводит ее на высокий эстетический уровень. Убегая от европеизированной романтической культуры «отцов» Кирсановых, Базаров в деревеньке родителей, под соломенной крышей их простого домика встретился с тысячелетней античной культурой, мирно уживающейся со старорусским патриархальным бытом. Последний в романе представлен прежде всего образом матери Евгения, Арины Власьевны, «настоящей русской дворяночки прежнего времени; ей бы следовало жить лет двести, в старомосковские времена» (VII, 113). Духовно цельная натура, она сумела сохранить связь с верой предков, полученной ею в наследство так же, как и небольшое именьице. Ее вера, представляющая смесь языческих и христианских верований, дает ей духовную силу, является основанием ее жизни, связывает ее со всем христианским миром. Любя высокой жертвенной материнской любовью своего сына, она страдает от его неверия, его неласковости, сердечной необщительности: «… глаза Арины Власьевны, неоступно обращенные на Базарова, выражали не одну преданность и нежность: в них виднелась и грусть, смешанная с любопытством и страхом, виднелся какой-то смиренный укор» (VII, 125).
В изображении жизни «старичков» Базаровых есть очень много общего с гоголевскими «старосветскими помещиками» – Афанасием Ивановичем и Пульхерией Ивановной, но писатель в главах о родных пенатах Базарова показал нечто иное: трагедию русской жизни, связанной с отрывом наиболее пассионарной части молодых людей от исконных национальных корней, стихии родства и сердечной привязанности.
Как отмечается на заключительном этапе урока, возвращение «блудного сына» в этот раз не состоялось. Базаров, подобно Эдипу (не случайно в романе введен мотив, связанный с ним), будет стремиться избежать общей участи людей. Но его судьба уже предопределена, и за свое нигилистическое отрицание всего, что составляет духовную основу бытия, он будет наказан. Второе его возвращение в родительский дом не спасет его от смерти, которая, буквально, преследует его, став предметом его мыслей. Но не скрываемая теперь его сыновняя любовь, его мужественное поведение перед лицом смерти возвышает Базарова до уровня героя античной трагедии.
Урок 5. Тема: «Поединок роковой». Мотив рыцаря Тогенбурга
Цель: Раскрыть сущность любовного конфликта и его последствия для главного героя романа. Помочь увидеть учащимся, как в любовных коллизиях раскрываются характеры героев и авторская философия любви.
Урок проходит в форме учебного диалога, включающего в себя краткие сообщения учащихся и комментирование эпизодов текста.
В начале урока выясняется функция любви в романах Тургенева как одного из главных испытаний героев и анализируются любовные коллизии в жизни «отцов». Выделяется несколько типов любовных отношений: Василий Иванович Базаров и Арина Власьевна – сентиментально-идиллический тип, вариант Филемона и Бавкиды; Николай Петрович Кирсанов и его жена Марья, а затем Фенечка – сентиментально-романтический. Если первый восходит к традиции античной идиллии сельской жизни, то второй – к усадебной дворянской культуре с ее ориентацией на гармонические, одухотворенные отношения возлюбленных, живущих в согласии с миром и природой. Символично имя сына Николая Петровича – Аркадий, связанное с названием мифологической страны, в которой жили счастливо и вечно.
История любовных отношений Павла Петровича Кирсанова и княгини Р. напоминает романтический сюжет роковой любви с демонической женщиной, которая для влюбленного в нее мужчину является и величайшим счастьем и жизненной катастрофой, перевернувшей до основания его жизнь. В этой любовной коллизии особую роль играет талисман с изображением сфинкса и креста, символику которых истолковывают докладчики, познакомившись с дополнительной литературой[208]. Как справедливо заметила Е. Ю. Полтавец, сама княгиня Р., светская львица, загадочное, почти мифологическое существо, для Павла Петровича ассоциируется с фантастической львицей-женщиной, губившей посягнувших на разгадывание тайны жизни. Действительно, разгадывание тайны княгини для героя обернулось катастрофой, он превратился в «живого мертвеца», так как отгадкой тайны сфинкса были слова – «человеческая жизнь», а ценой отгадки – смерть.
Таким образом, Тургенев вводит любовную историю Павла Петровича в широкий культурный контекст, и она сама приобретает какое-то мистическое содержание. Базаров же, выслушав ее от Аркадия, обращаясь к нему, пытается объяснить драму старшего Кирсанова чисто физиологически: «И что за таинственные отношения между мужчиной и женщиной? Мы, физиологи, знаем, какие это отношения. Ты проштудируй-ка анатомию глаза: откуда тут взяться, как ты говоришь, загадочному взгляду? Это все романтизм, чепуха, гниль, художество» (VII, 34). Но, как окажется впоследствии, и жизнь Евгения подчинится какой-то необъяснимой стихии, хотя самоуверенный герой и в мыслях не допускает, что он может зависеть от каких-либо вне его сознания действующих сил: «А что касается до времени – отчего я от него зависеть буду? Пускай же лучше оно зависит от меня»» (VII, 34).
Вторым контекстом любовной коллизии Павла Петровича является мотив рыцаря Тогенбурга, героя шиллеровской баллады, с сюжетом которой в переложении В. А. Жуковского учащихся знакомит комментатор текста. Через этот сюжет прочитывается идея рыцарского служения героя своей Прекрасной Даме – княгине Р., которой он добивался всю жизнь (хотя, в отличие от шиллеровского сюжета, временами его любовь получала ответное чувство).
Всей историей Павла Петровича автор говорит о трагическом смысле любви, поэтому человек, который оказался во власти всесильной опустошающей страсти, достоин сочувствия и понимания.
На следующем этапе урока рассматривается любовная коллизия главного героя романа. Учащимся предлагается проследить, как возникает чувство любви Базарова к Одинцовой и как оно развивается. Как можно истолковать тип любовных отношений, которые между ними возникли?
Учащиеся, обращаясь к тексту, отмечают, что за грубоватыми репликами Базарова в адрес Анны Сергеевны: «Этакое богатое тело!.. хоть сейчас в анатомический театр» (VII, 75) – скрывается неожиданно возникшее чувство симпатии, которое обнаруживается в поведении героя, непривычном для него смущении.
Любовная история Базарова и Одинцовой протекает в традициях поэтики усадебного романа. Хотя герой так непохож на традиционных героев подобных романов, но, попав в атмосферу «дворянского гнезда», Евгений, неожиданно для него, начинает вести себя как романтический герой.
В этом любовном романе есть все его фазы. Экспозицию составляет описание усадьбы и распорядка жизни в ней ее обитателей. Завязка – беседа в гостиной и дальнейшее знакомство героев.
Здесь читатель вместе с его героями услышит це-мольную сонатуфантазию Моцарта в исполнении Кати. Музыка, соединяющая в себе мотивы пленительной веселости и трагической скорби, как потом выяснится, явится своего рода эмоциональным нервом и удивительным образом выразит колорит настроения всего романа, предскажет судьбу Евгения. Завязка наметит и саму коллизию романной истории. В лице Анны Сергеевны Базаров столкнется с женщиной, равной ему по силе воли и интеллекту. На нигилистическую сентенцию Евгения о том, что все люди в обществе одинаковы и есть только больные и здоровые, Одинцова ответит настолько едко и остроумно, что впервые Базаров не найдет, что ей возразить.
В XVII главе любовный роман будет развиваться по всем канонам усадебного романа с его поэзией духовного сближения героев и кульминацией в сцене признания в любви. Конфликт романа из внешнего (Базаров и «отцы» – аристократы) постепенно перейдет вовнутрь, в душу героя. В нигилисте, отвергающем и презирающем всякую поэзию, романтику и тайну любви, называющем рыцарские отношения к женщине чем-то вроде уродства или болезни, откроется романтик и начнется внутренний раскол: «Одинцова ему нравилась… Кровь его загоралась, как только он вспоминал о ней; он легко бы сладил со своею кровью, но что-то другое в него вселилось, чего он никак не допускал, над чем всегда трунил, что возмущало всю его гордость. В разговорах с Анной Сергеевной он еще больше прежнего высказывал свое равнодушное презрение ко всему романтическому; а оставшись наедине, он с негодованием сознавал романтика в самом себе» (VII, 87).
Так, в Базарове словно откроется два человека: один – нигилист, непримиримый отрицатель всякого рыцарства и рыцарских чувств, другой – романтик и мечтатель. Герой подвергся испытанию любовью, силе для Тургенева непреодолимой, стихийной. Любовь заставит Базарова если не изменить свои убеждения, то, по крайней мере, в чем-то усомниться. Так, он согласится с Анной Сергеевной, что «все люди разные», т. е. признает индивидуальное в человеке.
Участникам диалога теперь станет очевидно, что тип любви Базарова ближе всего, как это ни странно, к его непримиримому оппоненту Павлу Петровичу. Рассказ об истории любви Павла Петровича послужит своеобразной увертюрой к любовной коллизии главного героя. Как заметит В. А. Недзвецкий, «в повести Павла Петровича, как в миниатюре, задана, предсказана судьба и Базарова, ему неведомая и даже им не допускаемая»[209].
Вся история любви Евгения еще в большей мере, чем старшего Кирсанова, может быть прочитана в контексте шиллеровской баллады о рыцаре Тогенбурге в переводе Жуковского. Герой пройдет все испытания влюбленного рыцаря, даже примет участие в «рыцарском турнире». Но, как и рыцарю Тогенбургу, пробудить спящую красавицу ему не удастся, и только перед смертью, как награду за все испытания, он получит прощальный поцелуй от своей дамы сердца.
Учащиеся обращают внимание на увлечение Базарова Фенечкой как его попытку избавиться от своей «роковой любви» к Одинцовой. В этом случае герой словно поступает по сформулированному им правилу: «Нравится тебе женщина… старайся добиться толку; а нельзя – ну, не надо, отвернись – земля клином не сошлась» (VII, 87). Но уйти герою от романтизма, рыцарства уже не удается, о чем свидетельствует этот поцелуй над красной розой – любимый мотив куртуазной поэзии миннезингеров и трубадуров, которых Базаров считал необходимым посадить в желтый дом, как и рыцаря Тогенбурга. Над последним герой, как известно, особенно потешался.
Порицание Фенечки, этой провинциальной мадонны, повергло его в смущение: «Грешно вам, Евгений Васильевич», – шепнула она, уходя. Неподдельный упрек слышался в ее шепоте. Базаров вспомнил другую недавнюю сцену, и совестно ему стало, и презрительно досадно» (VII, 139). Вдобавок еще герой получил вызов на рыцарский турнир от «феодала» Кирсанова. Вся история испытаний Базарова любовью опровергла его формулу, оказалось, что «свет клином сошелся» для него на Анне Сергеевне.
На заключительном этапе урока учащимся предлагается проанализировать и сопоставить два объяснения в любви – Базарова с Одинцовой и Аркадия с Катей. Простенькая, незатейливая, сентиментальная история любви последних оттеняет поистине трагическое чувство Базарова. В любви Аркадия и Кати все ясно, как ясен летний день, в который и происходит объяснение в любви под беззаботную песенку зяблика в сени березы (дерева, которое в славянской мифологии ассоциируется с Берегиней, покровительницей дома, семьи, рода).
Объяснение Базарова с Одинцовой состоит из двух фаз – ночного рандеву и дневного. В первом чувство героев погружено в романтический контекст ночи с одиноко горевшей лампой, открытым окном, через которое вместе с «свежим запахом вольного чистого воздуха» (VII, 91), ночным пейзажем и его звуками вливается «таинственное шептание», вечная загадка любви. Романтическая стихия жизни овладевает героями, и оба они испытывают «тайное волнение». Но Анна Сергеевна со своим аристократизмом и недоверием к тревогам жизни боится этой темной и вольной бездны чувств и страстей, а Базаров нетерпеливо рвется к ней и, презирая себя за свой романтизм, пытается уйти от нее. Происходит противоестественное: люди тянутся друг к другу, их сердца стучат в унисон, а они ведут какую-то неестественную игру, допускают по отношению друг к другу холодность и психологическую нечуткость.
Вот, кажется, что-то должно произойти важное – ночь со своей «раздражительной свежестью», «таинственным шептанием» на какое-то время овладевает ими полностью. Но в решительный момент она осторожничает, а он допускает бестактность.
Заканчивается ночное свидание неожиданно: Базаров не находит ничего лучшего, как оставить Анну Сергеевну, спугнув на ее робеющих устах заветное слово.
Финал XVII главы говорит о страданиях героев, не сумевших преодолеть свои комплексы. Базаров еще часа два будет бродить по усадьбе, не разбирая дороги, и вернется к себе в спальню «с мокрыми от росы сапогами, взъерошенный и угрюмый» (VII, 94). Одинцова долго не сможет уснуть, романтическая ночь не пробудила в ней страсти, а дохнула на нее холодом. Но в этом будет виновен и Базаров, который не проявил достаточно чуткости и терпения, не дал волю своему чувству, подавляя его и недооценивая из-за своего приземленного взгляда на любовь.
Совсем иным показано дневное свидание героев. День требует ясности и определенности, и Одинцова ведет свой вызывающий «допрос». Герой не выдерживает сдерживаемого им насильно своего чувства, и оно вырвется наружу в форме признания: «Так знайте же, что я люблю вас, глупо, безумно… Вот чего вы добились» (VII, 98). В этом признании и в поведении Базарова нет тайны ночи, тайны любви, а есть страсть, «сильная и тяжелая – страсть, похожая на злобу и, может быть, сродни ей…» (VII, 98).
Выплеснувшаяся наружу дикая страсть Евгения вспугнула Анну Сергеевну, оттолкнула взаимную, ответную любовь. И героиня решила для себя, что «спокойствие все-таки лучше всего на свете» (VII, 99). «Спящую красавицу» пробудить не удалось.
Драма любви привела Базарова к тяжелейшему духовному кризису, внутренней борьбе с самим собой, требующей напряжения всех сил. Эта тема и стала содержанием следующего урока.
Урок 6. Тема: От Дон-Кихота к Гамлету. Мотив святого Евсевия
Цель: Проследить, как под воздействием любви происходит нарастание внутреннего драматизма Базарова, превращение его в героя гамлетовского типа, открывающего для себя роковые проблемы жизни и смерти.
Урок начинается с зачитывания и анализа творческих миниатюр учащихся, в которых в дневниковой форме от лица героя им предлагалось воспроизвести душевное состояние влюбленного Базарова.
В качестве примера приводим одну из удачных ученических работ.
«1–7 июля. Давно не писал, да и незачем было. Дни пролетают, как в каком-то сне. Чувствую, что-то болит внутри меня. Что же именно? Вроде и печень в порядке, и почки. Что же это такое?..
Я безумец! Сегодня я признался Анне Сергеевне в любви. Я готов был задушить ее в объятиях. Этот насос для перекачивания крови трепетал, как, наверно, у этого проклятого Тогенбурга, когда он встречался со своею возлюбленной.
Расклеилась машина… Нет, я так легко не дамся! Надо с корнем безжалостно вырвать эту глупую болезнь».
От анализа работ учащихся переходим к осмыслению внутреннего состояния Базарова после его рокового объяснения с Анной Сергеевной. Автор достаточно определенно передает состояние своего героя: «Предшествующую ночь он всю не спал и не курил, и почти ничего не ел уже несколько дней. Сумрачно и резко выдавался его похудалый профиль из-под нахлобученной фуражки» (VII, 103–104). Усилием воли он пытается преодолеть свое чувство, заявляя: «По-моему – лучше камни бить на мостовой, чем позволить женщине завладеть хотя бы кончиком пальца» (VII, 104).
Но все оказалось намного сложнее, чем предполагал герой. В своем чувстве он всем своим существом столкнулся с таинственно-стихийной, метафизической природой любви, и его внутренний поединок перерос в поединок с высшими законами бытия. Поэтому здесь вполне уместным будет пояснение учителя о том, что, по мнению Тургенева (сказывается близость писателя к философии Шопенгауэра), человек не только находится под воздействием общественных отношений, но и зависит от внеисторических стихий – природы и любви, перед которыми он совершенно беззащитен. Соприкосновение человека со стихией природы, любви и смерти порождает в нем мыслителя, философа. Это учащиеся констатируют, наблюдая за превращением Базарова в героя гамлетовского типа.
Для более полноценного понимания последнего суждения школьникам предлагается заслушать краткое сообщение их товарища о речи Тургенева «Гамлет и Дон-Кихот», произнесенной им 10 января 1860 г., незадолго до создания романа, на публичном чтении в пользу общества для вспомоществования нуждающимся литераторам и ученым. По мысли Тургенева, два эти сверххарактера, именами которых озаглавлена его речь, являются «двумя коренными, противоположными особенностями человеческой природы», «все люди принадлежат более или менее к одному из этих типов» (V, 331).
В контексте этой речи отчетливо прослеживается авторская мысль о том, что его Базаров от начала романа к концу проходит символический путь от Дон-Кихота к Гамлету. В начале повествования Базаров предстает перед читателями почти фанатично верящим в свои идеалы человеком и так же, как Дон-Кихот, обладает непреклонной волей, энергией и отсутствием сомнений. Но выпавшие ему на долю испытания подтачивают его незыблемую веру в правоту собственных убеждений. Шаг за шагом «воинствующий Дон-Кихот» Базаров превращается в «рефлектирующего Гамлета». Во второй части романа Евгений страдает, «сам наносит себе раны, сам себя терзает; в его руках… меч: обоюдоострый меч анализа» (V, 334). Подобно шекспировскому герою, он начинает задавать себе «проклятый вопрос» «быть или не быть?» («Каждый человек на ниточке висит, бездна ежеминутно под ним разверзнуться может, а он еще сам придумывает себе всякие неприятности, портит свою жизнь» – VII, 104).
Самоуглубление, рефлексия Базарова приводят к кризису всю его систему вульгарно-материалистических взглядов на мир. Перед героем открылись две бесконечности, две бездны: одна – загадка его собственной души, другая – загадка окружающего его мира. Учащиеся находят в тексте романа высказывания героя, подтверждающие вышесказанную мысль, и выражают свои аналитические суждения:
– Если раньше Базарова интересовал только объективный материальный мир, а человеческая неповторимость, индивидуальное проявление человеческого духа либо высмеивались, либо вовсе отрицались («Все люди друг на друга похожи как телом, так и душой…» – VII, 78), то рефлексирующий, страдающий герой признается Одинцовой, что «всякий человек – загадка» (VII, 91).
– Признав тайну духовной жизни каждого человека, Евгений идет дальше – к загадке жизни вообще. При этом он размышляет о неотвратимости законов бытия, ужасе человека перед смертью. Теперь он не может удовлетвориться чисто материалистическим объяснением сущности человека, его поступков.
– «Бездна» разверзлась перед тургеневским героем, когда он стал задумываться о своем ничтожестве перед бесконечным космосом, Вселенной. Об этом хорошо говорится в сцене «У стога».
Одному из учащихся, познакомившемуся с уже упоминаемыми работами Ю. В. Лебедева и А. И. Батюто, предлагается прокомментировать эту сцену. Отмечается, что оказавшись под влиянием стихийного чувства, Базаров ощутил эфемерность человеческого бытия перед вечностью. От микроскопа его потянуло к телескопу, т. е. рассматриванию неба, хотя он сам, издеваясь над романтиками, говорил, что глядит в небо лишь тогда, когда ему хочется чихнуть. Примечательно в этом плане высказывание героя: «А я думаю: я вот лежу здесь под стогом… Узенькое местечко, которое я занимаю, до того крохотно в сравнении с остальным пространством, где меня нет и где дела до меня нет; и часть времени, которую мне удается прожить, так ничтожна перед вечностью, где меня не было и не будет… А в этом атоме, в этой математической точке кровь обращается, мозг работает, чего-то хочет тоже… Что за безобразие! Что за пустяки?» (VII, 119)
Размышления Базарова, как отмечает А. И. Батюто, перекликаются с мыслями Блеза Паскаля о человеческом ничтожестве перед бесконечным космосом. Но если Паскаль выход из этого трагического тупика видит в религии, то герой Тургенева этот путь отвергает. Не может быть для него утешением и суждение о человеке как «мыслящем тростнике», которому, единственному из всех существ на земле, дано осознать величие Вселенной и собственное ничтожество перед ней. Так начинается бунт Базарова против самих основ бытия.
В диалоге с учащимся предстоит выяснить, в чем же суть этого бунта.
Роковые вопросы стихийности и драматизма, любви и познания, смысла жизни и тайны смерти не получают теперь ответа для героя в исследованиях естественных наук, не случайно его тянет к философии. Прежний антропологический взгляд на человека как неизменную биологическую сущность оказался теперь бессильным перед сложностью человеческого бытия. Ощутив свое ничтожество перед природой, космосом, Базаров пересматривает свое отношение к общественному прогрессу, о чем говорит его знаменитая тирада о «лопухе».
Комментируя эту тираду, отмечаем, что речь здесь идет не о презрении героя к мужику. Дело в ином: Базаров ощутил абсурд бытия, ничтожество человека перед стихийными силами природы. Бунт Евгения – это его озлобленность, раздраженность, его постоянные «гамлетовские» мысли о смерти. Этим и объясняется поведение, подобное рискованному передвижению у пропасти, «бездны». Герой утрачивает чувство дозволенности, хочет заглянуть за черту, за которую нельзя заглянуть простому смертному. В этом плане особую символику приобретает мотив святого Евсевия, обращением к которому завершаем урок.
«Роковые» испытания Базарова начинаются с поездки двух приятелей в имение Одинцовой. Посреди молчания Евгений вдруг воскликнул: «Поздравь меня, сегодня двадцать второе июня, день моего ангела. Посмотрим, как-то он обо мне печется» (VII, 75). Эта фраза, как потом окажется, в судьбе Базарова приобретет роковой смысл. Автор не случайно дал своему герою в покровители святого Евсевия. Здесь есть и фонетическая перекличка их имен, и перекличка смыслов: Евгений – благородный, Евсевий – благочестивый. Но есть и другое – сходство судеб. Известно, что святой Евсевий умер от случайной раны и виновна в этом женщинаарианка, которая бросила в него черепицу и ранила его. Умирая от этой раны (по-видимому, от заражения крови), Евсевий завещал своим друзьям не мстить этой женщине. Покинул он мир с благочестием и прощением на устах.
Тема ангела повторяется и в финале романа. Встречая приехавшую к умирающему сыну «даму под черным вуалем, в черной мантилье», Василий Иванович в восторге восклицает: «К нам ангел с неба…» (VII, 181). Но ангел в черном может быть только вестником смерти. Базаров умирает от тех начал жизни, которым он бросил свой нигилистический вызов.
Возможно и другое истолкование этого мотива ангела: как Дон Гуан, испытывая судьбу, бросает вызов статуе Командора, так и Базаров бросает вызов своему ангелу. Создается впечатление, что вызов принят, начинается новый круг испытаний героя, которые неизбежно приведут его к гибели.
Урок 7. Тема: Культурные знаки романа
Цель: Расширить представление учащихся о романе как культурном универсуме. В ходе подготовки к уроку и непосредственно на нем обучать старшеклассников истолкованию культурно-семантических знаков художественного текста.
Европейская образованность Тургенева, его огромная эрудиция и всемирная отзывчивость, глубокое знание русской жизни рождали в ходе работы над романом множество ассоциаций и образов, восходящих к разным культурным мирам и художественным системам. Некоторые сюжеты, мотивы и образы уже были рассмотрены на предыдущих уроках. На данном уроке старшеклассники самостоятельно выступают в качестве комментаторов текста, и урок проходит в форме заслушивания и обсуждения сообщений учащихся, раскрывающих не истолкованные ранее микросюжеты, мотивы, знаки и коды «Отцов и детей». Так происходит углубление знаний и представлений школьников о мироконцепции романа. Задания и литература к уроку предлагаются заранее, учитель в процессе подготовки к нему выступает в качестве консультанта. Комментируются знаки двух культурных пластов: фольклорно-поэтического и восходящего к традициям европейской культуры.
Первый рассматриваемый мотив – мотив птицы и связанный с ним лейтмотив «гнезда», отчего дома, семьи как главных семантических знаков романа. Заявлен он уже в самом начале романа. Николай Петрович, ожидая на постоялом дворе приезда своего сына, наблюдает за сизым голубем. В славянской мифологии он символизирует любовь, верность, кротость. В контексте романа голубь ассоциируется и с самим Кирсановым. Интересно, что голубь в данном эпизоде дается в окружении других семантических знаков – цыпленка и кошки – символов домашнего тепла, уюта. Через несколько страниц текста скрытое сравнение «материализуется», когда читатель узнает о «голубиной кротости», семейственности и домовитости Николая Петровича.
Интересно, что и покойная жена героя наделяется этими же качествами и характеризуется посредством мотива птицы: «сажала цветы и наблюдала за птичьим двором» (VII, 8). Фенечка, которая в сущности повторяет Марью, также, как выясняется, может быть понята через этот же метафорический контекст. В ее комнате пахло ромашкой и мелиссой, а под потолком «висела клетка с короткохвостым чижом» (VII, 36).
В XI главе образ Николая Петровича проясняет еще одна птица – ласточка, которая в славянской мифологии обозначает домовитость, семейственность.
Метафорическим контекстом Аркадия является галка. «Птенец этот!.. Он теперь в галки попал» (VII, 178)», – так Базаров образно поясняет помолвку Аркадия с Катей. Он же и предлагает Аркадию в жизни брать пример с галок, поскольку «галка самая почтенная, семейная птица» (VII, 170). С алломотивом (индивидуальным мотивом) галки связан мотив гнезда. Прощаясь со своим приятелем, Базаров напутствует его словами: «А ты поскорее женись; да своим гнездом обзаведись, да наделай детей побольше» (VII, 170).
Сам Евгений Базаров в романе ассоциируется с хищной птицей – соколом. Вольным соколом, следуя народной традиции, называет его мать, подчеркивая общность своего сына с этой гордой, свободной, бессемейной птицей. Характер его вечного оппонента Павла Петровича также проясняется при помощи еще одной птицы – орла, гордой и царственной птицы, которая на языке ассоциаций подчеркивает аристократизм героя. («У тебя орлиный взгляд» (VII, 35), – говорит своему брату Николай Петрович).
Второе сообщение касается мотивов сада и леса. В романе имеется три типа садов, выражающие эстетические представления их хозяев о мире, природе, образе жизни. Садик отца Базарова с его фруктовыми деревьями, самолично посаженными владельцем, ассоциируется с мотивом пенат, трудовой жизни философа и мудреца, воспетой римскими поэтами, в частности Горацием, на которого любит ссылаться Василий Иванович.
«Новопосаженный» сад Николая Петровича напоминает сады романтизма, в которых происходит слияние духовной жизни природы и человека. Размышления героя в любимой сиреневой беседке сродни меланхолическим чувствительным раздумьям человека эпохи романтизма.
Усадьба Анны Сергеевны Одинцовой была выстроена в стиле классицизма с домом и церковью, «в том стиле, который известен у нас под именем Александровского» (VII, 75). К домику прилегали «темные деревья старинного сада, аллея стриженных елок» (VII, 75). Вся обстановка усадьбы с ее «темными аллеями», появившимися в результате освоения романтизмом регулярных садов, соответствует топосу дворянских гнезд, в которых по всем законам жанра усадебного романа разворачивается любовная история Евгения Базарова.
Если мотив сада связан с мотивом дома и выражает традиционность, устойчивость и гармоничность жизни, то мотив леса имеет совершенно противоположное значение. В народной сказке он, как известно, связан с миром «чужим», неведомым. Этот мотив троекратно заявлен в романе. Сначала Базаров, излагая свою излюбленную мысль о сходстве всех людей, сравнивает их с деревьями в лесу. Но другие люди как раз и оказались для героя миром ему неведомым, который нельзя объяснить лишь с помощью естественных наук. И вскоре герой, влюбленный в Анну Сергеевну, вынужден признаться о своем незнании людских душ, оказавшихся для него «темным лесом».
Второй раз этот мотив появляется во сне Базарова, когда Павел Петрович представляется ему «большим лесом, с которым он… должен драться» (VII, 143). Здесь лес символизирует первобытный ужас. Есть основание интерпретировать мотив леса как явную аллюзию из «Макбета».
В трагедии У. Шекспира лес предстает как роковая сила, грозящая гибелью незаконному королю-преступнику. Ассоциативная связь Павла Петровича с лесом в подсознании героя возникает не случайно. Последний символизирует те традиции рыцарства и культа любви, против которых безнадежно борется Базаров.
Предсмертная фраза Базарова: «… я путаюсь. Тут есть лес…» (VII, 183) – свидетельствует об окончательной победе подсознательного начала, таинственных сил природы, которые оказались сильнее всяких теорий.
Возможно обращение на данном уроке и к другим культурносемантическим знакам романа. В нашей практике мы рассматривали символику имен героев, мотив трех дорог, мотив спящей красавицы, алломотивы (индивидуальные мотивы) отдельных деревьев, кустарников и цветов, пушкинские и шекспировские темы в «Отцах и детях». Проведенная работа способствовала расширению представлений учащихся о мироконцепции романа, выработке умений и навыков культурологического комментария художественного текста.
Урок 8. Тема: поединок со смертью. Реквием. Смысл названия романа
Базаров – это титан, восставший против своей матери-земли, как ни велика его сила, она только свидетельствует о величии силы, его породившей и питающей, но не равняется с матернею силою.
Н. Н. СтраховЦель: Раскрыть смысл названия романа. Помочь учащимся увидеть, как в поединке со смертью и природными стихиями бытия Базаров проходит испытания и возвышается до уровня героев трагедии.
Данный урок проходит также в форме учебного диалога, который начинается вопросом: «Как мотив сфинкса, перечеркнутого крестом, связан с историей жизни и смерти Евгения Базарова?»
Возникает несколько точек зрения, которые объясняют трагическую судьбу Базарова либо вторжением в его жизнь стихии любви, либо столкновением героя с природными силами. О тургеневской концепции любви уже говорилось на предыдущих уроках, поэтому основное внимание учащихся мы останавливаем на авторской концепции природы. Ее на уроке раскрывает группа «философов», получивших специальное задание. Выступая перед классом, они раскрывают проблему, дополняя, комментируя друг друга и вовлекая в разговор присутствующих. Приведем данный фрагмент урока.
– Тургенева справедливо называют певцом природы. Его пейзажи звучат как стихи в прозе. Благодаря им в его произведениях стираются грани между поэзией и прозой. Но, как утверждают литературоведы А. И. Батюто и А. Б. Муратов, в тургеневском взгляде на природу преобладает скорбный пессимизм.
– В чем он заключается?
Один из «философов» читает тургеневское стихотворение в прозе «Природа» и спрашивает, что в нем необычно.
– Природа не ведает ни добра, ни зла. Для нее нет разницы, что жизнь червяка, что жизнь человека. Захочет – отнимет.
– Природа одновременно прекрасна и равнодушно-холодна к человеку. Поэтому она внушает и восторг и благоговейный страх.
– Действительно, участь человека, по Тургеневу, незавидная перед лицом «равнодушной» природы. Об этом писал он и в повести «Поездка в Полесье»: «Трудно человеку, существу единого дня, вчера рожденному и уже сегодня обреченному смерти, трудно ему выносить холодный, безучастно устремленный на него взгляд вечной Изиды…» (V, 130).
– Но если человек всецело определяется природной жизнью, тогда зачем ему мысль, сознание, зачем вообще культура? Все ведь абсурдно перед этой безмолвной Изидой?
– В своих весьма необычных для чтения и понимания произведениях «Призраки» и «Довольно» Тургенев говорил о враждебности человеку законов природы – «общих законов» бытия. С этим он и связывает трагическую сторону человеческого существования. А что касается смысла жизни, то как раз перед лицом конечности своего бытия человек намного сильнее ощущает красоту этого отпущенного ему природой мгновения.
– Но ведь большинство людей беспечно живут, так и не задумываясь над трагизмом жизни?
– Может быть потому, что, как выражается Базаров, собственное «ничтожество им не смердит».
– А что толку бунтовать, все равно природа возьмет свое.
– Выходит, что природа у Тургенева выполняет функцию Бога?
– Да, воззрения Тургенева на природу можно обозначить как пантеизм. Природа наделена творящим началом, но творит бессознательно, стихийно.
– А может и есть в природе какой-то высший разум? Тютчев ведь это допускал.
– Очевидно, что Тургенев тоже не решил для себя эту загадку, но ясно одно, что перед природным детерминизмом социальные проблемы ему кажутся ничтожными.
Так разговор переходит на Базарова, который, сосредоточившись на своем собственном бытии, стал задумываться над неразумностью мироздания, равнодушием природы и краткости человеческого существования в сравнении с вечным космосом. Вот откуда этот нарастающий в последних главах романа пессимизм героя, который явно просвечивает в уже цитируемой нами его реплике о русском мужике: «Ну, будет он жить в белой избе, а из меня лопух расти будет» (VII, 121).
В центре внимания учащихся оказывается проблема испытания героя смертью, которая пришла к нему как наказание за то, что он попытался заглянуть за черту, разгадать загадку сфинкса – природы, мыслимую им изначально как субстанцию, познаваемую при помощи фундаментальных наук и подвластную человеку. Наказание высшими силами бытия видят учащиеся и в том, что герой свое отрицание простер до всех «святых» святынь: Бога, веры, семьи, любви.
На данном этапе урока учащимся предлагается проследить по тексту романа, как ведет свой последний поединок – поединок со смертью – Евгений Базаров. Какой смысл заключает известное высказывание Д. Писарева: «Умереть так, как умер Базаров, – все равно, что сделать великий подвиг»?[210]
Отмечается, что умирающий Базаров ведет себя мужественно и естественно. Перед лицом слепой силы, уничтожающей все, он ни за что не цепляется. Его цель – достойно уйти из жизни, не измениться, остаться самим собой. «А теперь вся задача гиганта – как бы умереть прилично, хотя никому до этого дела нет… Все равно: вилять хвостом не стану», – признается он Анне Сергеевне (VII, 182).
Вместе с тем он впервые позволяет быть нежным – отпала необходимость скрывать свой романтизм – может любоваться красотой, оценить великодушие, найти поэтическую форму для передачи своих чувств по отношению к любимой женщине: «Скажу я лучше, что какая вы славная! И теперь вот вы стоите, такая красивая… Ох, как близко, и какая молодая, свежая, чистая… в этой гадкой комнате!» (VII, 183).
Перед лицом смерти Базаров говорит языком поэта, глубина и красота его чувств прорвалась в его предсмертных репликах: «Прощайте, – проговорил он с внезапной силой, и глаза его блеснули последним блеском. – Прощайте… Послушайте… ведь я вас не поцеловал тогда… Дуньте на умирающую лампаду, и пусть она погаснет…» (VII, 183). Герой достойно проходит испытание и любовью, и смертью и умирает, как настоящий рыцарь, которого за все испытания дама сердца награждает прощальным поцелуем.
Не стесняется теперь Базаров и своей большой сыновней любви, заботится о своих родителях, готовя их к своему ужасному концу. В голосе героя слышится трогательная нежность. Как прекрасны и возвышенны слова отца и сына, обращенные друг к другу:
«Евгений!.. сын мой, дорогой мой, милый сын!‹…›
– Что, мой отец?» (VII, 180).
Перед лицом смерти во всей своей полноте раскрывается глубокая натура Базарова, которую он ранее постоянно укрощал, боясь «рассыропиться», т. е. проявить свой романтизм, что для нигилиста было непростительной слабостью. Впервые герой становится самим собой во всем и до конца.
Анализируя финальные сцены романа, обращаем внимание учащихся на проблему веры как пути спасения человека от страха смерти. Известно, самого Тургенева, как и любого мыслящего человека, эта проблема глубоко волновала. В рассказе «Смерть» («Записки охотника») Тургенев, описывая смерть простого мужика, с удивлением отмечает: «Удивительно умирает русский мужик! Состояние его перед кончиной нельзя назвать ни равнодушием, ни трусостью; он умирает, словно обряд совершает: холодно и просто» (III, 200).
Такой естественности и простоты лишен интеллигент, терзающий себя гамлетовскими вопросами и рефлексией. Как найти в себе опору, чтобы заглушить чувство страха смерти? Достоевский видел ее в религии, вере. Автор романа «Отцы и дети» обращался к самым разным философским системам (Паскаль, Сен-Симон, Фурье, Фихте, Гегель, Фейербах, Шопенгауэр), но ни в одной из них этот вопрос о выходе из трагического тупика, порожденного рефлектирующим сознанием, не решался. Оставалась религия с ее верой в бессмертие души. Но сам писатель с горечью признавался в письме к графине Е. Е. Ламберт (22 декабря 1861 г.), что это не его путь спасения: «Естественность смерти гораздо страшнее ее внезапности или необычности. Одна религия может победить этот страх… Но сама религия должна стать естественной потребностью в человеке, – а у кого ее нет – тому остается только с легкомыслием или стоицизмом (в сущности это все равно) отворачивать глаза» (П. IV, 387).
Был еще один путь, который мог бы помочь избавиться от чувства абсурда смерти, – это стоицизм. Как раз во время работы над своим романом Тургенев проявлял живой интерес к философии стоиков, проповедовавших идею жизни вне страстей, в гармонии с природой. Стоики учили своих последователей не зависеть от внешних обстоятельств, уметь переносить потери, объявляя добродетель единственным благом, поскольку только она зависит от воли самого человека. Руководствуясь положениями стоиков, Базаров угрюмо-иронически советует своему отцу, потрясенному сознанием такой скорой и неизбежной смерти сына: «Ну, коли христианство не помогает, будь философом, стоиком, что ли!» (VII, 178). Здесь примечательно то, что христианство и стоицизм помещаются в один ряд с точки зрения их возможностей облегчить страдания человека.
Отец Базарова как раз и представлял собой человека, в котором христианство и стоицизм органично сочетаются. От стоицизма и горацианства он заимствует стиль жизни, ее философию, но душевную боль его утишает (смягчает, делает тише) вера в Бога и жизнь вечную.
Сам Базаров для себя никакого утешения не искал, но всем своим мужественным поведением как бы ответил на волнующий писателя вопрос, как должна вести себя мыслящая, рефлектирующая личность перед лицом смерти, ощутив, как герой высокой трагедии «неотвратимость конца пути». Не случайно герой перед самой своей кончиной произносит слова, перекликающиеся со словами умирающего Гамлета: «Теперь… темнота» (VII, 183); у Шекспира: «The rest is silence» («Дальнейшее – молчание»).
Базаров уходит из жизни непобежденным, унося в могилу свое «страстное, грешное, бунтующее сердце», выдержавшее испытание любовью и смертью. Финальное описание сельского кладбища звучит как реквием автора по своему герою, который своей трагической судьбой искупил свой нигилизм.
В хорошем исполнении учащегося звучит концовка романа, и участники диалога приходят к выводу, что в природе и в жизни все, несмотря на «бунтующие сердца», так или иначе примиряется, но автор, как и его герой, не хочет смириться с бездушностью «равнодушной природы». Финальный пейзаж приобретает значение символа: осиротели не только родители Базарова, но и сама земля, родина, ведь, по признанию автора: «Когда переведутся такие люди, пускай закроется навсегда книга истории! в ней нечего будет читать» (V, 338).
В финале урока вновь обращаемся к центральному вопросу о смысле названия романа. Проделанная работа позволяет сделать вывод, что проблема «отцов и детей» у Тургенева выходит за рамки частного, семейного конфликта и разрешается на социальном, философском уровне. Соединительный союз «и», вынесенный в заглавие романа, указывает на необходимость единства отцов и детей, благодаря которому происходит передача родовых и культурных традиций от старшего поколения к младшему, обретение «жизни бесконечной» (VII, 188). Эта идея связи поколений лежит в основе христианских заповедей, особенно определенно и ясно она заявлена в «Послании к ефесянам святого апостола Павла»: «Почитай отца твоего и мать», это – первая заповедь с обетованием…» (Гл. 6, ст. 2). «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем» (Гл. 6, ст. 4).
После проведения уроков по данной методике учащимся можно предложить написать сочинение на тему «Отражение идей времени и вечных проблем человеческой жизни в романе И. С. Тургенева «Отцы и дети». Основными критериями оценки данного сочинения могут быть следующие критерии: глубина постижения авторской позиции; целостный подход к истолкованию текста, его структурных уровней, знаков, кодов; чувство авторского стиля и художественной образности романа; ясность, стилистическая точность, культура речи текстов сочинений.
В качестве удачного примера приводим одно из сочинений.
Отражение идей времени
и вечных проблем человеческой жизни
в романе И. С. Тургенева «Отцы и дети».
В русской литературе есть ряд произведений, которые удивляют нас своим диалогом о вечном, непреходящем. Те споры, которые ведут герои, продолжают читатели, критики, другие авторы. К числу таких произведений с уверенностью можно отнести и роман И. С. Тургенева «Отцы и дети».
В период своего появления в свет он разделил русское общество на два лагеря. Одни читатели благодарили автора, восхищались его главным героем, другие писали Тургеневу гневные письма и считали, что автор предал, оклеветал молодое поколение. Почему же так остро и противоречиво были восприняты «Отцы и дети» Тургенева?
В своей книге писатель коснулся самых животрепещущих проблем времени – времени 60-х годов, которые в истории считаются эпохой революционной ситуации, эпохой перемен. В это время в русском обществе происходят значительные сдвиги, уходит с исторической арены поколение людей «сороковых годов», поколение романтиков, которое верило в возвышенные идеалы любви, красоты, мечтало о высоком служении людям, обществу. Но его мечты не совпадали с реальностью, и представители этого поколения большей частью так и остались мечтателями, людьми слова, а не дела.
К таким людям и относятся «старички» Кирсановы, как иронично называет их Базаров. По своей сути это добрые, благовоспитанные и образованные дворяне, к которым, читая роман, невольно испытываешь симпатию. Не случайно Тургенев себя и своих приятелей сравнивал с братьями Кирсановыми.
Но видно и другое: Николай Петрович и Павел Петрович по большому счету отстали от современной им действительности. Жизнь решительно устремилась вперед. Открытия естествознания изменили представление о мире. Усилилась роль фундаментальных наук, таких, как биология, физиология, химия, физика. Для нового поколения казалось бессмысленным тратить время на занятия, не имеющие прикладного, практического характера. Возникает жизненная коллизия, которую в 60-е годы нашего века назовут спором «физиков» и «лириков». Вот почему Аркадий краснеет за своего отца, читающего Пушкина и играющего на виолончели, и незаметно, по совету Базарова, подкладывает ему «дельную» книгу Л. Бюхнера «Материя и сила».
Конфликт «отцов» и «детей» возникает уже на первых страницах романа. Базарова особенно раздражает Павел Петрович, который кичится своим аристократизмом. Кажется блажью Базарову, недостойной мужчины, любовная история старшего Кирсанова с княгиней Р., потому что герой все, в том числе и любовь, пытается объяснить научно, при помощи естественных дисциплин. Об этом он говорит своему приятелю Аркадию: «И что за таинственные отношения между мужчиной и женщиной? Мы, физиологи, знаем, какие это отношения. Ты проштудируй-ка анатомию глаза: откуда тут взяться… загадочному взгляду? Это все романтизм, чепуха, гниль, художество».
В отличие от Кирсановых, отцов-романтиков, верующих в принципы, в абстрактные истины, Базаров – прагматик, нигилист. Он ничего не принимает на веру и ко всему относится с критической точки зрения и пользы. В образе Базарова Тургенев отразил те новые тенденции, появившихся при смене исторических эпох.
Как известно, Тургенев строит свои романы таким образом, чтобы его герои проходили ряд испытаний, в которых обнаруживается вся их внутренняя сущность. Проходит эти испытания и Базаров, и первым из них явился его идеологический поединок с «отцами». Он ведется вокруг важнейших проблем времени. Это спор о политике, об общественном и духовном прогрессе, Боге, об искусстве. Вначале удивляет, как легко Базаров парирует все «удары» Павла Петровича. И все потому, что герой не колеблется, не рефлектирует, чувствует себя «силой», гордится тем, что принадлежит к новому поколению, овладевшему истиной при помощи научного знания.
Назначение молодого поколения Базаров видит в том, чтобы «расчистить площадку», потому что «отцы» все запутали, следуя своим «принципам», своим романтическим чувствам. Следует заметить, что герой не предлагает никакой положительной программы, главное, по его мнению, освободить разум от предрассудков и заблуждений и довериться опыту, практике. Высказывания Базарова порой парадоксальны: «Рафаэль гроша медного не стоит», «Порядочный химик в двадцать раз полезнее всякого поэта», «Природа не храм, а мастерская…».
Менее всего для Базарова загадкой является человек, ибо он убежден, что все люди одинаковы, как «деревья в лесу».
Откуда такое убеждение? Оно связано с антропологическим учением Людвига Фейербаха. Немецкий философ уподобил человеческое общество биологическому организму. Следовательно, отдельный человек не интересен, у всех одни и те же органы, отличие лишь в том, что одни люди больные, другие – здоровые. Поэтому, по мнению Базарова, задача прогресса состоит в исправлении общества в целом, а не в воспитании конкретного человека.
Но со встречи с Анной Сергеевной Одинцовой начинается новое испытание в жизни героя. На глазах читателя он из ДонКихота превращается в Гамлета, сомневающегося, страдающего. И происходит это под воздействием любви. Оказывается, что нигилист Базаров в душе романтик. Он любит сильно, глубоко и, по его собственному признанию, «глупо, безумно». Жизнь героя превращается в «поединок роковой». Разумом он доказывает себе, что любовь имеет чисто физиологическое объяснение, что никакой тайны между мужчиной и женщиной нет, но сильная натура не принимает доводы разума.
Базаров становится раздражительным, даже несправедливым к своему приятелю Аркадию. «Романтизм, гниль, художество» – все, против чего он боролся, обнаружилось в нем самом, и изгнать его он не может.
Любовная история Базарова, как оказывается, неожиданным образом перекликается с мотивом рыцаря Тогенбурга. Как и герой шиллеровской баллады, тургеневский герой до конца остается верен своей Прекрасной Даме – Анне Сергеевне – и за все испытания и страдания получает от нее в конце романа прощальный поцелуй.
Гамлетизм Базарова проявляется прежде всего в том, что он начинает рассуждать о сущности бытия, задаваться роковыми вопросами о жизни и смерти. Так, отправляясь в родительское имение, он произносит вполне гамлетовскую фразу: «Каждый человек на ниточке висит, бездна ежеминутно под ним разверзнуться может…». Уместно привести еще одно высказывание героя. Отдыхая с Аркадием в родительском имении под стогом сена, он произносит фразу, которая так похожа на высказывание философа Паскаля, сравнивающего человека с «мыслящим тростником».
Базаров начинает задумываться о человеческой слабости перед слепыми силами природы, о неизбежности смерти, мысли о которой по-новому позволяют оценивать сущность человеческой жизни. Перед нами другой человек, не тот прежний, который рвался в бой, «наломать побольше дров», перестроить мир. Новый Базаров начинает задумываться о тайне жизни, а она не объясняется никакими теориями.
Последнее испытание, которое предстоит пройти герою, – испытание смертью. В этом испытании раскрываются лучшие стороны его натуры – мужество, сила духа, ясность и трезвость ума. Перед лицом смерти он не боится признаться в своей любви к родителям, о которых так бережно заботиться. Не боится пригласить свою даму сердца, чтобы сказать ей свои прощальные слова нежности.
В финале книги автор сострадает своему герою. Эпилог романа – описание сельского кладбища – звучит как реквием по Базарову, так рано ушедшему из жизни со своим «бушующим сердцем», не успев выполнить жизненного предназначения.
Вместе с тем, если представить, что Базаров выжил и победил свою натуру, то не стал бы ли он социально опасным, подгоняя жизнь под свою жесткую теорию?
Всем своим романом автор показал, что теория, идея приходят и уходят, но есть ценности вечные: любовь, красота, искусство, семья. И суть общественного прогресса не в замене этих ценностей другими, не в противопоставлении «детей» «отцам», а в эволюции, преемственности, союзе. В этом и заключается смысл названия романа – «Отцы и дети».
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Рассмотрите предложенную систему уроков. Выявите их внутреннюю логику, литературоведческие и методические идеи.
2. Какие уровни текста рассматриваются на данных уроках? Какие приемы проникновения в художественную мироконцепцию используются?
3. • Более подробно опишите урок № 7. Истолкуйте не рассмотренные в нем мотивы дома, дороги.
4. Сочините несколько страничек из дневника Базарова («В родительском доме», «Теперь вся задача гиганта – как бы умереть прилично»).
4. • Создайте свой текст сочинения по роману И. С. Тургенева, рассматривая его текст как культурный универсум.
Сноски
1
Моль А. Социодинамика культуры. – М., 1973. С. 44–45.
(обратно)2
См.: Пахомов Н. Н. Кризис образования в контексте глобальных проблем // Философия образования для XXI века. – М., 1992. С. 19.
(обратно)3
Там же. С. 23.
(обратно)4
См.: Философия образования в перспективе XXI века: Доклад об итогах чешско-советского симпозиума. Прага 4–7 июня 1990 г. // Философия образования для XXI века. – М., 1992. С. 204–207.
(обратно)5
См.: Смирнов С. А. Мастерская педагога-гуманитария: Философские и педагогические очерки. – Новосибирск, 1995. С. 11.
(обратно)6
Вернадский В. И. Биосфера и ноосфера. – М., 1989. С. 189.
(обратно)7
См.: Бахтин М. Эстетика словесного творчества. – М., 1979. С. 366–367.
(обратно)8
См.: Образование в конце XX века (материалы «круглого стола»). Выступили: А. Ф. Зотов, В. И. Купцов, В. М. Розин, А. Р. Макаров, Е. В. Шикин, В. Г. Царев, А. П. Огурцов // Вопросы философии. 1992. № 4. С. 3–21.
(обратно)9
См.: Давидович В. Е., Жданов ЮЛ. Сущность культуры. – Ростов, 1979. С. 50.
(обратно)10
См.: Шпенглер О. Закат Европы. – Новосибирск, 1993. С. 96–98.
(обратно)11
Ясперс К. Истоки истории и ее цель // Ясперс К. Смысл и назначение истории. – М., 1991. С. 33.
(обратно)12
См.: Аверинцев С. С, Андреев М. Л., Гаспаров М. Л. и др. Категории поэтики в смене литературных эпох // Историческая поэтика. – М., 1994. С. 4–5.
(обратно)13
Ясперс К. Истоки истории и ее цель // Ясперс К. Смысл и назначение истории. С. 72.
(обратно)14
Каган М. С. Искусство как феномен культуры // Системный подход и гуманитарное знание. – Л., 1991. С. 170.
(обратно)15
Лотман Ю. И. О двух моделях коммуникации в системе культуры // Избранные статьи: В 3 т. – Таллинн, 1992. Т. 1. С. 87.
(обратно)16
Там же. С. 88.
(обратно)17
Эткинд A. M. Искусство как самосознание культуры // Искусство в системе культуры. – Л., 1987. С. 88.
(обратно)18
Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. – М., 1979. С. 285.
(обратно)19
Библер B. C. От наукоучения – к логике культуры: Два философских введения в XXI век. – М., 1991. С. 291.
(обратно)20
Шишигина Т. Л. Методика изучения классического произведения русской литературы XIX века в старших классах гуманитарного профиля: Автореф. дис…. канд. пед. наук. – М., 1995. С. 9.
(обратно)21
Лихачев Д. С, Самевелян Н. Г. Диалоги о дне вчерашнем, сегодняшнем и завтрашнем. – М., 1988. С. 9.
(обратно)22
См.: Цивьян Т. В. Лингвистические основы. Балканская модель мира. – М., 1990. С. 5.
(обратно)23
Гачев Т. Д. Национальные образы мира. Космо-Психо-Логос. – М., 1995. С. 36.
(обратно)24
Кривцун О. А. Психология творчества // Психологический журнал. 1990. Т. 11. № 5. С. 87.
(обратно)25
Швейцер А. Культура и этика. – М., 1973. С. 79.
(обратно)26
Аверинцев С. С, Андреев М. Л., Гаспаров М. Л. и др. Категории поэтики в смене литературных эпох // Историческая поэтика. – М., 1994. С. 3.
(обратно)27
Гегель Г. В. Эстетика. – М., 1968. Т. 1. С. 214.
(обратно)28
См.: Рождение трагедии из духа музыки. Предисловие к Рихарду Вагнеру // Ницше Ф. Соч.: В 2 т. – М., 1990. Т. 1. С. 61.
(обратно)29
Юнг К. Психология и поэтическое творчество // Самосознание европейской культуры XX века: Мыслители и писатели Запада о месте культуры в современном обществе. – М., 1991. С. 106.
(обратно)30
Там же. С. 107.
(обратно)31
Гачев Т. Д. Жизнь художественного сознания. Очерки по истории образа. Ч. 1. – М., 1972. С. 80.
(обратно)32
См.: Лихачева В Д. Композиционное единство монументальной живописи и зодчества в Древней Руси // Лихачева В. Д., Лихачев Д. С. Художественное наследие Древней Руси и современность. – Л., 1971. С. 9–21.
(обратно)33
Библер B. C. Основы программы // Школа диалога культур. – Кемерово, 1992. С. 7.
(обратно)34
Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. – М., 1979. С. 126.
(обратно)35
Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. – М., 1979. С. 318. (К переработке книги о Достоевском).
(обратно)36
Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. С. 384.
(обратно)37
Библер В. С. Школа диалога культур. Основы программы. – Кемерово, 1992. С. 8–19.
(обратно)38
Там же. С. 13.
(обратно)39
Бердяев НА. Русская идея // О России и русской философской культуре: Философы русского послеоктябрьского зарубежья. – М., 1990. С. 44–45.
(обратно)40
См.: Лихачев Д. С. 1) Введение. Своеобразие исторического пути русской литературы X – первой четверти XVIII века // История русской литературы.: В 4 т. – М., 1980. – Т. I. С. 14–15; 2) Человек в литературе Древней Руси. – М., 1970.
(обратно)41
Тюпа В. И. Онтология коммуникации // Дискурс. – Новосибирск, 1998. № 5. С. 7.
(обратно)42
Кондаков И. В. Введение в историю русской литературы. – М., 1997. С. 17.
(обратно)43
См.: Киселев А. К. Сопоставление как прием активизации эмоционального восприятия и интеллектуальной деятельности старшеклассников в литературном образовании: Автореф. дис. канд. пед. наук. – М., 1988; Зинин С. А. Методика проблемно-сопоставительного анализа и ее роль в совершенствовании изучения курса литературы в XI классе: Автореф. дис. канд. пед. наук. – М., 1993.
(обратно)44
Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. – М., 1979. С. 6–7.
(обратно)45
Бубер М. Яп Ты. – М., 1993. С. 21.
(обратно)46
Там же. С. 40.
(обратно)47
Библер В. С. Школа диалога культур. Основы программы. С. 8.
(обратно)48
См.: Программа по литературе. 5-11 классы / Под ред. Т. Ф. Курдюмовой. – М., 1995.
(обратно)49
См.: Программа по литературе. 5-11 классы / Под ред. А. Г. Кутузова. – М., 1995.
(обратно)50
См.: Программа по литературе для школ и классов с углубленным изучением литературы, гимназий и лицеев гуманитарного профиля. 5-11 классы. – М., 1992; Программа по литературе для 5–6 классов средней школы / Под ред. В. Г. Маранцмана. – СПб., 1996.
(обратно)51
Берлянд И. Е. Психология. Диалог культур (философия, психология, педагогика) // Управление школой. Антология развивающего управления. 1997. Март. № 12. С. 4.
(обратно)52
Там же. С. 4.
(обратно)53
См.: Библер B. C. От наукоучения – к логике культуры. Два философских введения в XXI век. – М., 1991. С. 4–6.
(обратно)54
См.: Закс Л. А. Художественное сознание: философско-эстетический анализ: Автореф. дис. докт. филос. наук. – Екатеринбург, 1993. С. 3–5.
(обратно)55
Видгоф В. М. Целостность эстетического сознания. – Томск, 1992. С. 139.
(обратно)56
Бахтин ММ. Проблемы поэтики Достоевского. – М., 1972. С. 72.
(обратно)57
Бубер Ж Я и Ты. – М., 1993. С. 41.
(обратно)58
Бахтин ММ. Эстетика художественного творчества. – М., 1979. С. 319.
(обратно)59
См.: Библер B. C. Михаил Бахтин, или Поэтика культуры. – М., 1991. С. 95–137.
(обратно)60
Курганов С. Ю., Соломадин ИМ. Учебный диалог и психологические исследования мышления // Методологические проблемы исследования науки. – Киев, 1986. С. 95.
(обратно)61
Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. С. 342.
(обратно)62
См.: Мухина Т. К. Диалог как фактор оптимизации педагогического процесса // Советская педагогика. 1989. № 10. С. 74–78; Григорьева Т. П. Диалог и коммуникация – философские проблемы // Вопросы философии. 1989. № 7. С. 60–67.
(обратно)63
Сайко Э. В. О природе и пространстве «действия» диалога // Социокультурное пространство диалога. – М., 1999. С. 14.
(обратно)64
См.: Леонов С. А. Речевая деятельность на уроках литературы в старших классах: Методические приемы творческого изучения литературы. – М., 1999. С. 62.
(обратно)65
Ковалевская Е. Н. Диалог на уроках литературы в Школе Совместной деятельности // Школа Совместной деятельности: концепция, проекты, практика развития. Книга 2 / Под ред. Г. Н. Прозументовой. – Томск, 1997. С. 10–11.
(обратно)66
Идею контекстного подхода развивает А. А. Вербицкий, который справедливо отмечает, что учебная информация имеет двойственную природу: она выступает и средством познания мира (и самопознания) и вместе с тем является составной частью культуры. См.: Вербицкий А. А. Активное обучение в высшей школе. – М., 1991.
(обратно)67
См.: Андреева Г. М. Межличностное восприятие в группе. М., 1981; Выготский Л. С. Собрание сочинений: В 6 т. – М., 1982. Т. 2. С. 6–361. (Мышление и речь); Коломинский Я. Л. Общение: наука и искусство. – М., 1974; Леонтьев А. А. Педагогическое общение. – М., 1979; Жинкин Н. И. Механизмы речи. – М., 1958; Пиаже Ж. Речь и мышление ребенка. – М., 1993.
(обратно)68
Выготский Л. С. Собрание сочинений: В 6 т. – М., 1982. Т. 2. С. 295–360.
(обратно)69
Леонтьев А. А. Психология общения. – Тарту, 1974. С. 129.
(обратно)70
О разных видах комментирования текста на уроках литературы, их особенностях и функциях см.: Клименко И. Г. Методика использования комментария при изучении русской литературы в старших классах: Дис. канд. пед. наук. – М., 1991.
(обратно)71
Лосев А. Ф. Знак, символ, миф. – М., 1978. С. 61.
(обратно)72
См.: Линдсей П., Норман Д. Переработка информации у человека. – М., 1974.
(обратно)73
См.: Кнабе Г. С. Русская античность. Содержание, роль и судьба античного наследия в культуре России. – М., 1999. С. 19.
(обратно)74
См.: Химик И. А. Как преподавать мировую художественную культуру. – М., 1994. С. 13–19.
(обратно)75
Виролайнен М. Н. Пушкин и театральный авангард. (Опыт интерьерного театра) // Современность классики. – Л., 1989. С. 205.
(обратно)76
См.: Богданова О. Ю. Теоретические проблемы современной методической науки // Богданова О. Ю., Леонов С. А., Чертов В. Ф. Методика преподавания литературы: Учебник для студентов педагогических вузов. – М., 1999. С. 9.
(обратно)77
См.: О возвышенном. – М.; Л., 1996. С. 6.
(обратно)78
Асмус В. Чтение как труд и творчество // Вопросы литературы. 1961.
№ 2. С. 42.
(обратно)79
См.: Выготский Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте. – СПб., 1997; Малинина В. М. Психология восприятия художественной литературы. – Челябинск, 1986; Раппопорт X. Искусство и эмоции. – М., 1972.
(обратно)80
См.: Прозоров В. В. О читательской направленности художественного произведения // Литературное произведение и читательское восприятие. – Калинин, 1982. С. 64–65.
(обратно)81
Выготский Л. С. Психология искусства. – М., 1987. С. 27.
(обратно)82
Выготский Л. С. Педагогическая психология. – М., 1992. С. 279.
(обратно)83
Уразаева Т. Т. Лермонтов: История души человеческой. – Томск, 1995. С. 124–144.
(обратно)84
См.: Федорец Г. Ф. Проблема интеграции в теории и практике обучения (пути развития). – Л., 1990; Сергеенок С. А. Дидактические основы построения интегративных курсов: Дис. канд. пед. наук. – СПб., 1992.
(обратно)85
Макарян Э. С. Принципы самоорганизации и интегративное взаимодействие общественных, естественных и технических наук // Методологические проблемы взаимодействия общественных, естественных и технических наук / Отв. ред. Б. М. Кедров, П. В. Смирнов, Б. Г. Юдин. – М., 1981. С. 225.
(обратно)86
Хакен Г. Синергетика. – М., 1989. С. 16.
(обратно)87
См.: Самоорганизация в природе и обществе: Философско-методологические очерки. – СПб., 1994; Энштейн М. Н. Самоочищение. Гипотеза о происхождении культуры // Вопросы философии. 1997. № 5. С. 72–79; Топоров В. Н. О ритуале. Введение в проблематику // Архаический ритуал и фольклор в раннелитературных памятниках. – М., 1988. С. 7–60; Смирнов В. П. Бытие и творчество. – СПб., 1996; Соснин Э. А., Познер Б. Н. Лазерная модель творчества (от теории доминанты – к синергетике культуры). – Томск, 1997.
(обратно)88
См.: Кабардов М. К., Матова М. А. Межполушарная асимметрия и вербальные и невербальные компоненты познавательных способностей // Вопросы психологии. 1988. С. 106–115; Голубева Э. А. Дифференциальный подход к способностям и склонностям // Психологический журнал. 1989. Вып. 9. С. 75–87.
(обратно)89
Вульф Верной. Холодинамика. Как управлять своей внутренней личностной силой / Общая ред. Л. Хохловой. Пер. с англ. Г. Соболевой. – М., 1995. С. 19–25.
(обратно)90
См.: Ожегов СИ. Словарь русского языка. – М., 1988. С. 292.
(обратно)91
См.: Ванслов В. В. Изобразительные искусства и музыка. – Л., 1977. С. 63.
(обратно)92
Федорец Г. Ф. Межпредметные связи в процессе обучения. – Л., 1983. С. 25–28.
(обратно)93
См.: Берулава МЛ. Интеграционные процессы в образовании // Интеграция содержания образования в педагогическом вузе. – Бийск, 1994. С. 6.
(обратно)94
См.: Взаимодействие наук. Теоретические и практические аспекты / Под ред. Б. М. Кедрова. – М., 1984. С. 24–25.
(обратно)95
См.: Звиняцковский В. Я. Восхождение по ступеням культуры // Русский язык и литература в средних учебных заведениях Украины. 1991. № 12. С. 2–5.
(обратно)96
См.: Интегрированная программа для 5 класса (гуманитарный цикл) / Сост. В. А. Доманский. – Томск, 1993; Интегрированная программа для 9 класса (гуманитарный цикл) / Сост. В. А. Доманский. – Томск, 1993.
(обратно)97
Программа по литературе для учащихся, завершающих образование / Под ред. В. Г. Маранцмана. – СПб., 1966.
(обратно)98
Программа по литературе для учащихся, завершающих образование. С. 10–11.
(обратно)99
См.: Колокольцев ЕЛ. Искусство на уроках литературы: Пособие для учителя. – Киев, 1991. С. 4–5.
(обратно)100
Асмус В. Ф. Чтение как труд и творчество // Вопросы теории и истории эстетики. – М., 1968. С. 63.
(обратно)101
Аристотель. Поэтика // Аристотель. Сочинения: В 4 т. – М., 1983. Т. 4. С. 646.
(обратно)102
Там же. С. 636.
(обратно)103
См.: Алексеев МЛ. И. С. Тургенев и музыка. – Киев, 1918; Крюков А. Тургенев и музыка. – Л., 1963.
(обратно)104
Берковский Н. Я. Романтизм в Германии. – Л., 1973. С. 55.
(обратно)105
Цит. по: Берковский Н. Я. Романтизм в Германии. С. 478.
(обратно)106
См.: Аберт Г. В. А. Моцарт. Ч. 2. Кн. 1. – М., 1989. С. 226–227.
(обратно)107
См.: Гречинская B. C. Наглядность на уроках русской литературы: Пособие для учителя. – Киев, 1983; Старкова З. С. Содружество искусств на уроках литературы: Книга для учителя. Из опыта работы. – М., 1988; Колокольцев Е. Н. Искусство на уроках литературы: Пособие для учителя. – Киев, 1991.
(обратно)108
Свои размышления о технике использования иллюстративных комментариев Е. Н. Колокольцев построил на сериях рисунков к комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» художников М. С. Башилова (об иллюстрациях Башилова см.: Московские ведомости. 1862. № 137), П. П. Соколова, Д. Н. Кардовского.
(обратно)109
Цит. по: A. Lannau, R. Mand. Michel-Ange pota. – Paris, 1860. P. I–II.
(обратно)110
Дмитриева Н. Изображение и слово. – М., 1962. С. 24.
(обратно)111
Белинский В. Г. Собрание сочинений: В 9 т. – М., 1982. Т. 8. С. 397–398.
(обратно)112
Альфонсов В. Н. Слова и краски. – М.; Л., 1966. С. 7.
(обратно)113
У Блока, как известно, имеется и другое стихотворение под таким названием, датированное 9 июня этого же года. Это еще один из вариантов развития темы Демона, и если его текст сопоставлять с врубелевскими Демонами, то он ближе всего к герою картины «Демон летящий».
(обратно)114
Сарабьянов Д. Врубель. – М., 1981. С. 12.
(обратно)115
Альфонсов В. Н. Слова и краски. – Л., 1966. С. 103.
(обратно)116
Недзвецкий В. А. И. А. Гончаров и русская философия любви // Русская литература. 1993. № 1. С. 49.
(обратно)117
Алпатов М. В. Художественные проблемы итальянского Возрождения. – М., 1976. С. 53.
(обратно)118
См.: Скатов Н. Н. Русский гений. – М., 1987. С. 254–256.
(обратно)119
Лихачев Д. С. Человек в литературе Древней Руси. – М., 1970.
(обратно)120
О сопоставлении литературного слова и живописного образа Екатерины II см.: Гершензон-Чегодаева Н. М. Дмитрий Григорьевич Левицкий. – М., 1964. С. 125.
(обратно)121
Дмитриева Н. Изображение и слово. – М., 1962. С. 108.
(обратно)122
Косиков Т. К. Теофиль Готье, автор «Эмалей и камей» // Готье Т. Эмали и камеи. – М., 1989. С. 15.
(обратно)123
Косиков Т. К. Теофиль Готье, автор «Эмалей и камей» // Готье Т. Эмали и камеи. С. 20.
(обратно)124
Перевод И. С. Поступальского. Цит. по: История французской литературы. – М., 1956. С. 588.
(обратно)125
Маранцман В. Г. Песни муз. – Павловск, 1997.
(обратно)126
Щукин В. Г. Поэзия усадьбы и проза трущобы // Из истории русской культуры (XIX век). – М., 1996. Т. 5. С. 575.
(обратно)127
Широко распространенный теперь термин «хронотоп» ввел М. М. Бахтин для обозначения как пространственно-временных моделей, так и различных культурных явлений, а также типов художественного мышления о мире.
(обратно)128
Каждан Т. П. Художественный мир русской усадьбы. – М., 1997. С. 21.
(обратно)129
Лихачев Д. С. Поэзия садов. К семантике садово-парковых стилей. Сад как текст. – СПб., 1991. С.8.
(обратно)130
См.: Щукин В. Г. Поэзия усадьбы и проза трущобы. – М., 1996. Т. 5. С. 580.
(обратно)131
Каждан Т. П. Художественный мир русской усадьбы. С. 12.
(обратно)132
Маранцман В. Г. Роман А. С. Пушкина «Дубровский» в школьном изучении. – Л., 1976.
(обратно)133
Киево-Печерский патерик // Памятники литературы Древней Руси. XII век. – М., 1980. С. 533.
(обратно)134
Лихачев Д. С. Поэзия садов. К семантике садово-парковых стилей. Сад как текст. – СПб., 1991. С. 8.
(обратно)135
Там же. С. 463.
(обратно)136
Лихачев Д. С. Поэзия садов. К семантике садово-парковых стилей… С. 159.
(обратно)137
Следует заметить, что пейзаж с «берегом широкого озера», сама усадьба в романе очень напоминают окрестности и имение двоюродного дедушки Пушкина – Петровское, что можно продемонстрировать учащимся, показав им фотографии этих мест.
(обратно)138
Переписка Екатерины II и господина Вольтера, продолжающаяся с 1763 по 1778 г. Перевод с французского Ивана Фабиена. – М., 1803. Ч. 2. С. 86–87.
(обратно)139
См.: Программа по литературе для учащихся IX класса, завершающих образование. – СПб., 1996.
(обратно)140
См.: Шолпо И. Л. Взаимодействие архитектуры и литературы на уроках словесности: Дис. канд. пед. наук. – СПб., 1995.
(обратно)141
Золотусский И. П. Исповедь Зоила. – М., 1989. С. 311.
(обратно)142
Ртищева Г. Художественная культура Византии // Искусство. Приложение к газете «Первое сентября». 1997. № 5. С. 5.
(обратно)143
См.: Лихачев Д. С. Человек в литературе Древней Руси. – М., 1970. С. 97.
(обратно)144
Любимов Л. Д. Искусство Древней Руси. – М., 1974. С. 274.
(обратно)145
Ромадановская Е. К. Русская литература на пороге нового времени. – Новосибирск, 1994. С. 84.
(обратно)146
Свиязев И. И. Учебное руководство к архитектуре для преподавания в Горном Институте, Главном Инженерном училище, Училище гражданских инженеров… и в других учебных заведениях. – СПб., 1839. С. V–VI (Введение).
(обратно)147
Эткинд Е. Симметрическая композиция у Пушкина. – Париж, 1988. С. 14.
(обратно)148
Под «архитектоникой» понимается построение произведения, и его культурно-семантические пласты, и средства выразительности и изобразительности по аналогии с коструктивно-декоративными деталями в архитектуре.
(обратно)149
Мандельштам Н. Я. Воспоминания. – М., 1989. С. 245.
(обратно)150
См.: Струве НА. Осип Мандельштам. – Томск., 1992; Анциферов Н. П.
Непостижимый город… – Л., 1991; Гинзбург Л. Я. Поэтика ассоциаций // О лирике. – Л., 1974; Мусатов В. В. Ранняя лирика Осипа Мандельштама // Изв. АН СССР. Сер. Литература и язык. – М., 1991. Т. 50. № 3.
(обратно)151
Струве Н. А. Осип Мандельштам. – Томск, 1992. С. 151–152.
(обратно)152
Гутнов А. Мир архитектуры (Язык архитектуры). – М., 1985. С. 36–37.
(обратно)153
Понятие «хронотоп русской культуры» ввел И. В. Кондаков (Кондаков И. В. Введение в историю русской культуры. – М., 1997. С.51), который объясняет его как семантическое пространство, где «мыслит, чувствует и действует человек как субъект и объект культуры…, складываются определенные представления о природе и общественных отношениях, о государстве и праве, об искусстве и науке, о мифологии и религии, о смысле жизни и направленности истории».
(обратно)154
Топоров В. Н. Петербург и «Петербургский текст» русской литературы (Введение в тему) // Топоров В. Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ: Исследования в области мифоэпического. – М., 1995. С. 259.
(обратно)155
Эта полемика отражена в немалой степени в очерках Н. В. Гоголя «Петербургские записки 1836 года», А. И. Герцена «Москва и Петербург» (1842 г.) и В. Г. Белинского («Петербург и Москва», 1845).
(обратно)156
См. книги А. Мертвого «Москва и Петербург» (1908), В. Шульгина «Три столицы» (1922), Е. Замятина «Москва – Петербург» (1933), М. Уварова «Петербург и Москва» (1993).
(обратно)157
Пушкин поселил свою героиню в старинном доме XVIII в. рядом с Юсуповским дворцом, в котором он жил в детстве.
(обратно)158
В решении этой задачи учителю-словеснику может помочь программа факультативного курса для 10–11 классов «Москва в русской литературе» (140 ч.) А. И. Княжицкого // Программы общеобразовательных учебных заведений в Российской Федерации. Литература / Сост. ТА. Калганова. – M., 1994. С. 8–93.
(обратно)159
Петербургские страницы на уроках литературы / Сост. Д. Н. Мурин. – СПб., 1997.
(обратно)160
См.: Шацев В. Н. Путешествие с книгой Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» // Шацев В. Н. Страницы русской классики в школьном изучении (10 кл.): Методические рекомендации. – Л., 1990. С. 6–14.
(обратно)161
См.: Шолпо И. Л. Архитектурные образы на уроках по роману Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» // Петербургские страницы на уроках литературы. – СПб., 1997. С. 78–91.
(обратно)162
Петербург в русской литературе: Хрестоматия: (Факультативный курс). 9-11 кл. / Сост. М. Г. Качурин, Д. Н. Мурин, Г. А. Кудырская. – М., 1994.
(обратно)163
Кущевский И. Маленькие рассказы, очерки, картинки и легкие наброски. – СПб., 1871. Т. 2. С. 71.
(обратно)164
Лотман ЮМ. Символика Петербурга и проблема семиотики города // Семиотика города и городской культуры: Петербург; Тарту, 1984. С. 34.
(обратно)165
Гордин А. М., Гордин MA. Пушкинский век: Панорама столичной жизни. – СПб., 1995. С. 17.
(обратно)166
Каган М. С. Град Петров в истории русской культуры. – СПб., 1996. С. 258.
(обратно)167
См.: Глазычев В. Л. Поэтика городской среды // Эстетическая выразительность города. – М., 1986. С. 136.
(обратно)168
Чуковский К. И. Ленинград // Великий город. – Л., 1942. С. 43–44.
(обратно)169
См.: Маранцман В. Г. Художественная литература. – М., 1991. С. 99–104.
(обратно)170
См.: Лихачев Д. С. Поэзия садов и парков. К семантике садово-парковых стилей. Сад как текст. – СПб., 1991. С. 215–270.
(обратно)171
Канунова Ф. З. Вопросы мировоззрения и эстетики В. А. Жуковского. – Томск, 1990. С. 12.
(обратно)172
Иезуитова Р. В. Жуковский в Петербурге. – Л., 1976.
(обратно)173
Янушкевич А. С. Этапы и проблемы творческой эволюции В. А. Жуковского. – Томск, 1985. С. 132.
(обратно)174
Жуковский В. А. Стихотворения. – Л., 1956. С. 790. (Примеч. В. А. Жуковского.)
(обратно)175
Для подготовки к уроку использовалась следующие книги: Кафанова О. Б. Жорж Санд и русская литература XIX века (Мифы и реальность). 1830–1860 гг. – Томск, 1998. С. 351–372; Пинаев М. Т. Роман Н. Г. Чернышевского «Что делать?»: Комментарий. – М., 1988.
(обратно)176
См.: Кафанова О. Б., Доманский В. А. Жорж Санд в нравственно-эстетической концепции Н. Г. Чернышевского // Проблемы метода и жанра/ Отв. ред. Ф. З. Канунова. – Томск, 1997. Вып. 19. С. 129.
(обратно)177
В. И. Ленин о литературе и искусстве. – М., 1976. С. 647–648.
(обратно)178
Шестидесятые годы: Материалы по истории литературы и общественному движению. – М.; Л., 1940. С. 404.
(обратно)179
Лесков КС. Собрание сочинений: В 11 т. – М., 1957. Т. 5. С. 270–271.
(обратно)180
Писарев ДМ. Сочинения: В 4 т. – М., 1956. Т. 4. С. 39.
(обратно)181
Фет А. А. Литературное наследство. – М., 1936. Т. 25–26. С. 532.
(обратно)182
Луначарский А. В. Собрание сочинений: В 8 т. – М., 1963. Т. 1. С. 274.
(обратно)183
Там же. С. 274.
(обратно)184
Поэма была написана автором в 1886 г. В 1895 г. переделана в поэтическую драму. Издания: М.: Польза, 1908; М., Универсальная библиотека, 1913 (Пер. В. Спасской).
(обратно)185
Андреев Л. Н. Рассказы. – М., 1977. С. 279. (Дальнейшие ссылки даются в тексте с указанием страницы.)
(обратно)186
Сравним: «Народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал: осанна Сыну Давидову! Благословен Грядущий во имя Господне!» (Гл. XI, ст. 9.)
(обратно)187
Нередко встречается в литературе и другой вариант написания имени и фамилии: Тур Хедберг.
(обратно)188
Домбровский Ю. Факультет ненужных вещей. – М., 1989. С. 265. (Дальнейшие ссылки на это издание даются с указанием страницы в тексте.)
(обратно)189
Золотусский И. Палачи и герои // Домбровский Ю. Факультет ненужных вещей. – М., 1989. С. 7.
(обратно)190
Айтматов Ч. Плаха: Роман. – М., 1987. С. 153. (В дальнейшем ссылки приводятся по этому изданию с указанием страницы в тексте.)
(обратно)191
Для подготовки к уроку учащимся заранее могут быть предложены следующие тексты стихотворений Н. Клюева: «Я поведаю миру былину…», «Обидин плач», «В златотканные дни сентября…», «Я пришел к тебе, сыр-дремучий бор…», «Я дома. Хмарой-тишиной…», «Коврига свежа и духмяна»; С. Есенина: «Хороша была Танюша, краше не было в селе…», «Выткался над озером алый свет зари…», «В хате», «Гой ты, Русь, моя родная…», «О красном вечере задумалась дорога…»
(обратно)192
В подготовке к уроку словесник и его учащиеся могут воспользоваться книгой Е. И. Марковой «Творчество Николая Клюева в контексте северно-русского словесного искусства». – Петрозаводск, 1997. В ней автор рассматривает поэтическое наследие Николая Клюева и его творческое поведение как единый текст, отраженный и порожденный другими текстами – вербальными и невербальными: книжными, фольклорно-мифологическими, иконными, живописными, текстами зодчества, шитья и народных промыслов. Этнопоэтический подход позволил автору осмыслить поэтический феномен Клюева, механизм создания текстов в тексте в лирике поэта, архетипической модели «жизненного цикла» Матери-Руси, специфику образносимволического ряда в жанровой структуре поэм «Погорелыцина» и «Песнь о Великой Матери».
(обратно)193
«Все от дерева – вот религия мысли нашего народа, но празднество этой канвы и было и будет понятно весьма немногим» (Есенин С. А. Ключи Марии. – III, 138).
(обратно)194
Икона Божьей Матери, привезенная из Константинополя в Киев, в честь которой на Подоле была построена церковь с таким же названием.
(обратно)195
См.: Антонович МЛ. Асмодей нашего времени // Современник. 1862. № 3.
(обратно)196
См.: Катков М. Н. Роман Тургенева и его критики // Русский вестник. 1862. № 5: Катков М. Н. О нашем нигилизме по поводу романа Тургенева // Русский вестник. 1862. № 7.
(обратно)197
См.: Писарев Д. И. Базаров // Русское слово. 1862. № 3.
(обратно)198
Катков М. Н. О нашем нигилизме по поводу романа Тургенева // Русский вестник. 1862. № 7. С. 408.
(обратно)199
Писарев Д. И. Сочинения: В 4 т. – М., 1955. Т. 2. С. 21. (В дальнейшем ссылки даются в тексте с указанием тома и страницы.)
(обратно)200
См.: Батюто А. И. Тургенев-романист. – Л., 1972; Маркович В. М. И. С. Тургенев и русский реалистический роман XIX века (30-50-е годы). – Л., 1982.
(обратно)201
Идею контекстного подхода как основного метода гуманитарного мышления выдвинул в свое время М. Бахтин, который рассматривал понимание текста и его элементов как «соотнесение с другими текстами и переосмысление в новом контексте (в своем, современном, в будущем)». См.: Бахтин ММ. Эстетика словесного творчества. – М., 1979. С. 364.
(обратно)202
Само понятие восходит к опубликованной в 1799 году переписке немецких философов Ф. Якоби и И. Фихте и к названию романа «Нигилисты» Карла Гуцкова (1853).
(обратно)203
Тирген П. К проблеме нигилизма в романе И. С. Тургенева «Отцы и дети» // Русская литература. 1993. № 1. С. 37–47.
(обратно)204
Лебедев Ю. В. Роман И. С. Тургенева «Отцы и дети». – М., 1982. С. 66.
(обратно)205
Жилякова Э. М. Тургенев и Гораций // Вопросы индоевропейского словообразования и классической филологии. – Томск, 1997. С. 154.
(обратно)206
Лебедев Ю. В. Роман И. С. Тургенева «Отцы и дети». – М., 1982. С. 119.
(обратно)207
Житкова Э. М. Тургенев и Гораций. С. 159.
(обратно)208
См.: Недзвецкий В. А., Пустовойт П. Г., Полтавец Е. Ю. И. С. Тургенев. «Записки охотника», «Ася» и другие повести 50-х годов, «Отцы и дети». – М., 1998. С. 83–104. (Гл. Сфинкс. Рыцарь. Талисман.)
(обратно)209
Недзвецкий В. А. Историческая закономерность структуры русского романа 50-х гг. 19 века // Методология литературоведческих исследований. Статьи о литературе (И. С. Тургенев, И. А. Гончаров). – Париж, 1982. С. 94.
(обратно)210
Писарев Д. И. Базаров // Русская литературная критика 1860-х гг. – М., 1984. С. 255.
(обратно)
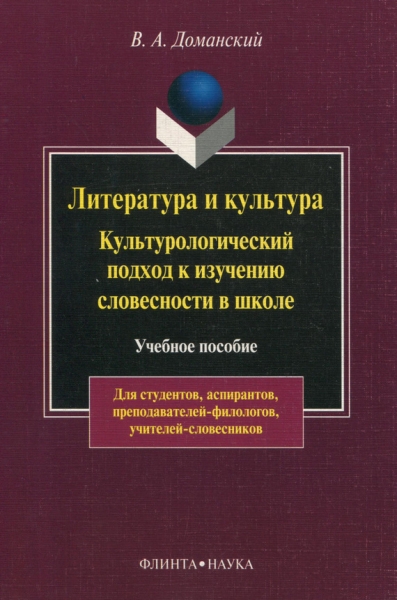

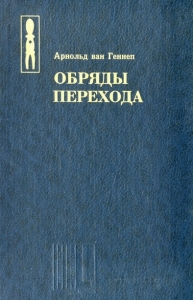

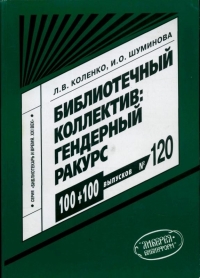

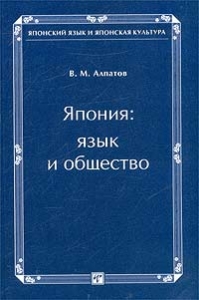

Комментарии к книге «Литература и культура», Валерий Анатольевич Доманский
Всего 0 комментариев