Освальд Бумке
Культура и вырождение
ПРЕДИСЛОВИЯ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ
I
II
ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА
ВВЕДЕНИЕ
СУЩНОСТЬ ВЫРОЖДЕНИЯ
НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ И ВЫРОЖДЕНИЕ
НЕРВНОЕ ВЫРОЖДЕНИЕ В СМЫСЛЕ MOREL'я
ЦИВИЛИЗАЦИЯ И ОТБОР
КУЛЬТУРА И ВЫРОЖДЕНИЕ
ПРЕДИСЛОВИЯ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ
I
О. Бумке—не историк и не социолог. Он — врач психиатр. Но его книга касается вопроса пограничного, одинаково важного для обеих областей знания и для медицины и для социологии. Этот вопрос можно кратко формулировать так: имеются все достаточные основания говорить о вырождении в применении к народам, имеются все основания видеть в этом вырождении народа причину гибели той или иной культуры.
Попытки биологов и врачей давать освещение социальных вопросов с точки зрения своей науки далеко не всегда содействуют действительному уяснению проблем социологии. Биологи зачастую склонны игнорировать специфический характер социальной среды и социальной закономерности. Известны весьма многочисленные случаи, когда эта особенность свойственного биологам подхода к общественным явлениям превращала их «научные» труды в вульгарные апологии господствующего буржуазного строя. Само собой разумеется, что исходный толчок мысли в этом направлении давала подобным теоретикам как раз (теоретически) социальная среда. Однако, растворение «социального» в «биологическом» давало в их руки ряд весьма легких quasi-научных приемов для опровержения «противоестественного» социализма и в защиту «естественного» буржуазного порядка.
О. Бумке совсем не социалист. Он считает существование пролетариата, «быть может», необходимым. Он не свободен от националистических симпатий. Мы находим у него, правда, очень сдержанный и мимоходом брошенный намек на то, что при Бисмарке разгром Германии был бы невозможен. Любопытно, что он считает немцев народом, который отличается недостаточным развитием национального чувства. Вообще, один из существенных мотивов его книги—мотив патриотический: стремление снять
Бумке не признает вырождения, прогрессирующего с внутренней биологической необходимостью. Он квалифицирует такое понимание вырождения как мистическое. В пользу своего отрицательного отношения к теории, стремящейся построить схему развития человеческого общества по образцу развития индивидуума и считающей вырождение явлением, аналогичным старости, и подобно старости неизбежным, Бумке приводит целый ряд аргументов, особенно важных именно потому, что эти аргументы формулированы биологом. Тем самым Бумке расчищает пути для социологического подхода к вопросу о вырождении. Именно такой подход он и считает совершенно необходимым. Всякая аномалия должна быть поставлена в связь с социальной средой. И повышенная нервная чувствительность, и преступность—явления социально Очень интересны отдельные факты, подобранные Бумке для иллюстрации этого положения. Его общий вывод гласит:
Попутно Бумке затрагивает ряд других проблем. Небезынтересны его критические соображения по поводу расовой теории XYIII в. Небезынтересны доводы в защиту социальной гигиены. Книга Бумке рассеивает ряд «научных» предрассудков, затрудняющих правильный подход к явлениям социальной жизни. Книга Бумке правильно намечает те социальные язвы, в которых следует искать первооснову роста числа психических и нервных аномалий. Наконец, она, не будучи отнюдь социалистической, пропитана в высокой степени социальным и научным оптимизмом, в наши дни кризиса буржуазного мира далеко не обычным у буржуазного ученого. Все это позволяет рекомендовать ее вниманию русского читателя.
Б. Волгин.
II
Бумке, работа которого предлагается вниманию читателя, является одним из крупных немецких психиатров. В настоящее время он занимает кафедру в Мюнхенском Университете, сменив
Настоящая книжка является вторым изданием работы автора, первое издание которой, вышедшее в 1911 г., называлось иначе, именно: «О нервном вырождении». Второе издание, уже под новым названием «Культура и вырождение»,
Работа Бумке, однако, имеет значение не только для одних немцев. Вопрос о взаимоотношении между культурой и вырождением сохраняет свой жгучий интерес для любой страны, если только он освещен научно и всесторонне и если он имеет в виду не сухую схему наблюдаемых фактов, а практические, реальные задачи.
Обоим этим условиям книжка Бумке удовлетворяет вполне. В такой сложной и в то же время острой проблеме, как проблема вырождения, невозможно, конечно, подписаться под всем тем, что говорит автор, но все же можно сказать, что многие вещи трактуются им не только вполне отчетливо, не только вполне правильно, но и интересно, а подчас и оригинально. Он достаточно осторожен в своих выводах, в нем нет столь частого самодовольства профессионала-специалиста, который не только все знает, но и все может.
Нельзя не отметить здесь же основные положения, которые Бумке высказывает с особенным сочувствием. Проблема вырождения сводится к проблеме продовольственной и жилищной. Заведомо дегенеративные явления сводятся к внешним социальным причинам. Плохо понятое учение о наследственности сделало из вырождения какой-то фатум, которому будто бы должен подпасть каждый народ; на самом деле вырождение есть опасный враг, но враг видимый, заметный, а потому и уязвимый.
В бодрости и в здоровом оптимизме, с которым все это говорится,
П. Ганнушкин.
ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА
Мировая война выдвинула в вопросе о вырождении такие проблемы, о которых едва ли кто думал, когда шла работа над первым изданием этой книги. В то же время она дала ответ на некоторые вопросы, которые тогда пришлось оставить открытыми. Потребовались поэтому существенные изменения, коснувшиеся, главным образом, последнего отдела книги.
Несмотря на это, я старался сохранить по возможности первоначальный характер и объем этой небольшой работы. В этих видах несколько большей разработке подверглись только общие стороны вопроса в противовес сторонам чисто психиатрическим.
Освальд Бумке.
ВВЕДЕНИЕ
Вопрос о вырождении очень стар. Давно было подмечено, что народы и отдельные семьи появляются и исчезают, идут в гору и приходят в упадок, и в связи с этими наблюдениями стали возникать вопросы о законах этой участи; люди, бывшие (или считавшие себя) свидетелями упадка, винили в нем обычно не только дурные учреждения, но бранили, кроме того, своих современников за то, что они уступали своим предкам, ценность которых была— действительно или только, как им казалось,—совсем другая. Временами эти жалобы и призывы о помощи начинают звучать сильнее (раздаются они и в наши дни), однако, такой эпохи, которая осталась бы совершенно свободной от этик забот, у культурных народов, надо полагать, никогда не существовало.
В случаях же действительной гибели какого-либо народа а равно и почти всегда, когда в определенные периоды начинало живее сказываться чувство страха перед упадком, во всех этих случаях всегда заходила речь также и о нервном вырождении, о болезнях, преступлениях и упадке нравов. Возможно, что жалобы эти были часто неосновательны и являлись просто выражением душевной слабости и раздражимости, но в этом случае жертвами дегенерации были все-таки по крайней мере лица, их высказывавшие. Говорят иногда, что эпохи подлинного вырождения заблуждались относительно своего состояния или даже считали себя стоящими на высоте; это едва ли верно целиком, но зато не подлежит сомнению, что почти все, погубленные судьбой народы, были объявлены потом болезненно ослабленными и нравственно развращенными.
Несмотря на это, проблема вырождения всплывает в психиатрии довольно поздно. Она развивается здесь в качестве ветви учения о наследственности, господствовавшего над этиологическими взглядами врачей-психиатров с половины прошлого столетия, т. — е. по-видимому, независимо от всяких социальных и исторических соображений, независимо также и от страха перед гибелью народа или, как теперь говорят, расы. Независимость эта, однако, только кажущаяся. Творческие работы Morel’я приходятся как раз на ту эпоху, когда научная психиатрия, наряду с подлинными душевными расстройствами, начала изучать формы и проявления психических уклонений, рассматривавшиеся до тех пор исключительно с этической или самое большее с социальной точки зрения. Самоубийства, преступления, пороки, всякого рода нравственные и интеллектуальные дефекты и прежде всегда считались признаками упадка, от прежних эпох ускользало только сродство этих явлений с душевными болезнями. Включив и их в среду своего исследования, психиатрии пришлось взяться за вопрос о вырождении и принять участие в его разрешении.
Принять участие. Ибо вопрос этот нельзя трактовать односторонне, с чисто психиатрической точки зрения. Попытки эти делались, но, может быть, именно потому-то и остановилось так быстро в своем развитии то научное движение, основоположником которого был Morel.
Да и успехами, начавшимися и наблюдаемыми нами в последнее время, мы обязаны расширению кругозора психиатрических интересов. В наши же дни проблему эту все время выносит на поверхность и не дает ей исчезать из наших взоров социальное течение нашей эпохи.
К этому присоединяется еще следующее. Вопрос о том, находится ли какой — либо народ (или семья) на высоте, идет ли он в гору, или клонится к упадку, был уже испокон веков вопросом политическим или социальным. Но когда он возник также и перед врачами (почти в той же, лишь несколько менее широкой форме), то все естествознание уже стояло под знаком эволюционной теории. Таким образом, учение о вырождении связано со своих первых зачатков с идеей развития, и центр тяжести в его трактовке переместился за последние десятилетия в область антропологии вовсе не случайно. Проблемы дегенерации и расы связаны в настоящее время неразрывно.
Отсюда сразу вытекает также и тесная связь с историей. Вырождение может быть понимаемо лишь как процесс, как эволюция, значит, где оно относится к человеку лишь исторически. Мы теперь еще не знаем даже того, увеличивается ли в настоящее время число душевных заболеваний, или нет, и один этот факт должен научить нас, что вопрос о вырождении не может быть решен на материале одного единственного, современного нам поколения. Только после наблюдения целого ряда сменяющих друг друга поколений, недоступного единичному наблюдателю, и лишь после сравнения этих поколений может выясниться то направление, по которому идет кривая их судьбы.
Психиатрии поэтому здесь всегда будет нужна помощь истории; психиатрия должна будет выяснить (и притом исключительно с точки зрения своих собственных ближайших задач), существовало ли в какие либо исторические эпохи, например, в эпохи политического упадка, прогрессирующее ухудшение душевного здоровья!). Лишь таким путем она избежит опасности и не примет случайных моментов эволюции за закономерные, и только при этом условии она получит возможность поставить прогноз современному поколению.
Таким образом, здесь соприкасаются при решении одной задачи две области знания, обычно резко разделенные. Историки, экономисты, антропологи и врачи объединяются в общей работе или должны были бы сделать это. Выло бы неправильно сказать, что руководство было и осталось за медициной, хотя могло бы показаться, что это так, потому что популярная литература, трактующая во всевозможных формах и всегда с медицинских точек зрения о вырождении, действительно огромна; однако, если быть честным, то придется согласиться, что научные достижения (за время после Morel’я) не оправдали своих претензий. Нет слов в области клиники, в изучении заболеваний, называемых в настоящее время дегенеративными состояниями, кое-что достигнуто; основные же вопросы (что такое вырождение и существует ли вообще нечто, называемое этим именем) ставились отнюдь не часто, еще реже за них. принимались с полным сознанием дела, и, конечно, нечего говорить о том, что они остались нерешенными.
Однако их придется решить, если мы хотим знать, не вырождаемся ли мы сами, не гибнем ли мы вследствие вырождения.
Мы должны оставить открытым, сможет ли когда-либо история извлечь пользу из психиатрических исследований подобного рода. Необходимым условием для этого было бы доказательство, что вырождение (в психиатрическом смысле) может иметь причинное значение в процессе гибели народов. Если же оно только следствие упадка, только симптом надвигающейся гибели, то историк, может быть, удовольствуется тем, что констатирует его наличность.
СУЩНОСТЬ ВЫРОЖДЕНИЯ
Решение вопроса о вырождении, быть может, очень просто Быть может, никакого вырождения вовсе и не существует. Учение Morel’я и его последователей вызвало очень веские возражения, и Rieger сказал даже, что слово вырождение — декламационная фраза Есть и другие мнения, считающие, что это один из самых неотложных вопросов нашего времени, а, по словам Kraepelin'a, обсуждение этого вопроса в наше время не должно было бы сходить с повестки дня. Это различие во взглядах может основываться на различной оценке фактов, и разница в воззрениях Kraepelin'a и Rieger'a сводится, действительно, прежде всего к чисто фактическим вопросам, вроде, например, вопроса о том, увеличивается ли число душевных заболеваний, или нет. Несмотря на это, и здесь, как и всегда, когда никак не удается добиться соглашения, мы должны будем спросить себя, прочно ли установлен смысл слова вырождение, не возможны ли здесь какие-нибудь недоразумения. И, действительно, достаточно сравнить между собою несколько работ, как мы увидим, что здесь имеются совершенно исключительные трудности. Главная из них в том, что оспаривается самое существование явлений вырождения Таким образом, в данном случае наша задача вовсе не в том, чтобы найти сжатую, исчерпывающую формулу для ряда признанных, установленных фактов, и даже и не в том, чтобы выделить общее в нескольких сходных рядах подобных фактов. Нет. самые факты подлежат еще установке, и мы должны даже считаться с возможностью, что просто не существует ничего такого, что могло бы по справедливости быть названо вырождением.
Что значит вырождение? Когда Morel начал писать о дегенерациях, то слово это уже давным-давно существовало и употреблялось (и раньше, и в дальнейшем) самым различным образом и по самым различным поводам «Наука — поздно рождающееся дитя»,— говорит Moebius. «Понятия, которыми мы оперируем, созданы по большей части не для научных целей, а образовались в обыденной жизни». В обыденной же жизни эти слова — «вырождение» и «выродок»—равносильны моральной оценке, моральному суждению Когда peфenia называют выродком, то этим хотят сказать, что это крайне скверный ребенок, в приложении к взрослым это словечко значит преступник и негодяй, а под дегенеративным внешним обликом подразумевается облик опустившегося человека Не подлежит сомнению, что медицина не хочет вкладывать такого смысла в это слово, так как она не имеет ничего общего с моральными суждениями и оценками. Но в конце концов и мы 1) ведь тоже говорим о дегенеративном характере истеричных, о дегенеративном добавке к клинической картине типичного психоза, о дегенеративных личностях. Говоря так, не подразумеваем ли мы при этом, главным образом, неприятный характер многих истерических субъектов, например, их неправдивость и эгоизм или особый насмешливо-сутяжный склад некоторых маниакальных пациентов, бесцеремонное преувеличенное причитание женщин-меланхоличек определенного типа. И мы не затруднились бы доказать по историям болезни, что впечатление дегенеративности складывается нередко исключительно на основании подмеченных нравственных недостатков.
Само собой разумеется, это было бы допустимо в том случае, если бы определенные этические дефекты могли считаться надежными признаками вырождения. Возможно, что это так; вопрос о том, доказано ли это, мы пока вправе оставить открытым. В общем несомненно, что проявлениями душевного расстройства зрениями. В данном же случае дело осложняется еще и тем, что эти рассуждения не имеют никакой прочной опоры в фактах и, казалось бы, лишены поэтому всякого практического значения. И все-таки без них нельзя обойтись, потому что каждая психиатрическая работа о вырождении, не берущая за исходную точку вполне определенное понятие, будет неизбежно грешить отсутствием критики «Декламации», против которых справедливо ополчается Rieger, были бы невозможны, если бы всякое выступление на тему о дегенерации начиналось с замечания о том, что следует разуметь под вырождением могут быть и нравственные недостатки, в той же мере, как и интеллектуальные. Но связаны ли они с вырождением более тесно, чем другие болезненные симптомы, это остается открытым. Если это так, то при оценке симптома все-таки приходится проявлять особенную осторожность, чтобы не поддаться влиянию некоторых общечеловеческих мотивов. Слабоумный сын нормальных родителей и для психиатра только слабоумный; и было бы неправильно называть его дегенерантом только потому, что он морально дефективен.
Итак, будем считать установленным, что слово «вырождение» не должно означать в психиатрии никакого морального осуждения, и это независимо от ответа на вопрос, поставленный выше. Но этим еще не сказано, что наше понятие свободно от всякого оценочного момента вообще. Момент этот содержится уже в самом слове изменение вида (Abart) и может быть таким же ценным, как и вид, и даже более ценным. Но то, что представляется выродившимся, будет всегда хуже по сравнению с видом. Всякое определение, которое не выразило бы этого искажало бы ясный смысл слова.
Здесь возникает возражение, направленное чуть ли не против всякой медицинской трактовки проблемы вырождения. Оно высказывалось по поводу теорий Ломброзо о врожденном преступнике и о ненормальности гения, по поводу созданных Moebius'oM патографий и многого другого, относящегося к пограничной области, связывающей психиатрию и гуманитарные науки. Можно вполне согласиться с противниками этих научных направлений, что в отдельных случаях были допущены очень неудачные крайности. Но допустима ли и возможна ли медицинская трактовка этих вопросов вообще, это зависит в конечном счете не от вкуса и такта, а от определения понятия «вырождение». Известна злосчастная попытка Max Nordau заклеймить именем симптомов вырождения (и притом вырождения, понимаемого в чисто врачебном смысле) все художественные произведения современной ему эпохи, которым он не симпатизировал. В настоящее время мы все сходимся в том, что следует избегать подобных lapsus'oB, но из этого еще не следует, что все написанные до сих пор работы на тему о вырождении, которые выходили за пределы чисто медицинской области, были бы ошибочны по самому своему принципу.
Философы считают, что естествознание не совместно с оценочными суждениями («Werturteile»); оценка — дело наук гуманитарных. «Для естествознания нет вообще никаких «высших» или «низших» организмов, если этими словами хотят сказать, что между ними есть различие по ценности»,—говорит Heinrich Rickеrt. Это, конечно, верно, но этим нисколько не затрагивается право медицины проводить различие между людьми здоровыми в дегенерированными. Ведь, приводя это различие, она имеет в виду ценности биологические, а не нравственные или эстетические. Покажем это на примере, взятом из области, лежащей на границе между психиатрией и этикой — вывод о взаимоотношениях медицины и эстетики получится у нас тогда сам собой. Возьмем слабоумного (следовательно, несомненно, патологического) преступника и назовем его на миг — все равно, правильно ли это, или неправильно — дегенерированным. С точки зрения этики он будет менее ценным, чем человек здоровый, дельный и социально-полезный. Врачу же до такого взгляда нет дела, для него подобный преступник только больной. Но все больные, взятые вместе, рассматриваемые под одним общим углом зрения, образуют некую группу, которую приходится поставить ниже группы людей здоровых. Говорить «рядом» вместо «ниже» было бы софистично в фальшиво, но критерий этого различения не моральный, а биологический. С этой точки зрения здоровье целесообразно, болезни же нецелесообразны, и конституция дегенерированного человека оказывается нецелесообразной для него самого или для общества, или даже и в том, и другом отношении.
Если этот взгляд правилен и действительно естественнонаучен, то он применим не только к человеку, но и ко всей биологии в целом, в частности, также и ко всем животным. Правда, здесь имеется, по-видимому, еще одно затруднение. Естествознание не знает целей, оно рассматривает предметы исключительно с точки зрения причинности. Если из двух зоологических видов один сильнее и плодовитее другого, то он таков вовсе не для того, чтобы вытеснять второй, но именно, потому что он более силен, он его и вытесняет. И если вид-победитель кажется нам более целесообразным, то это основывается на иллюзии, на смешении причины с действием. Если продумать эту мысль до конца, то фактически все оказывается сведенным к одной ступени; здоровье и болезнь, норма и аномалия, вид, вариация и дегенерация,—ни одно из этих явлений не представляется более целесообразным, чем остальные. И это вовсе не пустые спекулятивные рассуждения. Сам Virchow считал патологическим процессом каждый случай эволюции в смысле Darwin'а, т. — е. всякое уклонение от типа родительского организма, а психиатр Arndt называл вырождением каждую вариацию. При таких условиях устраняется, конечно, всякая оценка, и, с точки зрения естествоиспытателя, гений, даже если он совершенно свободен от патологических черт, оказывается на одной ступени с идиотом и преступником.
Это могло бы быть верно лишь в том случае, если бы существовали только видоизменения («Abarten»). Если мы попробуем отвлечься от явлений вырождения, то этот взгляд невозможен уже в силу факта существования болезней. Цели индивидуума требуют, чтобы он был здоровым, общество должно желать того же для своих сочленов. Но если это справедливо относительно человека, то оно применимо в той же мере и к животному, и к растительному царству. Не только у человека, но и у каждого живого существа есть по меньшей мере одна цель: самосохранение и успех в борьбе за существование. А если так, то определение J Kraepelin'a («термин вырождение означает появление таких передающихся по наследству качеств, которые затрудняют или делают невозможным достижение основных жизненных целей») приложимо к животным, как и к людям. Все, что мы сказали выше о преступном человеке, можно приложить и к животному царству. Животное, неспособное размножаться или обладающее врожденными свойствами, делающими его беззащитным перед врагами, представляется нецелесообразно организованным. И типичным примером вырождения всегда будет служить тот вид голубей, клюв которых, благодаря непрерывной доместикации, стал настолько слабым, что они уже не в силах пробить скорлупу яйца без помощи человека.
Цели индивидуума и общества меняются и не всегда совпадают друг с другом, но это не меняет сути деда. Непойманный преступник может иногда считаться очень целесообразно организованным для своего личного блага, но обществу он вреден. Несколько иначе обстоит дело с проблемой вырождения, вызывающей в последнее время много разговоров, с так называемым «искоренением» лучших («die Ausrottung der Besten»). Самый угрожающий для вида симптом — прогрессирующее бесплодие — наблюдается закономерно как раз в среде духовных вождей народа, носителей его культуры. Значит и их мы будем вправе назвать дегенерированными, если только сделаем оговорку, что дегенерация может быть частичной и очень часто бывает таковою.
В результате высказанных нами соображений мы полагали бы вместе с другими авторами, что одним из существенных признаков дегенерации является неблагоприятное или, лучше сказать, нецелесообразное (для индивидуума или для всего целого) отклонение от типа.
Само собою разумеется, что на практике приходится требовать известную степень интенсивности этого уклонения; разумеется также, что этот признак может быть и не единственным. Если бы он был таковым, то понятие вырождения охватывало бы с самого начала все болезни, какие только можно себе представить и, пожалуй, еще многое другое. Не всякая нецелесообразность есть болезнь, так что если духовный уровень народа вместе с его культурными достижениями становится от поколения к поколению все ниже, то в основе этого вовсе не обязательно должно лежать что-либо патологическое. Подобные вещи мыслимы и в соматической сфере, и во всех таких случаях понятие вырождения могло бы быть полезно именно при условии, если бы оно было индифферентно в этом отношении и не означало бы, как таковое, ни здоровья, ни болезни. Но при такой широкой концепции, очевидно, пришлось бы выделить из обширной области дегенерации другую, меньшую область—область врачебную. При этом возможен, конечно, лишь один критерий: тот, при помощи которого различают здоровье и болезнь. Мы видим, что уже Morel писал, что «дегенерация и болезненное уклонение от нормального человеческого типа это одно и то же…».
С тех пор нередко пытались рассматривать явления нервного вырождения, как нечто промежуточное между здоровьем и болезнью. Нам это представляется невозможным. Врачей во всяком случае интересуют всегда только патологически обусловленные состояния, даже если речь идет о самоубийствах или преступлениях. Врач лишь не вправе упускать при этом из вида разницы между болезнью, как процессом и страданием, как состоянием (см. Aschoff). Дегенерация в медицинском смысле есть следствие болезни, но сама она, как таковая, может уже и не составлять болезни. Преступник, являющийся дегенератом не только с точки зрения этики, но и с точки зрения психиатрии, конечно, болен совсем по другому, чем человек, у которого лихорадка; его жизнь определяется последствиями очень давнего заболевания зачатков («Keime»), из которых он развился. Так, например, утверждают, что подобная дегенерация вызывается алкоголизмом родителей (факты подлежат, как уже сказано, проверке в дальнейшем). Если эта причина неполноценности может считаться доказанной, вероятной или даже только мыслимой, то человек, обнаруживающий такую неполноценность,—объект медицинского анализа, в противном же случае он не является таковым. Эта принципиальная оценка вопроса нисколько не затрагивается тем, что самые понятия болезни (pathos) и страдания (tanathos) с трудом поддаются определению и что явления здоровья и болезни связаны постепенными переходами.
Эти соображения кажутся почти само собою разумеющимися, однако, их часто упускают из вида; но гораздо важнее условиться относительно другого или вернее второго признака вырождения, отмечаемого, как и первый, уже самым словом. Объектом дегенерации должен быть вид. Это понятно и могло бы, по смыслу слова, означать просто следующее: продукты дегенерации вида суть нечто более дурное, чем сам вид. Но в таком случае дегенерацией была бы всякая болезнь и первый признак—уклонение типа—уже исчерпывал бы собою содержание понятия. Если же мы хотим придать ему более узкий смысл—а это безусловно необходимо при всяком практическом применении—то нам придется вложить в это многозначащее слово другой смысл: дегенерация должна простираться на вид. Человек, страдающий легочной чахоткой—болен, человек же безрукий—калека, но само по себе и то, и другое безразлично для вида; говорить же про таких людей, что они дегенеранты (не довольствуясь термином: больной, отличающийся от нормы), значило бы бросаться словами.
С этого пункта начинаются настоящие трудности, и для многих, шедших до сих пор рука об руку, с этого момента начинаются разногласия. Может быть, легче удастся добиться соглашения, если проследить все эти различные пути до их общего первоначального источника, если обратиться к истории развития этого вопроса.
Как понимал вырождение Morel?
Une dйviation maladive d'un type primitif. Cette dйviation, si simple qu'on la suppose a son origine, renferme nйanmoins des йlйments de transmissibilitй d'une telle nature, que celui qui en porte le germe devient de plus en plus incapable de remplir sa fonction dans l'humanitй, et que le progrиs intellectuel dйjа enrayй dans sa personne se trouve menacй dans celle de ses descendants.
(«Это—болезненное уклонение от первоначального типа. Допустим, что вначале это уклонение чрезвычайно просто, и тем не менее в нем заключены элементы, способные передаваться дальше и отличающиеся тем свойством, что человек, носящий в себе такой зачаток, становится все более и более неспособным выполнять свою роль в обществе и что умственное развитие, задержанное уже и у него, ставится под еще большую угрозу у его потомства»).
Ухудшение нервного здоровья, прогрессирующее от поколения к поколению и обусловленное наследственными влияниями,—вот, следовательно, первичное ядро психиатрического учения о вырождении. Morel имел ввиду процесс, он имел в виду патологическую эволюцию, поддающуюся наблюдению лишь на нескольких, сменяющих друг друга, поколениях, и искал причину этого явления в наследственности.
Почти все позднейшие авторы отошли от Morel'я, аналогичная концепция проблемы остается в наше время лишь в антропологии. Направления же, по которым пошли главные пути, были предсказаны уже самим Morel’ем. Теперь мы знаем, что в его учении сливались в одно целое две проблемы, вовсе не необходимо связанные друг с другом. Наследственные болезни могут и не вызывать прогрессирующей дегенерации, а постепенное ухудшение вида мыслимо и без наследственности. Значительная часть примеров дегенерации, приводимых самим Morel’ем,—например, кретинизм и прогрессивный паралич,—не имеют ни малейшего отношения к наследственности, и это даже и в том случае, если называть (подобно Morel’ю) наследственными те соотношения, которые существуют между алкоголизмом родителей и неполноценностью детей.
Таким образом, в дальнейшем одни авторы опустили одну часть первоначального определения понятия, другие другую, и неудивительно, что это порядком затруднило взаимное понимание.
В медицине, особенно в психиатрии, стали на первых порах все больше и больше отодвигать на задний план процесс вырождения, процесс дегенерации и подчеркивать зато все сильнее наследственность. Прогрессирующее ухудшение, в лучшем случае, принималось в виде само собою разумеющейся предпосылки, однако, иногда эта идея исчезала совершенно. Зато тем резче выступает понятие наследственной передачи, и в конце концов патологическая наследственность и вырождение совпадают друг с другом.
Иное дело политическая экономия: соответственно своим задачам она обращала внимание только на уровень, на котором держится общество, и учитывала лишь понижение этого уровня; вопрос же о наследственных влияниях, как о возможной причине уменьшения национальной силы, стоял для нее всегда на втором плане. Она приблизилась к этой точке зрения лишь после того, как социальными проблемами стала заниматься и медицина; в результате получилось скрещение обоих направлений в новейшей медицинской литературе.
Нам не избежать краткого изложения руководящих идей, которыми определяется каждое из этих направлений. Начать можно с исследователей, придающих главное значение наследственной передаче дегенерации. Они распадаются опять-таки на две группы.
Moebius и Kraepelin выдвигают на первый план возможность вреда для потомства, Sommer же и Ziehen— зависимость от предков.
По мнению Moebius'a, вырождение проявляется в неблагоприятных уклонениях от типа, которые могут вредно отражаться на потомстве, тогда как Ziehen называет дегенерацией «уклонение на почве тяжелого наследственного отягощения». Ясно видно, в чем различие этих двух взглядов, и ясно, что оно невелико.
Слабое же их место в том, что у них общего. Они чрезмерно расширяют понятие вырождения и почти целиком растворяют его в понятии наследственности. О том, что дегенерация прогрессирует от поколения к поколению, нет уже больше речи, и высоко даровитый dйgйnйrй supйrieur нисколько не противоречит этому пониманию сущности вырождения даже и в том случае, если его отец был пьяницей, а мать душевно больною. Но в подобных случаях можно было бы с тем же или даже с еще большим правой говорить о регенерации.
A. Grotjahn, Schallmayer и др. не раз справедливо подчеркивали, что на вырождение надо всегда смотреть, как на процесс, и что его можно диагностировать только на целом ряде поколений. Независимо от того, как происходит передача по наследству (и происходит ли она), дегенерированное поколение должно быть хуже, чем было предшествующее, и оно только в том случае носит в себе угрозу для вида, если эта угроза существует и для его собственного потомства. По существу, следовательно, необходимо и то, и другое: унаследование и передача потомству (das Erben und das Vererben). Ни одно из приведенных определений 2) не выражает этого.
Результат известен; нет в настоящее время ни одной эндогенной душевной или нервной болезни, нет вообще такого нервного симптома, которых не пытались бы относить к дегенерации, а так как наследственный генез этих расстройств принимается — верно ли, нет ли — за какую-то аксиому, то в психиатрии понятие вырождения совпадает с понятием психопатической конституции.
Можно опасаться, что понятию дегенерации придется таким путем в конце концов совершенно исчезнуть. Оно делается настолько расплывчатым, что становится лишним. Нельзя, однако, не признать, что эволюция, приведшая к такому финалу, была сама по себе последовательной. Понятия вырождения и психопатической конституции совпадали, напр., уже для Magnan'a и Etminghaus'a, признак же прогрессирующего ухудшения отступал с тех пор все больше и больше на задний план. Таким образом, мы пришли в конце концов к точке зрения Nаесke, что «вырождение, как таковое, не есть еще болезнь, а лишь некое анормальное или, вернее, болезненное состояние, которое, правда, очень легко может повести и к настоящему заболеванию».
Нельзя яснее охарактеризовать психопатическое предрасположение. Психопатическая конституция, наследственное отягощение и вырождение — эти три слова — означают одно и то же понятие и нечего говорить, что число этих слов можно было бы даже увеличить. Каждый знает, почему так пышно плодятся подобные термины; желательно отграничить широкую область переходов от душевного здоровья к болезни, и вот начинаются поиски таких слов, которые облегчили бы эту работу. В конце концов напали и на слово «вырождение», что было, несомненно, неудачно и вызвало очень своеобразные последствия: дегенератами считаются люди нервные вследствие наследственного отягощения или резко-неровные по своему духовному складу, лица же с унаследованным (или приобретенным) явным душевным расстройством таковыми не считаются. Таким образом, слово это означает или менее значительную степень унаследованного душевного расстройства, или же подчеркивает—что все-таки является более приемлемым — болезненное предрасположение в противовес болезни. Есть, наконец, третий оттенок, по которому признак дегенерации надо видеть в одном определенном уклонении от нормального типа, а именно: в часто отмечавшейся у людей отягощенных дисгармонии их организации Higier полагает, напр., что «дегенерация представляет собою расстройство соматической или психической корреляции, возникающее при оплодотворении («Kopulation»). Но в конце концов всякая ненормальная конституция сочетается всегда с теми или иными нормальными чертами, так что каждая такая конституция будет всегда я расстройством корреляции, и понятия наследственности, патологической конституции и дегенерации в патологии опять совпадут друг с другом.
Поскольку это так, было бы, пожалуй, хорошо, если бы слово вырождение совсем исчезло из употребления. Ясно во всяком случае одно, что при таком применении оно должно потерять всякое содержание и, как говорит Rieger, стать фразой. Советы воздержаться от «сильнейшего злоупотребления» (Ziehen) этим термином делались так часто, что, невидимому, все-таки есть в нем какая-то потребность, если, вопреки всему, это слово и понятие никак не могут исчезнуть.
В каких случаях говорят о дегенерации? Когда падает физическая работоспособность или культурная продуктивность целого народа, когда увеличивается чисто преступлений и самоубийств, когда распространяется бездетность, сифилис и алкоголизм.
Из примеров вытекает прежде всего следующее. Не при каждом дегенеративном процессе требуется прямая передача от родителей к детям Целый народ может с каждым поколением становиться все слабее и болезненнее, но наследственные влияния могут не играть при этом никакой роли. Допустим, что алкоголь не оказывает вредного влияния на зародышевую плазму; несмотря на это, все таки была бы возможна постеленная дегенерация целого народа при условии, если производство этого яда становилось бы все дешевле, а тем самым росло бы и потребление. С сифилисом дело обстоит вполне аналогично.
Некоторые авторы считают поэтому, что проблема вырождения не имеет в настоящее время никакого прямого отношения к учению о наследственности. И только те, которые верят в принцип передачи по наследству приобретенных качеств, будут искать во всех случаях среди причин вырождения также и наследственные влияния. Но было бы кардинальной ошибкой ставить вообще проблему дегенерации в зависимость от этого вопроса, и мы считаем необходимым, по крайней мере для начала, рассмотреть обе эти проблемы отдельно.
Нельзя зачеркнуть научной эволюции. Если бы в наши дни отмечался рос душевных заболеваний или если бы действительно начала сдавать физическая работоспособность нашего народа, то пришлось бы назвать это вырождением, даже если бы наследственные влияния наверное не играли в этом никакой роли. Совершенно то же самое придется сказать (вопреки всем определениям) и о первобытном народе, гибнущем от сифилиса и паралича, алкоголя и белой горячки, принесенных ему цивилизацией. Совершенно очевидна потребность в слове для обозначения этого процесса, и слово, естественной смысл которого соответствует этому процессу, и есть слово вырождение. Сам же этот процесс не что иное, как прогрессирующее с каждым поколением ухудшение вида.
Эту общую проблему вырождения мы не должны смешивать с другой, более специальной. «Мы понимаем под вырождением такое изменение в наследственных качествах («Erbqualitдten») целого ряда поколений, которое ведет к ухудшению функциональной работоспособности одного или нескольких органов и к меньшей приспособленности к условиям существования», пишет Schallmayer в своей известной работе, получившей премию. И здесь в этом определении высказана опять в резкой формулировке одна необычайно важная проблема, которая в самых разнообразных формах будет всегда занимать собою антропологов и врачей. Но с нашей точки зрения она представляет собою второстепенный вопрос. Вот пример: задача, поставленная Morel’ем психиатрии, сохраняет свой особый интерес, пока она не решена. Мы должны выяснить, не уменьшается ли от поколения к поколению врожденная, унаследованная нервная сопротивляемость и не влияет ли это на внешние формы и течение душевных болезней. Однако, в учащении психозов и в их более тяжелом течении могли бы быть повинны одни внешние причины. Этот пример показывает как раз, как тесно связаны между собой все эти проблемы. Чем более экзогенных причин вырождения мы открываем, тем серьезнее становится наша озабоченность относительно того, не могут ли они превратиться также в эндогенные, т. — е. не передаются ли по наследству приобретенные качества.
Таким образом, перед нами две задачи, две проблемы: общий вопрос: может ли быть вообще доказано, что существует нервное вырождение, т. — е. ухудшение нервного здоровья, прогрессирующее от поколения к поколению, и частный вопрос: не вызывается ли подобное прогрессирующее нервное вырождение в некоторых случаях наследственными причинами, как полагал Morel.
Если приобретенные качества передаются по наследству, то тогда, конечно, нет такой дегенерации, которая не могла бы при подходящих условиях передаться на потомство, и всякое ухудшение нервного здоровья того или иного человека должно было бы, по крайней мере потенциально, наносить всегда ущерб также и его потомству. Излишне говорить, насколько поднялись бы, если бы это было так, шансы всякой (какой угодно) опасности вырождения, и совершенно ясно, что пришлось бы считать, что есть какие-то очень мощные возрождающие силы, препятствующие наступлению упадка.
Кончая эту главу, мы сведем еще раз результаты всех высказанных нами соображений к нескольким немногим положениям:
/. Вырождение означает ухудшение вида, увеличивающееся от поколения к поколению.
II. Это ухудшение проявляется в нецелесообразных для вида уклонениях.
1/1. Вырождение в медицинском (психиатрическом) смысле представляет собою прогрессирующее от поколения к поколению ухудшение (нервного) здоровья.
IV. Возникновение вырождения (притом также и вырождения в медицинском смысле слова) мыслимо теоретически:
а) исключительно как результат действия внешних причин,
в) исключительно как результат передачи неблагоприятных respective патологических качеств от одного поколения к другому и
с) как следствие совпадения обеих причин.
V. Как внешние, так и внутренние причины (или их суммы) должны усиливаться в своем действии от поколения к поколению, для того, чтобы наступило вырождение. Поэтому о наследственном вырождении может идти речь только в том случае, если каждое последующее поколение болезненнее или слабее, чем предыдущее; если этого нет, то дело идет о простом случае обыкновенной наследственности. Законами наследственности определяется также и регенерация; уже по одному этому медицина не вправе ставить знаки равенства между понятиями: наследственность, патологическое предрасположение и вырождение.
IV. Ответ на вопрос, бывает ли (что теоретически, вполне мыслимо) вырождение без участия влияний со стороны наследственности, может быть дан только после решения вопроса о наследственности приобретенных качеств.
НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ И ВЫРОЖДЕНИЕ
В настоящей и следующей главах мы попытаемся изложить факты нормальной и патологической наследственности в возможно более чистом виде, вне связи со всякого рода теоретическими соображениями, исключительно под углом зрения следующих вопросов: могут ли известные нам законы наследственности вести в некоторых случаях к вырождению, и может ли дегенерация (все равно каким бы путем она ни возникла) распространяться и усиливаться в силу этих или каких-либо других законов?
Слово «наследственность» означает «свойство всех организмов передавать потомству существенные особенности своей природы» (Weismann). Сходство поколений представляется чем-то само собой разумеющимся у тех живых существ, размножение которых происходит путем деления; у высших же растений и животных оно является одной из величайших загадок биологии. В этой области мы не знаем, как следует, даже самих фактов, не говоря уж об их причинах.
Есть все-таки кое-какие несомненные факты. Всем известно, что дети часто походят на своих родителей. Но часто сходство с дедом иди бабкой, или с каким-нибудь другим из старших родственников значительнее, чем сходство с отцом или матерью, а иногда какая-нибудь отдаленная прабабка словно оживает в лице своего правнука. Однако, чаще наблюдаются смешения («Misсhungen»). Некоторые черты производителей образуют у потомков промежуточные признаки: цвет мулатов держится середины между цветом белого и негра; другие признаки остаются сами по себе чистыми и неизменными, но появляются в какой-нибудь новой группировке: отцовские глаза и материнский цвет волос. Иногда наследственность простирается гораздо дальше. Появляются особенности, которых не было у родителей; они берутся у различнейших предков и объединяются в новом, не встречавшемся до сих пор сочетании. Такие люди ни на кого не похожи, и все-таки все в них наследственное. Вот почему родные братья и сестры так часто не похожи друг на друга. Это несходство вовсе не противоречит законам наследственности; оно доказывает лишь, как бесконечно разнообразны те формы, которые заключены в этих законах, как возможности.
Из этих бесспорных фактов сразу можно вывести совершенно независимо от всякой теории два таких закона. Во-первых: анатомический субстрат наследственности не есть нечто гомогенное и единое (по крайней мере у всех высоко организованных живых существ). Иначе было бы только две возможности: полное сходство детей с отцом или с матерью, либо настоящая смесь, нечто во всех отношениях промежуточное. И мы не знали бы как объяснить атавизм, как и вообще все формы скрытой наследственности, а также и все новые комбинации (за исключением чистых линий). Наследственная масса, зародышевые клетки или зародышевая плазма (Keimzellen, Keimplasma) должны, следовательно, быть дифференцированными, должны содержать в себе большое число структурных элементов («Bausteine»), которыми можно было бы воспользоваться, но которые вовсе не обязательно должны быть использованы все целиком в каждом случае. При такой предпосылке понятны (без дальнейшей гипотезы) и несходство родных братьев и сестер и все другие упомянутые нами варианты. Но из этого в то же время необходимо следует, что мы не в состоянии проникнуть в существо наследственности, констатируя лишь сходство вообще, а должны проследить порознь судьбу каждого отдельного признака).
Это первое. Но, помимо, этого мы видим, что в зародышевых клетках содержатся возможности, оказавшиеся невоплощенными при развитии 'их обладателя или обладателей. Из них развиваются зачатки (Anlagen), наследуемые от предков внуками, а не их родителями. Эти зачатки (Anlagen) должны были, значит, находиться у родителей в скрытом состоянии или, как принято говорить, они были латентны. Это мыслимо только в том случае, если зародышевая плазма до известной степени независима от соматической плазмы родителей. Простирается ли эта независимость настолько, как это допускает учение Weismann'a о непрерывности зародышевой плазмы, это опять-таки новый вопрос, равно как и вопрос о том, являются ли хромосомы последними элементами зародышевых клеток. Но самый факт этой независимости, т. — е. какой-то формы непрерывности, нельзя оспаривать, и его, по-видимому, никто и не оспаривает. Конечно, очень ценно, что, благодаря наблюдениям Воeri над лошадиными глистами, это предположение получило анатомическое обоснование и наглядность; но его принципиальная необходимость была прочно установлена и до этого доказательства.
Существуют ли только два таких закона? Это невозможно, так как ими никоим образом не объясняется все, что мы наблюдаем. Почему в одном случае берут верх качества одного предка, а в другом другого, и почему после ряда поколений всплывают внезапно опять такие зачатки (Anlagen), которые, казалось, уже давным-давно утратились? Почему в одном случае настоящее смешение, а в другом только новая группировка? И прежде всего при каких условиях и как часто бывает и то и другое? Все это, однако, вопросы подчиненного значения, относящиеся, так сказать, лишь к условиям выполнения («Ausfьlirungsbestimmungen»); нет ли еще других, совсем иных законов, скрещивающихся с первыми и уничтожающих иногда их действие?
Этот последний и самый важный вопрос будет занимать нас позже. Сейчас мы опишем подробнее общие правила, уже названные нами выше и в грубых чертах почти всем известные. Экспериментальная наука о наследственности с давних пор старалась изучить их подробно и вскрыла уже многие из них. Мы будем рассматривать эти подробности опять-таки под углом зрения вопроса, допускают ли они мыслимость прогресса или регресса всего вида в целом. Не подлежит сомнению, что и прогресс и регресс иногда, действительно, наблюдаются; если подобные случаи можно объяснить непрерывностью и диффенецированностью зародышевой плазмы, то допускать другие законы ради этого объяснения нет надобности.
Экспериментальные исследования и наблюдения над людьми, привели прежде всего к опровержению тех теоретических выводов которые могли бы быть сделаны из всего сказанного до настоящего момента и которые, действительно, неоднократно я делались, Francis Galton установил в свое время закон, согласно которому половина (Va = 0.5) всей наследственной массы дана за счет двоих родителей, 1/4 = (0,5)2 за счет четырех предков второго поколения (деды и бабки), V8 = (0,5)3 за счет восьми прадедов и прабабок и т. д. Общее наследие 1 равнялось бы, следовательно, 0,5-f—j- (0,5) 2-J-(0,5)3-\'7d-… (0,5) п. Соответственно этому каждый предок должен был бы иметь определенное, математически точно выразимое влияние на облик потомства, и влияние это должно было бы убывать в обратном порядке. Сходную мысль высказал также Ottokar Loren z, полагавший, что доля участия четверых предков второго поколения (дедов и бабок) в наследственности является всегда одинаковой. Само собою разумеется, что эта закономерность оправдывается лишь в самых общих чертах и может быть выявлена лишь на очень больших числах. Участие каждого предка следует всегда понимать исключительно, как нечто потенциальное, и числа, высчитанные Galton'ом, означали бы лишь ту вероятность, с которою могла бы реализоваться подобная наследственная масса. Но если это, действительно, закон, то мы должны были бы иметь возможность найти качества предков приблизительно в том распределении, которое выражается Galtоn'овскими числами, по крайней мере в тех случаях, где. имеется много детей. На деле же этого не бывает. Ziegler, Sommer и Stromayer отвергли это учение частью с биологической, частью с клинической точки зрения. Правило Galton'a сохраняет свое значение, сам Galton нашел, что оно подтверждается, напр., для цвета шерсти определенной породы собак; аналогичные явления можно наблюдать нередко в потомстве мулатов: Peters открыл, кроме того, даже и в наследственности интеллектуальных способностей аналогичные отношения между детьми, родителями, дедами и бабками. Несмотря на это, «закон» Galton'a оправдывается не всегда, он скрещивается, очевидно, с другими правилами. Уже в исследованиях Peters'a выяснилось, что при различной интеллектуальной одаренности потомки чаще следуют хорошему предку, чем плохому. Да и вообще—даже в обширном потомстве—часто не удается найти ни следов сходства с каким-нибудь одним предком, но имеется зато очень большое сходство с другим, но более отдаленным. Утверждать, что в данном случае нет налицо наследственных материалов и возможностей, связанных с первым из предков, мы, конечно, не в праве, а некоторые наблюдения в области атавизма даже определенно говорят за это. Однако, эти наблюдения также опровергают общее значение Galton'ова правила и общераспространенное мнение о равномерном постепенном разведении наследственной «крови».
V. Guaita наблюдал, что от сочетания белых мышей с пятнистыми танцующими мышами получались обыкновенные серые мыши. Элементы, необходимые' для возникновения этой основной формы («Stammform») находились стало быть в подовых клетках и той и другой редкой разновидности. Несмотря на это, половые клетки одних белых мышей и одних пятнистых не давали при соединении друг с другом первоначального вида, возврат к общей исходной форме получился лишь при смешении обеих разновидностей. Аналогичный опыт имеется и у животноводов, и антропология объясняет некоторые явления тем же процессом. Совершенно ясно, что таким же путем могут устраняться как успехи, так и патологические образования, продукты дегенерации. Поэтому эти факты очень важны для нас. Теоретически они доказывают нечто такое, что известно нам уже и так: существование скрытой («latente») наследственности; они доказывают, кроме того, что задатки, остававшиеся латентными в обоих рядах предков на протяжении многих поколений, должны будут иногда выявиться, если они окажутся (в скрытом состоянии) в половых клетках обоих производителей. Это было доказано, напр., относительно знаменитой губы Габсбургов, и мы можем сказать уже теперь, что аналогичные процессы наблюдаются и в области патологии.
Менее ясно, каково отношение к патологии Менделеевских правил наследственности. Однако, эти правила играют в биологии такую большую роль, что их значение для патологической наследственности следует по меньшей мере подвергнуть проверке. Мы поэтому напомним вкратце основные факты учения, выставленного более 50 лет тому назад Августинским патером Gregor'oм Mendel’ем, и вновь открытого в наше время de Vries'oм, Correns'oм и Tschermack'oм.
Если скрещивать красноцветковую и белоцветковую формы растения определенного вида, то результат часто оказывается промежуточным: бастард дает розовые цветка. Но если будут размножаться эти бастарды, то этим дело не кончается; их потомки распадаются на три группы: у одной—цветки красные, у другой— белые, а у третьей — розовые. Само по себе это не ново и доказывает опять-таки исключительно латентную наследственность. Новым является закономерное численное соотношение, характерное для этого результата в третьем поколении. На каждую пару растений, одно из которых цветет белыми, а другое красными цветками, приходится другая пара, цветки у которой розовые. Все это, конечно, не с полной, а лишь приблизительной математической точностью: 23: 51: 26 или 28: 49: 23,—вот числа встречающиеся на практике. Как возможно это? Исключительно благодаря тому, что бастард содержит в себе зачатки обоих первоначальных видов. Если мм назовем эти зачатки г и w, то при образовании третьего поколения сталкиваются стало быть г зачатки и w зачатки, и оказываются возможны следующие комбинации: r-\-r, w-\-w и r-\-w. Но в силу простейшего правила вероятности последняя возможность имеет двойное число шансов; поэтому на каждую пару г-\-г и w-\-vo приходится пара r-\-w или на каждое белоцветковое -(- красноцветковое растение приходится два растения с розовыми цветками. Что это просто частный случай закона вероятностей, в этом легко убедиться, если произвести в подражание природе соответственный эксперимент (с большим числом небольших предметов разной окраски), который даст те же самые результаты (H. E. Z i e g l e r). Законы эти выявляются и здесь лишь после большого числа метаний; вначале все кажется совершенно случайным, и лишь тогда, когда получились большие числа, можно видеть, что они подтверждают правила.
Впрочем Mendel уже и сам произвел один простой эксперимент, чтобы проверить правильность своего объяснения. Он скрестил бастарда с материнским растением. По теории бастард должен содержать зачатки г и w, a материнское растение только зачатки г. Результат, следовательно, должен был бы быть гг я rw и притом в равных частях: или одна половина получившихся растений должна была обладать красными, а другая розовыми цветками. Так оно и вышло.
Есть, однако, еще одно своеобразное явление, нередко с внешней стороны влияющее на правила Менделя и изменяющее результаты, это — явление доминирования. Если красный цвет доминирует над белым, то в результате получается не розовый цвет, а опять-таки красный. То, что колориметрия иногда показывает все-таки некоторую разницу между красным цветом бастарда и исходным красным цветом, не имеет никакого практического значения: на глаз оба цвета представляются одинаковыми. Как складываются в подобных случаях выведенные выше числа? В первом поколении цветки были то красные, то белые; (второе) поколение бастардов дает опять-таки только красные (вместо розовых), и, наконец, третье [l (r-f-r), l (w-j-w), 2 (r-\-w)] должно содержать 75 процентов красных и 25 процентов белых).
То, что сказано об окрасках, сохраняет, конечно, значение и для всевозможных других признаков, меняется лишь число комбинаций. Оно возрастает и это—закон, важный не только для учения M e n d e 1 ' я—в том случае, если различные признаки наследуются независимо друг от друга. Допустим, что разновидность с красными цветками крупнее белоцветковой, мы вправе допустить у нее наследственные единицы г и g (крупный), а в другой разновидности «гаметы» w и Ы (малый). В (втором) поколении бастардов, которое должно быть средней величины и с розовыми цветками, будут содержаться 4 рода зачатков, свойства которых выразятся в формулах гд, гЫ, год, wJel. Если мы соединим зачатки двух таких бастардов (или предоставим их самооплодотворению), то возникнет 16 комбинаций и 9 из них будут различны между собою.
Однако, эта независимая наследственность отдельных признаков наблюдается не всегда. Иногда можно доказать прямо противоположное: два качества образуют при наследственности пару, между ними устанавливается положительная или отрицательная корреляция. В нашем примере в данном случае красный цветок мог бы встречаться исключительно у крупного растения. В этом случае отсутствовало бы то, благодаря чему закон Менделя получил такое значение при разведении растений и животных: возможность изолировать отдельные признаки и комбинировать их заново. Давно известно, что есть такие качества, которые встречаются в виде групп; достаточно указать на первичные и вторичные половые признаки и на такие наследственные болезни, которые, как, напр., кровоточивость, также, невидимому, связаны с определенным полом. Но эти корреляции не устраняют того, доказанного M ende Г ем, основного факта, что отдельные задатки не зависят в большинстве случаев друг от друга. Таким образом, мы должны представлять себе «своеобразие рода» («Sippe»), как конгломерат отдельных признаков, в основе каждого из которых лежит самостоятельный материальный задаток» («Anlage» т. Gruber).
Правда, задатки и признаки нельзя приравнивать друг к другу. Часто требуются трудные анализы и продолжительные попытки разводок, чтобы констатировать «менделирование» наследственных единиц, так как одна и та же наследственная единица часто прячется за различными видимыми признаками. Другими словами, внешние видимые признаки растения или животного и наследственные единицы, ставшие узнаваемыми благодаря анализу бастардов, это—совершенно разные вещи. Отношения между ними лишь приблизительно напоминают те, которые существуют между молекулярной структурой определенного химического соединения, с одной стороны, и внешними свойствами этого соединения—цветом, запахом и т. п.—с другой (Е. В аи г). К этому присоединяется, что для возникновения соответственного внешнего признака сам по себе факт существования задатка, т. — е. наличие наследственной единицы, может быть иногда недостаточен. «Для вида характерен и передается по наследству только некий присущий этому виду способ реагировать на внешние условия образованием определенных внешних качеств» (Е. В аи г). Если внешние условия—температура, питание и т. д.—отсутствуют, то задаток остается скрытым, латентным.
Для всего учения о наследственности факты эти—я укажу на вопрос о мутациях и проблему передачи по наследству приобретенных качеств—чрезвычайно важны, особенно же для наследственности у человека. То, что на первых порах больше всего бросается в глаза в правилах M en de Г я,—математическое распределение признаков у потомства,—едва ли способно сыграть большую роль в физиологии и патологии человека. Для этого нужны большие числа, гораздо большее число детей, чем даже то их количество, которое наблюдается в человеческих семьях лишь в виде исключения. Выяснилось, однако, что в некоторых случаях вполне вероятна приложимость этих правил к людям. Towusend приводит в связь с законами Mende1'я свойства кожи смешанного населения острова Pitcaern, Davenport—цвет глаз (у всех людей), Weinberg—предрасположение к многоплодной беременности, наконец, сам Mendel и Bateson, Castle и др.—даже «определение пола» (Geschlechtsbestimnmng»). В сфере патологии были попытки доказать менделирование: альбинизма (F. arable) брадидактилии, пресинильной катаракты, диабета, куриной слепоты и кровоточивости (Bateson); наконец, аналогичное наследование определенной аномалии волос (E. Fischer) (о наследственности при душевных заболеваниях мы будем говорить в следующей главе). Возможно, что теоретически эти правила оправдываются гораздо чаще; однако, обычно они остаются невыявленными, так как только небольшая доля человеческих половых клеток доходит до развития и так как законы вероятности могут подтвердиться лишь на очень обширном материале.
Тем ценнее то знание основных элементов наследования, которое дано нам научно-исследовательской работой, основателем ко-, торой был Mendel. Психологии и психопатологии это знание может оказаться особенно полезным. «Конгломерат отдельных признаков, каждый из которых наследуется независимо от других» — это относится, несмотря на существование различных корреляций к психическим качествам в той же мере, как и к соматическим. Каждый из этих задатков может в течение многих поколений оставаться скрытым, потому что он никогда не был достаточно силен или потому, что он нуждался еще в каком-то дополнении; но если он будет дополнен или усилен, то он внезапно снова обнаружится. Кроме того, и здесь, невидимому, тоже встречаются доминирующий и рецессивный типы наследственности (ср. W. Peters и др.).
Благодаря этому становится возможным бесконечно большое число комбинаций. У каждого человека было 8 предков в третьем поколении (приблизительно 100 лет тому назад), 128 — в седьмом (250 лет тому назад), 65.000—в шестнадцатом (550 лет тому назад) и 18.015.000.000.000—в пятьдесят четвертом (1900 лет тому назад) (v. G r ьb er). Количество возможных благодаря этому вариаций правда значительно уменьшается уже в силу того факта, что в наши дни все население земного шара равно приблизительно 1.600.000.000. У каждого из нас, следовательно, многие предки встречаются в его родословной по нескольку раз. Тем не менее вариационные возможности остаются все-таки огромными. Из многих тысяч людей каждый индивидуум мог передать нам по наследству бесчисленное количество признаков.
Не подлежит сомнению, что таким образом объясняются благоприятные и неблагоприятные продукты развития. W. Peters доказал существование довольно прямой связи между хорошими школьными успехами детей, их родителей и дедов и бабок; Sommer показал на родословной Goetlie вероятность связи между отдельными чертами его гениальности и отдельными чертами его предков. Культивирование высших качеств («Indiehцhezьchten») стало быть возможно, а значит нельзя оспаривать, что в принципе возможен и обратный процесс.
Несмотря на это, как ни велики пределы вариаций, обусловливаемые постоянно продолжающимся смешением наследственных масс во все новых и новых комбинациях, этому развитию положен все-таки один предел. Если целый ряд талантов, свойственных всему народу, оказывается у одного человека, то получаются люди, подобные Платону или Goethe. Но и развитию таких людей положен естественный предел в законах наследственности; но гораздо важнее, что исключительное превосходство отдельного индивидуума биологически нисколько не меняет продуктивности всего народа в целом. Общая сумма унаследованных качеств должна в общем и целом оставаться одной и той же до тех пор, пока этот наследственный процесс не будет изменен влияниями совсем другого рода, внешними ли, внутренними ли. Существуют ли факты, оказывающие подобное влияние на человека? Да, существуют. и само по себе это бесспорно: нам известно не только отравление взрослого организма, но и отравление зародыша («KeimVergiftung»). Этот явно-патологический процесс не имеет, однако, никакого отношения к подлинной наследственности, и поэтому он будет занимать нас лишь в последующем. Но что мы скажем, если всякое вредное влияние, испытываемое человеком, может передаваться его потомству?
Выше мы уже говорили, что все источники вырождения были бы несравненно обильнее, если бы могли наследоваться приобретенные качества; и нами уже было сделано заключение, что в этом пункте одна из важнейших проблем всего учения о вырождении.
Может ли наследственность создавать новые качества? Или вернее, могут ли наследоваться новые приобретенные качества?
Исследователи, отвечающие на этот вопрос утвердительно, допускают две возможности; они тесно связаны между собой, но мы должны рассмотреть их порознь. Можно представить себе самопроизвольное (спонтанное) возникновение новых, способных передаваться по наследству качеств; кроме того, возможно наследование качеств, приобретенных индивидуумом в течение его жизни.
Мы увидим в дальнейшем, что, по мнению большинства авторов, флюктуирующие вариации (т. — е. связанные непрерывными переходами уклонения от основного типа) не являются наследственными. В потомстве проявляется постоянно все тот же основной тип. Отбор поэтому бессилен в пределах чистого, несмешанного вида. Если этот взгляд справедлив и если не существует никаких других законов наследственности, то всеобщая эволюция в Darwin'овском смысле была бы невозможна; более того: было бы невозможно возникновение всякого совершенно нового, небывалого до сих пор вида или разновидности.
Однако, Darwin (как и Weismann) подчеркивал в своем учении именно эту непрерывную изменчивость, постепенное усиление небольших индивидуальных видоизменений; вместе с тем он обратил внимание (а именно в раннем своем периоде) и на другой источник образования видов, на который теперешние представители его учения смотрят, как на единственный или, во всяком случае, самый важный. Этим источником являются мутации.
Dar VFin называл их «single variations». Это—новые качества, появляющиеся совершенно внезапно, вроде, например, белого цветка вместо синего или отсутствия рогов у баранов; признаки эти наследственны и дают начало новому виду. Как мы уже сказали, Batesonnde Vries смотрят на это даже как на причину образования видов.
Биологи-практики уже давно знакомы с этими мутациями, с так называемыми «sports». Доказано, что многие виды растений и животных возникли именно таким путем, и секрет систематических разводок и их успеха заключается, вероятно, исключительно в умении планомерно пользоваться подобными вариациями (Set-tegast, Goldsclimidt).
В природе — вплоть до человека! — эти новые, возникшие внезапно качества будут обыкновенно снова исчезать благодаря смешению разновидности с видом. Уже благодаря этому и в подобных случаях все-таки гарантируется постоянство («Konstanz») видов. Но, кроме того, мутации встречаются чрезвычайно редко. Так, например, Tower (цит. по Goldsclimidt) нашел один единственный «sport» на 5447 колорадских жуков.
Неоднократно пытались найти также признаки, которые допускали бы принципиальное различение этих мутаций от ненаследственных флюктуации; но единственной точкой зрения, оказавшейся в данном случае пригодной, была все-таки всегда точка зрения наследственности. Очень часто кажется, что с количественной стороны (по величине уклонения) «мутации» резко превосходят ненаследственные вариации; это объясняется, вероятно, тем особенным вниманием, которое необходимо должны будут привлекать к себе именно эти резко заметные «sports». Если эти уклонения, способные передаваться по наследству, менее значительны, то их легче упустить из вида. Зависимость же от внешних условий, питания, температуры и т. п. имеет для наследственных вариаций о же самое значение, как для ненаследственных. По-видимому, по этой причине sports и появляются иногда в особенно большом количестве в определенные периоды времени и, несомненно, поэтому-то и удалось получить их искусственно. Чрезвычайно важный вопрос для нас, возможны ли мутации без всяких воздействий извне, еще не разрешен; может быть, он и вообще неразрешим, попытка же объяснить все наследственные видоизменения атавистическими возвратами до сих пор всегда терпела неудачу (Goldschmidt). Но что экзогенные причины могут вызвать новые качества, это — несомненный факт.
В этом пункте учение о мутациях тесно соприкасается с вопросом о наследственности приобретенных качеств. А если бы мы предположили, что для возникновения новых наследственных вариаций всегда необходим внешний толчок, то обе эти проблемы в настоящее время совпали бы совершенно. То, что осталось от учения о наследственности приобретенных качеств, относится, в сущности говоря, к тем же самым процессам, которые составляют самое существо мутаций.
Нет нужды доказывать, что проблема ламаркизма очень близко соприкасается с вопросом о дегенерации. «Догмат о вырождении человечеств а держится исключительно на предположении, что «приобретенные» патологические качества передаются или по крайней мере могут передаваться потомству», — пишет M art i u s. Это относится, конечно, прежде всего только к дегенерации унаследованной; но мы сами назвали вырождением всякое ухудшение вида, прогрессирующее от поколения к поколению (даже если оно и неунаследованное). Эта дегенерация, сказали мы. могла бы быть вызвана исключительно внешними причинами без участия наследственности. Но при таких условиях едва ли было бы возможно говорить о вырождении, как о чем то роковом и неустранимом. Если народное здоровье подрывается внешними вредностями, то возможна помощь; попытка же обосновать догмат вырождения, учение о неотвратимости дегенерации, была бы возможна только при условии, если каждое ухудшение одного поколения должно было бы наследоваться следующим поколением.
Это предположение, этот «наивный ламаркизм» (Marti us) настолько вошли в сознание большинства медиков (в значительной степени благодаря самому Darvin'у), что многим из них экспериментальная проверка казалась совершенно излишней. В ту эпоху, когда еще не существовало пригодного фактического материала, даже Virсhov полагал, что: «живое существо изменяет свои функции и привычки, будучи поставлено в другие условия; все, что оно приобретает, оно способно передавать по наследству».
С той поры это живейшим образом отрицалось. В особенности A. Weismann и его школа энергично защищали учение о непрерывности зародышевой плазмы, попавшее под угрозу в этом пункте, и в этой борьбе их поддерживал целый ряд патологов. В настоящее время их противники понимают, что они защищают, наряду с фактическими утверждениями, не более как теорию. Сравнение памяти и наследственности, проведенное Hering'oм, и возникшее на этой почве учение Semon'a o Mneme не могут быть защищаемы), если приобретенные качества не передаются по наследству.
Фактический материал, собранный обеими сторонами для решения этого вопроса, разросся до такой степени, что нам придется сделать выборку. Мы рассмотрим только то, что составляет самое ядро вопроса, и вместе с тем и все, что имеет прямое отношение к человеку. Отдельные части, на которые постепенно распался этот вопрос, мы обсудим порознь.
В одном пункте—на это не всегда обращали внимание в медицине—между Weismann'oM и его противниками уже давно нет никаких разногласий. Weismann никогда не отрицал влияния, оказываемого на зародышевые клетки, климатом, питанием, короче говоря, внешними причинами. Этому взаимному соглашению не препятствовали даже такие факты, как пресловутая «алопеция» иммигрировавших в Америку европейцев, если ее причины, действительно, не исключительно психологические. Еще понятнее передача химических видоизменений, напр., явлений иммунитета. Если трипаносомы, которым сообщена устойчивость относительно мышьяка, сохраняют это качество в течение 3 лет, после того как они проведены через 400 мышей (Ehrlich), то это объясняется просто их способом размножения, при котором каждое новое поколение возникает путем деления предыдущего. Мы знаем, благодаря Abderhalden'y, что половая клетка содержит в себе все химические вещества, из которых слагается организм взрослого животного. Таким образом, нет ничего особенного в том, что мыши передают своему потомству свою устойчивость по отношению к абрину и рицину (Ehrlich), рогатый скот свою нечувствительность к береговой лихорадке (Kьstenfieber), а кролики свой иммунитет к собачьему бешенству и дифтерии. Наконец, в области патологии вполне понятен вред, наносимый потомству ядами, действующими на организм родителей, а тем самым и на их половые клетки. Пьянство отца или сифилис ведут к тому, что дети «дегенерируют» — факт этот несомненен, однако, он, конечно, вовсе не означает «наследования» приобретенных качеств.
E. Ziegler, Martins и др. неоднократно подчеркивали это и показывали, как строго следовало бы именно в этом пункте различать между болезнями врожденными и унаследованными. Если у алкоголика, страдающего циррозом печени, рождается ребенок-идиот, то здесь имеется прямое повреждение зачатка, и вовсе не наследование. Совершенно также обстоит дело и с сифилисом, со свинцовым отравлением и. может быть, многими другими явлениями. Аналогичным образом действует, может, быть, также и ослабление конституции.
Даже самые строгие приверженцы Lamarck'a отказались теперь от утверждения (которое казалось многим почти само собою разумеющимся), что могут наследоваться полученные в течение жизни увечья и т. п. Martins называет это прямо суеверием, и даже Semon должен согласиться с тем, что эта передача не является доказанной).
Фактически многочисленные опыты Weismann, Eizema-Bцs и др. (с мышами и крысами) исключили эту возможность в той же мере, как исключается она и многочисленными наблюдениями над людьми. В течение тысячелетий производится ритуальное обрезание, уродуются ноги китаянок, систематически видоизменяется форма головы у некоторых индейцев; однако, при этом никогда
<еще не наблюдались передачи по наследству. Псевдо-доказательства, приводимые обычно в животноводческой и медицинской литературе, представляют собою или непроверенные анекдоты, или же неверно истолкованные факты. Примером может служить критикуемое Stieler'om сообщение Lomer'a. Человек, у которого, после того как он упал, появился (будто бы) клок седых волос, передал этот признак троим детям. В действительности же связь между этой аномалией и несчастным случаем он сочинил много лет спустя, после травмы, будучи уже 79-летним старцем; ничто не противоречит предположению, что свой дефект пигмента он и сам получил в наследство. По поводу подобных случаев можно; привести авторитетное замечание Schwalbe, который сказал, что из учения о пороках развития можно сделать главный аргумент учения Weismann'a HGette о том, «что наследование приобретенных качеств есть нечто никому неведомое». После этого нет надобности особенно подчеркивать, что, напр., увечья вследствие амниотических юстировок никогда не бывают наследственными.
Почти то же самое приходится сказать и об, утверждении, будто на потомство могут переходить функциональные изменения, развивающиеся, напр., благодаря повышенной функции или ее отсутствию. Для нас это утверждение имеет особенное значение, потому что именно в психиатрической литературе этот процесс обвиняли в том, что он причина разнообразнейших явлений. R. Sommer выражает несомненный взгляд широких кругов, когда он говорит: «качества, представляющие собой ряды представлений, постепенно автоматизировавшиеся путем произвольных усилий и напряжения внимания и фиксированные в форме моторных механизмов, обладают, по всей вероятности, наследственной силой». Автор добавляет затем: «для этого мы должны допустить, что органические свойства мозга могут оказывать влияние на качества зародышевой плазмы», и указывает затем на взаимоотношения между нервными процессами и деятельностью половых органов. На это следует заметить; что с мозговыми явлениями связаны лишь функции полового аппарата и что отсюда вовсе нельзя делать вывода о влиянии мозга на зародышевые клетки.
В общем придется согласиться, что наследственность приобретенные функциональным путем видоизменений было бы очень трудно доказать, даже если бы она и существовала. Lang уже подчеркнул в связи с этим, что употребление и упражнение только развивают уже имевшиеся прирожденные задатки и никогда не в состоянии породить новых качеств, задатка которых не существовало. Может быть, он не совсем удачно характеризует положение вещей, когда он бросает упрек сторонникам этой теории, говоря, что они берутся за объяснение таких вещей и явлений, которых в действительности вовсе и не существует. Влияние упражнения на половые клетки остается все-таки возможным, но едва ли удалось бы когда-либо доказать его существование. Когда у сына резко проявляется какое-нибудь качество, особенно культивировавшееся отцом, или какая-нибудь часть тела, сильно развитая вследствие упражнения, то всякий раз можно будет сказать, что оба раза и у отца, и у сына сказалось действие особенно сильно развитого задатка. Исключение составляли бы только такие случаи, в которых дети получили бы в один прекрасный день, без всякого труда со своей стороны, в виде какого-то таинственного подарка, какие-либо исключительные познания и навыки, которым их отец должен был с трудом учиться. Как известно, нет недостатка в подобных» утверждениях, однако, их следует отнести к числу выдумок. Веру в наследственную передачу содержаний сознания уже Meynert называл «чудовищной логической ошибкой».
По-видимому, прав Haecker, говоря, что нет ни одного биолога, который считал бы, что доказана наследственная передача качеств, приобретенных благодаря упражнению и функциональному пользованию (язык, познания, результаты дрессировки, гипертрофии от активности и т. д.). Sеmon, подтверждая это и относительно самого себя, прибавляет, однако, что чашка весов клонится в положительную сторону и что нет ни одного факта, который противоречил бы допущению подобной наследственной передачи. Вот, невидимому, самая крайняя точка зрения, еще допустимая при критическом рассмотрении фактического материала; «наивный ламаркизм» широких врачебных кругов, которому хотелось бы, чтобы детям пошла на пользу всякая духовная деятельность их родителей, не оправдал себя по настоящее время какими-либо научными наблюдениями.
Правда, есть наблюдения, как будто доказывающие влияние жизненных условий на развитие (по крайней мере) растительного мира. Сравнительное изучение строения и хода развития растений дает нам право заключить, что при усиливающемся влиянии внешних условий жизни растительные виды способны утрачивать имеющиеся в них возможности «развития, способны приобретать новые возможности и претерпевать благодаря этому дальнейшую филогенетическую эволюцию»,—пишет Munсhеn'ский ботаник Karl Giesenhagen. Убедительные примеры, приводимые им для обоснования этого положения, показывают, однако, что в этих процессах дело вовсе не в передаче по наследству таких качеств которые приобретены индивидуумом. Но вот что важнее для нас: очевидно, что эти превращения совершаются в течение столь колоссальных промежутков времени, что прямая человеческая традиция не в состоянии дать о них какие-либо сведения. Десятками тысячелетий могли жить виды растений на земле, не обнаруживая никаких сколько-нибудь заметных симптомов филогенетического развития вида. Это очень часто упускалось из вида, когда законы дегенерации у человека пытались вывести из законов образования видов в Darwin'oвском смысле. Скажем уже теперь нечто такое, что нам придется обсуждать в дальнейшем еще раз: исторический человек, насколько можно судить, совершенно не изменился. И это вовсе не является исключением, приложимым только к человеку. Подобных перемен почти невозможно констатировать за исторический период, за тот короткий промежуток времени, который до известной степени позволяет нам охватить взором людская традиция. «У нас нет оснований допускать, чтобы рис и пшено, собственноручно посеянные по торжественному поводу китайским императором Хен-Нунгои за 2700 лет до начала нашей эры, и мякина, которою Гомеровские греки кормили своих лошадей, отличались от тех же видов злаков нашего времени» (Giesenhagen).
Рассмотрение наследственности приобретенных качеств ставится обыкновенно 'в психиатрической литературе в связь с известными экспериментами Brown-Sйquard'a С. Westphal'fl, Obersteiner'a и Romanes'a. Сущность этих опытов состояла в том, что у животных, происходивших от 'родителей с искусственно вызванною эпилепсией, иногда (!) развивались эпилептические припадки. У родителей (главным образом, морских свинок) эпилепсия вызывалась оперативным вмешательством различного характера; повреждения спинного мозга или corpus restiforme и даже n. ischiadici приводили к одинаковому результату. M. Sommer подверг эти эксперименты проверке, при чем результат получился отрицательный; таким образом, в настоящее время сторонники наследуемости приобретенных качеств ссылаются на Brown-Sйquard и Obersteiner'a, а противники этой гипотезы—на M. Sommer'a. Кроме того, критика E. Ziegler'a давно показала, что значение этих опытов совершенно не зависит от числа положительных и отрицательных результатов. Факты, как таковые, нельзя оспаривать, и Obersteiner был, конечно, прав, когда, давая свой осторожный и деловой ответ, он отверг нападки Sommer'a, лишенные основания. В Вене на глазах у самого Obersteiner'a J. Gutnikow'biM n I. P. Karplus'oM были сделаны контрольные опыты, оставшиеся безрезультатными, при чем в этих экспериментах не получилось даже эпилепсии у оперированных животных. Но решающее значение остается за положительным результатом, и поэтому приходится согласиться с тем, что у потомков соответственным образом оперированных животных иногда действительно наблюдаются эпилептические судороги.
Но доказывается ли этим наследственность приобретенных качеств? Конечно, нет. Ведь это значило бы: у детей получились эпилептические припадки, потому что родители были эпилептиками. Но фактически дело сводилось лишь к тому, что потомки стали эпилептиками, потому что (или после того как) производители подверглись операции. Но ведь надо знать, что эпилептический припадок представляет собой очень распространенную форму реакции, заложенную в готовом виде в человеческом мозгу и в мозгу животных и могущую быть поэтому вызванною самыми разнообразными вредными моментами. Судя по этому, в приведенных опытах уже эпилепсия производителей была, разумеется, не прямым, а косвенным следствием операции, да и наступало-то это следствие не регулярно. Поэтому мы будем в праве допустить у тех животных, у которых развивались эпилептические припадки, наличность особенно сильного предрасположения к этой реакции. Уже Ziegler обратил внимание, что это предрасположение вообще часто встречается у морских свинок, а из наблюдений Obersteiner'a мы должны будем сделать вывод, что у некоторых пород эта наклонность к судорожным припадкам сказывается с еще большею силой, чем в среднем у остальных. Но в тех случаях, где эта наклонность существует, она, конечно, будет иметься и у производителей, и у потомства; таким образом, на основании опытов Brown-Sйquard'a и его последователей можно заключить лишь о том, что операция над животными производителями вызвала конституциональное повреждение также и у некоторой части их потомства. Сущность этого повреждения известна нам столь же мало, как и причина эпилепсии у животных, подвергшихся операции. Следовательно, мы не в состоянии строить даже предположений о связи между болезненными явлениями у первого поколения и таковыми же явлениями у второго поколения. Мы можем указать лишь на то, что связь, которая имеется здесь налицо, очень напоминает связь между алкоголизмом и эпилептическими припадками, давным-давно известную клинической психиатрии. Хронические алкоголики более склонны к подобным припадкам, чем другие люди, а дети пьяниц очень часто бывают эпилептиками. Из этого можно вывести, что или эпилептическая конституция наследуется независимо от всякого действия алкоголя (и в этом случае алкоголизм пришлось бы рассматривать, как простое осложнение или же как следствие эпилепсии), или же что алкоголизм отца способен вызвать эпилепсию и у него самого, и у его детей. Будет ли при таких условиях какая-либо генетическая общность между судорожными припадками первого и второго поколений, это остается неизвестным; допускать же наследственные соотношения между этими болезненными проявлениями нет ни малейшего основания.
Ведь дети могут быть эпилептиками даже и в том случае, если отец-алкоголик сам не страдал припадками.
И в этом случае, как и в экспериментах Brown-Sйqiiard'a, суть дела опять-таки не в наследственности, а в повреждении зародыша. Что бы здесь ни происходило: отравление организма или его ослабление — ухудшение его конституции не может быть безразлично для половых клеток х). Никто не отрицает связи в обмене веществ между соматической и зародышевой плазмой, и утверждение I. Gaule, что «процессы, имеющие отношение к половой жизни, разыгрываются не только в половых, но и в других органах», само по себе, конечно, вполне справедливо. Дальнейшие же слова этого автора, что в «печени, в мышцах, жировом слое, а, может быть, и в других органах происходит образование веществ, применяемых затем для образования половых продуктов, в половых же органах происходит сочетание этих веществ и придание пи морфологической формы яйцевых клеток и сперматозоидов », означают опять-таки исключительно, что химические вещества могу г переходить от сомы на половые клетки. «Это уже совсем другое дело; это уже не значит, что мы должны убедить себя, будто организм способен передавать половым клеткам те изменения, которые вызываются в нем внешними поводами, и передавать именно так, чтобы они развивались у следующего поколения в то же самое время, в том же самом месте организма, как это было в родительском организме».
Эти слова Weismann'a четко формулируют проблему. Все, что мы обсуждали до сих пор. почти не вызывает в настоящее время разногласий. Климат, питание, термические и химические влияния (идущие извне или обусловленные конституцией производителя) могут оказывать воздействие на зародышевую плазму. Мутации показывают, что иногда таким путем получаются новые наследственные вариации. Однако, все это еще не означает наследственности приобретенных качеств, поскольку остается невыясненным, как и почему происходят эти изменения. С алкоголем и сифилисом дело обстоит просто; здесь нам говорит уже клинический опыт, что яд влияет одновременно и на родителей, и на детей, действуя, однако, на тех и на других порознь и обычно неодинаково по конечному результату. Наличность явлений болезни у отца. не является необходимым условием для заболевания сына, весь, процесс соответствует, стало быть, тому, что носит в биологии название параллельной индукции в смысле Dettо. При этом повреждается одновременно и соматическая, и зародышевая плазма, и никоим образом нельзя сказать, что участь зародышевой плазмы определяется изменением в плазме соматической. Значит, в сущности говоря, перед нами не соматогенное, а бластогенное (гаметогенное) возникновение новых качеств.
Могут ли наследственные новые качества возникать также и соматогенным путем? Всегда ли необходимо первичное изменение зародыша или же первичным моментом может быть также и изменение соматической плазмы?
Semon считает это возможным; его мнение, его теория «отпечатков», как ее называют его противники, немыслима, если приобретенные телом качества не находят себе выражения в «энграммах» зародышевой плазмы. Weismann же и его сторонники, настаивают на непрерывности зародышей плазмы. Каковы же факты, которыми мы располагаем?
G u t h r i e сообщает, что ему удалось пересадить яичники одних молодых кур другим, где они приросли настолько хорошо, что давали в дальнейшем вполне нормальные яйца. При этом обнаруживалось явственное влияние новой владелицы на цвет потомства. Если черная курица, которой был пересажен белый яичник3), оплодотворялась белым петухом, то получалось 9 белых цыплят и 11 цыплят белого цвета с черными пятнами. Если, наоборот, белую курицу с белым яичником случали с черным петухом, то потомство состояло из 12 цыплят белого цвета с черными пятнами. Опыты эти говорят за влияние соматической плазмы на половые клетки (правда, ввиду целого ряда возможных ошибок, они не всеми признаются; были получены (Сas11e, Morgan) и другие результаты—отрицательные). Однако это влияние совершенно несомненно и без этого; давно известно, что вещества переходят от матери к ребенку. Sitowski, Gage и Riddle) наблюдали, что после кормления анилиновыми красками крыс, морских свинок и кур окрашивались зародыш, а затем и потомство. Более широкие выводы из опытов невозможны; для наследственности приобретенных качеств они столь же мало доказательны, как и передача иммунитета.
Разрешение этого вопроса двинуто значительно вперед благодаря — опытам Тоwer'а и Кammerer'a. Tower вызвал у колорадского жука (по примеру Standfuss'a, Weismann'a, Ficcher'a и Sehroder'a) определенные изменения окраски в личиночной стадии, подвергая его в стадии куколки действию ненормальных внешних условий (жара, холода, влажности). Эти вариации по наследству не передавались. Напротив, если в эти условия ставилась личинка вполне развитой окраски, то цвет ее оставался неизменным, но если это воздействие на личинку оказывалось как раз в периоде созревания половых клеток, то у потомства ее обнаруживались те же самые видоизменения.
Из этих опытов вытекает прежде всего одно следствие, необычайно важное в применении к патологии, а именно, что половые клетки поддаются воздействию лишь в определенные периоды. Если во время этого периода мы перестанем подвергать их раздражениям, то потомство остается незатронутым, с какой бы силой они не действовали до этого (в стадии куколки). Яйца кладутся этими животными отдельными порциями через известные промежутки, и измененное потомство получалось всегда из тех, развитие которых происходило под влиянием анормальных раздражений. В биологии принято поэтому говорить о критическом или чувствительном периоде («kritisсhe oder sensible Periode»). Есть ли что-либо аналогичное и у позвоночных животных, это, конечно, большой вопрос.
Впрочем сам Tower, a еще решительнее Lang приходят на основании этих опытов к тому выводу, что соматической индукции не существует. Если бы существовала соматогенная передача по наследству приобретенных качеств, то измененные жуки должны были бы давать измененное потомство при всяких условиях. И, действительно, в случаях Tower процесс (действующий, напр., также и при упомянутом нами алкогольном отравлении) оказался разложенным на две части: повреждение родительского организма и повреждение половых клеток идут независимо друг ют друга, при чем и то, и другое только во время определенной «чувствительной» фазы. Seтоn выступает с возражением: наружная кутикула колорадских жуков, в которой отлагается пигмент, не содержит в себе пористых канальцев и лишена поэтому всяких проводящих раздражения соединений с раздражимой субстанцией организма, включая сюда и его половые клетки. Но этой причине выводы, делаемые Tower’ом и Lang'ом также неосновательны, как если бы мы сказали, что «человека с неподвижной маской на лице (черты которого не в состоянии показывать никаких изменений) нисколько не будут трогать радостные и печальные впечатления». Возражение это почти неопровержимо, хотя как раз Sem on'у следовало бы подумать также и о том, что отложение пигмента в кутикуле могло бы быть только внешним результатом, симптомом действия того-раздражения, которое повлияло на соматическую плазму; в этом случае было бы вполне возможно, что первичное, неуловимое для нас изменение организма оказало «мнемическое» раздражение на половые клетки в периоде их чувствительности. Во всяком случае нельзя не согласиться с Зетоп'ом, что эти опыты не достаточны для исключения возможности соматической индукции. Из экспериментов Kammerer'a мы приведем исключительна ряд опытов, проделанных над жабой-повитухой). Эта жаба при нормальных условиях мечет икру на суше и кладет сравнительно-небольшое число (18—86) крупных, богатых желтком яиц. Если находящихся в периоде кладки животных действием высокой температуры побуждать как можно чаще опускался в воду, то число яиц возрастает до 115, а богатство их желтком уменьшается. На аналогично ведут себя также и потомки полученного таким образом резко измененного поколения, даже если они поставлены в прежние обычные условия. «Заметим дополнительно, что если яйца 2) исходного поколения держать при высокой температуре (25—30° С), то возврат второго поколения к примитивной манере метания икры, свойственной другим амфибиям типа лягушек, сказывается еще резче. Студенистая оболочка яиц второго поколения утолщается, у личинок появляются типические для амфибий жабры, а у взрослых самцов третьего и особенно четвертого поколения развиваются в периоде метания икры мозоли больших пальцев» (Наecker).
Факты, приведенные в этих тезисах, чрезвычайно важны для оценки этих опытов и всех сходных с ними. Полученные видоизменения представляют собою в значительной мере возвраты к прежним естественными формам, т. — е. атавизмы или, если угодно, «случаи утраты дифференцировки» («Entdifferenzier un gen») (Haecker). Это, во-первых; кроме того, эти вариации прежде всего бластогенны, т. — е. возникли благодаря воздействию на зачаток. Стало быть, наследственность приобретенных качеств здесь только кажущаяся, она симулируется тем, что от действия одного и того же раздражения на развитое животное и на его зачатки получаются в конце концов одинаковые результаты. Правда, объяснить это тождество действия очень трудно; в этом Semon вполне прав. Термин же «параллельная индукция» означал только новую формулировку вопроса, красивое название, данное чему-то, что осталось по существу непонятным. Действительным же объяснением мы обязаны Goldschmidt'y. В известном смысле оно совпадает с нашим собственным объяснением, данным нами для определенного патологического случая: для эпилептических судорог у пьяниц и их детей. Как и при оценке опытов Brоwn-Suquard'a, мы исходим при этом из того эмпирического факта, что наклонность к эпилептическим припадкам заложена в мозгу каждого человека, правда, в индивидуально различной степени. Если так, то ясно, что люди, предрасположенные, будут реагировать судорожными припадками на меньшие вредности, чем другие, и что наибольшая вероятность появления подобных инсультов будет дана в таких случаях, где имеется сильное предрасположение и тяжкое повреждение. Но чем вообще вероятнее наступление таких припадков, тем чаще оно будет наблюдаться в некоторых случаях и у родителей, и у детей, так как предрасположение это, конечно, наследственно.
Указания, даваемые Groldschmidt'oм совершенно аналогичны; он говорит, что раздражения, применявшиеся в опытах Тоwer'а, естественно должны были бы дать максимальный эффект в том случае, когда на предельную положительную (или отрицательную) флюктуацию количественной стороны какого-нибудь фактора подействовала бы соответственная предельная модификация. Естественно, что для выяснения вопроса о наследственности в этих опытах всегда выбирались особи с максимальными изменениями; но именно относительно таких особей следовало бы, основываясь на интенсивности вызванного у них: изменения, сделать вывод, что особи эти представляли собой с самого начала крайнюю степень флюктуации в направлении этих изменений. При таких условиях само собой разумелась известная (хотя бы и ослабленная) способность к наследственной передаче для этих качеств, и появление аналогичных изменений у некоторой части потомства было обусловлено исключительно этой наследственной тенденцией. Эту же мысль, но опять-таки на иной несколько лад высказывает и Haecker; по его мнению, случаи так называемой параллельной индукции объясняются по большей части тем, что филогенетически молодые качества оказываются или сбитым с пути, или подавленными в своем развитии: «но это будут (по крайней мере хоть отчасти) те же самые черты, которые в силу тех же влияний были деспециализированы уже и у родителей. Получаются, стало быть, в силу внутренней необходимости те же самые задержки развития («E ntwicklungshemmunge n»), что и у родителей ».
Объяснение это относится также и к мутациям, и, действительно, почти все авторы (назовем из них: Haecker'а, Goldschmidt'a, Lang'a Gruber'а) согласны в том, что нет никакой принципиальной разницы между мутацией и тем, что некоторые исследователи продолжают до сих пор называть наследственностью приобретенных качеств. Мы видели выше, что мутации (наследственные вариации) вызываются внешними моментами, и знаем теперь, что и там, где, как казалось, наследовались приобретенные качества, дело все-таки сводилось в последнем счете опять-таки к действию экзогенных причин на половые клетки. Это по существу дела одни и тот же процесс.
Этим дан ответ на поставленный нами вопрос. Появление новых наследственных качеств за счет соматической индукции не доказано. «Насколько хватает наших экспериментальных знаний», говорит Lang, «все наследственные образования бластогенны. Против гипотезы о наследственности за счет соматической индукции, против теории отпечатков и переносов говорит уже доказательство существования чистых линий, да и весь эмпирический материал об альтернативной наследственности». Goldschmidt вполне согласен с этим и полагает, что «результат попыток доказать наследственность приобретенных качеств настолько скуден, что его можно назвать отрицательным». Наконец, Haecker говорит следующее: «…при чистой и косвенной параллельной индукции… не может быть и речи о наследовании приобретенных качеств в смысле Lamarck'a, a только» о наследовании приобретенных предрасположений в смысле О. Hertwig'a или, как можно было бы еще выразиться, о наследовании экзобластогенных предрасположений, так как причину изменений, появляющихся у потомков, в большинстве приведенных примеров надо видеть в вариациях зародышевой плазмы их родителей и, так как дело идет в данных случаях об изменениях бластогенных, вызванных внешними раздражениями».
На этом мы можем считать проблему исчерпанной. При теперешнем состоянии наших знаний мы должны безусловно отрицательно ответить на вопрос о том, может ли наследственность приобретенных качеств играть какую-нибудь роль в возникновении вырождения, в этиологии болезней В применении же к человеку просто немыслимо что-либо такое, что могло бы идти в сравнение с опытами хотя бы только Kammerer'а—весьма еще спорными к тому же. Увечья и т. п. явления наверняка не наследуются; если у больных в частности эпилептичных (благодаря особым операциям) животных рождаются больные (в частности эпилептичные) потомки, то перед нами не наследование, а повреждение зародыша, соответствующее, напр., такому же повреждению после алкогольного отравления; качества, приобретенные функциональным путем, благодаря упражнению или отсутствию функции, никогда не повторяются у детей; таким образом, опровергнуто все, что могло бы обосновать гипотезу наследственности приобретенных человеком качеств и оправдать страх обусловленного такой наследственностью вырождения. Ни один человек, следивший за литературой о соматической индукции, не станет, напр., думать, что приобретенная в течение жизни нервная раздражительность могла бы перейти на потомство. Повреждения зародыша известны психиатрии уже давно; нет в ней разногласий также и насчет «нормальной индукции» благодаря действию яда. Здесь возможно, как показывает пример с алкоголем, даже совершенно одинаковое по своему результату действие на родителей и детей; однако, и в данном случае- нет никакой передачи по наследству в биологическом смысле, и было бы совершенно неуместно делать на основании этих случаев какие-либо общие выводы о наследственности приобретенных качеств.
НЕРВНОЕ ВЫРОЖДЕНИЕ В СМЫСЛЕ MOREL'я
Б этой главе мы займемся вопросом, существует ли вообще вырождение в смысле Morel’я, т. — е. обусловленное внутренними законами прогрессивное развитие нервных болезней, поражающих поколение за поколением. Беем известно, что иногда вследствие случайного сцепления внешних обстоятельств многие члены одной и той же семьи заболевают один за другим все более и более тяжелыми формами душевного расстройства, и простое собирание подобных случаев, не объединенных никакой внутренней связью, не имеет никакой научной ценности.
В настоящее время можно поэтому совершенно не считаться со схемой Morel'я; Morel, y которого в качестве проявлений вырождения фигурируют прогрессивный паралич и кретинизм, был введен в заблуждение случайным совпадением эндогенных и экзогенных патологических причин в отдельных семьях. Но, отказываясь от той особой формы дегенеративного процесса, которую, как ему казалось, наблюдал Morel, мы, конечно, не вправе отказываться от понятия нервного вырождения вообще. То, что в данном случае принципиально важно — прогрессирующее с каждым поколением ухудшение нервного здоровья— все-таки могло бы представлять собою закономерное явление, но в других формах. Так ли это, должны решить клинические факты.
Morel говорил об «известных уклонениях душевной болезни от ее первичного типа, вызванных психическими и физическими болезненными влияниями, для которых характерно, главным образом,. то, что, благодаря передаче болезни по наследству, потомки психически ненормальных людей болеют обычно еще более тяжело, чем их предки». В другом месте он развивает это подробнее: «допустим, что вначале это уклонение чрезвычайно просто, и тем не менее в нем заключены элементы, способные передаваться дальше и отличающиеся тем свойством, что человек, носящий в себе такой зачаток, становится все более и более неспособным выполнять свою роль в обществе, и что умственное развитие, задержанное уже и у него, ставится под еще большую угрозу у его потомства».
Все изученные нами до сих пор факты наследственности мало согласуются с этим учением. Несомненно, что круг возможных причин подобной патологической эволюции резко суживается установлением того положения, что приобретенные качества не передаются по наследству. Но, по-видимому, можно пойти даже дальше и сказать: наследственные (в биологическом смысле слова) заболевания детей могли бы быть закономерно более тяжелыми, чем у родителей, самое большое лишь в том случае, когда болезненное предрасположение переходит к ребенку от обоих производителей и суммируется у него. Иначе эти законы наследственности будут вызывать всегда лишь простое повторение, но вовсе не «дегенеративное» ухудшение болезненного процесса (способны ли эти законы вызвать,—например, благодаря феномену доминирования—более широкое распространение некоторых заболеваний, это еще подлежит в дальнейшем нашему исследованию).
Итак, если клинические факты доказывают, что процесс, названный Morel’ем вырождением, действительно встречается, то у нас остаются только две возможности объяснения: или биологические законы наследственности претерпевают в области патологии исключения, или же то, что обычно называется в патологии наследственностью, и наследственность нормальных качеств представляют собой не всегда принципиально однородные процессы.
Нечего доказывать, что первая возможность невероятна, в пользу же второй есть веские основания.
0. Binswangen высказался уже давно—и по нашему мнению совершенно основательно—против распространенной, но не доказанной гипотезы: «будто патологическая наследственность [т. — е. наследственная изменчивость (способность к вариациям), вызываемая вредными моментами и ведущая к ухудшению вида или, правильнее сказать, индивидуального типа] подчинена тем же условиям, которые управляют и филогенетической эволюцией, т. — е. необходимыми для сохранения и дальнейшего развития вида постоянством respective изменчивостью индивидуальных качеств».
И это не просто гипотеза. Нам известны такие формы связи между заболеванием родителей и болезнью детей, которые не имеют ничего общего с наследственностью в биологическом смысле. Помимо отравления зародыша, о котором мы уже говорили, существуют, вероятно, и другие виды повреждений зародыша, действующие аналогичным образом. Мы видели: при отравлении зародыша у родителей и у детей могут получиться внешне одинаковые изменения, как и при подлинной наследственности; поэтому для нас есть опасность смешать между собою оба эти процесса. Но внутренние законы этих конечных результатов вовсе не должны поэтому совпадать. Уже на этом одном основании мы не вправе ограничиваться в этой работе изучением одних биологических законов наследственности.
Таким образом, в дальнейшем мы должны будем сопоставить— под углом зрения поставленных нами выше вопросов — все факты общего характера, установленные до сих пор в области передачи болезненных задатков от одного поколения к другому. Начнем с повреждений зародыша.
Мы уже отмечали, что Weismann никогда не отрицал, что, например, климат и питание могут влиять на половые клетки. Упомянутый же нами факт, что некоторые «sports» наблюдались в определенные периоды времени в большем количестве, делает правдоподобным, что таким путем могут возникать даже и стойкие изменения вида, мутации.
Еще надежнее клинический опыт относительно некоторых определенных ядов (алкоголь, свинец, ртуть): поступая в организм производителей, они оказывают вредное действие и на потомство. Но и тут дело обстоит все-таки не так просто, как это часто описывают. Eugen Albrecht старался опровергнуть мнение, будто влияние алкоголя на половые клетки является действительно доказанным. Большинство патологов в этом с ним не согласятся, в в настоящее время нельзя отрицать по крайней мере того, что с этим ядом связано возникновение идиотии и эпилепсии. Разумеется, что в деталях многое остается еще весьма сомнительным и спорным. Главное затруднение состоит, как известно, в том, чта на хронических алкоголиков лишь в исключительных случаях можно смотреть, как на людей здоровых от рождения. Алкоголь всем одинаково доступен, и если некоторые предаются этому яду хронически, то они с самого начала должны быть устроены как-то иначе, чем остальные средние люди. Конечно, к этому присоединяются и удобные поводы к выпивкам, даваемые известными профессиями; однако в большинстве случаев удается установить, что алкоголики отличались психопатическим складом уже от рождения. Для нас безразлично, что это психопатическое предрасположение не всегда одинаково, что пьяницы могут быть и маниако-депрессивными, и шизофрениками, и эпилептиками, а также и врожденно слабоумными, конституционально-нервными или истеричными; суть дела в том, что в громадном большинстве они ненормальны от рождения. А если это так, то заболевания их детей лишь с величайшей осторожностью можно объяснить отравлением зачатка. В данном случае естественнее подумать просто о наследственности. Здесь нам нет надобности говорить о том, что в некоторых случаях на алкоголь все-таки приходится смотреть, как на этиологический момент; нас должно интересовать другое: верно ли, что злоупотребление этим напитком ухудшает среднее нервное здоровье целых поколений (благодаря отравлению зачатка). Часто, как известно, утверждалось, что это так, и делались попытки доказать это путем статистики. К указанной нами трудности, с которой связаны все исследования этого рода, здесь присоединяется еще другая, состоящая в том, что в семье алкоголиков пьют обыкновенно также и их дети. Следовательно, если они плохо успевают в школе, то это могло бы быть по причине прямого отравления их мозга. А, кроме того, до сих пор еще не выяснено, являются ли дети алкоголиков, действительно, физически, умственно и нравственно менее ценными, чем потомки умеренных родителей. Эта теория значительно поколеблена вычислениями Elderton'a, авторитетно поддержанными Pearson’ом, и до тех пор, пока эти исследования не будут проверены, придется воздержаться от окончательного суждения. Но зная, что идиотия развивается вследствие пьянства отца, мы вправе все-таки подозревать, что и более легкие степени слабоумия могут быть вызваны этой же причиной.
Гораздо менее вероятно (по физиологическим соображениям) другое, к тому же весьма спорное, утверждение, будто появлению на свет людей слабоумных особенно способствует «зачатие в состоянии опьянения» (Schule, Dйjйrine, FJemminz). Попытка Bezzola доказать это положение может почитаться неудачной. Bezzola полагал, что годичную кривую внебрачных рождений в Швейцарии и годичную кривую рождений выдающихся в интеллектуальном отношении людей можно объяснить большим числом зачатий имбецилов во время карнавала и в периоде сбора винограда. M. v. Grub er совершенно справедливо замечает по этому поводу, что эти различия слишком незначительны, чтобы делать из них какое-либо заключение.
Зато совершенно несомненно другое влияние алкоголя на потомство: ограничение числа жизнеспособных младенцев. Выкидыши и мертворожденные в семьях алкоголиков— дело обычное, 'кроме того, значительная часть детей, родившихся живыми, умирает в первые же годы жизни от судорог, общей слабости или вследствие малой сопротивляемости инфекционным болезням (ср., напр., генеалогические таблицы В. H. Roemer'а, относящиеся к двум средне-баденским винодельческим местностям). — Этим объясняется, что Legrain'y часто приходилось видеть полное исчезновение семейств пьяниц в течение трех или четырех поколений, и что, как показали данные Munchen'ской клиники, общее число потомков целого ряда тяжелых алкоголиков не достигало даже числа их родителей еще при жизни этих последних).
Некоторые другие яды действуют в этом отношении, невидимому, еще разрушительнее, как это доказывают исследования Кusstanl'я относительно ртути и С. Paul'я и Legge относительно свинца. По Legge на 212 беременностей у работниц свинцовых производств было отмечено 52,2 неправильных respective преждевременных родов, тогда как Paul наблюдал тот же исход при 70 беременностях даже в 87°/о всех случаев. По данным того же автора, даже если интоксикации подвержен только отец, то все-таки в 61°/о всех случаев дело кончается выкидышем.
Эти числа выше даже тех, которые были получены для сифилиса. «Сифилис ведет не столько к вырождению, сколько к уменьшению расы», заключает Pinger на основании своих исследовании, о которых мы еще будем говорить. Действительно, выкидыш прямо патогномоничен для семейств люэтиков, и если мы прибавим сюда раннюю смерть детей, родившихся живыми, но слабенькими или определенно больными, то увидим, что губительное действие этой заразной болезни действительно очень велико. К этому присоединяется, кроме того, и малая продолжительность жизни первично зараженных индивидуумов, установленная обществами страхования жизни. Однако нельзя недооценивать также и дегенеративного влияния сифилиса. Слова Pinger'а остаются в полной силе, но они относятся к третьему поколению сифилитических семейств. За всяким более сильным распространением этой болезни должно с естественной необходимостью следовать нервное вырождение в смысле нашего определения понятия (вырождение, следовательно, в самом широком смысле)—это обеспечивается сифилитическими и метасифилитическими заболеваниями первого—лично зараженного и второго—врожденно сифилитического поколений.
Что справедливо относительно сифилиса приложимо, невидимому, хотя, вероятно, и в меньшей степени, и ко многим инфекционным заболеваниям. Утверждали не раз, что туберкулез родителей угрожает нервному здоровью детей (van der Velden, lones, Naecke; von Diem оспаривает это), а в новейшее время в этом винят и малярию (Orguas). О других инфекционных болезнях у нас нет точных данных, но не исключена возможность, что и инфлюэнца, и тиф, и многие другие болезни этого рода наносят вред потомству.
Более того: следует, может быть, еще более расширить понятие повреждения зародыша. Возможно, что при возникновении нервных конституций эта этиология играет такую роль, которая значительно выходит за пределы действия инфекций и интоксикаций. Надо считать почти вероятным, что тяжелые изнурительные болезни и общие заболевания [вроде карциноматоза (Naecke), артрита, подагры, диабета, анемии, лейкемии и хлороза (Вinswanger)], как и ослабляющие моменты вообще, могут понижать нервную сопротивляемость следующего поколения. Binswanger приводит наблюдения, говорящие определенно в пользу возникновения невропатической конституции на почве вредных моментов, действовавших во внутриутробном периоде—дело идет, напр.. о частых родах и о рождении близнецов, т. — е. о процессах, влияющих на жизнеспособность детей (v. d. Velden и др.). Может быть, это могло бы пролить свет на некоторые утверждения, часто оспаривавшиеся, но ни разу не опровергнутые, напр., о том, что для детей может иметь роковое значение]) преклонный или слишком юный возраст родителей (Morel, Orchansky, v. d. Velden) или что физической и душевной неполноценностью отличаются часто первенцы (Orchansky, Pearson, Crzellit zer). Сюда же относится и сообщение Le Gendres, что «enfants de siиge»—дети, зачатые во время осады Парижа,—были особенно дегенерированными (Ferй). В этом случае нам пришлось бы ожидать и в Германии увеличения нервных расстройств у детей, родившихся в годы войны; по моим впечатлениям до настоящего времени этого нельзя отметить.
Наконец, этот взгляд на сущность повреждений зародышевой плазмы мог бы облегчить понимание фактов, давших повод к появлению учения о «полиморфизме» наследственности. Никто не будет спорить, что само по себе это учение мало вяжется с биологическими правилами наследственности, а гипотеза Moebius'a, что неврастения представляет собою первичную «материю» (Urschleim), из которой якобы развиваются разнообразные формы нервных и душевных расстройств, делает необходимым ряд очень натянутых вспомогательных гипотез.
Но так как есть психиатры, настаивающие до сих пор на этом «полиморфизме наследственности», то мы должны вкратце рассмотреть эти вспомогательные гипотезы.
Мы оставляем при этом в стороне тот общеизвестный факт, что формы проявления—«фенотип»—некоторых душевных заболеваний очень многообразны и что потому мы можем быть введены в заблуждение насчет «генотипической» родственности известных психозов, развивающихся у различных членов одной и той же семьи. Мы научились относить к одной и той же основной форме, к маниакально-депрессивному психозу, манию у сына и меланхолию у матери; и не исключена возможность, что будущие исследования раскроют связь и между такими болезнями, в которых, как нам ныне кажется, нет ничего общего между собою. Но если бы мы вздумали ожидать такого результата для всех форм душевного расстройства, по отношению к которым говорили о полиморфизме наследственности, то—за исключением, конечно, грубо органических заболеваний—мы пришли бы в конце концов к теории о едином психозе («Einheitspsychose»). Но это воззрение невозможно и по таким основаниям, о которых мы здесь не можем распространяться.
Изучая наследственность щи dementia praecox, Rudin пришел, правда, к заключению, что полиморфизм мог бы возникать вследствие сложных явлений расщепления, связанных с наследственностью, т. — е. в последнем счете благодаря тому, что для возникновения определенных душевных болезней нужны всегда два признака (гена), и что характер возникшего таким путем психоза определяется именно этой особой комбинацией таких патогенных задатков. Rudin считает обоснованным предположение, «что душевно-больным родителям ранне-слабоумных пациентов более (чем здоровым родителям в здоровых семьях) свойственна способность производить такие задатки, из которых, как таковых, еще не может развиться dementia praecox, но которым (в силу таких же своеобразных качеств половых клеток партнера) сообщается при оплодотворении какой-то комплемент (т. — е. происходит дополнение их каким-то недостающим зачаточным субстратом), благодаря чему и образуется в конце концов то предрасположение, из которого может развиться в дальнейшем dementia praecox». Само по себе это, быть может, и возможно, но зато гораздо труднее постичь, что такой больной задаток должен с известной закономерностью встречаться с другими задатками, которые различаясь между собою, опять-таки все болезненны и все каким-то образом с ним согласованы, так что возникает то dementia praecox, то какой-нибудь другой психоз. Биологии, конечно, известен «дигибридный» наследственный механизм, предполагаемый этой концепцией, но там дело сводится или к менделированию двух, различных также и по своей категории, качеств, присутствие которых только увеличивает число возможных при скрещивании комбинаций или ж е к тому, что два признака—сами по себе различные, но относящиеся к той же категории (как, напр., цвет и густота пигмента)—наследуются, хотя и независимо друг от друга, но определяют внешний образ развивающегося животного все-таки сообща. В обоих случаях мы имеем перед собой нормальные качества, всякая новая группировка которых будет давать в результате всегда опять-таки нечто нормальное, и которые, несмотря на общность некоторых производимых ими действий, все-таки никоим образом не установлены заранее друг для друга («nicht aufeinander abgestimmt»). Но, по мысли Rudin'a, определенные болезни должны возникать с известной закономерностью в силу того, что различные патогенные задатки не только нуждаются во взаимном дополнении, но и находят себе время от времени повсюду подобные дополнение). Нельзя сказать, чтобы это было вероятным; но я готов допустить, что это возможно, так как некоторые аномалии внутренней секреции наследуются независимо друг от друга, и при определенных (химических) группировках, может быть, и действительно вызывают психозы.
В самое последнее время H. Hoffmann и Kretschmer предложили на обсуждение новой взгляд, который мог бы объяснить клинические факты, не доказывая, правда, подлинного полиморфизма наследственности. Конечно, вполне возможно, что иногда в одной и той же семье сталкиваются гетерогенные болезненные задатки и вызывают у одного из детей раннее слабоумие, а у другого,, скажем, маниакально-депрессивное помешательство. Но такие совпадения будут наблюдаться гораздо чаще, если и dementia praecox,. и маниакально-депрессивный психоз развиваются из нормальных широко распространенных конституций и если резко выраженные психозы этого рода будут представлять собою таким образом не что иное, как лишь «отдельные узловые точки», вкрапленные в сложноветвистую сеть нормальных, соматически-характерологических конституциональных взаимоотношений («Kretsсhmer»), При таком условии мыслимо не только случайное сцепление разнородных психозов, но и их слияние в одной и той же личности, «амальгама» («Legierung»), напр., маниакально-депрессивной и шизофренической конституции; общий итог заключался бы в большом количестве форм, которые были бы все-таки связаны между собой наследственными соотношениями. Однако, гипотеза эта еще не доказана.
Что касается объяснения повреждений зародыша, то здесь все эти трудности отпадают. И если здесь вообще нужны объяснения, то объяснять придется не различие, а разве лишь сходства известных состояний, наблюдающихся и у родителей, и у детей. Выше мы дали такое объяснение для определенных фактов, здесь мы должны отметить еще раз, что, как правило, следует ожидать, что результаты у родителей, и у детей будут неоднородны. Так что при отравлениях зародыша полиморфизм вполне естественен и понятен, но только это вовсе не полиморфизм «наследственности». С этой точки зрения вполне понятны и широкая распространенность невропатической конституции, и ее чрезвычайное протеоподобное многообразие: бесчисленные формы повреждений зародыша создают большое разнообразие причин для ее возникновения. Очень многие так называемые невропаты и неврастеники в действительности просто люди физически хилые и лишь поэтому также и менее крепкие нервами. С точки зрения наших современных взглядов естественнее всего искать причину их нервности преимущественно в химических нарушениях, в расстройстве у них обмена веществ, обусловленном первичным заболеванием некоторых желез внутренней секреции. Однако весьма сомнительно, применимо ли это воззрение ко всем случаям, и если бы оно и было применимо, то все-таки пришлось бы допустить целый ряд очень различных заболеваний этих эндокринных аппаратов. Как бы там ни было, не подлежит сомнению, что физических субстратов нервной конституции должно быть несколько. Но если эти субстраты возникают за счет повреждений зародыша, то нам ясно, что подобные люди могут передать свою физическую слабость и своему потомству, правда, не «по наследству», а опять-таки путем повреждений зародыша. Но в этом случае у их потомства не повторится или по крайней мере не должна будет повториться та форма, в которой проявилась нервная недостаточность у них самих. При таком понимании этого процесса полиморфизм представляется почти само собой разумеющимся; ибо мы не' вправе будем ожидать полного единообразия во вторичных симптомах у всех людей с этим заболеванием—вспомним, напр., хотя бы о нервных последовательных симптомах после изнурительных болезней.
По-видимому, этот источник вырождения все-таки не представляется несомненным. Мы не знаем ни степени его распространения, ни его интенсивности и, что, пожалуй, еще важнее, мы не знаем также и пределов его влияния. Что от сифилиса и алкоголя второе поколение ') становится хилым, это установленный факт; спрашивается, не простирается ли это вредное влияние иногда и еще дальше?
Ответ на этот чрезвычайно важный для проблемы дегенерации вопрос многим кажется само собой разумеющимся. Когда говорят об отравлениях зародыша, то обычно всегда исходят из молчаливой предпосылки о неудержимом распространении ядовитой заразы на весь род, на целое семейство. О подобной передаче более удаленным поколениям (далее второго) говорили выше и мы, как о возможности. Однако допущение это вовсе не необходимо. Отравление зародыша есть отравление развивающегося ребенка; его собственные половые клетки вовсе не обязательно должны заболевать при этом. Binswanger высказался в спое время в том смысле, что болезненные задатки, приобретенные зародышем (Embryo), могли бы передаваться далее («наследоваться») в том случае, если вредный момент подействовал до образования дифференцированных половых клеток или вызвал после этой дифференцировки такую общую задержку развития, которая отразилась бы и на половых клетках. Эта гипотеза получила за это время известную опору благодаря тому, что по теперешним воззрениям внешними причинами вызываются также и мутации, т. — е. наследственные отклонения от вида. С этой точки зрения невозможно, что иногда наследственные задатки болезни возникают у человека в виде исключений в результате повреждений зародыша. Все, что мы знаем о мутациях, говорит за то, что это было бы возможно лишь в редких случаях, и до сих пор мы не знаем даже и того, встречается ли это вообще когда-либо. Имеется зато другая возможность, что повреждение зародыша может действовать, как таковое, и за пределами второго поколения (даже и не вызывая наследственных уклонений).
В обоих случаях доказательство такого дальнейшего переноса было бы нелегко. Пользоваться здесь клиническими наблюдениями можно лишь с величайшей осторожностью, так как причины повреждений зародыша очень различны и многочисленны и так как появление нового вредного момента, напр., во втором поколении, можно исключить лишь в редких случаях. Чтобы доказать это. достаточно лишь напомнить о широком распространении хронического алкоголизма. Кроме того, именно при этом отравлении присоединяется то, что мы уже отмечали выше: мы часто не знаем, почему человек стал ненормален, потому ли, что он сильно пил. или связь эта была обратной. В этом отношении при сифилисе условия складываются будто бы благоприятнее, но все-таки и здесь они еще достаточно затруднительны.
Лучшее решение этого вопроса могли бы дать эксперименты. Есть уже и попытки в этом смысле, однако, окончательного результата еще не достигнуто. Чистейший эксперимент принадлежит Maтfred'y Fraenkel: он подвергал морскую свинку—самку—через 4 дня после рождения действию рентгеновских лучей и случал ее затем со здоровым самцом того же помета. Результат: одно мертвое и два необычайно мелких животных. После спаривания животных этого второго поколения друг с другом получилось третье поколение, состоявшее опять-таки из одного мертвого и одного мелкого животного. Из этого как будто бы вытекает, что повреждение зародыша, невидимому, действительно вредно отзывается и на третьем поколении, хотя, конечно, это доказательство (опирающееся, в сущности говоря, лишь на размеры одного единственного животного в третьем поколении) совершенно недостаточно.
Для выяснения действия алкоголя было произведено гораздо больше экспериментов, но и здесь вопрос выяснен все-таки не до конца: эксперименты шли обыкновенно не далее второго поколения. В случаях, где они шли дальше, результаты получались не вполне ясные пли же опыты были не насколько многочисленны (Combe-maie), чтобы быть особенно доказательными.
Нам возразят, что зато имеются исследования относительно сифилиса- известные исследования Fournie г. В 45 семействах, в которых отец или мать, или оба родителя были врожденными сифилитиками, 145 беременностей дали 82 выкидыша и мертворожденных, 63 младенца родились живыми, но у 61 из них наблюдались многочисленные уродства того типа, которые рассматриваются обычно как Stigmata hereditatis. Эти (разумеется, очень важные для проблемы вырождения) исследования подвергались с тех пор неоднократной проверке, так что Finger, в сделанной и\г в 1900 г. сводке опубликованных к тому времени работ, мог базироваться на очень большом материале. Его выводы, не поколебленные, насколько нам известно, какими-либо позднейшими работами, значительно отличаются от результатов Fournie г. По Finger'у теоретически возможен перенос настоящего вирулентного сифилиса на третье поколение; однако он до сих пор не доказан безупречным образом; что же касается вреда, наносимого этому поколению сифилотоксическими дистрофическими расстройствами, то Finger убедительно показал, что понятие этих расстройств было до сих пор недостаточно точный, и что то, что носило это название, нельзя рассматривать как нечто характерное для lues'a. Te же самые аномалии встречаются и на почве туберкулеза, на почве алкогольного и свинцового отравления и даже там, где нет и этих этиологических моментов. Кроме того, они встречаются также у детей, зараженных сифилисом от кормилицы. В общем и целом Finger, как уже сказано, считает сифилогенное вырождение третьего поколения недоказанным, отмечает зато большое число нежизнеспособных детей в этом поколении и даже еще и в следующем за ним.
Итоги в этом вопросе, стало быть, еще не подведены. Во всяком случае на сифилис надо смотреть, как на одну из главных причин вырождения. Однако сомнительно, что обусловленная им опасность, действительно, так чудовищно велика, как ее часто изображают, и какой она должна была бы быть, если бы этот яд был способен губить целые семьи. Во всяком случае этому распространению заразы положен предел: благодаря более высокой смертности в люэтических семьях. Если и со всеми отравлениями зародыша дело обстоит аналогично, то мы будем вправе отказаться от слишком пессимистических опасений по крайней мере за качественное ухудшение вида. Если все семьи, пораженные подобным образом, в конце концов вымирают, — —поскольку не наступает выздоровление,—то отравления зародыша приводят, по-видимому, вообще «не столько к вырождению, сколько к уменьшению расы».
Признаки отягощения. Stigmata degenerationis.
Значение работ, о которых мы только что говорили, не исчерпывается, однако, тем выводом, к которому они приводят. Уже исследования Fournier могли, казалось бы, пролить свет на одну из темнейших областей в патологии. Если физические признаки дегенерация (т. н. Stigmata hereditatis, которыми так злоупотребляли) развиваются благодаря действию сифилитических токсинов, то их природа уже не так непонятна, как это было до сих пор. Наблюдения Finger'а ведут в этом смысле даже еще дальше. Алкоголь, свинец, туберкулез вызывают будто бы те же самые физические аномалии. Возможно, следовательно, что признаки отягощения не что иное, как следствие отравлений зародыша. Если это так, то связь их с нервными болезнями, казавшаяся все более и более сомнительной, становится опять несколько надежнее. Алкоголизм и сифилис имеют колоссальное распространение (результаты исследований Plant'a, Nonne’я Hauptmann'а над реакцией сыворотки в люэтических семьях превосходят; самые пессимистические ожидания) и как раз после этих исследований не подлежит уже больше сомнению, что алкоголизм и сифилис способны вызвать физическую и психическую дефективность потомства. Сомнительным оставалось бы только следующее: все ли признаки отягощения возникают этим (или аналогичным) путем, и если это так, то переходят ли они затем также и к следующим поколениям. Если этого перехода не бывает, то учение о признаках отягощения должно было бы принять в будущем такую форму, которая оказалось бы весьма отличной от первоначальной.
Мы не будем особенно углубляться в историю этого учения. Оно вертелось в порочном кругу. Вполне естественно, что после введения (Griesinger'ом) в патологию понятия невропатической конституции стали искать физических точек опоры для ее распознавания. Таким образом, стали описывать один признак отягощения за другим и,—что сыграло роковую роль для всего учения о наследственности,—отыскивая новые формы наследственных нервных болезней, этими самыми признаками дегенерации «тали пользоваться, как указателями. Конечно, желание иметь объективно уловимые симптомы в психиатрии вполне понятно; непостижимо однако то, что долгие годы забывали о необходимости дать ответ на предварительный вопросе том, какова же, собственно говоря, связь между соматическими признаками отягощения и психопатической конституцией. Затем наступил, разумеется, переворот. Возражения против этой тенденции стали настолько многочисленны (в особенности после того, как против эксцессов морфологического направления выступил R. Sommer, указывая на «выход из этого сплошного тумана мер, чисел, таблиц, форм и типов»), что необходимость повторить все приводившиеся при этом доводы была бы чрезвычайно утомительной. Мы поэтому ограничимся самым необходимым.
Что касается фактической стороны, то анатомы с L. StiedaBO главе показали, что большинство так называемых «признаков дегенерации» не что иное, как обычные вариации, которые даже в том случае, если бы они относились к мозгу, отнюдь не составляли бы довода против душевного здоровья их носителя. Schwalbe доказал, напр., что одна из популярнейших «стигм»—Darwin'овское ухо («Snitzolir»)— даже не продукт атавизма, а самая обычная человеческая особенность, отсутствующая лишь в меньшинстве случаев. Впрочем и самые ревностные пионеры этого учения вроде, напр., Naecke, должны согласиться с тем, что нет почти ни одного здорового человека, совершенно свободного от признаков отягощения. Далее: благодаря Lapouge и Niceforo нам известно, что у людей бедных, живущих в негигиенических условиях, эти «сигналы отягощения» наблюдаются в большем числе, чем у людей зажиточных, и опять-таки именно к физической дегенерации относился и вывод английской комиссии по изучению дегенерации, гласивший, что вопрос о дегенерации—вопрос продовольственный и жилищный. Это определение вполне согласуется с результатами Fоurnier'а, Finger'a, Nonne и Hauptmann'a и совершенно не вяжется с той точкой зрения, что носители многочисленных «признаков дегенерации»—жертвы вырождения, унаследованного ими от предков и способного перейти от них и к их потомкам.
Если же эта точка зрения оказалось бы все-таки правильной, то мы должны были бы иметь принципиальную возможность вскрыть, обнаружить, доказать (пусть хоть и не во всех, а лишь в некоторых случаях) наличность или по крайней мере допустимость связи между психопатической конституцией и физическими аномалиями. Однако до сих пор это доказательство не было выполнено. Правда, до сравнительно недавнего времени не существовало даже никаких попыток к этому. Довольствовались простым совпадением. Всю некритичность этого метода вывели на свежую воду лишь такие наблюдения, как, напр., случай К. Sommer'а, в котором три брата-идиота унаследовали свойственную ям аномалию черепа несомненно от матери, а предрасположение к душевной болезни— от отца. Кроме того, становилось все яснее и яснее, что встречаются как (эндогенные) душевные болезни без «признаков отягощения», так и «Stigmata degenerationis» без всякого душевного расстройства (R. Sommer). Таким образом, клинические факты вынуждают нас к тому, чтобы или отказаться от учения о признаках дегенерации, или же дать ему новые научные основания.
Единственная систематическая попытка такого обоснования принадлежит Wolff’у, поднявшему вопрос о возможных вообще формах связи между психопатической конституцией и ее так называемыми соматическими признакам. Совершенно ясно, что оба эти явления либо взаимно координированы, либо одно из них подчинено другому. Подчиненность психической болезни была бы дана, напр., в том случае, если бы врожденное уродство черепа послужило препятствием для развития мозга. Но это не имело бы никакого отношения к наследственному вырождению—для нас же все дело именно в этом последнем; все ненаследственные расстройства, как, напр., амниотические перешнуровки и родовые травмы, должны, разумеется, быть удалены из сферы нашего внимания. Таким образом, у нас остается лишь вопрос: соподчинены ли признаки вырождения заболеванию нервной система, или же они подчинены ему?
Вопрос этот имеет большое практическое значение. От ответа на него зависит клиническая пригодность признаков дегенерации. Если психопатическое предрасположение и телесные аномалии соподчинены друг другу, то это может иметь в данном случае лишь один смысл: что они—следствия одной и той же причины; до чисто случайного их совпадения нам, конечно, нет никакого дела. В этом случае ненормальное мозговое предрасположение и ненормальное строение всего тела наблюдались бы иногда в сочетании друг с другом лишь по той причине, что один и тот же вредный момент задержал развитие целого ряда органов. А отсюда прямо вытекает, что только при общем неправильном развитии всего тела можно бы было считать вероятным, что затронут также и мозг, ибо если некоторые части тела сохранились здоровыми, то, конечно, мог остаться здоровым и мозг. Совсем другое дело, если бы физические признаки дегенерации зависели от ненормальной конституции нервной системы, если бы они представили собою следствия такой конституции. В этом случае один единственный симптом этого рода доказывал бы уже наличность расстройства в нервном центральном органе, хотя бы даже и незначительного; а у носителя многочисленных признаков дегенерации мы были бы вправе ожидать тяжелых нервных изменений.
В этом пункте начинаются экспериментальные исследования BuMn'a и Wolff'a. Wolff задался вопросом: «может ли нервная деятельность оказывать влияние на морфологические процессы9» Само по себе в смысле влияния на сохранность определенных органов—эго. разумеется, установленный факт, как ai о доказывает мышечная атрофия после заболеваний спинного мозга. Но как, спрашивается, обстоит дело с развитием, с образованием тела, не зависит ли также и оно от нервной системыJ На этот вопрос очень трудно ответить. Относительно наиболее интересного для нас периода, а именно эмбрионального периода, в настоящее время, невидимому, можно считать установленным, что «потенции роста и дифференциации содержатся в самых тканях и органах, что они обладают в этом отношении весьма значительной независимостью от нервной системы» (F. K. Walter). Кроме того, Wolff доказал, что для регенерации задней конечности тритона еще не составляет препятствия простой перерыв связи конечности с центральной нервной системой. Однако, когда удалялась вся поясничная часть позвоночника со спинным мозгом и спинальными ганглиями, то регенерация не наступала. Наконец, по новейшим исследованиям К. F. Walt er'а, регенерация, невидимому, связана с рефлекторным процессом, в котором играют роль нисходящие части рефлекторной дуги и симпатические волокна.
Я думаю, что эти результаты дают нам очень маю данных для решения вопроса о «признаках вырождения». Если как раз во время эмбрионального периода нервная система не оказывает никакого решающего влияния на рост прочих частей тела, то, конечно, на основании телесных аномалий нельзя будет сделать вывода о наличии наследственных нервных расстройств. Ибо эти последние должны были бы проявить свое действие именно в этом периоде.
Таким образом, при критической оценке «признаков дегенерации» мы должны будем руководствоваться фактами другого рода. Что касается этих последних, то клинический опыт показывает, что у душевнобольных, психопатов и преступников Stigmata degenera-tlonis встречаются чаще, чем у людей здоровых и честных, но что они встречаются и у здоровых и могут отсутствовать у больных с тяжелым отягощением; анатомические исследования заставляют смотреть на большинство этих симптомов, как на нормальные вариации строения тела; наконец, антропологические исследования указываю т на связь этих аномалий с социальной средой, т. — е. на их зависимость от продовольственного вопроса. Все это лишает почвы учение о «признаках дегенерации». Можно сожалеть о громадной массе труда, посвященного этому вопросу, но придется, несмотря на возражение Naecke, согласиться, что эта работа была бесполезна для проблемы о «наследственном» вырождении. Может быть, удастся использовать по крайней мере часть ее результатов, когда возникнет задача поставить на прочное клиническое основание учение о повреждениях зародыша и учение о физической и психической дефективности, приобретенной в раннем детстве.
Наследственность при душевных болезнях.
Критика признаков отягощения приобретает для нас (в контексте этой работы) особое значение по той причине, что в истории этого учения отражается судьба всех психиатрических исследований о наследственности. Поэтому-то мы и включили сюда обсуждение этого вопроса; это позволит нам изложить последнюю часть этого отдела значительно более кратко, чем это было бы возможно в противном случае.
Мы хотели поставить вопрос, дают ли нам клинические факты право смотреть на случаи прогрессирующего с каждым поколением ухудшения нервного здоровья, как на закономерное явление; существуют ли эмпирические данные, из которых бы вытекало, что, переходя от родителей к детям, нервные болезни должны становиться тяжелее и многочисленнее- Мы начали с отравлений зародыша. Для них вопрос был решен в отрицательном смысле. Отравления зародыша вызывают нервное вырождение, и теоретически возможно даже и то, что иногда на их почве развиваются наследственные болезни. Однако мы не уверены даже и в том, что возникшая таким образом дегенерация не ограничивается вторым поколением, а идет дальше; допускать же, что, передаваясь дальше, она усиливается, у нас нет ни малейших оснований.
Но этим наша задача не исчерпывается. Мы начали с одной уловимой причины дегенерации и нашли, что остаются неизвестными лишь степень распространения и глубина действия этой причины—отравлений зародыша. Очень возможно, что есть заболевания, причины которых именно в повреждении зародыша, а мы этого узнать не в состоянии. Но ведь мыслимы, кроме того, еще и другие причины дегенерации, в частности нам придется подробно исследовать уже затронутый нами выше вопрос о том, нет ли возможностей дегенерации в самих законах наследственности. О схеме самого Morel’я говорить уже больше не приходится. Первым высказавшимся против нее был кажется Tigges; Neumann объявил затем, что «описания наследственной дегенерации, даваемые Legrand de Saulle, следует рассматривать в настоящее время лишь как роман»; Meynert высказался в том смысле, что «нельзя допустить, чтобы условия наследственности действовали с каждым поколением все сильнее и сильнее», тогда как Sioli обратил внимание на наблюдение, что «в случаях, где имелись налицо симптомы вырождения, психозы у потомков в дальнейших поколениях неоднократно не только не ухудшались, но даже улучшались». Наконец, среднюю позицию занял Binswanger; по его мнению, иногда действительно наблюдается прогрессирующее развитие у потомства дегенеративных невропатических состояний, однако, в этой области нет никакого закона природы, обязательного для всех случаев.
В этом самое главное. Не существует вовсе такого вырождения, которое с необходимостью возникало бы и прогрессировало бы в силу внутренних причин. Morеl же имел ввиду именно такое вырождение. «Раз возникнув, дегенерация имеет наклонность сохраняться и ухудшаться, тогда как признаки расы и породы у животных исчезают, как только прекращаются влияния, благодаря которым уклонение образовалось, и зоологический вид стремится к своему первоначальному типу».
Это было заблуждением. Верно как раз обратное, а именно, как подчеркивает Ribbert, «что болезненные состояния не делаются существенными типическими качествами человеческого рода. Как целое, человечество как бы сбрасывает с себя болезнь и идет неуклонно вперед по своему пути».
Насколько нам известно, патология знает только один единственный случай, когда болезнь при передаче на другое поколение принимает более серьезные формы: это т. н. антепозиция («Anteposition»), т. — е. начало определенных семейных нервных заболеваний (наследственная атаксия, Brown-Sйquard; прогрессивная мышечная атрофия, Eichhorst; хорея Huntington'a, Heilbronner) во все более ранние периоды жизни. Bing склонен связывать часть этих заболеваний со злоупотреблением алкоголем. Если это так, то в начале этой эволюции мы имели бы перед собой повреждение зародыша, тогда как приводимые родословные не оставляют никаких сомнений в том, что в следующих поколениях дело идет о типической передаче по наследству, действие которой могло бы, самое большее, лишь усиливаться благодаря пьянству больных членов этих семейств.
В приложении к психозам вопрос об «антепозиции» решается не так легко, потому что с трудом поддается установлению как душевное здоровье членов семейств, слывущих здоровыми, так и начало заболевания в случаях несомненного душевного расстройства. Кроме того, если мы хотим исключить повреждения зародыша и случайные моменты, то мы должны потребовать по крайней мере на первых порах, чтобы исследования этого рода ограничивались исключительно однородными фамильными заболеваниями. Это требование исполнено до сих пор собственно только К. Hoffmann'ом, который не нашел антепозиции в своем (правда, небольшом) материале dementia praecox. В пользу существования антепозиции высказывались Vorster, Kraus, Kreichgauer, Berge, Mott, Damkцbler, Albrecht, Jolly и др., однако, лишь Luther и R u di n представили до некоторой степени убедительные доводы в пользу вероятности ее существования.
Большие затруднения встречает также и объяснение этого своеобразного явления. Вырождение в смысле Morel’я, т. — е. прогрессивное ухудшение наследственных задатков, должно бы сказываться не только в более раннем наступлении болезненных явлений у последующих поколений, но и в более резкой выраженности этих явлений. Но в приводимых историях болезни нет никаких указаний на это. Напротив, мы могли бы допустить комбинацию повреждения зародыша с наследственностью, если бы наблюдаемые заболевания вызывались всегда за счет внутренней секреции. Само по себе это допущение (насколько я могу судить по имеющемуся материалу) вполне возможно, однако, оно требует новых и довольно неправдоподобных вспомогательных гипотез, так как заболевания о которых идет речь, передаются к детям и от отца. Если, напр, мускульная дистрофия передавалась бы по наследству исключительно от матери и вызывалась бы в то же время несомненно расстройствами внутренней секреции, т. — е. отравлением, то антепозиция была бы все-таки до известной степени понятной. Яды, циркулирующие в крови матери, переходили бы ведь к ребенку уже во время его развития, а в силу наследственных причин в дальнейшем должно было бы наступить, кроме того, расстройство и его собственного эндокринного аппарата; в этом случае не было бы ничего удивительного, если у ребенка болезнь началась бы раньше, чем у матери. Но если тоже самое заболевание передается от отца, то — оставляя в стороне наследственность в собственном смысле слова — могло бы иметь место только повреждение самой половой клетки, и мы имели бы перед собой, стало быть, или опять-таки мистический и отвергнутый биологией случай параллельной индукции, или же мы должны были бы допустить, что этот сам по себе наследственный задаток обнаруживается в более ранний период, вследствие общего ослабления сопротивляемости организма, вызванного повреждением зародыша. Но. конечно, и это допущение тоже не является удовлетворяющим нас вполне.
Для нас, конечно, гораздо важнее, чем все эти попытки объяснения, вопрос о том, нет ли в антепозиции опасности общего вырождения. Чего мы имеем в данном случае дело с вырождением, это, конечно, несомненно. Но зато сама же антепозиция и устраняет как раз свое влияние на общество. Если наследственным болезням свойственно, по самой сути дела, начало во все более и более ранние периоды жизни, то они тем вернее должны будут препятствовать заключению браков, а тем самым и дальнейшей передаче по наследству.
Впрочем самому Morel'ю этот случай прогрессирующей дегенерации остался совершенно неизвестен. Он имел в виду качественное ухудшение болезни при передаче по наследству. В первом поколении наблюдаются будто бы нервный темперамент и распутство,, во втором—они сменяются апоплектическими припадками, эпилепсией, истерией и алкоголизмом, в третьем—самоубийствами, психозами и умственной отсталостью, а в четвертом—врожденным слабоумием и уродствами. Клинические наблюдения совершенно не подтвердили этой схемы, и если наука о наследственности не опровергла ее еще при жизни самого Morel'я, то причина этому-— исключительно недостатки ее собственного метода. Правда, величественное здание психиатрического учения о наследственности возник ю как раз в ту эпоху, но его фундамент оказался настолько плох, что нам в начале этого столетия пришлось разобрать его часть за частью. Впрочем уже несколько десятков лет тому назад Virchow написал следующие слова «наследственность была бы превосходным критерием, если бы у нас было хоть немного больше знаний о самой сущности передачи по наследству. К сожалению, наши знания настолько скудны, что обыкновенно приводятся одни статистические доказательства. Мы склонны рассматривать какое-либо качество, как наследственное, всякий раз, когда оно повторяется у целого ряда смежных поколений. Чем чаще оно встречается, тем несомненнее кажется оно наследственным. Но как раз в патологии (т. — е. в науке, которой на практике приходится больше всего заниматься наследственностью) опыт показал, как ненадежен этот признак неверности. Наш век дал нам в этом отношении самые горькие уроки. Нока чесотка считалась дискразией, не видели никаких трудностей в допущении существования наследственной чесотки……… Образцом же наследственной болезни спокон веков считалась проказа, и еще несколько десятков лет тому назад норвежское правительство собиралось запретить всем членам» зараженных ею семейств вступление в брак…».
Несмотря на эго предостережение, v. Krafft-Ebing как-то высказался однажды, что «этиология помешательства известна, пожалуй, лучше, чем этиология большинства остальных заболеваний»; D йj er ine усматривал в каждой форме душевного расстройства «заболевание, всегда являющееся наследственным», a Trelat позволил себе даже утверждение, что «наследственность—причина всех причин»; Me y n er t заявил, однако, уже тогда, что некритично «допускать в вопросе об этиологии образ мыслей, обобщающий почти без всякой критики такое понятие о наследственности, которое является совершенно мистическим и лишенным всяких механических оснований».
Но даже эго сильное выражение было неспособно задержать начавшееся уже движение, и к подобным критическим голосам стали прислушиваться лишь гораздо позже. Основная ошибка всех этих более старых исследований была допущена, как сказано, уже самим Morel’ем. Конечно, если мы хотим установить наследственные соотношения душевных заболеваний, то мы должны исключить все те случаи, в которых играла главную роль какая-нибудь внешняя причина, вроде сифилиса или алкоголя. Morel же смешал в одну кучу с остальными психозами и кретинизм, и паралич, и алкоголизм. К этому присоединились еще другие ошибки. Общеобязательных результатов не могло быть получено до тех пор, пока отдельные исследователи не условились относительно самого понятия' наследственного отягощения. Это требование кажется само собой разумеющимся, однако, практически оно почти невыполнимо; исполнение его предвосхитило бы результаты всей работы; ибо наука о наследственности и должна установить именно то, что должно считаться отягощающим моментом. И все-таки от этого требования нельзя отказаться; доказал же ведь Wagner v. Jauregg (на основании цифр Diem и Jenny Koller), что многое, что считалось прежде отягощающим, на деле чуть ли не предохраняет от душевных болезней. Так, напр., нервные болезни и случаи апоплексии встречаются у предков психически здоровых людей чаще, чем у предков душевнобольных.
Уже одно это—то, что один автор употреблял понятие отягощения в узком смысле, а другой в широком—делает вполне естественным, что в одном случае (Jarvis) было найдено 4 процента отягощенных среди всех душевнобольных, а в другом—90 процентов (Могeau). Но спорным представлялось не только то, что считать отягощающим моментом (только психозы или, напр., также и моральные уклонения), но также и то, кого считать носителем отягощения. Как широк тот круг членов семьи, болезни которых могут угрожать будущности индивидуума? Ведь психоз двоюродного брата не должен означать той же самой опасности, которую несет с собой, быть может, душевная болезнь отца или матери.
Эти соображения, высказанные, главным образом, R. Sonner'ом, Moebius'oм и Jloclie, послужили исходным пунктом для исследований, поколебавших все учение о наследственности и преобразовавших его, начиная с самых оснований. Таким образом, раскрылась, наконец, и основная ошибка всех старых статистических работ о наследственности: почти все они упускают из вида контрольные, поверочные исследования.
Когда этот пробел был пополнен, то получилась удивительно незначительная разница между наследственностью психически здоровых и душевно больных; Diem нашел, напр., для обитателей одной психиатрической больницы 78,2°/о наследственного отягощения, а для равного количества здоровых людей—6б,9°/о; к аналогичному результату пришла также и Jenny Koller. Правда, эта пропорция меняется, если принимать в расчет только родителей. В этом же самом материале отягощение со стороны родителей равнялось 33% у здоровых и 50% у больных.
С точки зрения общих биологических законов наследственности эти результаты почти само собой понятны; они показывают в то же время, что вопросы наследственности, интересующие психиатрию, совершенно не разрешимы старыми путями массовых статистических исследований.
«Едва ли стоит говорить в настоящее время (пишет Bateson, между прочим в полном согласии с Johannsen'oм) о тех работах по изучению наследственности, которые производились путем дальнейшего развития не-аналитического метода Gai t on'а и под руководством Pearson'a и английской биометрической школы. Что подобные исследования способны в конечном итоге оказать услуги для дальнейшей разработки теории статистики, этого мы отрицать не будем. Но в применении к проблемам наследственности вся эта работа свелась в конце концов исключительно ко внесению неясности в ту область, которую она должна была осветить. Достаточно иметь самое поверхностное естественно-научное представление о наследственности и о вариациях, чтобы отнестись скептически к самим основам этих прилежных исследований. Будущему историку этого эпизода в развитии биологической науки будет казаться непонятным, что ученый мир отнесся столь почтительно к предприятию, построенному на столь нездоровых основах».
Эта суровая критика применима не только к исследованиям, против которых она направлялась первоначально, но и к массовым статистическим подсчетам в психиатрии. Генеалог — Ottokar Lorenz вскрыл еще до Bateson'a погрешности этого метода и вообще, и в частности в применении к психиатрии. Массовая статистика, собиравшая без разбора в одну кучу без всякой внутренней связи все патологические черты старших родственников какого-либо индивидуума, должна была оказаться несостоятельной, равно как и метод, состоявший в том, что из бесчисленных предков какого-либо больного выбирали как раз такого, который отличался патологическими чертами, и описывали затем его потомство. И здесь подчеркивались опять-таки одни болезненные черты и упускались из вида черты здоровые.
В настоящее время нам совершенно ясно, что эти методы были слишком грубы для такого трудного предмета. Ни метод простого подсчета, ни графический метод не способны дать точного изображения запутанных наследственных соотношений того или иного человека. Достаточно нескольких примеров, чтобы показать это.
Факт душевной болезни индивидуума имеет, разумеется, совсем другое значение для его родни в том случае, когда этот больной единственный представитель целого поколения, чем когда он единственный ненормальный среди большого числа здоровых братьев и сестер. И что еще важнее: вредные влияния, переносимые отягощенным человеком на свое потомство, будут целиком зависеть от характера его болезни; кроме того, они будут действовать гораздо сильнее, когда другой супруг происходит из семьи, отягощенной в том же самом направлении, чем когда больная «кровь» смешивается со здоровой. Вот почему надо считать нелепой попытку подсчитать все патологические черты старших родственников индивидуума и изобразить затем в процентах в психиатрическом курсовом бюллетене его общую отягощенность.
По аналогичным основаниям нельзя переоценивать также и таблиц предков и родословных («Almen und Sipp-shaftstafeln»), на значение которых впервые указал Lorenz, (R. Sommer, Stromayer). Они упускают из вида боковые линии, и в них не находит выражения скрытое отягощение, напр., за счет такого предка, который, будучи сам здоровым, был братом и дядей целого ряда психопатов.
Мы видели к тому же, что мы не вправе допускать прогрессирующее разведение наследственных единиц в том смысле, чтобы на каждого предка приходилась определенная доля влияния (Galton, Lore n z), зависящая от его места в генеалогической таблице (Sommer. Stromayer, Ziegler). Часто наблюдается такое постоянство наследственности, которое совершенно не вяжется с этим воззрением. Между прочим в другом контексте на это постоянство указывает и сам Lorenz; только это повторение определенных телесных и душевных качеств, наблюдаемое в некоторых семьях — он напоминает о таких выражениях, как, напр., «настоящий Сципион» и т. д. — он хотел свести на преобладание мужских зачатков. Опыт, однако, показывает, что такие типичные черты передаются и по женским линиям, и что в этих случаях доли отцов подавляются в той же мере, как и в других случаях доли матерей. Это справедливо и для патологии, и для одной дегенеративной семьи, ставшей известной благодаря Jцrger'y — для семьи Paul Alexius Zйro, может считаться даже установленным, что ее ненормальные качества происходили с материнской стороны.
Таким образом, следовало бы требовать по меньшей мере соединения обоих методов: обследования потомства, т. — е. потомства определенных пар родителей, и изучения рядов предков (Aszendenz) определенных лиц в смысле системы кровного родства (R. Sommer). В этом могли бы служить образцом исследования самого Sommer'а. Но эти исследования (равно как и монументальные этюды Lundborg'a) показывают в тоже время наглядно те великие трудности, с которыми должно считаться всякое исследование целых семейств.
В медицине же эти затруднения даже увеличились с той поры, как в учении о наследственности господствуют проблемы менделизма. Мы видели, что всякое «менделирование» определенных качеств поддается изучению лишь на очень больших числах, на гораздо более многочисленном потомстве, чем потомство Г в самых плодородных человеческих семьях. Уже одно это должно было бы сделать невозможным быстрые успехи в этой области, даже если бы и не существовало остальных препятствий, на которые мы указывали выше.
Кроме того, совершенно ясно, что во всех перечисленных нами методах исследования не содержалось даже и попытки обойти эти камни преткновения. Подобная попытка содержится лишь в методах, разработанных Weinberg'ом и примененных к психиатрии Rьdin'oM («Geschwister-und Probanden-Methoden»).
В этих методах имеется стремление выровнять все возможные случайности, все ошибки в подсчете и все односторонности материала. Однако мы все-таки никогда не будем вправе требовать.
здесь чистых и насквозь прозрачных результатов, свойственных экспериментальным исследованиям, и менее всего в области психиатрии, где скрывается ряд других многочисленных затруднений. Биология никогда не пришла бы к мысли изучать наследственность как раз на таких свойствах, которые не совсем резко отграничиваются с качественной стороны от других. Но наследственные психозы связаны отчасти постепенными переходами с нормой, да и подразделение их на клинические «единицы» остается до сих пор еще весьма несовершенными. Таким образом, всякое психиатрическое исследование наследственности оперирует со многими неизвестными и, что еще хуже, вращается в кругу: оно надеется выяснить клиническое сродство известных картин состояний, между прочим также и путем изучения наследственности, а при изучении наследственности исходит из этого сродства, как из предпосылки.
Таким образом, нам придется очень осторожно подходить ко всем достигнутым до настоящего времени выводам; тем не менее мы все-таки можем воспользоваться ими, так как нас интересует вопрос, имеющей чрезвычайно общий характер. Для нас важно лишь решение вопроса: существует ли прогрессирующая патологическая наследственность.
Мы уже познакомились с одним из ее примеров, с антепозицией, и пришли к заключению, что в этом явлении нет опасности для расы. Все прочие результаты науки о наследственности, достигнутые до сих пор, оправдывают в известном смысле пессимистические слова Rieger'а: «то, что мы должны знать,— а именно, что в кругу одних и тех же кровных родственников иногда в течение нескольких поколений резко усиливаются душевные болезни,— это мы и так уже знаем. А затем в одном из последующих поколений это явление опять исчезает…».
Надо сказать, что в настоящее время мы знаем все-таки несколько больше. Все действительно «наследственные» душевные болезни подчиняются, конечно, биологическим законом наследственности. Следим ли мы за судьбой губы Габсбургов, или за маниакально-депрессивным помешательством в какой-нибудь семье, мы всегда увидим прежде всего, что и этот задаток представляет собою не что «иное, как структурный элемент, могущий получить применение, но не обязанный получать это применение во всех — случаях. И далее, во-вторых: только родственные психозы могут чередоваться при наследственности, так что меняется самое большее лишь «фенотип», но ни в коем случае не «генотип», если дело идет действительно лишь о простой наследственности. Однообразную наследственность предрасположения к самоубийству знали уже Voltaire, Ribot и Legrand du Saulle. С тех пор благодаря исследования« von Tigges'a, Sioli, На rbotta, Vorster'a, Fцrster'a, Fitschen'a и Kreichgauer'a выяснилось, что то, что было установлено вначале лишь для меланхолии, имеет значение в применении ко всему icpyiy маниакально-депрессивного психоза. Наступит день, когда это будет доказано и для остальных функциональных психозов, а для dementia praecox, paralysis agrtans и миоклонической эпилепсии эти уже доказано Lundborg'oM. Что касается тех немногих форм, о которых у нас есть до некоторой степени законченные психиатрические исследования, то выяснилось, что существуют порядочные различия в отдельных деталях; однако ни в одном из этих случаев мы не вправе, опираясь на характер наследственности, делать выводы о действительной опасности вырождения, угрожающей всей расе. Маниакально-депрессивный психоз наследуется, невидимому, доминантным образом (Rьdin, H. Hoffmann); само по себе это могло бы означать известную опасность распространения циркулярных форм; но простив соображение показывает, что в силу социальных причин эта опасность никогда не сможет угрожать всей расе. Больные члены такого семейства обыкновенно не вступают в брак, а к здоровым, как раз при доминирующем типе наследственности, применимо положение: «здоров, так уж здоров» («einmal frei, immer frei»). Относительно dementia praecox дело обстоит еще менее ясно; тип наследственности наверняка не доминантный при этой болезни, но, невидимому, и не просто рецессивный, а дигибридно рецессивный, при котором заболеванию должен подвергнуться только каждый 16-й ребенок, даже и в тех случаях, когда в одной семье встречаются действительно два дополняющие друг друга патогенные «гена». Этим значительно уменьшается опасность даже и для отдельного индивидуума (хотя как раз при рецессивных признаках все-таки остается неприятная возможность передачи от здоровых). Именно к рецессивному типу наследственности приложим вывод, к которому уже давно пришел Stromayer: «мы видим, что ни тяжелое одностороннее наследственное отягощение, ни кровное родство предков, ни конвергирующее отягощение вовсе не должны сами по себе вести к дегенерации: роковое значение имеет только встреча двух наследственных фамильных кадров одинакового направления».
Опять-таки и это тоже подтверждает биологические законы наследственности. Законы эти ведут не к вырождению, а к регенерации. Как правило, наблюдается не усиление эндогенных болезненных задатков, нарастающее от поколения к поколению, не их неудержимое распространение, а, наоборот, непрерывная потеря ими своей силы. Индивидуум представляет собой результат бесчисленных наследственных факторов; каждый из них может стать актуальным, но ни один не должен быть таковым обязательно. Что патологические задатки всегда при этом берут перевес, это— просто легенда; их шансы определяются общими правилами наследственности: шансы эти одни при доминирующих признаках и совсем другие при рецессивных; однако ни в одном из этих случаев не получится окончательного вытеснения здоровья болезнью.
Итак, опасность даже не в множественном отягощении, как таковом, которого так боятся, а только при встрече одинаковых \'7bили при дигибридном рецессивном типе: двух «созвучных> друг другу) патологических наследственных задатков.
Если душевные расстройства передаются по наследству лишь в той же самой одинаковой форме, то наличность двух неоднородных душевных болезней среди предков индивидуума едва ли представляет собой большую опасность для его здоровья, чем угроза, представляемая каждой такой болезнью в отдельности. Он может захворать болезнью одного предка или же болезнью другого (подобно тому как и цвет глаз он может унаследовать либо от одного из них, либо от другого), или же в крайнем случае может возникнуть «амальгама» («Legierung») в смысле Kretschmer'a; но ни одним из этих теоретически мыслимых психозов он не должен заболеть обязательно. Совсем другое, если болезни обоих предков были однородны; в этом случае, конечно, усиленный таким образом болезненный задаток, даже если он сам по себе был рецессивным, должен приобрести большую мощность, и его шансы оттеснить здоровые задатки повысятся.
Теперь нам становится ясным то значение, какое имеют в патологии кровные связи («Inzucht»). Это явление также усиливает наличные наследственные тенденции, хорошие и плохие, и действует исключительно в этом смысле. Оно ведет к улучшению вида тем же путем, как и к дегенерации, путем суммирования имеющихся уже налицо задатков.
Популярный взгляд на последствия кровных связей весьма значительно отличается от этой точки зрения: в результате браков кровных родственников возникают будто бы всевозможнейшие болезни и уродства; кроме того, моральная и интеллектуальная недостаточность и в довершение всего понижение способности к деторождению. Esquiorol утверждал, что в Англии душевные болезни особенно распространены между католиками, а во Франции в знатных семьях только потому, что в них так часто заключаются браки между кровными родственниками. Legrand du Saulle повторил это замечание относительно американских квакеров, Benoi-ston считал, что все дворянские семьи вымирают самое большее в течение грех столетий исключительно по этой причине.
Все это были впечатления и догадки; научные исследования их не подтвердили. В настоящее время в нашем распоряжении детальные и основательные исследования: самые выдающиеся из них это работы Schiller-Tietz, E. Fееr, Peipers'a и Kraus'a равно как и статистика Mayet. По этим исследованиям продолжительное «размножение в себе» («Inzucht») оказывает закономерно вредное влияние, собственно говоря, только в мире растений. Некоторые растения становятся при этом бесплодными или же обнаруживают пониженную сопротивляемость климатическим и другим вредным влияниям. У животных же кровное родство в широком — смысле, т. — е. спаривание представителей того же вида, прямо-таки. необходимо, чтобы их свойства сохранялись в чистом виде; многие превосходные породы вообще и домашних животных в частности— напр., лошади-однокровки и овцы-мериносы—получились в результате весьма продолжительных кровных связей в самых тесных пределах или даже путем прямого кровосмешения (E. Feer). Правда, после слишком продолжительного размножения в себе и здесь опять-таки тоже развиваются известные дегенеративные явления: общая слабость, малый рост, пониженная способность к воспроизведению потомства, альбинизм. Поэтому даже самые ревностные сторонники кровных связей требуют, чтобы иногда производилось освежение разводок за счет свежей крови.
С людьми дело обстоит, невидимому, сходным образом. История и согласные с нею данные современной антропологии делают вероятным, что значительные культурные успехи невозможны ни для одного народа без размножения в себе, без кровных связей (К raus s). Reibmayer говорит даже вообще, что носителей культуры всюду дала особая каста, представители которых размножались исключительно между собою («Inzuchtkaste»); к касте этой переходило духовное водительство, и она держалась некоторое время во главе народа; вслед за тем внутри этой касты наступал известный застой и неподвижность, а тем самым и вырождение. Таким образом, и здесь было бы необходимо скрещение со свежей кровью, если бы потребовалось восстановить первоначальную работоспособность. В этом смысле и смешение с другими расами, может быть, способно возродить уже изжившую себя народность и вызвать таким путем новой прогресс культуры. Иными словами: вопрос идет не о действии (плохом или хорошем) «размножения в себе», а скорее о его оптимуме (К raus s).
С точки зрения этого вопроса важен прежде всего тот исторический факт, что у египтян, персов и жителей Перу очень часто вступали в брак братья и сестры, именно в самых знатных и самых одаренных родах. В доме Птоломеев на протяжении семи или восьми поколений братья и сестры вступали в брак исключительно между собою, и известная царица Клеопатра была последним отпрыском этого рода. По Lorenz y нас нет сведений, чтобы монархи, вышедшие из этих браков, проявили себя чем-либо ненормальным. А в Перу инки заключали такие браки даже в течение 14 поколений без того, чтобы это привело к каким-нибудь угрожающим или даже просто бросающимся в глаза явлениям (Scliiller-Tietz). Из генеалогических исследований Lorenz видно, что в Европе. в большинстве сельских местечек люди связаны друг с другом сто- и тысячекратными родственными связями, и это просто в силу того, что теоретическое число их предков гораздо больше, чем фактическое население в прошлые столетия. Очень распространенное предположение, будто кровные связи—по крайней мере в некоторых социальных слоях—в новейшее время были более частым явлением, чем прежде, является, следовательно, неправильным.
Впрочем некоторые единичные факты генеалогии говорят за то, что общее смешение (Promiskuitat), казавшееся желательным для VirchoTv'a, Ratzelfl и других, гораздо опаснее, чем браки кровных родственников (Krauss).
Все-таки связь между кровным родством и определенным заболеваниями остается возможной, и есть данные, говорящие даже в пользу вероятности этой связи. Правда, большинство высказанных на эту тему положении очень трудно или даже совершенно невозможно проверить. Утверждали, напр., что дети, рождающиеся от браков между родственниками, менее жизнеспособны, или что от таких браков вообще редко рождаются дети. Напротив, статистическим путем удалось установить—упомянем еще раз о замечательном исследовании Mayet'a,—что в Пруссии процент больных однокровного происхождения лишь при некоторых заболеваниях более высок, чем это соответствовало бы степени частоты браков между родственниками. 6,5 на тысячу всех уроженцев Пруссии происходит от подобных браков. Если мы возьмем только паралитиков, эпилептиков и людей, страдающих «простыми душевными расстройствами», то число тех из них, родители которых были кровными родственниками, даже ниже, чем для средних здоровых людей. Иначе дело обстоит только при идиотии и тупоумии; для них получается отношение в 11,5 на тысячу. Аналогичным образом обстоит дело для retmitis pigmentosa, врожденной глухонемоты и некоторых других более редких заболеваний. Опять-таки и здесь наследственная интенсивность («Vererbungsintensitat») болезненного задатка особенно велика в том случае, если он был налицо у обоих родителей. Это общий закон, под который могут быть подведены все факты, известные нам в области кровного родства. Кровное родство действует не иначе, как путем суммирования наличных наследственных тенденций. В случаях, где сталкиваются одинаковые задатки, может получиться взаимное усиление этих задатков у детей, все равно, были ли они у родителей выявленными, или же существовали у них лишь в скрытой форме (т. — е. иными словами, доминантны ли они, или рецессивны). В подобных случаях кровное родство должно, конечно, еще более ухудшить вид. Вот исторический пример, которым мы обязаны опять-таки Stromayer'y, ясно показывающий это как раз в области душевных заболеваний. Карл V был здоров, несмотря на тяжелое отягощение, зато его внук Don Karlos был патологический человек. Таблица его предков обнаруживает уже в восьмом ряду потерю целой половины предков, и в его лице скрещиваются впервые наследственные линии, берущие начало от Иоанны Безумной.
Это тот же самый процесс, который при других условиях способствует развитию хороших качеств; и, конечно, вовсе не случайное явление тот факт, что у большинства народов более высокий процент браков между кровными родственниками приходится как раз на семьи, руководившие всей общественной жизнью.
Практические выводы из этих фактов далеко не так просты. Во всяком случае совершенно неуместны преувеличенные страхи, обычно обнаруживаемые в этом отношении непосвященными. Придется, однако, согласиться, что скрытые болезненные задатки невозможно исключить почти ни в одной семье и, имея в виду эту возможность, придется соблюдать при разрешении браков между родственниками известную сдержанность. Но если оставить в стороне этот практический вопрос и иметь ввиду только цель нашего исследования, то для нас имеет значение следующее: бракам между кровными родственниками нельзя приписывать, как таковым, сколько-нибудь значительного влияния на развитие дегенерации. Если браки братьев и сестер в течение ряда поколений не ведут к дегенерации, то отдельные случаи браков между более или менее отдаленными по родству двоюродными братьями и сестрами, конечно, не в состоянии вызвать такого ухудшения вида, которое имело бы значение для всего вида в его целом.
В конце концов у нас остается только одна возможная причина прогрессирующего вырождения: если качественные моменты не играют роли, то, быть может, дело в моменте количественном, больные члены общества могли бы оказаться плодовитее здоровых.. А это должно было бы повести к ухудшению среднего уровня нервного здоровья.
Такое утверждение действительно высказывалось. Pearson полагал, что глухонемые, туберкулезные, душевнобольные и преступники более плодовиты, чем нормальные люди (даже более, чем ремесленники). Аналогичные явления наблюдал (ранее Pearson'a), как ему казалось, Marandon de Montyel, заметив в то же время, однако, что в отягощенных семьях можно встретить на ряду с очень плодовитыми браками также и сравнительно много совершенно бесплодных. Уже благодаря этому одному будет устанавливаться равновесие, но к этому присоединяется еще высокая детская смертность в подобных семьях. Однако житейский опыт и данные Pearson'a значительно расходятся между собою. Тенденция к, вымиранию в отягощенных семьях является общепризнанной, настолько общепризнанной, что Sioli выступает даже против преувеличений, против взгляда, будто подобное вымирание наступает закономерным образом. Причины подобного исхода, конечно, не всегда (и, может быть, даже не часто) в одних только физиологических условиях (мертворожденные, нежизнеспособные или отличающиеся пониженной сопротивляемостью дети); еще чаще губят подобную семью определенные душевные особенности ее членов (несклонность к браку, эгоизм, извращения) и те социальные условия, в которые они попадают благодаря этой своей практической неприспособленности.
В заключение резюмируем еще раз главнейшие выводы этого отдела. Патологии известны две возможности связи между болезнями родителей и болезнями детей. Одна из них — действительное наследование болезненных задатков, каковые в этом случае унаследованы уже и родителями (за исключением, конечно, мутаций); другая возможность основана на повреждении зародышевых клеток или развивающегося младенца. Есть ли связь между этими двумя формами, или даже переходы между ними, это остается открытым; вполне возможно, что после повреждений зародыша иногда развиваются и наследственные болезненные задатки (мутации) и что таким путем могут возникать стойкие видоизменения типа.
Что повреждения зародыша суть источник дегенерации, это совершенно бесспорно. Здоровый от рождения и неотягощенный человек может оставить после себя тяжело больное потомство, если он заболеет сифилисом или другой серьезной болезнью. Однако эта дегенерация, невидимому, всегда скоро исчерпывается или же угасает вследствие вымирания таких семейств. Несмотря на это, здесь имеется серьезная опасность, теоретически совершенно нельзя сомневаться в том, что распространения одного единственного яда иди одной единственной эпидемической болезни может быть достаточно, чтобы погубить целый народ.
С настоящими наследственными болезнями дело обстоит совсем иначе. Они основаны на болезненных задатках, передающихся по чем же самим законам, как, напр., цвет волос или цвет глаз. Но, как показывает простое соображение, сами по себе эти законы никогд1 не ведут к распространению болезней; дело в том. что только доминирующие качества имеют достаточные шансы «реализоваться», но эти качества по самой своей природе будут уменьшать количество браков и детей. Для рецессивных же признаков известная вероятность наступления болезни будет существовать лишь в том случае, если задатки их будут налицо у обоих родителей. Это и имеет место, если заключается брак между родственниками в больной семье, или если судьба случайно сводит вместе — двух людей, отягощенных в одинаковом смысле. В таких случаях, конечно, дело доходит до вырождения. Но результат этот не имеет значения для всего общества: он выравнивается с избытком благодаря непрестанной регенерации, благодаря угасанию патологических задатков при смешении анормальных семейств со здоровыми. Что касается того, будто бы этот целительный процесс задерживается вследствие усиленной плодовитости психопатов, то это и не доказано, да и не вероятно.
ЦИВИЛИЗАЦИЯ И ОТБОР
Мы видели, что ни нормальные законы наследственности, ни правила, которым подчиняется передача задатков болезней, не оправдывают опасений общего вырождения. В частности выяснилось, что главный довод, приводимый обычно в пользу существования подобной опасности, основан на ошибочной предпосылке, а именно, на неверном предположении, будто к потомству переходят качества, приобретенные индивидуумом в течение его жизни В действительности же наследственность ведет не к вырождению, а к регенерации, да и причина вырождения (существования какового никто не оспаривает) — отравление зародыша — наносит, согласно современному состоянию наших знаний, вред только непосредственно пораженному (второму) поколению; дальнейший перенос возникших таким путем расстройств возможен, однако, до настоящего времени не доказан.
Теперь нам остается выяснить, нет ли в самих правилах наследственности таких возможностей ухудшения вида, которые осуществлялись бы лишь при тех особых условиях, в которых живет цивилизованное человечество и, может быть, даже именно как раз лишь при господстве нашего теперешнего общественного строя. Вопрос этот в сущности совпадает с вопросом о действии отбора.
Тот же процесс, который в природных условиях служил, по общему мнению, прогрессу и развитию вида, превратился будто бы благодаря человеческим учреждениям в причину вырождения. «Я нашел», писал Nietzsche, что «добрый человек»— форма самоутверждения декаданса. Добродетель о которой еще Schopenhauer учил, что она высшая, единственная и начало всех других — сострадание,— я признал опаснее любого порока. Принципиально препятствовать отбору в жизни вида, его очищению от отбросов — это считалось до сих пор добродетелью par excellence.
Мысль эта, как известно, повторялась с тех пор очень часто во многих оттенках, не всегда привлекательных. Таким образом, она, по-видимому, не содержит в себе более ничего революционного и ничего опасного. В наше время требуют — часто, не зная о Nietzsche — беспощадного подавления не только моральна скверных, но и просто слабых и малопригодных элементов общества. Уже Schopenhauer проповедовал сознательный отбор, давая рецепт: «негодяев на виселицу, гусынь в монастырь» («Die Schurken an den Galgen, die Gдnse ins Kloster»); современная «евгеника», как и мораль господ Nitzsche, идет значительно-дальше этой цели. К вполне понятному требованию, чтобы все опасные для общественного спокойствия привычные преступники были навсегда обезврежены (и лишены возможности производить потомство), в наши дни присоединяется другое: кастрировать всех душевнобольных или даже чуть ли не всех нервно «отягощенных»,, или по крайней мере помешать им вступать в брак мерами государственного характера. Круг лиц, считаемых опасными, расширяется при этом все больше и больше, и возникает опасность, что в скорости могут появиться аналогичные пожелания и в отношении низших рас (фактически низших или считаемых таковыми). В таком случае, конечно, назрел вопрос, да обоснованы ли сами воззрения, на почве которых возможны подобные предложения.
Какую роль играет селекция или отбор в развитии живущих в настоящее время народов? Что может быть убедительнее утверждения, что ценность всего вида в целом должна будет упасть, если есть какие-либо обстоятельства, препятствующие размножению его способнейших представителей, или хотя бы только благоприятные для неспособных. Так, многие полагают, что гибель античного мира была подготовлена чисто генеративным путем: проскрипциями и гражданскими войнами. И все-таки этот взгляд, принимаемый часто как нечто само собой разумеющееся, содержит в себе по крайней мере чрезвычайно спорную до сего времени гипотезу.
Чтобы сделать это вполне ясным, нам придется подойти к этому в значительной мере издалека.
Всякий отбор основан на изменчивости каждого вида, на том, что потомки — даже при однополом размножении — редко в совершенстве походят на своих родителей. Существуют плюс и минус варианты, уклонения ввысь и книзу, но всегда заметна тенденция к тому, чтобы расстояние от среднего типа, центра всех колебаний, становилось не слишком большим.
Поэтому дети низкорослого мужчины, предки которого были в среднем высокого роста, имеют, при прочих равных условиях, больше шансов на высокий рост, чей дети высокого мужчины, обладавшего низкими предками. Или в области интеллекта: потомки плохо одаренного европейца бывают ceteris paribus обыкновенно способнее, чем отпрыски другого человека, самого по себе умного, но принадлежащего к низшей расе. Это случаи грубые и потому простые. Они показывают, что вид варьирует в отдельных случаях, но в целом остается равным себе, одним и тем же. В этом существенное содержание «закона возврата» Gallon'а. Если родители в каком-нибудь направлении уклоняются от среднего уровня, то у потомков, правда, обычно еще заметно направление этого уклонения, но у них имеется все-таки явственная тенденция к возвращению к среднему уровню, к «типу». С этим фактом, определенно подтвержденном W. Peters'oм для интеллектуальных задатков, Haecker приводит — по-видимому, с полным правом— в связь то обстоятельство, что дети гениальных людей, как правило, люди посредственные.
Какую форму примут эти условия, если в одном населении живут, смешиваясь вместе, родственные и потому похожие друг на друга расы? Уклонения будут и с качественной, и с количественной стороны более значительными, но, кроме того, появление этих вариаций будет, по-видимому, гораздо более беспорядочным. Таким образом, будет особенно затруднительно поставить прогноз для отдельного индивидуума или иными словами—произвести оценку его наследственных качеств. Если представители одного вида, напр., высокого роста, а представители другого низкорослы, и оба вида живут, смешиваясь друг с другом, то мы сумеем без труда установить пределы вариаций для всего населения, т. — е, минимум и максимум; но только детальный научный анализ дает нам возможность установить, является ли человек среднего роста сравнительно высоким представителем низкорослой расы, или сравнительно низкорослым представителем высокой расы. Но or этого зависит в последнем счете результат отбора. Биология различает «фенотип» или «нечистую популяцию»—наше смешанное население — с одной стороны, и «биотип» или «чистую линию» — нашу чистую расу —с другой стороны. При внимательном изучении многие кажущиеся едиными виды животного и растительного мира оказываются сложными, составленными из нескольких, похожих друг на друга. Если изолировать друг от друга все подвиды, то (более значительные) вариационные пределы всей «популяции> распадаются на (менее значительную) изменчивость отдельных биотипов, и перед нами будет в конце концов несколько «чистых линий», каждая из которых еще способна, правда, к вариациям, но зато лишь в очень ограниченном объеме. Флюктуации такого биотипа «непрерывны», крайние плюс и минус варианты связаны постепенными переходами; число переходных форм беспрестанно увеличивается по мере приближения к середине, т. — е. к типу среднего уровня. Причина этих вариаций, вероятно, просто в более или менее благоприятных условиях роста или, как говорит de Vries!), «флюктуирующая, колеблющаяся, волнообразная изменчивость — явление физиологии питания».
Отсюда уже следует, что эти уклонения от основного типа не являются наследственными, как и то, что благодаря отбору могут быть изолированы только биотипы, могут быть выращены из популяций только «чистые линии». Таким образом, действию отбора положен предел.
Иллюстрируем это на наглядном примере. Он относится к одному опыту Johannsen'a — к одному из тех систематических экспериментов, которыми этот исследователь обосновал свой ставший с тех пор общепризнанным взгляд на сущность флюктуирующей изменчивости. Был взят определенный сорт бобов (Prinzessbohnen) и были изолированы прежде всего чистые линии; затем были высеяны самые тяжелые и самые легкие бобы одной линии. Оказалось, что средний вес потомков приблизительно постоянен, и иногда отпрыски более легких бобов даже превосходили по весу отпрыски более тяжелых. Иными словами: средний биотипический вес остался неизменным. Если мы вправе обобщить этот результат, то отбор не может вызвать возникновения чего-либо нового, а может лишь обособить те задатки, которые уже существовали в популяции и до отбора (Schalmayer). Lang формулирует поэтому следующий закон: «В смешанной популяции, в фенотипе продолжительный отбор приводит к сдвигу среднего уровня в направлении отбора до крайнего вариационного предела исходной популяции, но не дальше. При этом изолируется самый крайний биотип. В пределах же самого биотипа отбор бессилен».
Однако общеприменимость этих законов оспаривается. Так, напр., Schallmayer упоминает о длиннохвостатом видоизменении японско-корейского домашнего петуха, шестифутовые перья хвоста которого будто бы явились результатом сознательного культивирования. «Для разводок отбирались постоянно петухи с самыми длинными перьями в хвосте, и исключительно благодаря этому эти перья в течение длинного ряда поколений были доведены до такой длины, которая далеко превосходит все вариации, встречавшиеся когда-либо раньше». На основании опытов Castle'fl, Kam-merer'a и Weitere ck'a, Haecker тоже допускает по крайней мере возможность генотипического сдвига, т. — е. постепенного преобразования биотипа под влиянием отбора.
Этот биологический вопрос должен, конечно, остаться здесь открытым. Однако простое соображение показывает, что он не может иметь слишком большого значения в применении к человеку. Даже самые строгие приверженцы учения об отборе согласны с тем, что действие отбора, выходящее за пределы первоначальных вариационных границ биотипа, наблюдается очень редко, и то лишь после очень сознательного одностороннего культивирования. Условий, которые были искусственно созданы для корейско-японского петуха, невидимому, никогда не существовали для человека, по крайней мере для многих поколений подряд. Ведь уже одно единственное нарушение подобного одностороннего выращивания должно было бы разрушить успехи даже целых тысячелетий. Мы уже видели раньше: короткий промежуток, обнимаемый человеческой традицией, бесконечно мал в сравнении с огромными эпохами, которые должны быть допущены для каждой, даже самой ничтожной органической эволюции в смысле Darwin'a. Таким образом, становится вполне понятно, что исторический человек вообще не изменился сколько-нибудь заметным образом (Lorenz).
Для вопроса о вырождении это чрезвычайно важно. Ведь все современные народы с антропологической точки зрения суть смешанные популяции, суть не био-, а фенотипы. Непрерывный отбор мог бы поэтому изолировать среди них лишь лучшую или худшую расу, но не более! Каждая единичная раса осталась бы сама по себе неизменной.
Здесь, правда, должно быть принято в расчет следующее. Опыты Jobannsen'a имели в виду сравнительно простые условия; в них испытывались в общем только вариационные пределы одного качества. У человека — как у всех более сложно организованных существ — возможно изменение типа также и благодаря тому, что имеющиеся основные качества появляются вместе в новой группировке. Здесь, несомненно, мог бы вмешаться сознательный отбор. Как раз в области интеллекта нельзя было бы a priori исключить возможность культивирования выгодных комбинаций — это вовсе не значит, что можно утверждать, будто оно могло бы играть практически когда-либо роль. Но что возможно в одном направлении (в высшую сторону), возможно и в другом (в сторону к низшему), и если можно было бы создавать путем отбора выдающихся людей, то сходный процесс должен был бы приводить также и к возникновению неблагоприятных уклонений от типа.
В распоряжении клинической психиатрии есть наблюдения, которые могли бы быть истолкованы в этом смысле. И мы вправе—-со всяческой осторожностью и с разными оговорками—-сделать хотя бы лишь попытку взглянуть на эти фагиы под углом зрения вопроса, мыслимо ли возникновение определенных болезненных форм благодаря нецелесообразному отбору.
Мы уже слышали, что отбор сам по себе никогда не в состоянии вызвать новых качеств; он может только выкультивировать в чистом виде уже наличные качества, быть может, усилить их и, наконец, сгруппировать их заново. Существуют ли такие душевные расстройства, ответственность за каковые мы могли бы возложить (учитывая все эти факты) на «отбор», на неблагоприятный подбор производителей?
Это предположение возможно лишь, если исходить из предпосылки, что между симптомами болезни и явлениями нормальной душевной жизни существует самое тесное родство. Простейший мыслимый случай этого рода должен был бы проявиться просто в неравномерности психической личности—сплошь нормальные качества, но в негармоничном распределении, при полном, быть может, отсутствии некоторых вполне определенных качеств. Это чисто теоретический постулат, как известно, целиком совпадает с обычным описанием «дегенерированной» психики. Если же отбор действительно может усиливать качества сами по себе нормальные, то в тех случаях, где он действовал в неблагоприятном смысле, были бы возможны еще другие патологические продукты — количественные уклонения от нормы, болезненные усиления качеств, самих по себе нормальных.
В обоих случаях — нарушено ли равновесие в распределении способностей, являющихся сами по себе нормальными, или же сами эти черты искажены до патологичности — надо было бы, как бы в виде подтверждения этих правил, ожидать, что каждое фактически наблюдаемое крайнее расстройство связано постепенными переходами с нормальной душевной жизнью. Иначе говоря, кроме заведомо здоровых и определенно больных индивидуумов, должны быть и такие, по отношению к которым термины «здоровье» и «болезнь» применимы лишь в условно-произвольном смысле. И наконец: если патологические качества образуются при наследственности из нормальных путем их суммирования и если они передаются затем дальше, то должны встречаться не только переходы от здоровых к больным психическим процессам, но также и смешения и всякого рода другие соотношения между различными частичными расстройствами, возникшими благодаря отбору.
Чему учит нас в этом отношении клинический опыт?
Если бы в связи с выставленными здесь соображениями мы стали отыскивать факты и нашли затем таковые, то пришлось бы по необходимости опасаться, что мы введены в заблуждение теоретическими ожиданиями. Поэтому важно установить, что к выводу, в значительной мере совпадающему с выставленными нами требованиями, пришел и клинический опыт, но совсем другим путем. Конечно, нельзя себе представить, чтобы путем «отбора» возникали все заболевания, обусловленные грубо-анатомическими изменениями или же вызванные экзогенными причинами. Также и все то, что возникает благодаря отравлению зародыша, относится к этой первой группе.
Но что касается болезней, объединяемых в настоящее время в группу эндогенных заболеваний, т. — е. таких, последняя познаваемая причина которых не во врожденном только, а в настоящем наследственном предрасположении, то оказывается, что эти болезни настолько связаны и между собой, и с нормальной душевной жизнью, что совершенно невозможно или очень трудно как принципиальное решение вопроса о здоровье или болезни в каждом данном случае, так и классификационное разграничение одного психоза от другого. Все основные симптомы маниакально-депрессивного психоза, хронической паранойи, истерии и т. д., суть не что иное, как количественные уклонения от нормы, патологические усиления таких качеств, которые сами по себе являются нормальными. Колебания настроения у маниакально депрессивных, как и вообще периодические приливы и отливы душевной энергии, заторможенность и возбужденность, внушаемость и ипохондрические наклонности истеричных, недоверчивость и боевое настроение кверулянта (сутяги) и многое другое, относящееся сюда, все это такие явления, для которых имеются соответственные аналогии и в сознании здорового человека, и только благодаря этому этот последний и в состоянии понимать их и вчувствоваться в них (каждый, конечно, по своему, то в одни, то в другие черты). А если — в самых резких случаях—вначале кажется, что нет никаких связующих звеньев между резко выраженными психотическими симптомами и явлениями нормальной душевной жизни, там почти всегда удается отыскать их в психологии людей конституциально нервных, в ненормальных чертах как раз тех людей, которых с давних пор называют дегенератами. Все это становится особенно ясным, если взять для сравнения экзогенные психозы с их совершенно противоположными свойствами. Они ведут закономерно к явлениям выпадения, к слабоумию и для психологического понимания, отправляющегося от нормального, как от своей исходной точки, симптомы их представляют непреодолимые затруднения. Происходит это, очевидно, потому, что в этих случаях в нормальный мозговой механизм вмешался грубый патологический процесс и разрушил или по меньшей мере расстроил его.
Внутреннее сродство всех этих эндогенных расстройств видно как раз на «пограничных случаях», являющихся мостом между нервным здоровьем и нервными болезнями. У людей с тяжелым наследственным отягощением можно часто найти маниакальные, меланхолические, параноические и истерические болезненные черты,, по крайней мере в виде намеков, существующие одновременно или сменяющие друг друга; а иногда эти симптомы вступают в сочетания (синдромы), делающие положительно невозможной какую-либо упрощенную схематизирующую диагностику. И опять-таки о дегенеративном характере того или иного душевною заболевания говорят (уже давно) именно в тех случаях, в которых наблюдается быстрая смена симптомов, а синдромы отличаются значительной нечистотой и незаконченностью (Strомayer). Близкое родство licpx этих эндогенных психозов диктуется в довершение всего также и их наследственными взаимоотношениями. Случаи мании, меланхолия, паранойи, истерии и некоторых форм психопатий не так уже редко можно встретить в одной и той же семье, случаи же раннего слабоумия встречаются, напротив, в других семьях наряду со случаями чудаковатости («Verschrobenheit»).
Мы не можем вдаваться здесь в подробности. Мысли, только ч го высказанные нами, отнюдь не новы1), ибо всегда, когда заходила речь о «дегенеративной почве», на которой возникают эти расстройства и вообще всегда, когда высказывалась мысль об эндогенном происхождении нервных и душевных болезней, то в конечном счете здесь могло подразумеваться исключительно возникновение путем отбора, а именно — путем нецелесообразного отбора. В противном случае термин «эндогенный» теряет вообще всякий смысл. Но резкой формулировке взгляд этот, сколько нам известно, еще не подвергался, а это все-таки необходимо, если он должен быть доказан. До сих пор все это носило характер чистой гипотезы. Чтобы сделать из нее нечто большее, придется обратить гораздо более серьезное внимание (чем это делалось до сих пор) на взаимоотношения между индивидуальностью и психозом (ср. Tiling, Hirth) и на наследственность определенных черт характера (R. Sомmer); придется, быть может, несколько изменить при этом даже и некоторые точки зрения. Однако уже теперь можно сказать, что генеалогические исследования целых семейств, требуемые Sомmer'ом, и особенно характеристические исследования, начатые в последнее время Kretschmer'ом, по-видимому, в значительной мере подтверждают взгляды, развитые нами в этой работе уже 11 лет тому назад. Утверждение Kretschmer'a, что некоторые психозы представляют собой лишь сгущения таких черт характера, которые уже давно могли быть подмечены как у остальных членов семьи больного, так и у него самого, отличается от моих личных постулатов и клинических находок только тем, что он усматривает эту связь со здоровьем не только у маниакально-депрессивного психоза и у функциональных психозов вообще, но также и раннего слабоумия. Верно ли это,—покажет будущее.
Что эта точка зрения завоевывает почву лишь за последние несколько лет, объясняется очень просто: надо было прежде всего преодолеть «догмат анатомической обусловленности всех психозов» (А. Hoche). Целый ряд затруднений, встречавшихся на пути прикладной психиатрии, основывался—и основывается нередко и теперь еще—в конечном счете на неверной предпосылке, будто существуют резкие грани между нервным здоровьем и нервной болезнью, будто эти грани могут быть найдены в каждом единичном случае; точно также принципиальное понимание эндогенных психозов было недоступно тому, кто в основе каждого уклонения от среднего психического склада заведомо предполагал анатомическое расстройство. Термин «функциональный» означал прежде в психиатрии не более, чем знак вопроса. Функциональные психозы представляли себе, как такие органически обусловленные душевные расстройства, анатомию которых мы еще не знали. Если это применимо ко всякому легкому маниакальному возбуждению, к каждому ипохондрическому расстройству настроения, к любой истерической клинической картине, — то тогда, конечно, почти немыслимо возникновение их путем отбора. Однако в настоящее время мы знаем, что функциональные психозы это нечто совсем другое; их отличие от органических не только в нашем случайном незнании их «анатомии», а в их интимнейшей сущности. Они «функциональна», потому что у них не может быть анатомической подкладки в смысле, напр., прогрессивного паралича. Нет слов, все психические явления связаны с материальным процессом в мозгу, и при различных психических процессах мы должны будем ожидать также и различные физиологические процессы. Это верно даже в применении к двум очень непохожим друг на друга здоровым людям, т. — е. к двум различным темпераментам, и в еще большой мере это справедливо в приложении к нормальным людям, с одной стороны, и ненормальным — истеричным, меланхоликам или параноикам-— с другой. Но во всех этих «функциональных» случаях мы никогда не вправе будем ожидать какого-либо принципиально измененного мозгового механизма. В анатомо-физиологической области мы имеем совершенно то же самое положение вещей, что и в области психологии: физические болезненные явления также связаны постепенными переходами с явлениями здоровья, и провести резкую анатомическую грань между здоровьем и болезнью так же невозможно, как и в области психологии. Но если это так, то ничто не мешает больше взгляду, что эти эндогенные расстройства вырастают из здоровых качеств путем отбора.
Спрашивается, могло ли бы это означать действительно серьезную опасность вырождения, если бы дело фактически так обстояло. Не изучив тех особых условий, при которых происходит отбор производителей в наши дни, дать ответ на этот вопрос невозможно. Ведь как раз эти же условия и обвиняют обыкновенно в том, что они причина прогрессирующей дегенерации нашего поколения.
Панмиксия фигурировала в качестве препятствия для эволюции вида уже в учении Darwin'а. Панмиксия, общее смешение, представляет собою противоположность всякого целесообразного и выгодного для вида отбора. Если при выборе партнера («Gatten-wahb) имеют одинаковые шансы и дельные, и бездельники, если явные дефекты личного развития не составляют никакого исключающего аргумента, то общий уровень должен будет падать, а не подниматься. Современная же цивилизация благоприятствует, как это утверждают, подобной панмиксии. Она дает возможность выдерживать конкуренцию, а тем самым и возможность к размножению таким людям, которые в первобытных условиях были бы выключены, как непригодные. Резкая близорукость, малая физическая сила, скверные зубы, неспособность кормить грудью передаются будто бы поэтому теперь по наследству в таком объеме, который у народов первобытных был бы совершенно невозможен. Расценка физических качеств, т. — е. здоровья и расовой полноценности, падает вследствие односторонней переоценки интеллектуальных достоинств; кроме того, при выборе партнера главную роль играют такие мотивы, которые безразличны или даже вредны для здоровья потомства: напр., состоятельность и общественное положение отца и т. п. Процессы, являющиеся очистительными для расы в царстве животных и на низших ступенях культуры, как, напр., сражения и войны, действуют теперь как раз в обратном смысле. Прежде побеждали и выживали самые сильные в физическом отношении, теперь же планомерно умерщвляются именно здоровые и щадятся «калеки расы» («Rassekrьppel»). Таким образом, эти последние в этом пункте имеют более выгодные шансы для размножения.
Есть крылатое словечко, которым хотели отметить эти опасности цивилизации и которым опять-таки пользовался уже и Darwin—так же и в применении к человеку: доместикация. В наше время эти понятие было последовательно рассмотрено и исследовано v. Hans emann'o м и в самое последнее время Kraepelin'ом. V. Hansemann определяет его как всякое «сознательное, пользующееся искусственными вспомогательными средствами, стремление к поднятию существования расы и отдельного индивидуума и к защите их от влияний внешних сил природы».
В этом (широком смысле слова доместицированы уже и дикие народы.
Darwin полагал, что доместикация увеличивает плодовитость. По Hansemann'y это неверно: однако при ней теряет свои границы период течки, в результате чего развиваются половые болезни и половые извращения, наблюдаемые исключительно у человека и у животных, попавших в неволю. Нервные и даже истерические состояния наблюдаются впрочем уже у домашних животных; у собак бывают будто бы иногда воображаемые беременности, у морских свинок—эпилептические судороги.
В применении к человеку в данном контексте особенным нападкам подвергается, как уже сказано, гигиена. Она уменьшает детскую смертность и смертность вообще и препятствует таким образом естественному уничтожению невыносливых людей, она ухаживает за слабыми, помещая их во всевозможные лечебные учреждения, заботится о них путем социального законодательства и благотворительных учреждений, сохраняет им жизнь при помощи врачебного искусства и т. д. Особенно опасным считается призрение душевнобольных: оно сохраняет жизнь таким людям преждевременную смерть которых следовало бы считать крайне желательной в интересах общества.
Точка зрения Kraepelin'a значительно отличается от этой и является куда более осторожной. Во главу угла своих соображений он ставит бесспорный факт отравления зародыша. Он говорит, правда, тоже о «повреждении целых родов», что, как мы видели, отнюдь не доказано. Дальше он показывает, как борется с естественным ходом этого вырождения социальное обеспечение, как оно приходит на помощь ослабленной жизнеспособности отравленных людей. Однако он придает, очевидно, гораздо большее значение другим вредным влияниям, которые несет с собой культура и которые не имеют ничего общего—по крайней мере в прямом смысле—с отбором. Мы еще вернемся в дальнейшем к этим моментам: рост чувства ответственности, увеличение потребностей, с одной стороны, и пролетаризация—с другой, ослабление естественных влечений и т. п. Здесь нам достаточно установить, что нечего бояться наследственного вырождения на основании этих причин, так как дело идет при этом о приобретенных качествах. Зато надо отметить, что одностороннее культивирование интеллектуальных способностей, нарастающая несклонность к браку и понижение плодовитости— фигурируют также и у Kraepelin'a в числе опасных последствий доместикации.
То, что отличает соображения Kraepelin'a от большинства стажей на тему об опасности вырождения, это—полное отсутствие нападок на гигиену, обычно стоящих на переднем плане.
Справедливы ли эти нападки? Гигиена и социальные учреждения нашей эпохи имеют целью оздоровление не только индивидуума, но и всего народного организма в целом. Неужели они действительно ухудшают сопротивляемость нашего поколения?
Один из виднейших представителей этого предмета и в то же время один из энергичнейших вождей в борьбе против всякой дегенерации M. v. Gruber решительно опроверг эти только — что приведенные взгляды. Гигиена не вредит расе, а способствует ее подъему. Инфекционные болезни (в борьбе с которыми ею достигнуты наилучшие успехи) действуют в «естественных», не цивилизованных условиях отнюдь не в смысле очищения расы; они не столько уничтожают слабых, сколько превращают здоровых в хилых и хворых. Gruber приходит поэтому к совершенно определенному отпору всем этим указанным нами выше тенденциям: «Мы должны поэтому раз навсегда порвать с этими идеями и сказать твердо, что отбор неполноценных путем отнятия жизни в молодом возрасте может быть годится для евгеники, лишенной разума природы, но что нам, людям, разум привит для совсем другой цели, чем для продолжения этой слепой, глухой и жестокой игры в массовое рождение и массовое уничтожение».
Мы позволим себе сопоставить сейчас же с этими положениями критику одного психиатра Robert Sомmer'a: «идея борьбы с дегенерацией путем жестокого уничтожения слабых живых существ представляет собой с культурной точки зрения не что иное» как выражение той же самой дегенерации; история отвергла эту идею, напр, в судьбе спартанцев. Отнятие жизни у живых существ, казавшихся, с топки зрения определенных лиц, вредными в том или ином отношении, никогда не достигало цели и никогда не устраняло того, что имелось ввиду устранить». При этом автор приводит в качестве примеров: политические убийства, гонения на христиан, процессы еретиков и великие революции.
К этим критическим соображениям почти нечего прибавить и против них несомненно нечего возразить. Рост близорукости связан, может быть, с тем, что ее принято компенсировать при помощи очков и делать, таким образом, менее ощутительной; далее, хоть и невероятно, но все-таки возможно, что аналогичным образом обстоит дело и с так называемым понижением физической силы вследствие предпочтения, оказываемого духовным достоинствам; что касается неспособности к кормлению грудью, то все-таки можно считать по меньшей мере допустимым, что теперь она чаще передается по наследству, потому что смертность искусственно вскармливаемых младенцев уже не задерживает и не ослабляет в настоящее время этого явления в той же мере, как в эпохи менее развитой гигиены. Однако во всех этих явлениях нельзя видеть опасных признаков вырождения. Если интеллектуальные достоинства встречают в наше время более высокую оценку, чем в эпохи более низкой культуры, то результатом этого могло бы быть разве только более частая передача по наследству и большее распространение духовных преимуществ за счет физических. Так ли это в действительности, или нет, представляется, как мы еще увидим, по меньшей мере сомнительным, но когда, спрашивается, было доказано, что пресловутое «одностороннее культивирование интеллектуальных качеств» ведет к вырождению, что в результате эволюции выделяются, выкультивировываются как раз такие качества, которые выгодны для сохранения вида, это основной принцип идеи развития, и совершенно банальный истиной представляется положение, что решающую роль в развитии качества играют функции человеческого мозга. А если это таи, то идея о том, будто «слишком высоко» развитой интеллект неестественен и опасен и является предварительной степенью к вырождению, вовсе не столь самоочевидна, как это думают многие Совсем другое дело вопрос о том, не угрожают ли высшие духовные функции существованию вида другим, более косвенным путем, притом в особых условиях нашего общественного строя; мы перейдем сейчас к обсуждению этого вопроса. Но пока мы должны констатировать, что все, что говорилось выше о мнимой опасности гигиены, совершенно неспособно играть какую-либо роль по крайней. мере в смысле нервного вырождения, в смысле возникновения и распространения душевных болезней. Что хотят сказать, говоря, что психиатрия культивирует душевнобольных. Увеличивается ли число душевных болезней, или нет, мы не знаем: но зато несомненно, что абсолютное число первичных поступлений в психиатрические больницы во много раз выше, чем раньше. А это значит, что гораздо больший процент больных встречает препятствия к произведению потомства. Правда, в некоторых случаях больница спасает своим пациентам жизнь и дает, таким образом, в дальнейшем возможность произвести потомство таким людям, которые в прежнее время умирали. Вспомним насмешливые слова С. Riege r'а: Если в 1451 г. в San Dомmico в Аррагонии было сожжено в один прием 53 человека «ведших общую жизнь во Христе», то совершенно очевидно, что путем подобного сожжения получилась значительная экономия мест для «общей жизни в психиатрических больницах». Если эти 53 человека были молодыми людьми, то в то же время получилась порядочная экономия в «отягощенных» детях. Но и в прежние времена такая смерть постигала душевно-больных сравнительно редко, вообще же душевные болезни обыкновенно не являются смертельными. Большинство людей, которые призреваются в наше время в психиатрических больницах, жили бы 100 лет тому назад на свободе и производили бы (брачное и внебрачное) потомство. Опять-таки еще вопрос, была ли бы в этом особая беда; утверждать же, будто современные условия создают опасность, которой раньше, до введения компетентного ухода за душевно-больными, не существовало, это значит просто на просто извращать факты. Выше мы согласились с тем, что эндогенные душевные болезни могут возникать путем невыгодного «подбора». Благоприятствует ли наша культура такому отбору? И на этот вопрос мы должны отвечать совершенно отрицательно. Если качества и возникают вообще таким путем, то это будет происходить всегда лишь в результате неблагоприятных случайностей; абсолютно немыслимо существование закономерного «отбора», который культивировал бы подобные качества. Наоборот: люди психопатические в наши дни гораздо чаще выключаются из жизни социальными условиями и гораздо чаще не вступают в брак, чем в эпохи более примитивных экономических условий, так что патологические черты, если они уже возникли, будут скорее исчезать, чем усиливаться, благодаря частой передаче по наследству. Надо считать установленным, что число самоубийств в цивилизованных странах все увеличивается, и научная мысль склоняется к взгляду, что большинство самоубийств совершается людьми психически ненормальными. Но ведь для расы преждевременный конец этих людей может быть только выгоден. Точно так же обстоит дело со всеми вредными для нервной системы результатами культуры (действительными или мнимыми). Очень возможно, что индивидууму они наносят вред, что они понижают таким образом уровень здоровья общества, но на следующих поколениях, если приобретенные качества не передаются по наследству, это не отразится. И чем больше людей будет терпеть поражение в борьбе с современными условиями существования, тем выгоднее должен оказаться отбор тех, которые завоевывают себе в жизни положение и оказываются таким образом в состоянии передать потомству свои наследственные задатки. Все это при условии, если подобный отбор имеет в о о б щ е существенное значение для здоровья людей. Если он его имеет, то, конечно, не может быть и речи о том, чтобы современные условия жизни создавали опасность вырождения, основанную на нецелесообразной поддержке слабых.
Но существуют еще другие последствия «доместикации» и культуры, способные внушить более серьезные опасения. Они тоже пользуются очень широкой известностью и тревожат широкие круги. Речь идет о самых ценных представителях наиболее культурных народов, о людях руководящих слоев: утверждают, что именно люди этих слоев наносят сперва ущерб здоровью своих семей и являются затем виновниками их вымирания, благодаря вольному или невольному ограничению числа детей. В результате получается, как утверждают, «искоренение лучших». Истинная опасность, приносимая якобы расе цивилизацией, не в чрезмерном размножении дурных, а в недостаточном размножении лучших вариаций (M. v. Gruber). Мы попробуем проверить, насколько верны эти утверждения.
Уже Darwin смотрел на уменьшение плодовитости, как на последствие доместикации и высказывал опасение, что в цивилизованном человечестве размножаются в первую очередь менее ценные его сочлены, не особенно дельные и высоко стоящие. Herbert Spenser и Maudsley пытались обосновать это опасение гипотезой, будто всякое более высокое развитие нервной системы, всякая высшая мозговая деятельность, иными словами, всякая культура и образованность имеют свойство вредить потомству или даже делать его нежизнеспособным. Более общий характер имеет теория Paul Jacob y, согласно которой всякая аристократия (какова бы она ни была: власти, богатства или образованности) будто бы всегда уже носит в себе зачаток вырождения. Наконец, выступили Otto Ammбnи Otto-Seeck и заговорили, в качестве первых, об «искоренении лучших», усмотрев в этом процессе главную причину гибели античного мира. Проскрипции, гражданские войны и другие грубые виды вмешательства в естественное развитие народа даже проституция, рабство и половые извращения будто бы не так опасны для расы, как закономерное появление несклонности к браку и бездетности у всех людей особенно ценных в духовном отношении и работающих особенно напряженно. Люди одаренные (обладающие в силу этого и особенно ценными наследственными задатками) поднимались всюду до руководящих и влиятельнейших должностей в государстве, но вместе с тем в том же темпе всюду и везде падала их плодовитость. Таким образом, постепенно дело кончалось прогрессирующей «плебеизацией» («Verpцbelung») расы (M. v. Gruber) или, где жили совместно несколько рас, даже и смешением ее с низшими народностями. Заключительный результат сводится сперва к качественному, а затем и к количественному изменению всего населения (Schallmayer, Fahlbeck и др.). Обращаясь к проверке фактов, лежащих в основе этих взглядов, надо упомянуть, во-первых, о наблюдении скотоводов, что в неволе у многих животных, особенно при изобилии в пище, действительно начинает развиваться бесплодие. Зато в применении к людям общее положение о закономерном уменьшении числа детей по достижении известной культуры придется ограничить постольку, поскольку уменьшения плодовитости не наблюдается у китайцев, несмотря на их очень давнюю цивилизацию (ни в массах, ни даже хотя бы только у высших сословий). Мы еще вернемся к этому в дальнейшем. Вообще же причина уменьшения плодовитости в высших слоях у громадного большинства всех культурных народов весьма понятна. Если мы оставим в стороне случаи безбрачия в силу религиозных предписаний, то дело сводится почти всегда к произвольному ограничению числа детей вследствие социальных условий. Увеличение денежных расходов, вызываемое каждым новым ребенком» как раз в семьях наиболее культурного общественного слоя и большее чувство ответственности по отношению к производимым на свет детям вполне объясняют нам это ограничение. Подробные исследования, произведенные в новейшее время, дали нам возможность изучить этот процесс даже еще детальнее. Так. Lorenz проследил историю одного крестьянского рода в Саксонии и нашел, что его члены неоднократно достигали более высоких положений, но что эти боковые ветви в дальнейшем обычно угасали, тогда как основной ствол сохранился и по сегодня. Reibmayr констатировал затем в своем обширном исследовании уменьшение плодовитости у очень многих гениальных и талантливых людей и, кроме того, увеличение рождений девочек, как особенность, появляющуюся обычно перед наступлением полной бездетности. Затем чрезвычайно важны исследования Falilbeck'a, касающиеся дворянских родов Швеции. И в этих родах с четвертого поколения после их появления в истории тоже началось вымирание. Прежде, пока их члены жили в деревенском уединении, они сохранялись и держались долго на одной и той же высоте, и лишь после того, как они вступали в политику или в высшие государственные должности, их плодовитость стала уменьшаться. Falilbeck определенно исключил причины, обычно указываемые в подобных процессах—браки между родственниками и душевные болезни—и в его сообщении нет данных, которые говорили бы в пользу сколько-нибудь значительной роли алкоголя. Вопрос о том, насколько здесь замешан сифилис, должен быть оставлен открытым. Таким образом, возможны лишь два объяснения. Конечно, возможно уменьшение плодовитости исключительно вследствие более сильной умственной обремененности— связь эта представляется до известной степени вероятной, судя по некоторым фактам повседневной жизни. Однако в общем все-таки и здесь уменьшение плодовитости было вызвано, по-видимому, тоже преимущественно добровольным ограничением числа детей. 39,7°/о последних отпрысков этих родов умерло безбрачными, и в общем даже 48,6 всех способных к браку представителей осталось холостыми, тогда как в среднем в Швеции безбрачными умирает только 22,9°/о всех мужчин. Кроме того, и по Fahlbeck'у, вымиранию родов предшествует увеличение рождений девочек.
Этот последний факт тоже не лишен значения при оценке всех этих явлений, поскольку он касается вопросов о существовании расы и о вырождении. На все серьезные опасения, которые можно было бы связать с этими наблюдениями, Reibmayr возражает, говоря, что ведь и женские линии передают наследственную массу, что, следовательно, невозможна действительная потеря ценных наследственных масс для всего народа в целом. Аналогичным образом высказывается также и de Lapouge, по которому вымирание нередко является лишь кажущимся, поскольку роды обедневшие или продолжавшиеся только по женской линии исчезают из списков.
Тем не менее факты, сообщенные Fahlbeck'ом, настолько замечательны, что мы, по-видимому, действительно должны считаться с постепенной гибелью тех семейств, которые отличались особенными духовными достижениями. Остается, следовательно, вопрос, каково значение этого процесса для судьбы расы. Находимся ли мы здесь, действительно, перед серьезной опасностью, которая должна повлечь за собой смерть вида, его гибель? Reibmayr высказался и против этого утверждения и указал на то, что здоровый народ без затруднений выровняет эту потерю. Действительно, нельзя понять, почему эта потеря потомков в семьях самого верхнего слоя не могла бы постоянно пополняться и заменяться за счет прилива из низов. Аналогичным образом высказывается и Lore n z, когда он пишет: «Исчезновение родов основано на одинаковой неисчерпаемости как мужской, так и женской наследственной массы; природа позаботилась, чтобы явления, обусловливающие вымирание, оставались всегда чисто индивидуальным процессом, не способным затронуть вида, как такового. Слабости, развившейся у отдельных индивидуумов, всегда противостоит вся целостность наследственных качеств, свойственных среднему уровню, и обеспечивает продолжение существования вида. И если вследствие наследственной передачи того, что принято называть высшей духовной жизнью, уменьшается репродукция, то это бывает всегда лишь в отдельных индивидуальных случаях. Неисчерпаемость природы беспрестанно обеспечивает сохранение того, что является самой сутью человеческих качеств». Впрочем и сам Fahlbeck весьма далек от того, чтобы переоценивать подмеченные им факты в смысле их значения для расы. В этом непрерывном обновлении высших классов за счет прилива из низов он усматривает, наоборот, необходимую предпосылку процветания и развития народа: «умеренное обновление, постепенно омолаживающее высшие классы элементами, идущими из низов, есть необходимое условие здоровья народа». Автор говорит далее, что опасность для всего общества существовала бы лишь в том случае, если бы было налицо общее уменьшение всего населения благодаря вымиранию также и низших классов. Только при наступлении этого можно опасаться гибели целых народов, как это будто бы наблюдалось в конце классических периодов. Для современных культур этой опасности еще нет налицо, по крайней мере в сколько-нибудь близком будущем, так как, за исключением Франции, повсюду может быть отмечено значительное увеличение народонаселения. Правда, этот прирост населения основан, главным образом, на уменьшении смертности, и такому увеличению средней продолжительности жизни существует естественный предел. Если он оказался бы достигнутым, и число рождений стало бы затем убывать, то тогда мы, действительно, очутились бы лицом к лицу перед серьезной опасностью.
Однако эти оптимистические взгляды не разделяются некоторыми исследователями. В своих возражениях они исходят из определенной предпосылки, которой не признают Lorenz и Fahlbeck. Недостаточное размножение самых способных в интеллектуальном отношении людей должно оставаться безразличным для всего народа в целом до тех пор, пока этот народ может считаться однородным в отношении своих наследственных качеств. Если все целое является одним стволом, дающим лишь разные цветы различной красоты, то безразлично, какие части заведуют размножением; вариации высокой ценности будут образовываться постоянно и нет необходимости, чтобы зачатки для следующего поколения доставляли как раз они. Так смотрят на вещи L о ген z и Fahlbeck. Однако, как уже сказано, взгляд их некоторое время сильно оспаривался. Lapouge, Retzius, Wilser ив особенности Weltmann и его школа создали, на основе учения Gobineau о неравноценности человеческих рас, теорию якобы неравномерного состава всех европейских народов. Вся европейская цивилизация является будто бы достижением одной определенной расы: германской, светловолосой. Woltmann считает доказанным: «что высокорослый, крупноголовый человек с фронтальной долихоцефалией и светлой пигментацией, т. — е. северно-европейская раса, представляет собой совершеннейшего представителя человеческого рода и высший продукт органического развития». В доказательство этого утверждения приводятся результаты черепных измерений, равно как и мнимое общее правило, будто лица, принадлежащие к высшим сословиям и профессиям, отличаются повсюду более высоким ростом—уделом этой германской расы. Во всех важнейших государствах и в руководящих слоях этих государств будто бы преобладает чистая и смешанная германская кровь. И так дело обстоит не только теперь, но так оно было уже и во времена греков и римлян, и все великие культурные достижения суть творения исключительно этой людской породы. Утверждение, что культура истощает людей, приобретает под этим углом зрения, действительно, совсем другой облик. Северные дружины (так учит Woltmann и его школа) всюду, где они насадили культуру, т. — е. в Индии Греции и Риме, подверглись естественному процессу истребления, и только по этой причине н погибли созданные ими государства. Первые предвестники этой эволюции можно будто бы найти и в наше время.
В высших сословиях долихоцефалы являются уже жертвой медленного процесса уничтожения (H ermann Wilser и 0. Fraes). Население Германии является германским уже лишь отчасти, в особенности юг и восток заняты темным брахицефалическим или же смешанным населением. Путем систематических раскопок удалось будто бы установить, что черепной индекс увеличивается от столетия к столетию.
Очевидно, не гак легко занять определенную позицию по отношению к столь смелой гипотезе. Ее защищали и оспаривали с одинаковой страстностью, и точка зрения каждого отдельного ученого определялась отчасти явным образом его собственной принадлежностью к той или иной расе. Кроме того, чрезвычайно трудно поддаются установке факты, на которые опирается все это учение, и еще труднее оценка этих фактов. Так, напр., еще Wirchow сделал на основании постепенного увеличения черепного индекса вывод будто брахицефалы интеллектуально продуктивнее долихоцефалов. Позже Lowenfeld обратил внимание на то, что величайшие немецкие философы, Schopenhauer и Кап t, были брахицефалы. Впрочем даже и самые воодушевленные приверженцы Woltmann'oBCKом теории должны допустить, что среди замечательнейших личностей немецкой истории—назовем, напр., Lut her'а и Goethe—довольно значительную роль играли (по меньшей мере) представители смешанной крови.
Нам в данном случае тем легче отрешиться от выяснения окончательной позиции, что теория Woltmann'a вовсе не обязывает нас к выводу об опасности вырождения в медицинском смысле. Результаты процессов этого рода сводились бы всегда лишь к общему измельчанию, к падению среднего умственного уровня и тем самым, конечно, и к уменьшению политической, художественной и научной продуктивности нации, значит, к известному ухудшению вида, к вырождению в широком смысле. Можно было бы подумать, что недостаток творческих умов, проявляющийся у нас в настоящее время почти во всех областях духовного творчества, есть уже продукт подобного отрицательного отбора. Но этот недостаток может быть вызван и другими причинами—напр., перестановкой наших духовных интересов—или может быть вообще только кажущимся. В наше время в самых различных областях,—в науке и искусстве, в торговле, технике и промышленности—привлечено к делу гораздо больше интеллигентных сил, чем прежде, и возможно, что в этом причина того, что эти силы оказываются в нашем распоряжении не всегда и не везде.
Что касается болезней, то они ни в коем случае не могут возникать в связи с явлениями, допускаемыми Wo1tmann'ом и др. Впрочем, это никогда и не утверждалось, но зато вовсе не так уже редко смешивались или даже приравнивались друг к другу два разные понятия: понятие дегенерации в медицинском смысле и понятие вырождения в антропологическом.
Выводы этого отдела можно резюмировать следующим образjм: действие отбора имеет пределы, он может обособить друг от друга уже существующие задатки, он способен, быть может, усилить их и придать им новую группировку. Не исключена возможность, что таким путем возникают эндогенные душевные болезни, выращиваются психопатологические качества из качеств здоровых. Однако из этой возможности нельзя делать вывода о существовании опасности общего вырождения, так как болезненные качества при дальнейшей передаче по наследству будут исчезать минимум так же час то, как они возникают.
Мыслимо зато ухудшение вида, если допустить, что народ бы л смешан с самого начал а из различных рас. Уменьшение рождаемости в высших слоях повторяется, как правило, во всех культурах нашего типа; если только что указанное допущение соответствует действительности, то следствием должна быть плебеизация всего общества в целом. Однако эту плебеизацию нельзя приравнивать к вырождению в медицинском смысле, дай само это допущение до сих пор совершенно не доказано. Если оно ошибочно, то средняя нервная работоспособность того или иного народа вовсе не будет терпеть ущерба от уменьшения рождаемости в высших слоях.
В виде добавления выясним нашу позицию по уже затронутому выше вопросу о том, имеет ли человеческое общество право или даже обязанность препятствовать наследственной передаче эндогенных болезненных задатков путем кастрации психопатических личностей.
Мы склонны вместе с R. Sommer'ом к безусловно отрицательному ответу на этот вопрос. Конечно, было бы в высшей степени желательно, если бы мы могли навсегда оградить себя от этих форм душевных расстройств. Нельзя не согласиться также и с тем, что кастрация людей, носящих в себе подобные задатки, представляла бы собой самое мягкое действительное средство к достижению этой цели. Но, к сожалению, носителями этих задатков являются не только люди с выраженными душевными болезнями. Если эта мера должна иметь действительные практические результаты для всего общества, то принудительной операции должны подвергнуться не только многочисленные обитатели психиатрических больниц и тюрем, но наряду с этим и бесконечно большее число легких нервных психопатов и, вероятно, столько же здоровых. Кто предлагает что-либо другое, тот упускает из вида факты скрытой (рецессивной) передачи по наследству или пытается вычерпать море стаканом. Что пользы в том, если мы воспрепятствуем размножению только тех лиц, которые стали по той или иной причине—как сказал бы Rieger—объектами больничной психиатрии или объектами практики уголовного права. Их братья и сестры все равно продолжали бы распространять болезненные задатки.
У этого вопроса есть, однако, и своя оборотная сторона, как и у большинства стремлений современной евгеники. Приводимой Virchow'ым пример наследственной проказы должен был бы служить нам предостережением. Достаточны ли наши знания наследственности при душевных болезнях, чтобы давать нам право еще более усиливать ту тревогу в большой публике, которая уже вызвана в ней (к сожалению!) психиатрическими теориями о наследственности и вырождении? Как раз наиболее ценные в нравственном отношении члены общества уже теперь слишком легко поддаются действию преувеличенного чувства ответственности и воздерживаются от обзаведения семьею. Более крепкие натуры, вступающие в брак и производящие детей вопреки всем предостережениям, с расовой точки зрения, конечно, гораздо более опасные передатчики наследственности, чем многие из этих так называемых «dйgйnйrйs supйrieurs». Кроме того, подобные практические проекты, не говоря уже о неизбежной суровости при их выполнении, дали бы только обильную новую пищу недоверию к научной психиатрии. Результат же сведется лишь к тому, что в отдельных случаях будет кастрирована несчастная «жертва, а масса от этой меры ускользнет. Приходится, в сущности говоря, изумляться, что находятся психиатры, требующие подобных законов. Вот уже ряд десятилетий, как мы требуем «мер пресечения» против «уменьшено вменяемых». Стоило им, однако, появиться в законопроекте одного из германских уголовных кодексов, как немецкие психиатры стали высказываться против них. Почему? Потому что есть много основательных сомнений в практической применимости подобных решений и потому что., может быть, как раз психиатрия-то и не будет в силах оказать то содействие, которое понадобилось бы при их применении. Неужели же закон о кастрации душевно-больных людей было бы легче провести на деле? Были бы мы, действительно, в силах нести ответственность, которая выпала бы при его применении именно на долю психиатров? И наконец: уравновесила ли бы та незначительная польза, которой в лучшем случае удалось бы достичь, тот серьезный вред, который должен был бы получиться от постоянного беспокойства в обществе и от недоверия против учреждений, на которые было бы возможно проведение подобного закона в жизнь?
Что других более мягких средств для решения этой задачи не существует, эго, как уже сказано, совершенно верно; ибо часто предлагавшийся проект запрета вступления в брак—совершенно оставляя в стороне вопрос о том, не постиг ли бы такой запрет, напр., также и родителей Beethoven'a—предполагает у заинтересованных лиц такое желание считаться с отделом записи гражданского состояния, на которое не во всех случаях можно рассчитывать.
КУЛЬТУРА И ВЫРОЖДЕНИЕ
До сих пор мы пытались изучить условия, рассматриваемые многими, как предпосылки вырождения, и пришли к заключению, что из этих условий вовсе не вытекает необходимости подобной дегенерации для нашего народа и для современных культурных народов вообще. Однако до сих пор мы говорили все время лишь о возможностях, оставаясь частью даже лишь в пределах чисто теоретических соображений. Теперь мы обратимся к действительности и посмотрим, нет ли в нашей эпохе таких симптомов, которые указывали бы на существование вырождения.
Именно в довоенные годы в целом ряде всевозможных статей шли бесконечные разговоры о прогрессирующем упадке, при чем обыкновенно имели в виду не только уменьшение рождаемости или ослабление физической сопротивляемости, а нервное вырождение: о нем писали в самых мрачных тонах, как о неизбежной участи нашего поколения и тех, которые придут ему на смену. Вспомним разговоры о нервном, перевозбужденном и изнеженном веке, об усталой, изжившей себя культуре, жалобы на внутреннее разложение литературы и болезненные уклоны в искусстве, указания на моральный распад и страшный рост преступлений, безнравственности и самоубийств и. в довершение всего, на определенные данные, указывающие якобы на рост душевных и нервных болезней. Вот приблизительно те факты, которые по тогдашним воззрениям должны были придать нашему вырождению его особую форму.
После войны в этой картине произошел некоторый сдвиг. У нас появились новые заботы, и в связи с этим стали гораздо реже чисто ипохондрические концепции усталости и изжитости, духовного бессилия и болезненного слабоволия; «вырождение» нашего народа видят теперь зато в другом: не в войне, правда, как таковой, а в предшествовавшей ей политической эволюции; не в самом поражении, а в той особой форме, которую приняла наша катастрофа. В новой Германии, разумеется, сколько угодно фактов, из которых можно заключить, что нравы одичали, но для нас все дело лишь в одном, доказывают ли эти факты наследственное или способное передаваться по наследству ухудшение нашего вида, так что целый ряд проблем, обсуждаемых в наше время в связи с этими наблюдениями, затрагивает нас лишь косвенным образом.
Но прежде чем решать вопрос, не вырождаемся ли мы сами, мы должны ответить на вопрос о том, что служит вообще причиной гибели народов и какие признаки предвещают начало упадка. Мы видели, что вырождение есть процесс, наблюдать который можно лишь на целом ряде смежных поколений. Так, что уже поэтому очень трудно дать себе отчет о состоянии нервного здоровья поколения, к которому принадлежим мы сами, не предприняв никаких сравнений. Кроме того, у нас нет той дистанции во времени, а тем самым и той объективности, которые были бы необходимы для правильного наблюдения и оценки болезненных симптомов нашей собственной эпохи. Поэтому будет целесообразно рассмотреть сперва процессы, представляющиеся уже закончившимися, т. — е. явления упадка у народов, уже сошедших с арены истории.
Ходячий взгляд на этот вопрос, распространенный даже и среди ученых, необычайно прост. По этому взгляду вырождение и гибель культуры наступают будто бы с той же самой закономерностью, с которой дряхлость и смерть образуют нормальный финал жизни индивидуума. Проходит известное количество поколений, появляются определенные условия и затем необходимо наступает дегенерация так же, как лето необходимо сменяется осенью, говорит Reib га а у г. Разумеется, все это лишь образы, однако, не приходится отрицать, что даже научные работники подчинились их влиянию, направившему их мысль по совершенно определенным направлениям.
«Начало народов покрыто мраком», пишет Th. Ribot, «они всплывают, дают доказательства своей силы и идут затем с роковою необходимостью туда, где они принадлежат уже лишь истории… Каждая семья, каждая раса таит в себе при своем возникновении известный запас жизненной силы, некоторую сумму физических и духовных задатков, которые должны со временем проявиться.. Но как только этот запас жизненной силы и задатков начинает истощаться, начинается упадок».
Теория эта осталась до сих пор совершенно недоказанной, и мы можем в настоящее время совершенно спокойно утверждать, что она ошибочна. Стареют учреждения, стареют отдельные индивидуумы, но семьи и народы вовсе не подвержены этой участи, и гибнут они вовсе не поэтому. Но, как сказано, многим это наступление старости кажется настолько само собой разумеющимся, что они даже и не обсуждают вопроса о том, предстоит ли нам вообще вырождение, их интересует лишь та стадия упадка, в которой мы находимся.
Однако эта озабоченность странным образом направлена всегда лишь на единичный народ или одну расу. Будущее же всего человечества, как такового, мыслится, наоборот, обыкновенно оптимистически. В этом отношении господствует вера в закономерный прогресс. В виде ли прямой восходящей линии, или в форме спирали, так или иначе судьба человечества ведет его обязательно вперед. «Сегодняшний гений, это—нормальный человек завтрашнего дня», говорит Pelmann. Совершенно очевидна тесная связь этой идеи с проводимой Darwin'ом теорией эволюции и в качестве звеньев этого величественного миропонимания идеи прогресса и вырождения интимно связаны между собою. Отдельный народ мыслится при этом, как некая жертва, приносимая прогрессу целого. Он нечто преходящее, как и цветы дерева, общий рост которого не испытывает от смены весны и осени никакого ущерба.
Эго—иллюзия, и нетрудно понять, почему почти все, кому приходилось размышлять об этих вопросах, очутились в ее власти. Ее творит людское нетерпение, надежда взглянуть, хотя бы через телескоп истории, на великий процесс природной эволюции, недоступный непосредственному наблюдению. Надежда эта не исполнилась. Трезвое и объективное изучение исторических фактов не дало никаких результатов, которые могли бы оправдать оптимизм Pelmann'а. Почти все крупные историки, многие антропологи и философы новейшего времени—назовем Gobineau, Lotze, Ranke, Treitschke, Lorenz'a—отвергли идею прогресса, a Galton высказал даже взгляд, что по одаренности мы значительно уступаем эллинскому народу в периоде его процветания. Это могло бы быть верно, и все-таки кривая человеческого интеллекта могла бы в целом идти в гору, и поэтому больший вес, чем значение такого единичного сравнения, принадлежит общему суждении? Lorenz'a, что исторический человек остался по существу все тем же. что он не изменился ни физически, ни духовно. Впечатление прогресса основано на том, что каждое поколение опирается на плечи предыдущего и в готовом виде перенимает его достижения, в частности достижения технические. Рост интеллекта вытекает из исторических фактов столь же мало, как и повышение нравственности (Sehemann), и возможно, что величайшие достижения человечества в роде, напр., открытия приготовления огня, относятся к самой ранней поре его развития (Morgan). Так, Chamberlain не без права смеется над «химерой прогрессирующего и регрессирующего человечества».
Конечно, совершенно верно, что если нельзя усмотреть прогресса человечества за исторический период, то в таком случае почти исключена также и возможность его вырождения. Даже если допустить, что все народы родственной нам культуры должны неизбежно погибнуть вследствие «искоренения лучших представителе!» и благодаря уменьшению всего населения, то все-таки в течение необъятных промежутков времени они могли бы быть заменяемы другими расами, полными запасов свежей энергии. Но даже если бы эти резервы были, действительно, исчерпаемы, то конечной гибели всего человечества пришлось бы опасаться лишь в том случае, если бы наши культурные формы можно было считать однозначащими со всякой культурой вообще. Пример Китая показывает, что не всякая цивилизация влечет за собой вымирание народа («Vulkertod»), и это одно уже говорит за то, что все эти опасения совершенно не относятся к судьбе всего человечества в целом. «За человека, как такового, нам нет нужды тревожиться» (Hoche).
Значит, обсуждению подлежит только эпизод, только участь отдельных народов. Мы хотим поставить вопрос, верно ли, что всякая культура, сходная с нашей, должна влечь (и влекла) за собой гибель; верно ли, что должны погибнуть и мы, как это полагает Savigny, a в новейшее время Spengler.
Несомненно одно: почти все народы, с которыми возможны сравнения, сошли после известного промежутка времени со сцены, скрылись из вида или были даже истреблены. Верно также и то, что обе великие нации, история которых нам по целому ряду причин лучше всего известна, греки и римляне, обнаружили перед этой гибелью многие черты морального упадка, которые, как нам кажется, мы замечаем теперь в нас самих. Но все это, конечно, далеко еще не проливает окончательного света на глубочайшие причины их участи.
Если обратиться к цепи явлений, предшествовавших крушению этих культур, и рассмотреть ее в обратном хронологическом порядке, то последним ее звеном будет несомненно вымирание, численное уменьшение населения. Нация утрачивает физическую мощь и способность защищать свое положение от внешних врагов. Причины этого уменьшения населения, начинающегося закономерно « самых высших сословий, являются тоже довольно бесспорными. Играли ли при этом роль случайные явления, которых нельзя обобщить (в роде, напр., гражданских войн или проскрипционных списков), это может остаться открытым, так же как и вопрос о том, не зависело ли уменьшение рождаемости также и от распространения половых извращений и от понижения половой способности. И для Рима, и для Эллады имел решающее значение тот же самый процесс, угрожающий в настоящее время и Европе: произвольное ограничение числа детей.
Нечего доказывать, что процесс этот вызван социальными причинами. Затруднения начинаются лишь с вопроса о том, были ли эти социальные условия первичным фактором, или же лишь вторичным, наступавшим, как следствие качественного ухудшения нации. В обоих случаях в этом согласны обе противоположные друг другу в этом пункте теории: вина лежала бы на культуре и при том на специальном виде тех культур, о которых идет речь; вопрос лишь в том, зависело ли уменьшение рождаемости исключительно и непосредственно лишь от среды («Milieu»), или же существовало роковое действие двух факторов: социальных условий и изменения в расовом составе народа.
Каким образом эго должно было бы происходить, мы слышали уже раньше. Неоднородный смешанный состав нации с самого начала, подъем единственной способной к культуре (якобы германской) расы к высшим должностям, вслед за этим уменьшение ее способности к размножению, ее постепенное истощение я замена ее низшими народностями; параллельно этой «плебеизацию» падение духовной моральной энергии во всем обществе в целом, постепенное развитие личного эгоизма за счет государства, рост безнравственности, преступности, в довершение всего появление несклонности к браку и бездетности и в широких массах, а тем самым, наконец, и вымирание, физическое бессилие перед лицом внешних ' врагов: смерть нации («Vцlkertod»).
Разница между этой теорией и взглядом, защищавшимся еще Mомmsen'ом и многими историками после него, исключительно в оценке расового момента. Для Mомmsen'a единственной причиной упадка был капиталистический хозяйственный строй, и в известной истории нравов Рима Friedlaender'a мы не находим ни намека на расовые теории или искоренение лучших, но всегда только социальные условия и их влияние на формы нравов. Конечно, эти социальные условия могли быть отражением нравственной и умственной недостаточности своих создателей, но, если так, то само это ухудшение руководящих умов было бы вызвано опять-таки социальными влияниями. Поскольку это так, обе теории не исключают друг друга; одна из них вводит лишь в причинную цель другой, которой она не отрицает, новое звено, придающее процессу большую сложность, но не меняющее его ни принципиально, ни в его результатах.
Какой взгляд правилен, едва ли разрешимо в настоящее время. Решение это было бы, однако, очень важно для вопроса о том играет ли вообще роль в гибели народов вырождение в строгое смысле слова, т. — е. увеличивающееся от поколения к поколению« ухудшение вида. Само по себе вымирание еще не есть вырождение,, подобно тому как смерть, как таковая, еще не является болезнью. Но если бы Woltmann оказался прав и если приобретенные качества населения теряли бы в своей ценности от поколения к поколению, благодаря сдвигу в распределении расовых составных частей, то тогда пришлось бы все-таки говорить о вырождении.
Однако это все еще не составляло бы вырождения в психиатрическом смысле. Нервное вырождение есть болезнь, но худшая раса, идущая на смену лучшей, вовсе не является больной Значит, надо выяснить сперва вопрос, играли ли при гибели народов роль дегенеративные явления, понимаемые в медицинском смысле слова, и можно ли вообще установить, что таковые явления наблюдались действительно.
Многим это кажется тоже само собой разумеющимся. С каким бы негодованием ни отвергали в другом контексте психиатрическое учение Heinroth'a, все-таки обычно допускают, как нечто доказанное, будто в эпохи политического упадка на почве роста безнравственности начинали развиваться в конце концов также и душевные болезни. В действительности же нам совершенно неизвестно, чтобы в последние периоды Рима и Греции—кроме неврозов, о которых речь будет в дальнейшем—выраженные душевные заболевания были более частым явлением, чем в более ранние времена. Что касается остальных нервных болезней этого времени, то мы увидим в дальнейшем, что их вовсе нельзя рассматривать без всяких дальнейших рассуждений, как симптомы упадка. Правда, если расширить понятие душевного расстройства настолько, чтобы в него вошли все проступки против нравственности, то придется придти к выводу о значительном ухудшении психического здоровья в Греции и Риме. Но именно в этом пункте требуется соблюдать особенную осторожность. «Нельзя считать все, что непонятно обычному человеческому рассудку, болезненным», пишет Pelmann, «ибо и в любви может быть дурной вкус. В эпохи изнеженности чувственность оказывается особенно повышенной, этим объясняется тот рост половых извращений, с которым мы сталкиваемся у культурных народов, напр, у греков и римлян, как с симптомом вырождения, упадка и одичания нравов, с которыми мы встречаемся — эпизодически и позже в виде периодов временщиц» («Maitressenwirtschaft»). Schalmayer же объясняет педерастию, распространившуюся в последние периоды среди Римлян, попросту чрезмерным предложением восточных женщин.
Итак, все это еще не составляет болезней в собственном смысле «лова; однако, разумеется, безнравственность и преступления суть сами по себе симптомы упадка, и поэтому нам придется обращать внимание и на них, если мы хотим сравнить нашу эпоху с периодами, которые у других народов предшествовали их гибели.
Население убывает в настоящее время только во Франции и в Соединенных Штатах; во всех остальных культурных государствах наблюдается пока рост населения. Правда, этот рост обусловлен, главным образом, уменьшением смертности, а это последнее имеет свой естественный предел. Таким образом, если рождаемость будет уменьшаться и дальше, мы все-таки пойдем навстречу уменьшению населения. И лишь тогда, когда дело дойдет до этого, действительно создается крайняя опасность для старых европейски культурных наций.
Но, как уже сказано, это лишь косвенным образом касается нашей подлинной задачи. Мы поставили вопрос, может ли быть доказано, что состояние нашего нервного здоровья ухудшается от поколения к поколению. Ответить на этот вопрос, может быть, будет легче, если мы сперва вкратце перечислим факты, приводимые обыкновенно в пользу существования физического вырождения. Это последнее является будто бы тоже непосредственным следствием нашей цивилизации.
Donath и Kende убеждены, что им удалось доказать физический упадок европейского населения. Выводы их основываются в значительной части на результатах рекрутских наборов — стало быть на методе, связанном с большим числом ошибок (Brentano, M. v. Gruber). Весьма сомнительно, за счет чего следует поставить относительное уменьшение числа мужчин, признаваемых годными к военной службе (имевшее место, напр., в Германии): за счет более строгого выбора или же действительного упадка средних физических качеств. Против второй возможности говорил уже тот факт, что рост рекрутов повышался и у нас, как и повсюду. Впрочем ходячее мнение, будто наши предки были несколько выше нас ростом, уже давно опровергнуто (На n g-Lux, Schallmayer).
Зато не подлежит сомнению, что у культурных народов распространяются зубная костоеда и близорукость (Д. v. G r u-ber), хотя точная установка по крайней мере первого из этих явлений наталкивается на значительные источники ошибок. Еще в большей степени относится это к наблюдающемуся якобы понижению способности кормить грудью, о котором много говорили, и которое v. Bunge, как известно, привел в связь С отцовским алкоголизмом.
Чрезвычайно трудно получить объективные данные относительно всех этих моментов; это вытекает из того удивительного факта, что даже относительная ценность различных профессий для физического здоровья расценивается различными гигиенистами совершенно по разному. «По-видимому, не может быть никаких сомнении в том», пишет Gruber, «что жизнь в деревне и занятие сельским хозяйством дают в общей более высокий физический уровень молодых мужчин, чем город и прочие профессии. Этот вывод совершенно совпадает и с тем, что в общем сельские жители и хлебопашцы отличаются более высокой средней продолжительностью жизни, чем горожане. Известно, что профессиональная смертность крестьян принадлежит к числу самых низких. Нет сомнений в том, что крестьянское население является в настоящее время самой ценной частью всякого народа… В противоположность этому Кruse заявляет, что неверно, будто бы сельское население является физически более сильным и более годным к военной службе, что неверно, будто городское население физически дегенерировано и неверно, будто без притока из деревни города обречены на вымирание.
Вопрос придется, следовательно, оставить пока открытым до тех пор, когда не будут хотя бы отчасти устранены затруднения, препятствующие дать ответ на него. Самое главное из них в том, что деревенское население в различных частях Германии очень различно, и что поэтому чисто статистическим путем не удается получить материала, пригодного для сравнений.
Что социальное положение влияет на физические качества, это не подлежит никакому сомнению. Niceforo и de Lapouge нашли, что дети-школьники из бедного населения гораздо менее физически полноценны, чем дети богатых, и отличаются гораздо большим числом признаков дегенерации. Этим вполне объясняются так же и аналогичные данные, полученные для питомцев приютов для дефективных, исправительных домов и для потомков преступников).
Правда, здесь возможно одно возражение: можно сказать, что дегенераты опускаются по общественной лестнице все ниже и ниже, а физически крепкие и отличающиеся здоровыми нервами люди идут в гору. Так что и неудивительно, если мы встречаем дегенерацию преимущественно в низших слоях. Однако есть темы, доказывающие прямо и недвусмысленно, что нужда оказывает непосредственное влияние прежде всего по крайней мере на телесное состояние.
В Англии была организована несколько лет тому назад особая комиссия для изучения вырождения. Она пришла к выводу (H. Fehlinger), что даже в самых низших слоях можно найти лишь истощение, а не унаследованное вырождение: понижение физического уровня этой группы населения является следствием нужды, а вовсе не порока, и приобретается в течение индивидуальной жизни, не передаваясь следующему поколению; нет, следовательно, никаких признаков общего и прогрессирующего вырождения.
Эти результаты им^ют огромное и принципиальное значение. Grotjahn делает из них следующий вывод: «пример Англии делает вероятным, что серьезные санитарные опасности городского образа жизни и фабричной работы не представляют собой чего то непоправимого и что индустриализация способна вызвать лишь временную захудалость в соответственном населении, а вовсе не стойкое, неизбежно передающееся по наследству к следующим поколениям вырождение». В Германии же, прибавляет автор далее, сказываются в настоящее время те опасности, которые влекут за собой переход государства от аграрного строя к промышленному. Городские рабочие питаются еще не как горожане и уже не так, как крестьянское население; результатом этого является их физическая слабость. С этим вполне совпадает и оценка — Herkner'a (на основании того лее английского материала): «проблема вырождения сводится к продовольственной и жилищной проблемам».
Здесь, быть может, уместно напомнить о совершенно аналогичном выражении de Fries'a по поводу флюктуирующих вариаций в растительном царстве. Эти уклонения от основного типа той е не являются наследственными, а зависят от внешних факторов, почему de Fries и назвал их феноменом физиологии питания. С людьми дело обстоит аналогично, так что многое, что с точки зрения догмата о наследственности приобретенных качеств пытались истолковать, как симптомы неудержимого вырождения, на деле, может быть, не что иное, как временное и преходящее следствие социальных условий.
«Неблагоприятное действие плохих гигиенических условий, нужды и болезнетворных причин лежит тяжким бременем на народном организме и препятствует ему принять те формы, которые он мог бы принять благодаря свойственной ему внутренней эластичности. Устраните это бремя или облегчите его по крайней мере, и вы увидите, что и без всякого качественного улучшения зародышевой плазмы молодое поколение не будет хилым, будет развиваться правильно, и его средний качественный уровень быстро пойдет в гору». Так пишет автор, специальные познания которого совершенно несомненны: Мах v. Gruber.
Конечно, очень трудно доказать подобные взгляды экспериментальным путем. Все-таки у нас есть одно ценное наблюдение, сообщенное известным мюнхенским художником и общественным деятелем v. Berlepsch- Valendas:).
На фабрике крупного английского промышленника W. H. Lever'а в Ливерпуле работало несколько тысяч рабочих, тяжко страдавших со своими семьями от плохих жилищных условий и других скверных сторон жизни в большом городе. За это говорила их высокая заболеваемость, в частности легочные болезни, а также и высокая смертность как общая, так в частности и детская. Lever перенес затем свою фабрику на берег моря, создал для ее рабочих образцовый город-сад, в котором очень большое внимание было обращено также и на образ жизни детей, на его гигиеничность во всех отношениях. Результат был тот, что эти дети, прямые потомки «дегенеративных» городских рабочих, совершенно сравнялись (во всех возрастах) в смысле роста и веса с детьми зажиточного населения или даже превзошли их в этих отношениях. Другими словами, у родителей их не было никакой дегенерации, способной передаваться по наследству, никакого повреждения наследственной субстанции, несмотря на то, что в отдельных случаях это считается чем-то само собой разумеющимся.
Закончим этим примером ряд приводимых нами фактов и мнений. Физическое вырождение представляет собою социальное явление, является, говоря медицинским языком, экзогенным и излечимым страданием. Если это справедливо и в применении к психическому, к нервному вырождению, то к нему приложили также и следующие слова Franz Oppenheimer'а: «Народы гибнут не от старческой слабости, а от предотвратимых болезней».
Весь фактический материал о вырождении, изученный нами до сих пор, говорит решительно в пользу этой параллели. Ей противоречат лишь теории, к которым очень часто относились, как к фактам. Благодаря этим теориям создался призрак какой-то таинственной силы, которая якобы концентрирует в потомках путем наследственной передачи все случайные болезни, приобретенные их предками, и подрывает таким образом их нервное здоровье. В действительности же подобной силы не существует, да и влияние «отбора», как мы видели, вовсе уже не в такой мере неблагоприятно отзывается на нервной сопротивляемости, как в этом нас хотят убедить специальные теории. Зато серьезную опасность мы усмотрели в больших эпидемиях, в алкоголе и сифилисе, и если эта опасность временами и преувеличивается, то ее существования все-таки не в праве никто отрицать. Но эти бедствия имеют чисто социальную природу; в принципе они вполне излечимы и представляют собою самые лучшие примеры «предотвратимых болезней» народного организма, какие только можно себе представить. Спрашивается, существуют ли еще другие причины нервного вырождения, или мы должны смотреть на всякое прогрессирующее ухудшение нервного здоровья, как на нечто экзогенное, а тем самым и излечимое.
Вопрос о социальных причинах нервных заболеваний и в частности вопрос о том, не подрывает ли современная культура нервное здоровье непосредственным психологическим путем, обсуждался в последнее время столь часто и столь различно мыслящими исследователями, что теперь можно по крайней мере избежать слишком большой односторонности в трактовке этой темы. Идея о том, что общественные условия эпохи должны влиять на нервную сопротивляемость живущих в эту эпоху поколений, кажется настолько очевидной, что повторяется во все времена. И только за последние десятилетия она была несколько оттеснена и ее пришлось защищать в противовес сперва односторонней переоценке наследственности, а затем и известным теориям о ценности различных человеческих рас. Кант высказывал лишь общее мнение своей эпохи, когда он обвинял тогдашние социальные условия в том, что они причина душевных заболеваний. В наши дни многие опять очень приблизились к этой точке зрения; Бехтерев прямо объясняет нервное вырождение капиталистическим общественным строем, L o m er полагает, что склонность к душевным заболеваниям зависит не столько от принадлежности к известной расе, сколько от характера и степени культуры, и даже Kraepelin видит, как уже сказано, одну из существенных причин вырождения в том состоянии «доместицированности», в котором мы теперь пребываем. По его мнению, даже прогрессивный паралич обусловлен не только сифилисом, но также и физическими и психическими вредными агентами современной жизни. В этом пункте это воззрение тесно соприкасается со взглядом Edinger'a на значение расхода энергии («Aufbrauch») в этиологии нервных болезней. Как на отдельные моменты (наряду с уже приведенными нами выше фактами) Kraepelin указывает на все усиливающуюся изнеженность, на непрерывный рост потребностей и обусловленную им зависимость, а также и на ослабление и извращение естественных инстинктов (пища, сон, половое влечение). К этому надо прибавить рост обязанностей и, как следствие этого, чувство связанности, тягостной ответственности и постоянной заботы. Как резко этот психический облик нашего времени отражается на внешних проявлениях нервных и душевных болезней^ видно по частоте самообвинений, тревожного ожидания, навязчивых сомнений и мудрствований. Все эти явления отсутствуют якобы у примитивных народов и чрезвычайно редки также и в нашем сельском населении.
Доказательность всех этих наблюдений Kraepelin'a значительно ограничивается следующим простым соображением. Все указываемые им вредные моменты отражаются, может быть, только на внешнем облике нервных заболеваний, влияют, может быть, лишь на содержание психозов. Можно допустить, что они влияют и на число подобных заболеваний; это представляется мыслимым, но вовсе не необходимым, И только факты дадут нам возможность разрешить вопрос о том. не ведет ли высоко развитая культура к росту душевных и нервных болезней, не является ли этот рост закономерным следствием этой культуры.
Пытаться решить этот вопрос можно двумя путями. Мы воспользуемся и тем, и другим. Во-первых, мы должны установить, можно ли доказать, что у одного и того же народа одновременно с его подъемом к цивилизации начинается развитие и распространение явлений нервной дегенерации; во-вторых, можно было бы сравнить нервное здоровье у народов современных друг другу, но находящихся на разных ступенях культурного развития. Материал для решения второго вопроса, собранный за последние годы, еще не дает нам права на ясные и обязательные выводы и прежде всего потому, что при оценке фактов приходится считаться с серьезными источниками ошибок (Sioli, Hoche). В тех случаях, где обнаруживаются ощутимые различия в нервном здоровье различных народов, мы обычно не знаем, что играло роль решающего момента: среда и уровень культуры или же предрасположение, принадлежность к известной расе. Сравнительно простое объяснение возможно лишь для отдельных фактов, вроде, напр.. уже отмеченного наблюдения Kraepelin'a, что население Явы гораздо менее склонно к самообвинениям и страхам, чем европейцы. В данном случае действительно возможно, что различная степень внутреннего напряжения, забот и чувства ответственности, лежащих на большинстве населения, Находит свое—отражение во внешнем облике психозов. Однако мыслимо и совсем другого рода соотношение между культурой и формой психозов: не отражаются ли. в самообвинениях и страхах наших больных известные основные черты европейского характера, из которых— в противоположность психике и культуре азиатов — выросла наша европейская культура, наш взгляд на ценности и цели жизни? Иными словами: не являются ли наша культура, наши общественные учреждения, наши духовные и религиозные установки, с одной стороны, и особые формы, в которых протекают у нас неврозы и психозы, с другой, просто координированными следствиями расовых особенностей, к которым, конечно, может быть, присоединяются и влияния климата? И действительно, Spitzka, Bannist er nHectoen, Buschan и Pilсz допускают, что наклонность к депрессивным расстройствам настроения есть расовая особенность, по крайней мере германских и скандинавских народов, но именно эти народы и служили Кraepelin'y объектом при его сравнениях.
Впрочем влияние среды на содержание психозов, на проявления душевных заболеваний представляется после целого ряда наблюдений настолько несомненным, что нам не приходится подыскивать для наших целей заново примеров этих различий. Вредное влияние культуры можно было бы доказать только, если бы можно было установить, что она ведет к учащению и более тяжелому течению душевных заболеваний. До сих пор такого доказательства не существует (Macpherson и др.)— »не существует, по крайней мере если не винить цивилизации, как таковой, в некоторых явлениях, которые сопутствовали развитию современной европейской культуры, как, напр., в алкоголизме и сифилисе. Мы сейчас вернемся к этому. Но есть еще и другие факты, относящиеся сюда же. У малайцев и негритянских народов Австралии, а также и в Африке прогрессивный паралич наблюдается очень редко, хотя нет не достатка в сифилисе. Это заставляет думать о вредном влиянии культуры на нервную систему, на возможность какового влияния уже указывал, как сказано, Кг а ере H п. Сифилис, конечно, только одно из необходимых условий прогрессивного паралича; возможно, что вторым условием является сильное нервное переутомление, вызываемое современной борьбой за существование. Таким образом, был бы объяснен не только наблюдаемый будто бы рост паралича в Европе, но и его отсутствие у некоторых зараженных сифилисом примитивных народов. Но это не дает нам права упускать из вида, что возможны и другие объяснения. Именно относительно паралича мы должны считаться с тем, что для его возникновения, быть может, необходимы или особая форма сифилиса в смысле известной теории Hitzig'a, или же особое предрасположение, свойственное больному. Это предрасположение вовсе не должно быть приобретенным или индивидуальным. Так же, как и умственное переутомление, его причиной могла бы быть и принадлежность к известной расе или какая-нибудь особая наследственная склонность, как это угодно, напр., Naecke.
Если Naecke прав, то уже сам факт заболевания параличей доказывал бы врожденную неполноценность пациента; на если это предрасположение сводится исключительно к повышенной восприимчивости к определенному яду, отсутствующей у других людей, то подобное положение вещей невозможно называть словом вырождение. Никому не приходило в голову думать о дегенерации по поводу параличей после дифтерии. Таким образом, одно констатирование того факта, что кривые распространенности сифилиса и паралича не у всех народов протекают параллельно, вовсе еще не может доказать того, что культура является причиной развития прогрессивного паралича. Bula Revesz дал подробную сводку оснований, говорящих против этой этиологии, в своей монографии о психиатрии расы («Rassenpsychiatrie»). И если даже высказываемый Ursteinn'ом взгляд о решающей роли климата—в жарких странах будто бы легче выделяется сифилитический токсин и поэтому паралич чаще не наступает—вызывает сомнения, то он доказывает во всяком случае возможность объяснений, отличающихся от данного Kraepelin'ом.
Из других обвинений, выставляемых в этом отношении против цивилизации, гораздо серьезнее следующее: северо-американские негры заплатили якобы колоссальным распространением душевных заболеваний за свое освобождение от рабства и соприкосновение с культурой. В 1856 году среди них насчитывалось 175 душевнобольных на 1.000.000 населения, а 10 лет спустя всего 169, в 1870 же году, спустя всего несколько лет после освобождения,— уже 367, а в 1890 г.—даже 886, — казалось бы, это доказывает вредное влияние культуры с почти экспериментальной ясностью. Конечно, в интерпретации статистических данных потребуется осторожность. Мы не уверены, что душевно-больные негры-рабы учитывались также внимательно, как в дальнейшем после их освобождения (Hoche), так что, может быть, в эти цифры даже следовало бы внести поправки. Но, судя по всему, что мы знаем об этом из других, не статистических источников, все-таки остается факт, что после освобождения число душевных заболеваний увеличилось. Следует ли отсюда действительно, что между нервной дегенерацией и современной цивилизацией есть закономерная связь? Но одним собиранием цифровых данных этого вопроса разрешить нельзя. Мы должны попытаться понять внутреннюю связь этих явлений, причину этих внезапно участившихся нервных заболеваний.
Сравнительные исследования дают прежде всего тот результат, что участи, постигшей негров при соприкосновении с европейцами, подвергаются отнюдь не все примитивные народы, попадающие в то же положение. Обитатели Тасмании вымерли через 70 лет после занятия острова англичанами, коренное население Новой Зеландии, Океании, Целебеса и Суматры резко уменьшилось, и то же самое произошло в связи с продвижением европейцев и со многими индейскими племенами. Конечно, и здесь сыграли свою губительную роль водка и различные эпидемические заболевания, однако, последняя причина этого быстрого исчезновения совсем другая. Это вымирание интересовало еще Darwin'a: он сравнивал его с фактом бесплодия, развивающегося у многих видов животных после даже незначительных изменений их условий жизни. Позже 0. Peschel указал на вполне вероятный психологический мотив для подобной смерти расы, не имеющий, конечно, ничего общего с вырождением. «Жестокость и угнетение никогда еще не были причиной полного истребления целого племени, народы не гибли целиком даже от новых болезней и еще менее от алкогольной заразы; есть другой, гораздо более своеобразный ангел смерти, бреющий в настоящее время над племенами, бывшими некогда жизнерадостными: отвращение к жизни.
Несчастные обитатели Антильских островов кончали жизнь самоубийством: они сговаривались и принимали яд или вешались. Испанский историк Zuzitа слышал от одного миссионера из Oajoka, что целые орды хонталов и мийясов условливались между собой о прекращении всяких сношений со своими женами или же об удалении неродившегося плода с помощью яда. Причина вымирания очень многих цветных рас именно в том, что они не оставляют после себя молодого поколения. Вымирание народов на Гавайских островах и на Таити обусловливается тоже уменьшением рождаемости».
Если сравнить со всем этим участь негров, то придется опять придти к мысли о расовых различиях и особенностях. Но эти различия могут объясняться исключительно относительной неполноценностью негров. Сознательное национальное самоубийство предполагает наличие более высоких духовных и нравственных качеств, чем та безудержная жизнерадостность, с которой негры переносили свое рабство и злоупотребили затем свободой. Ибо, действительно, получается впечатление, что именно это злоупотребление свободой имело для негров роковое значение. Судя по всем описаниям, явствует, что среди причин нервных заболеваний негров большую роль играл алкоголь; так Witmer пишет: До эмансипации здоровье и нравственность рабов были под заботой и опекой, и принимались постоянные меры против распространения среди них пьянства, разврата и болезней; после же освобождения многие из них подпали резкому влиянию этих страшных причин помешательства, к ним стали относиться преувеличенно терпимо, и по своему положению они были более подвержены заболеваниям, так как совершенно не знали правил гигиены. В своей житейской неопытности, не имея здоровой философии и религии, они не выдержали всех волнений, и мозг очень многих из них сдал под влиянием того длительного напряжения, которого потребовал процесс цивилизации.
Но это может значить лишь одно: что эта цивилизация, давшая неграм освобождение, не годилась для их расы или была по крайней мере еще преждевременной для них. Само собой разумеется, что «вольная продажа таких вещей, как спиртные напитки, населению, еще не привыкшему к самостоятельности и самообладанию, будет всегда вызывать резкое увеличение числа психических заболевании». Алкоголь действует грубо, так что в данном случае последствия были совершенно очевидны; большинство же остальных (или все) вредных для нервной системы последствий освобождения, вероятно, просто меньше бросалось в глаза; для негров имела роковое значение не цивилизация, как таковая, а переход к этой цивилизации скачком. И это еще вовсе не упрек нашим общественным учреждениям, если другая раса не может перенять их без вреда для себя внезапно и будучи неподготовленной. Mattauschek указал недавно на аналогичные явления у населения Боснии и Герцеговины: и здесь наблюдалось тоже тяжелое нервное вырождение до достижения собственной культуры исключительно вследствие соприкосновения с другой цивилизацией, оказавшейся для них слишком высоко развитой.
Нет нужды особенно углубляться в историю, чтобы увеличить число примеров процессов этого рода. И в настоящее время ложна наблюдать, как один и тот же политический строй ведет один народ к процветанию, а другой — к бесконечным смутам и гибели; разница всегда в том, что в одном случае этот строй соответствует и политической зрелости, и политическим потребностям, а в другом— он просто перенят, является чужим продуктом и не ассимилируется. Достигает ли народ определенной культурной высоты путем органического самостоятельного развития, или же он перенимает извне определенные культурные формы и пытается затем к ним приспособиться, это совершенно различные вещи, которые не могут иметь одинаковых последствий.
К этому присоединяется, что нервной сопротивляемости народа вреден, по-видимому, не только всякий быстрый переход с одной ступени культуры на другую, но и вообще всякое внезапное изменение условий жизни. Как ни сомнительны все сравнения, проводимые в этом отношении между очень несходными друг с другом народами, все-таки не лишено смысла взять расу, проделавшую такое изменение, почти что на наших глазах и рассмотреть ее участь под углом зрения вопроса: не обнаружились ли и в данном случае какие-либо нервные последствия этого перехода. Европейские евреи (т. — е. люди, принадлежащие к народу с хорошим интеллектом п древней культурой) перешли в течение немногих лет в совершенно новые условия жизни после многовекового гнета и тяжелого ограничения свободы передвижения. Эти евреи слывут в настоящее время более нервными, чем, напр., немцы, с которыми у них общая цивилизация, и, действительно, у них гораздо чаще, чем у немцев, наблюдаются (по крайней мере) некоторые функциональные нервные заболевания. Ходячее мнение объясняет это продолжительным размножением в себе («Inzucht») и преследованиями в прежние столетия. И то, и другое мало вероятно; ибо от кровных связей здоровый народ делается лишь сильнее, а не болезненнее, преследования же предков не могут быть причиной нервности потомков. Возможно, однако, нечто совсем другое, почти противоположное; после тщательных исследований Sichel пришел к убеждению, что у евреев гетто было гораздо меньше психозов, чем теперь, и что причина их роста именно в освобождении евреев, в предоставлении им теперь возможности интенсивнейшей борьбы за существование, а самое главное—в погоне за почетом и наживой. Доказать это, конечно, нелегко; однако, мы познакомимся с целым рядом других фактов и воззрений, которые могли бы, с одной стороны, обосновать эту теорию, а с другой стороны, подчинить ее в то же время и некоей общей идее.
Этим мы подошли уже к обсуждению второго поставленного нами выше вопроса. Сравнение народов, живущих в одно и то же время, но при различных культурных условиях, не дало возможности установить внутреннюю связь между культурой и нервным вырождением. Зато мы видели, что для нации может быть опасен внезапный переход от одной жизненной формы к другой. Вернемся в связи с этим опять к вопросу: не наступает ли ухудшение, нервного здоровья нации в качестве закономерного следствия определенной ступени культурного развития даже и в том случае, когда эта ступень достигается постепенно, в результате естественного развития? Или применительно к нам самим: можно ЛИ доказать, что у современных культурных народов отмечается ухудшение нервного здоровья?
Вопрос этот, как сказано, часто обсуждался в последнее время и решался очень различно. Оба докладчика на эту тему на последнем международном съезде психиатров пришли в своей оценке собранного по настоящее время фактического материала к совершенно противоположным выводам. Rudin, близкий к воззрениям Kraepelin'a, полагает, что наблюдается рост самоубийств, преступности и всякого рода неврозов. Психические эпидемии тоже не менее редки, чем прежде, как это доказывают всяческие секты, приглашение к больным священников и неврозы после несчастных случаев; что касается душевных болезней, то уже чисто логически, на основании распространения алкоголизма и сифилиса, следовало бы придти к выводу, что они учащаются.
Tamburini высказался в противоположном смысле почти по всем пунктам: изменение наших интересов и нашего образа мыслей отражается только на содержании психозов; совершенно не доказано, что число душевнобольных в настоящее время больше, чем прежде (или что оно выше у культурных народов, чем у дикарей); истерия и психические эпидемии встречаются несомненно реже. Нельзя отрицать лишь более сильного распространения функциональных нервных страданий вследствие более суровой борьбы за существование. Что касается интоксикаций и инфекций, то в них нельзя винить культуру, так как она принимает, наоборот, все меры, чтобы устранить причиняемый ими вред.
Соображения Тamburini тесно соприкасаются во многих отношениях с мыслями о связи между культурой и душевными болезнями, высказанными незадолго до того A. Hoche. Этот последний тоже пришел к выводу, «что не существует никаких доказательств, будто современная культура причиняет, действительно, серьезный вред душевному здоровью нашего общества». Мы должны будем детально обсудить все те факты, которые автор приводит в защиту этого положения.
Несколько лет тому назад германское психиатрическое общество поручило некоторым своим сочленам собирать сведения о количестве душевно-больных и выяснить вопрос о том, увеличивается ли это число действительно сильнее, чем это соответствовало бы приросту населения. Вопрос этот, следовательно, далеко не так уже выяснен, как это кажется многим со стороны. Фактически мы совершенно не знаем, увеличивается ли, как это часто утверждают, число психозов, или нет. Мы знаем, во-первых, что увеличивается их абсолютное число — что почти само собой разумеется при нашей терапевтической несостоятельности, а во-вторых, что спрос на места в психиатрических больницах растет из года в год гораздо более быстрым темпом, несоответствующим этому абсолютному увеличению. Напр., в Бадене в последние десятилетия перед войной количество поступлений в психиатрические больницы возрастало в семь раз быстрее, чем этого следовало бы ожидать в зависимости от прироста населения. Явление это повсеместно, и причины его совершенно ясно вытекают из изменившихся условий жизни нашего времени: современное социальное» законодательство делает больницы доступными и для беднейших слоев, практические врачи обладают теперь большими специальными познаниями, общественная совесть по отношению к беспомощным стала гораздо тоньше; кроме того, экономическая борьба становится все более и более трудной, она уже не терпит социально непригодных людей; жилищные условия становятся все труднее и призрение на дому становится невозможным; устранены, наконец, всякого рода стеснения и ограничения при приеме в психиатрические больницы и рука об руку с этим исчезает постепенно и страх перед этими учреждениями. «Природа и болезни остались без изменений», говорит Rieger, «изменились только социальные условия». Он показывает на примере больницы св. Юлия в Вюрцбурге, как легко можно впасть в заблуждение, если пользоваться только статистикой. В прежние времена в эту больницу евреев не принимали, а священников очень охотно. Если кто-либо стал бы делать подсчет принятых в эту больницу больных, не зная этих условий приема, то он должен был бы придти к выводу, что евреи совершенно не обнаруживали склонности к психозам, а священники же в сильной степени. Такой же ошибкой было бы и заключение об относительном увеличении душевных заболеваний на основании переполнения психиатрических больниц в настоящее время.
Действительно, почти для всех культурных государств можно доказать вероятность того, что рост потребности в психиатрических койках вызван, главным образом, уже указанными нами внешними условиями. Относительное увеличение заболеваний наблюдается, по-видимому, только в Ирландии, где на 1000 жителей приходится 5,61 душевно-больных,—может быть, потому, что из этой страны эмигрирует так много людей со здоровыми нервами и что цифры для сравнений таким образом понижаются. Впрочем обычно всегда наступает состояние равновесия, если число психиатрических коек доводится до четырех или по крайней мере до трех на 1000 жителей; пока этого нет, будет продолжаться переполнение и кажущийся рост потребности.
Конечно, относительный рост душевных болезней все-таки фактически вполне возможен, даже если мы и не в силах доказать его. На этом основании некоторые новейшие авторы пытались, как сказано, доказать увеличение душевных болезней чисто логическим путем. Rьdin еще до войны утверждал, что прогрессивный паралич должен быть теперь чаще, чем прежде, в виду большей распространенности сифилиса и аналогичным образом обстоит дело якобы и с алкоголем.
В этих утверждениях, поскольку они относятся к алкоголю, верно то, что современная промышленность производит этот яд в таких количествах и сравнительно так дешево, что настоятельно необходимы серьезные врачебные контр-мероприятия. Однако Rie g er, конечно, вполне прав, когда он указывает в данном контексте, что за последние столетия выросло также и население. Мы ничего не знаем о количестве, которое выпивалось в прежние времена, однако, из многих работ явствует, что оно было не малым. В этом смысле любопытно одно историческое воспоминание, указанное Rieger'ом, важное и в целом ряде других отношений, Вот что писал в 1881 г. автор по имени Petersen: «король Фридрих воспитывался еще во времена пивных похлебок, а дети тысяч его подданных уже в эпоху кофе. Эта зараза не ограничилась городами, а захватила даже крестьян и поденщиков. Мало-помалу чаепитие и употребление кофе превратилось в настоящее бедствие, ослаблявшее здоровье, распространявшее женственность, дряблость и сентиментальность, разорившее целый ряд семейств, подрывавшее Силу нации, уносившее из Германии ежегодно 24 миллиона» гульденов. Мы видим таким образом, что с народами дела обстоит так же, как и с отдельными людьми. Редко дурная наклонность уничтожается, не заменяясь другой: один бес изгоняется не иначе, как другим, занимающим его место».
Впрочем истребление алкоголя отнюдь не обнаруживало в новейшее время (о котором у нас есть точные данные) равномерного увеличения. В 1877 году на душу населения приходилось 8,62, а в 1908 — 9,4 литра абсолютного алкоголя; в промежутке же между этими годами, с 1881 до 1885 г., цифры эти были еще выше, а цифра, полученная для 1884 года, равнялась 11,48 литрам. В частности перед войной потребление пива несколько увеличилось, потребление же водки уменьшилось. Рост алкоголизма, следовательно, не был доказан даже еще до войны, а, наоборот, имелись вероятные данные, говорящие скорее за его уменьшение. За это говорили и клинические наблюдения. A. Cramer1) отмечал в своей последней работе об алкогольных психозах, что классический бред ревности пьяниц становится реже частью потому, что уменьшилось потребление алкоголя. В последующие годы это потребление (в самой стране) почти прекратилось, и вместе с тем исчезли, конечно, и психические последовательные заболевания. Теперь опять начинает появляться и то, и другое.
Немногим иначе обстоит дело с утверждением, будто прогрессивный паралич должен быть более частым явлением, потому что более распространен сифилис. Сам по себе факт, что прогрессивным параличом заболевает большее количество людей, был верен уже, может быть, и до войны, и историческое исследование M цп-kemцller'a, если и не доказало его, то все же сделало его очень вероятным. Не прямое доказательство (путем ссылки на распространение сифилиса), однако, совершенно недопустимо. Ведь как раз сам R ь d i n подтвердил то положение, что некоторые сильно зараженные сифилисом народы остались по сие время свободны от прогрессивного паралича. Уже поэтому мы не в праве допустить прямого количественного соотношения между распространением этих двух заболеваний. К тому же до 1914 года самый рост сифилиса был всего лишь гипотезой—с той поры положение вещей изменилось, к сожалению, в дурную сторону. И до войны, да и теперь, сведения о распространении этой болезни по-прежнему довольно скудны, о прошлых же временах нам известно так мало, что все сравнения оказались бы совершенно произвольными Наши современные методы дают нам возможность легче распознавать это заболевание, чем это было возможно прежде, и факт огромного распространения положительной реакции сыворотки превзошел ожидания многих исследователей, несмотря на весь их пессимизм. Так что опять-таки нельзя отрицать возможности, что сифилис встречался прежде реже, чем теперь, и, конечно, развитие современных больших городов очень благоприятствует распространению заразы. Но, быть может, этот вред компенсируется более хорошей терапией и более заботливой профилактикой, и во всяком случае большая распространенность сифилиса в настоящее время по сравнению с прежним остается—если оставить в стороне резкое колебание, вызванное войной—все-таки недоказанной. Но если это было бы даже и не так, то мы все-таки не могли бы возлагать ответственности в распространении сифилиса и паралича на культуру, как таковую. История медицины показывает, что цивилизованные нации заражались сифилисом от нецивилизованных, но и наоборот. Единственный момент, характерный для связи культуры и инфекционных болезней, состоит в том, что культура ведет с ними борьбу и стремится предупредить их передачу, и как раз в отношении сифилиса мы вправе рассчитывать в настоящее время на известный успех этих стремлений.
Впрочем автором утверждения, что прогрессивный паралич стал более частым явлением, был еще Krafft-Ebing, но по его наблюдениям выходило в то же время, будто циркулярный психоз стал реже. Надо считать возможным как первое, так и второе. После всего, что мы узнали выше о наследственности при эндогенных психозах, вполне возможно, что наследственная передача этих болезней действительно постепенно уменьшилась, благодаря более частому помещению носителей этих заболеваний в психиатрические больницы. Таким образом, будь рост прогрессивного паралича даже фактически доказан, это все-таки еще не должно было бы означать роста душевных болезней вообще.
Из всех этих соображений вытекает прежде всего одно что проблема распространенности душевных расстройств кабинетным путем вообще не разрешима. Мы оперируем при этом со столькими неизвестными, что выводы будут получаться совершенно различные, глядя по субъективным воззрениям отдельных исследователей. Удастся ли получить в дальнейшем пригодный фактический материал, в настоящее время неизвестно; а пока мы должны довольствоваться тем повторяемым нами еще раз положением, что мы не знаем определенно ни общего числа психически ненормальных людей, ни того, растет ли это число, или уменьшается (Hoche), так что впредь мы будем уже не вправе ссылаться без всяких оговорок на это основание, как на аргумент в пользу вырождения.
Но, конечно, даже если бы удалось доказать, что психозы не становятся чаще, то этим вовсе не была бы исключена всякая опасность вырождения вообще. Душевные расстройства в таких формах и в такой степени, что требуется помещение в больницу, представляют собою всегда только одно из проявлений нарушения душевного равновесия; это проявление, конечно, самое тяжелое, но, по-видимому, все-таки не то, которое наиболее ощутительным образом мешает жизни и. работе людей здоровых. Некоторые другие формы нервной недостаточности гораздо более способны придать характерные черты общей картине культуры данной эпохи именно потому, что их жертвы не выключаются из жизни. Они могут, таким образом, задержать общество в его поступательном движении или даже отвлечь его с этого пути, если они достаточно многочисленны.
Не подлежит никакому сомнению, что эта опасность в настоящее время сильнее, чем когда-либо. Типографские чернила и пути сообщения выносят на поверхность общественной жизни таких психопатов, о которых раньше нам едва ли пришлось бы слышать (G rassmann, Stransky). Это необходимо иметь в виду, если поднимается вопрос о степени распространения подобных людей. Сравнение с прошлыми временами было бы здесь крайне затруднительно.
Но, с другой стороны, ведь почти само собой разумеется, что при нашей современной культуре действительно гораздо большее число людей будет терпеть крушение. Борьба за существование стала более жестокой и бесцеремонной, в жизни гораздо больше трений — неудивительно, что гораздо больше умственно или нравственно слабых людей будет раздавлено жизнью или будет по крайней мере отставать от остальных. Это опять-таки вовсе не должно означать того, что число этих дефективных людей увеличилось.
Тот, кто обратился бы к выводам моральной статистики, не учитывая этих соображений, должен бил бы вынести впечатление, что дело наше очень плохо. По вычислениям иезуита Kro s e 1~), в Европе в XIX столетии покончило самоубийством от 1!/а ДО 2 миллионов людей. Число самоубийств в Германии в период времени от 1820 года—со времени появления пригодной статистики— по 1878 увеличилось в четыре раза, в то время как население за этот период даже не удвоилось. Резкий рост (на 20 процентов) наблюдался и в дальнейшем, с 1881 по 1897 г., с этого времени и до войны кривая шла медленнее и с колебаниями, но в целом все-таки в гору.
Эти колебания чрезвычайно важны для критической оценки этого процесса. Они показывают, что значительное вздорожание главнейших питательных продуктов и сильные экономические потрясения (банкротства банков и т. д.) быстро взвинчивают цифру самоубийств, но что так же действует в общем и быстрый экономический расцвет; во-вторых, что самоубийства уменьшаются в эпохи политического возбуждения (войны, революции); далее, что единственной страной, где самоубийства стали с 60-х годов реже, является Норвегия, где, как известно, с этого же времени начали проводиться серьезные меры против пьянства, очень распространенного до тех пор, и, наконец, что уровень кривой самоубийств, будучи ниже всего в декабре, январе, феврале и ноябре, весной быстро нарастает, достигает высшей точки в мае и июне, и затем, начиная с августа, опять довольно быстро падает. С аналогичными явлениями мы встретимся также и при некоторых преступлениях, в особенности при преступлениях против нравственности. Все это показывает с убедительностью, что «и этот человеческий поступок, ответственность за который возлагалась во все времена на свободное волевое решение или во всяком случае в первую голову на чисто психологические причины, зависит тоже от общих условий, лежащих вне индивидуума, относительно которых этот последний совершенно беспомощен».
Правда, Gaupp, которому принадлежит этот вывод, сам же доказал, что из 124 кандидатов на самоубийство, поступивших в Мюнхенскую клинику, только один был вполне психически здоровым человеком. Этот факт и известное еще Voltaire'y наблюдение, что самоубийство часто бывает наследственным, заставляют, конечно, искать причины этого поступка прежде всего в отдельном индивидууме, но отсюда еще вовсе нельзя сделать вывода, что в настоящее время число людей, предрасположенных к этому поступку, увеличилось, ибо появилась масса внешних причин, создавших повышенное общее предрасположение. Помимо затруднений экономического характера, сюда относится также и понижение религиозности. Взгляд на лишение себя жизни, диктуемый определенной религией своим приверженцам, влияет на частоту этого поступка, как это с определенностью вытекает из сравнительных исследований; тот, кому не приходится преодолевать религиозных сомнений, гораздо легче, чем другие, решится на самоубийство.
Чтобы исключить все недоразумения, повторим еще раз, что не подлежит сомнению, что причины самоубийства не исключительно социального характера; но так как они также и социального характера, то на основании роста самоубийств нельзя делать вывода о росте психопатического предрасположения в том случае, если имеется явственное изменение социальных условий. Что у нас еще и до войны дело обстояло именно так, этого нельзя оспаривать. Несмотря на это, все-таки можно согласиться с тем, что рост самоубийств, наблюдавшийся до 1914 года, имел еще и вторую причину: она заключалась в росте нервности, в своеобразном, действовавшем заразительно нервном лейтмотиве, одним из проявлений которого было и религиозное безразличие. Не было только никаких оснований сводить эту душевную установку на врожденные, а тем самым неустранимые, причины. Она была приобретенной и являлась следствием тогдашних социальных условий. Мы еще вернемся к этому.
Аналогичным образом обстоит дело и с другим, уловимым путем статистики, явлением, угрожающим, невидимому, нашему будущему: с преступностью. И здесь, судя по официальным данным, картина еще до войны была сама по себе мало утешительной. За вычетом всего того, что надо было отнести за счет (явной или возможной) связи с новым законодательством или с более строгим применением старых законов, все-таки оказывалось, что кривая преступности все время шла вверх (хотя все же медленнее, чем кривая самоубийств). Еще более опасений внушало заметное уже и тогда все большее и большее участие несовершеннолетних в целом ряде преступлений. Но когда мы стали рассматривать различные виды преступлений порознь и изучать колебания их числа, то выяснилось, что и это зло поправимо, по крайней мере в известной степени. Выяснилось, что кривая преступлений против нравственности закономерно поднимается в определенные летние месяцы, 'а кривая преступлений против собственности зимой и в периоды экономических кризисов; оказалось, что всякого рода скандалы находятся в ясной зависимости от количества потребления алкоголя и его распределения по дням недели и что существует даже связь между родом профессии и криминальными наклонностями (Asch дffe n bu r g). Опять-таки, стало быть, общие, независимые от индивидуума и, главным образом, социальные причины. «Каждое колебание общественного равновесия опрокидывает за борт известное количество людей, толкает их на дно преступности», писал тогда Aschuffenburg, «y всех этих людей есть одна общая черта, недостаточная сопротивляемость по отношению к искушениям. Социальные причины создают повод к преступлению, но в то время, как значительная часть людей способна удержаться в равновесии, другая часть не выдерживает его и падает раньше или позже». Здесь такое же взаимодействие социальных и индивидуальных причин, как и при самоубийствах. Ничто не говорило и не говорит за то, что индивидуальные причины стали более частыми или сильными. Неизбежные следствия перехода от аграрного государства к промышленному, переживавшегося нами перед войной, и в частности резкие колебания экономических условий жизни объяснили вполне это явление уже до 1914 года и объясняют и то еще менее утешительное положение, которое создалось теперь. Уже до войны становилось труднее проложить себе дорогу, чем прежде, и было уже не так легко остаться совершенно безупречным. К этому присоединялось — в этом отношении совершенно бесспорное—губительное действие алкоголя. Около 150—200 тысяч человек не попадало бы ежегодно под уголовный суд, если бы не существовало алкоголя (Gaupp). Вспомним также, что противоалкогольная агитация одного единственного человека, патера Mathew, резко уменьшила в свое время в Ирландии в очень короткий срок цифру тяжелых преступлений, доведя ее с 12,096 до 778.
Конечно, алкоголизм не только причина, но и симптом вырождения; однако типическое алкогольное преступление— нанесение физических повреждений—характеризует вовсе не привычных, а случайных пьяниц. Таким образом, преступность остается социально обусловленным явлением, вопреки Lоmbroso. Его учение не могло бы внести никаких перемен, даже если бы оно могло быть доказано, и если бы действительно 35°/о всех правонарушителей обнаруживало физические я психические признаки особого «антропологического» типа. Ибо заранее не подлежит никакому сомнению, что «врожденные», профессиональные и «привычные» преступники устроены по другому, чем остальные люди, что они, стало быть, дегенерированы, представляют собою неблагоприятное уклонение от типа. «Все, кто стоят на почве опыта», пишет Gaupp, «согласны в том, что существует непрерывный ряд характеров, связывающий между собою тех, кто нарушает закон лишь при исключительно неблагоприятных условиях (преобладание социальных влияний), и тех, чье злосчастное природное предрасположение таково, что в теперешних условиях они становятся преступниками «с естественной необходимостью». Этих последних мы можем называть и врожденными преступниками и морально слабоумными и дегенерантами — дело здесь не в словах. В каких случаях надо говорить о ненормальной конституции и в каких о болезни—это дело условной терминологии».
С точки зрения проблемы вырождения важно лишь одно: стал ли этот тип более частым, или нет? Никто еще не пытался доказать этого, хотя это часто допускалось, как нечто само собою разумеющееся, когда шла речь о росте преступности, как о симптоме дегенерации.
И все-таки это основной вопрос, который должен подниматься по поводу всех явлений, относимых к вырождению. Разница между «эндогенной» и «экзогенией» проведена далеко еще не достаточно строго, и именно здесь, где всегда действуют обе причины, их надо резко различать друг от друга при анализе фактов. Если в известные периоды времени условия делают большее число людей преступниками, нервными или склонными к самоубийству, то это совсем другое дело, чем если большее число людей рождается на свет психически ненормальным. Это различие стерлось лишь благодаря догме о наследственности приобретенных качеств, влиявшей долгое время на все учение о вырождении. Ведь если следовать ламаркизму, то всякое увеличение экзогенных вредных моментов должно было бы благоприятствовать в то же время и эндогенному возникновению психически ненормальных личностей; благодаря этому терял свое значение вопрос о том, какие причины преобладают при возникновении дегенеративных явлений: индивидуальные или же внешние. Теперь дело обстоит иначе. Мы видели, что еще до войны — о войне и послевоенном периоде мы будем трактовать особо — отмечался рост преступлений и самоубийств, и нам придется теперь спросить, не увеличивались ли также и нервные болезни, кроме психозов, о которых мы уже говорили. Но так же, как и по поводу самоубийств и преступности, мы не будем ограничиваться и здесь простой установкой факта роста нервности. И здесь к первой задаче примыкает вторая: мы должны последовать, не объясняется ли состояние нервного здоровья в довоенный период социальными условиями того времени, или же надо допустить, кроме того, увеличение числа врожденных психопатических личностей.
Что мы стали в общем более нервными, с этим надо согласиться. Многое говорит за то, что в этом отношении дело обстояло даже несколько иначе, чем при преступности: по-видимому, социальные условия не только способствовали более частому проявлению наличных нервных предрасположений, но и создавали даже в некоторых случаях сами это предрасположение. Без этого допущения едва ли можно было бы объяснить, что все время увеличивалось число санаторий и врачей-невропатологов и что опытные наблюдатели (Erb, His, Determann, Gaupp) говорили в то время без всяких оговорок о росте нервности.
Математически это не поддается доказательству, но, может быть, убедительнее другой ход доказательства; возможно, что специальные формы этой нервности могут быть настолько прямолинейно выведены из условий жизни довоенного времени, что связь их с ними станет совершенно ясной уже благодаря этому одному. Попытка эта предпринималась неоднократно и частью с полным успехом. Конечно, при этом не обошлось без преувеличений и ошибок, и как раз то самое, на что чаще всего нападали, как на причину нервного вырождения —мнимое умственное переутомление и одностороннее культивирование интеллектуальных качеств — можно будет с полным правом совершенно вычеркнуть из списка выдвинутых против культуры обвинений.
Каково значение этого одностороннего культивирования духовных качеств, это мы уже видели, когда говорили о действии отбора. Влияние духовной деятельности родителей на задатки детей, к сожалению, совершенно невозможно и очень вероятно, что в новых поколениях, лишенных с детства воспитательного влияния своих собственных родителей и помещенных в менее «интеллигентные» семьи, не осталось бы и следов этого мнимого отягощения. Более чем сомнительно даже и то, что напряженная умственная деятельность наносит вред хотя бы лишь, тому человеку, который ее выполняет. От одной умственной работы люди не становятся душевно-больными, и умственное напряжение способно причинять вред, может быть, лишь в тех случаях, когда из-за него упускается отдых и сон, в особенности же когда к этому присоединяется чувство тяжкой, гнетущей ответственности. Но это вовсе не так уже несомненно, как это обыкновенно полагают; опытные невропатологи неоднократно подчеркивали, что даже такие напряженнейшие и беспокойнейшие профессии, как профессия адвоката, врача и крупного коммерсанта, приводят к функциональным нервным заболеваниям гораздо реже, чем безделье—уже Hilty было известно, что лучшая почва для «неврастений» «самые здоровые» условия жизни — или, напр., регулярная конторская работа. О вредном действии школы на нервную систему:) в смысле перегруженности школьными работами, и прежде — о настоящем мы совершенно умалчиваем — едва ли приходится говорить. И здесь, как и во всех аналогичных вопросах легко смешать причину с следствием: слабонервные дети, попав в школу, оказываются несостоятельными и сдают, подобно тому, как нервные взрослые сдают в жизни, и главная вина лежит здесь не на школе и не на жизни. Делавшаяся иногда попытка доказать пагубное влияние умственной работы на примере участи целых семейств основывается на той же иллюзии: совершенно верно, что первое поколение, которое выдвинулось благодаря своей работе, и прямые предки которого были еще крестьянами или ремесленниками, действительно, нередко отличается более крепкими нервами, более продуктивно и менее утомляемо, чем отпрыски семейств, состоявших уже многие столетия из умственных работников. Но не выдвинулось ли первое поколение, несмотря на большие внешние затруднения, именно по той причине, что оно обладало более крепкими нервами?
Несколько большие значение я хотел бы приписать роли эмоций. В прежние времена, действительно, попадались педагоги-деспоты, порядочно грешившие в этом отношении, но за последнее время положение улучшилось. Правда, люди, кончившие среднюю школу с наклонностью к страхам и тягостной внутренней неуверенностью, обладали большей частью от рождения не совсем здоровыми нервами, но все-таки за счет школы приходилось нередко ставить по меньшей мере ту особую форму, которую приняла в дальнейшем их нервность: ощущения напряжения, боязнь каждой жизненной задачи, начальства, учреждений и т. д. Это еще большой вопрос, находились ли наши предки в этом отношении в более хороших условиях—вспомним, напр., юность Фридриха Великого,—но именно это-то и имеет для нас значение.
Зато, если сравнить последние 30, 40 лет в Германии, напр., с прежними временами, то придется сразу согласиться с тем, что жизнь взрослых стала эмоционально гораздо напряженнее. Все вредные моменты, на которые указывал перед войной, напр., Hoche, как на причины известных нервных явлений, действовали в последнем счете именно на эмоциональность: изменение образа жизни сотен тысяч людей вследствие преобразования аграрного государства в промышленное; быстрый рост больших городов с необходимым в них, быть может, низшим слоем, пролетариатом; все большая резкость и бесцеремонность экономической борьбы; упадок религиозных чувствований и представлений; измельчание идеализма в политике; все усиливающая раздробленность в образе жизни образованных людей; ускорение темпа жизни, увеличение шума и беспокойства, сужение личной свободы; такой подбор сюжетов в искусстве и такое повышение техники и средств выражения, которые лишили искусство способности действовать благотворным, устраняющим напряжение образом; злосчастная пресыщенность в развлечениях и в досуге, приводившая в погоне за новыми, нецелесообразными, возбуждающими средствами и к игнорированию естественных предостерегающих признаков утомления; кроме того, возникновение новых неведомых прежним временам профессий (в связи с новой техникой человеческих сношений), работа в которых уже сама по себе способна действовать как эмоционально вредный фактор. К этому перечню надо прибавить еще также и отмеченное нами выше положение Kraepelin'a, которое сводит к более сильному напряжению нашего чувства ответственности частое появление депрессивных и боязливых идей, самообвинений и фобий.
Неудивительно, что мы стали, таким образом, как выразился Lamprecht, более «раздражимыми» («reizsamer»). Мы не были больными, но никто не будет отрицать, что нашей нервной конституции в довоенное время придавали довольно характерный облик — известная торопливость, внутреннее и внешнее беспокойство, постоянные колебания настроений, сознательное стремление к эмоциональной утонченности, доходившее до последних, еще совместимых с требованиями практической жизни, пределов. Однако, не впадая в чрезмерные преувеличения, конечно, никак нельзя было бы сказать, что примесью болезненного была пропитана вся наша жизнь, что вместе с пресыщением во всех проявлениях нашей культуры сказывалось также и нечто усталое и бессильное и что наше нервно-переутомленное общество особенно охотно доверялось руководству людей не вполне психически полноценных. Но что гораздо важнее и что в настоящее — послевоенное—время совершенно несомненно, вто следующее: эта раздражимость была чисто временным явлением, отвечавшим нашим тогдашним социальным условиям и вызвавшей эти условия эволюции; таким образом, и она отнюдь не доказывала того неудержимого роста врожденных психопатических конституций, который из нее выводили. Насколько распространен был в предвоенное время этот вывод, можно видеть не столько по врачебной, сколько по немедицинской литературе этого периода. Ведь до недавнего времени самые основательные и тонкие описания психопатических характеров можно было найти скорее в романах и в драмах, чем в медицинских научных статьях. Вспомним известные семейные романы, дававшие настоящую пищу ходячей вере в «дегенерацию», в декаданс и деградацию целых семейств. В этом была несомненная опасность: нередко это литературное направление создавало психопатические типы своими попытками их изображения и творило болезненные процессы, которые затем переносились в жизнь самим читателем. Таким образом, надо сказать, что источник довольно распространенного еще и теперь убеждения, будто каждая семья рано или поздно должна выродиться, сводится наверняка в гораздо большей степени к чтению литературных художественных произведений этого жанра, чем к наблюдению действительных фактов. Само собою разумеется, что чисто медицинское исследование должно держаться прежде всего таких фактов, которые представляются достоверными и которые каждый может проверить; однако оно будет тем не менее не вправе отказаться от услуг, предлагаемых ему, напр., историей культуры. Необходимо лишь добиться соглашения о понятии психопатологического самой психиатрии. Цитировавшийся нами выше пример Nordau только подтверждает общее и почти само собой разумеющееся наблюдение, что всякое расширение этого понятия, предпринимаемое врачом, подает повод к самым фантастическим преувеличениям в немедицинской литературе. Слишком большой успех, выпавший далеко за пределами психиатрических кругов на долю учения Magnan'a, был наверняка очень мало полезен объективной оценке, фактов и тем самым и научному прогрессу вообще. Каламбур, что только неврастеники способны на что-нибудь дельное, послужил очень многим лицам оправданием к тому, чтобы выставлять напоказ свои собственные—действительные или воображаемые—нервные дефекты, вместо того, чтобы скрывать их, как прежде. Таким образом, количество того, что становится известным о тех или иных ненормальных психических качествах, никогда не дает нам масштаба для суждения о их фактической распространенности, и было бы совершенно неправильно утверждать увеличение числа подобных расстройств для какого-нибудь периода времени только на том основании, что к ним более присматривались и чаще о них говорили. К этому присоединяется и то, что наши знания нормальных психологических вариаций оставляют желать еще очень многого. Один из лучших результатов созданных в свое время Moebius'ом патографии заключался, без сомнения, в том, что они заставили нас — часто вопреки замыслу их авторов — понять, что многие состояния и явления, считавшиеся до того патологическими, на деле, правда, представляют собой лишь необычные, но все-таки нормальные реакции. Fahlbeck, конечно, прав, когда он говорит, «что если бы все более сильно развитые человеческие вариации надо было рассматривать, как дегенеративные явления, то здоровым и нормальным человеком пришлось бы считать только серую посредственность». Нельзя отрицать, что развитие психиатрии, начавшееся естественным образом с больниц для тяжело больных и подошедшее лишь мало-помалу к наблюдению также и более тонких психопатологических черт, имело в этом отношении свои минусы; когда подошли в конце концов к границам патологического, то все внимание было устремлено не на нормальные, а на патологические реакции. Только эта эволюция объясняет нам, что даже Goethe вследствие известной периодичности, найденной в его жизни Moebius'ом, был объявлен маниакально-депрессивным, т. е., следовательно, психопатичным. Наивные попытки объяснения, желавшие свести все своеобразные настроения и поступки в жизни крупных людей к внешним переживаниям или художническим причудам, впадали, конечно, нередко в заблуждение; остается, однако, неясным, была ли эта ошибка больше той, которая требовала одинаковых реакций для всех людей, а для гения того же тупого равновесия, что и для мещан. Надо считать, напр., вполне возможным, что подлинной творческой силы без известных периодических колебаний продуктивности — можно было бы сказать пауз покоя — не бывает и не может быть — подобно тому, как денные лирические стихи предполагают такие оттенки настроения, которые навеки закрыты для среднего человека.
Замечание Аристотеля, что большинство талантливых и гениальных людей было склонно к меланхолии, может быть гораздо ближе к истине, чем мысль, что в основе гения, может быть, лежит душевное расстройство, высказанная сперва Lelut, затем Могеап de Tours и, наконец, в гораздо более резкой форме Lombrоsо. Доказательства, приведенные в пользу этого утверждения, оказываются при ближайшем рассмотрении чрезвычайно скудными. Если мы будем принимать в расчет лишь то, что наверняка нельзя интерпретировать, как нормальное, и вычтем в то же время все то, что обычно становится известным только относительно знаменитых людей, хотя встречается, быть может, я у многих других, то остаток будет до крайности невелик. Тот или другой заболел душевной болезнью или имел больных родственников, а у третьей группы можно было отметить смешение нормальных и ценных задатков с психопатическим. Все это встречается и в других семьях; доказательства же, что у выдающихся людей патологические черты бывают чаще, чем у других, мы так до сих пор и не видели. Если бы это было доказано, то все-таки надо было бы выяснить, не следует ли смотреть на некоторые расстройства просто как на следствия необыкновенной, внутренней и внешней жизненной судьбы—это было бы опять-таки нечто — совсем другое, чем та связь, которую допускал Lомbroso: сама гениальность, как симптом патологической мозговой организации я родство гениального творчества с явлениями помешательства.
Чрезвычайно важно констатировать это в контексте этой работы, ибо вывод Nord au, что народ, который увлекается психопатическими художниками, должен быть и сам народом вырождающимся, постоянно повторяется и в наше время во всевозможных оттенках в трактовке проблемы вырождения в современной литературе. В действительности же если не относить ') к вырождению всякое необыкновенное дарование, как таковое, то у нас нет никаких оснований допускать, что в эволюции литературы и искусства за последние 50 дет психически ненормальные личности играли бы какую-либо большую роль, чем прежде.
Но нам возразят, что литература и искусство обнаружили сами ясные патологические черты и отразили таким образом вырождение своей эпохи. Даже если сами художники творцы и не были ненормальными, то они изображали все-таки болезненные сюжеты и доказали этим самым, что патологическое стало более распространенным.
Этот вывод тоже неправилен. С тем же успехом мы могли бы принять на веру все, что говорится поэтами и писателями о душевных расстройствах, о их формах и распространенности. И если за последние десятилетия литература вообще гораздо больше занималась вопросами психопатологии, то причина этого, главным образом, в той эволюции, которую проделала за это время сама психопатология. Гражданское и уголовное право считаются в настоящее время гораздо больше, чем прежде, с ненормальными душевными состояниями, однако, никто еще не пытался сделать из этого тот вывод, что эти состояния изменились или стали более распространенными. Изменились лишь психиатрия и юриспруденция. Для общей литературы к этому присоединяется еще и то, что повысился вообще интерес к психиатрии. Таким образом, нет ничего удивительного в том, что после типов, привлекавших, напр., Moliиre и Balzac'a, и после проблем, интересовавших, скажем, Goethe, нашли своих писателей и менее обычные люди и конфликты. Писателю было при этом—к счастью—по большей части безразлично, является это необычное патологическим или нет, и это вовсе не так уж просто решается, как это думают некоторые наблюдатели. Но научная психиатрия, действительно,, может дать художнику непосредственные импульсы, с тех пор кап она сама трактует также и более легкие нарушения душевного равновесия; да ведь и психологическое понимание профана теперь уже не так беспомощно по отношению к этим легчавшим расстройствам, и они могут трактоваться и с других точек зрения, кроме чисто медицинской. Таким образом, рост интереса, уделяемого этим вопросам, сводится в последнем счете к эволюции самой науки. Впрочем утверждение, что содержание искусства становится сумасбродным и болезненным, вовсе уж не так ново; оно раздражало уже Goethe (Hellpach).
Эта историческая справка, к которой было бы не трудно прибавить целый ряд других, должна научить нас, что литературные и художественные достижения эпохи, взятые сами по себе, никогда не могут быть истолкованы, как предвестники предстоящего упадка культуры. Взгляды на явления, для оценки которых никогда не может быть никакого объективного критерия, будут всегда расходиться. Goethe был, конечно, совершенно прав, когда он желал, чтобы понятие болезненности было совершенно изгнано при трактовке вопроса о художественных ценностях. Неясное же словечко «вырождение», употребляемое теперь вместо этого понятия, испортило дело еще более. Мало-помалу дело дошло до того, что стало довольно трудно не заслужить в споре двух партий между собой упрека, выражаемого этим словом: то, что кажется одному классической традицией, другой бранит, говоря, что это окостенение и бессилие; прогресс, прославляемый одним, кажется его противникам чудачеством^и заблуждением. О декадансе же говорят и те, и другие, так что тот, кто поверил бы обеим партиям, должен был бы, конечно, придти к выводу, что всякое искусство выродилось.
Своеобразный, беспокойный ритм довоенного времени—будем говорить пока лишь о нем—отразился также и в искусстве, и это было вполне естественно и законно. В этом смысле искусство было тоже «более раздражимым», и, если угодно применить это многозначительное слово, более «нервным». Но это вовсе еще не доказывало упадка и не содержало само по себе абсолютно никаких аргументов к вопросу о судьбе нашей культуры. «Понимание того», писал в 1917 г. Hamann, «что импрессионизм может представлять собою либо заключительный этап ряда стилей, некий конечный стиль, либо известное колебание в области стиля, некий стиль истощения, может быть, будет способно снять с нас то ощущение тяжести, которая обычно очень легко появляется вместе со всякой рационализацией истории, а именно—будто нам, словно больному, в точности известно наше собственное состояние. Мы отвергаем всякие гадания и прорицания о том, где мы пребываем и куда мы идем… Является ли импрессионизм предвестником или уже симптомом всеобъемлющей импрессионизации жизни… На все эти вопросы закон стиля не дает никакого ответа. Из него вытекает самое большее то, что вслед за периодом импрессионистического беспокойства наступит полоса успокоения. Однако у нас нет уверенности даже и в том, будет ли последующая эпоха сколько-нибудь значительной в политическом, художественном или философском отношении».
Такова была точка зрения историка искусства, высказанная с критической осторожностью, являвшаяся, как известно, результатом знаменитого исследования об импрессионизме. Carl Lamprecht, мысли которого, возникшие на совсем других основах, тесно соприкасались с идеями Hamann'a, пошел гораздо дальше в своих основанных на историческом познании пророчествах. В специфических чертах своей собственной эпохи он увидел также признаки переходного периода, который потерял свой старый лейтмотив и еще не обрел нового; в раздражимости, в общем нервном возбуждении он усмотрел результат «колоссальной психической и духовной революции», но в то же время он истолковал все эти симптомы, как частичные явления «общей механики психологических переходных периодов». В этом заключалось известное утешение. То, что в этих симптомах принципиального, оказалось не новым; история сохранила нам память о них из прежних времен, и эти времена были не всегда временами упадка; существенным признаком всех этих эпох является процесс преобразования, социальные и политические сдвиги, успехи техники, новые открытия в области путей сообщения, научные и религиозные движения; все, стало быть, процессы, вносившие огромное количество новых раздражений, дававшие «совсем другой аспект мира», открывавшие «тысячи горизонтов нового расширившегося опыта» и создававшие, таким образом, «новую атмосферу исторической жизни».
Еще до Leprecht'a L. Meyer указал в своей ректорской речи на значение этих переходных эпох, связанных, якобы с особенно тяжелыми конфликтами для индивидуума и для всего общества, а в силу этого также и с необыкновенными физическими и душевными расстройствами, продолжающимися до тех пор, пока, наконец, не наступит некоторое приспособление и равновесие.
В дальнейшем за эту «благодарную задачу проследить, не приводили ли когда-либо (и в какой мере) аналогичные условия жизни к сходному эмоциональному состоянию», взялся Wilhelm His и провел ее во всех деталях, оставаясь на врачебной точке зрения. Результат оказался поразительно ясным. Раздражимость, субъективизм в литературе и искусстве и прежде всего ипохондрическое основное настроение, недоверие к собственной энергии и сопротивляемости, вера в предстоящую гибель — все это обычные симптомы всех переходных эпох. «Если, как мы предполагаем, действительно наступает эпоха сверх-культуры, когда вера в богов и в нравственные идеалы начинает колебаться, когда появляется субъективизм и вызывает повышенную раздражимость, то это должно проявиться во всех привычках жизни, в утонченности чувственных наслаждений, в тенденции словесных и изобразительных искусств к импрессионистическим эффектам, и в то же время не отделимо от этой сверх-культуры должно сказаться чувство пресыщения, симптом бегства от культуры, стремление вернуться к идиллическому простодушию и простоте золотого веками при том не только у отдельных индивидуумов, но у всего высшего класса в целом, как некое модное направление. Мы даже не можем представить себе, что подобное противоречивое настроение, когда душа охвачена отвращением к современности, к которой она в то же время привязана всеми фибрами своих избалованных нервов, могло бы не сопровождаться болезненными нервными симптомами». Такими периодами были александрийская эпоха, время первых римских императоров,, когда Сенека бичевал вырождение, а его современники искали исцеления в холодных душах и суеверных процедурах, и, наконец, XVIII век во Франции, когда Rousseau проповедовал возврат к природе. Как показал His, эти эпохи походят друг на друга вплоть до деталей, даже если они разделены многими столетиями. Но к самым закономерным всегда повторяющимся явлениям относится, как уже сказано, рост функциональных нервных заболеваний, более того, как это ни странно, даже стремление найти исцеление от них при помощи определенных физических методов лечения.
Дело было, значит, не только в высокой культуре и на нее одну нельзя было бы возложить ответственность за все эти симптомы. В эпоху Ренессанса они отсутствовали, так как отсутствовало еще одно необходимое условие: обеспеченность, уверенность в завтрашнем дне («Sekuritдt»). В эпохи политического оживления или экономических затруднений нет и речи об ипохондрии, напр., во время тридцатилетней войны, затем в Пруссии после 1806 года; то же самое мы слышали и о французской революции: «как только появляется серьезная опасность, то все эти разнообразные симптомы — это сообщает нам Pinel—разлетаются; избалованные и изнеженные кавалеры и дамы мужественно ищут себе кусок хлеба за границей или смело и решительно идут в тюрьму и на эшафот» (His).
Все это давало возможность сделать еще до войны тот вывод, что весьма распространенная в то время боязнь вырождения отнюдь не являлась аргументом в пользу этого вырождения. Да, кроме того, эта боязнь была даже не новой, еще Kant должен был отмахиваться от воплей на тему о прогрессирующем одичании нашего народа, a Hufeland жаловался в то же самое время, что «это поколение вырождается, превращается в какие-то призраки». Боязнь вырождения была просто той случайной фермой, в которой проявилось у нас основное пессимистическое настроение всех переходных эпох. «С обществом дело обстоит так же, как и с индивидуумом», писал перед войною Hoche, «внешнее благополучие и отсутствие неотложных забот предрасполагают его к горестному самонаблюдению и ипохондрическим жалобам». His же объявил еще раньше, «что и вся нервность исчезает как только нас схватят за шиворот».
Так что уже в то время можно было доказать, что большинство нервных симптомов довоенного времени излечимы. Я сам высказался в первом издании этой книги (1911) даже в том смысле, что, по всей вероятности, они исчезли бы совершенно внезапно, «если бы нас постигла война или вообще какая-нибудь серьезная опасность».
И вот война началась, а с нею и бесконечные бедствия. Освободились ли мы по крайней мере от боязни вырождения?
Разговоров на эту тему стало, несомненно, меньше. Самолюбование, ипохондрические жалобы, игра противоречивыми настроениями, страдальческое отношение к жизни — все это исчезло в 1914 году разом и, как мне кажется, не возвращалось до сих пор в сколько-нибудь значительных размерах. Теперь у нас пропала и «уверенность в завтрашнем дне» («Sekuntаt») — страх перед большевизмом, потеря состояния и постоянная социальная необеспеченность оказались чрезвычайно полезны многим нервным людям. Но в конце концов компетентных критиков и раньше не пугали все эти симптомы, и РСЛИ мы хотим подвести итоги войны в отношении проблемы вырождения, то придется считаться с гораздо более широким кругом явлений.
Возьмем нашу политическую эволюцию перед мировой войной: не доказывает ли она именно того, в чем обычно видят последнюю судьбу всех народов: старость, обессилив, упадок0 Быть может, неосторожно и рискованно браться вообще за этот вопрос, не будучи историком однако я касаюсь его лишь потому. что считаю его ложно поставленным. Мы ведь уже отвергли выше аналогию между жизнью народов и жизнью индивидуума. Однако, тот, кто признает ее, будет вправе сделать из истории Германии, с момента отставки Бисмарка и по настоящее время, какие угодно выводы, но только не тот, будто мы стали слишком стары, слишком зрелы. К тому же достаточно только поставить вопрос, как стало бы вести себя при таких же обстоятельствах современное Бисмарку поколение—без Бисмарка, разумеется. Вероятно, точно так же, как и мы: если бы тот Bethmann-Hollweg, который предостерегал в свое время Вильгельма I от австрийской войны и от Бисмарка, очутился тогда у власти, то могло бы придтись порядком плохо уже нашим родителям.
А сама война. В 1908 году His писал с вполне законной гордостью: «совершенно невозможно поверить о декадансе и вообще о культурном регрессе в стране, где все время растет население и продолжает падать цифра смертности, в стране, которая создала в беспримерно короткий срок блестящую промышленность и которая находит у себя достаточно средств для содержания сильнейшей в мире армии». 6 лет спустя август 1914 года вызвал у нас (и не только у нас!) такой национальный подъем, на, который был бы неспособен народ упадочный и изживший себя. Это воодушевление не могло держаться до конца на той же высоте; однако, в течение целого ряда лет мир видел такие дела, каких не знала до сих пор история ни одного народа, даже на ее самых светлых страницах.
Конечно, у нас было не мало военных неврозов!); вполне здоровые физически солдаты уклонялись от исполнения долга и опасности при помощи нервных заболеваний, которых не было бы у людей с более сильной волей: они сумели бы избежать или преодолеть их. Но опять-таки мы должны поставить вопрос, можем ли мы себе представить, что какой-либо народ той или иной исторической эпохи, попав в одинаковые с нами условия, дал бы меньшее количество неврозов,—всякий, кто знаком хотя бы отчасти с сущностью истерии и с ее историей, ответит на этот вопрос отрицательно. И только потому, что уже до войны мы приучились к более быстрому темпу жизни, к большему числу внешних раздражений, к быстрой смене жизненных заданий и положений, только поэтому главная часть нашего народа оказалась на высоте тех требований, которые были предъявлены этой войной.
Впрочем я в мирное время уже давным-давно мы имели параллель военных неврозов: нервные заболевания после несчастных случаев. Эти последние были прямым следствием социального законодательства, являются им и теперь, так что и в данном случае все говорит против того, что другой народ какой-либо иной эпохи был бы свободен от них при прочих равных условиях. Наоборот: если мы возьмем военные и травматические неврозы, к которым мы можем прибавить моления о здоровье («Gesundbeten») и спиритизм, и будем сравнивать их с истерическими эпидемиями прежних столетий, с процессами ведьм, флагеллянтами, повальной пляской, детскими крестовыми походами и эпидемической бессодержимостью, то сравнение это будет целиком в нашу пользу.
Голодная блокада вызвала в тылу, несомненно, очень значительное физическое вырождение; недоедание и продолжительное напряженное состояние привели к тому, что некоторые, главным образом, пожилые люди, оказались и психически совершенно сломанными. Но в общем и здесь мы должны сказать, что было перенесено очень много, и что состояние нервного здоровья оказалось в среднем, если взять войну в целом, гораздо лучшим, чем этого можно было ожидать при таком сцеплении физических и психических вредных моментов. Собственно говоря, санатория нужны были исключительно для солдат, а в приемные часы к врачам невропатологам обращалось гораздо меньше людей с функциональными нервными заболеваниями, чем прежде.
Продолжительное патриотическое беспокойство и личные заботы, лишение, горе и нужда в конце концов, конечно, расшатали физическое и психическое здоровье как раз наиболее ценной части населения в тылу — в этом отношении расчет Англии оказался совершенно правилен. Последующие события и тупую покорность, проявленную при этом гражданским населением, можно объяснить исключительно этим душевным изнеможением, этой потерей способности к волевому напряжению.
С другой стороны, катастрофа давно подготовлялась развитием спекуляции, ростом эгоизма в самых широких кругах, утратой всяких идеалов и уничтожением всякого авторитета, и если после катастрофы всплыло на поверхность, наряду с массой иностранцев, дезертиров и других преступников, также и такое большое число психопатов, то это было бы, конечно, невозможно без этой летаргии, которую проявило общество. Все-таки здесь я бы не решился сказать, что любой народ всякой эпохи должен был бы во всех деталях вести себя именно также. Как ни убежден я в том, что при создавшихся условиях катастрофа, как таковая, была совершенно необходимым следствием неслыханнейших физических и психических испытаний целого народа и при том следствием болезненным, я все-таки не могу ссылаться на патологию, когда заходит речь о таких явлениях, которые нам хотелось бы стереть с этой страницы нашей истории в первую очередь, и о которых мы в то же время совершенно не вправе утверждать что они были бы возможны и у всякого другого народа. Ведь к числу исконных свойств немецкого духа принадлежит, по-видимому, не только склонность к идеологии, но и недостаток национального чувства.
Нас интересуют, однако, только болезненные явления. В этом отношении нам сейчас угрожает двоякая опасность, на которую необходимо смотреть чрезвычайно серьезно. Воина вызвала огромное распространение сифилиса, и мы все еще не в состоянии искорениib эту болезнь со всели ее последствиями. По что еще важнее: добровольное ограничение числа детей принимает такие формы, которые способны погубить любой народ. Слов нет, в этом повинны, главным образом, экономическая нужда, недостаток жилищ и безнадежность будущего; однако наряду с этим намечается все-таки и особая душевная установка, которая едва ли сгладятся даже и при улучшении нашего экономического положения. Влиятельные политические партии требуют разрешения свободного производства выкидышей, а у населения нет невидимому, ни малейшего понятия о том, что это значит. Ибо иначе были бы совершенно невозможны разговоры о вреде, наносимом беременным женщинам абортистами из неврачебного сословия—и защите общества от эгоизма отдельного индивидуума служит здесь наряду с законом, по-видимому, почти исключительно опасение этого вреда.
Возвращается снова также и алкоголь; мы уже видели первых делирантов. Отмечается такой рост преступлений, что давно уже переполнены все тюрьмы. Дичают нравы, страшно огрубела молодежь, а бесцеремонность борьбы за существование принимает совершенно небывалые до настоящего времени формы.
Все это могло бы привести в отчаяние, если бы мы не «знали, что так бывало всегда после всякой большой катастрофы, и если бы—что гораздо важнее —не замечались уже симптомы улучшения.
Пойдет ли это улучшение вперед, это будет зависеть не от нас. Может быть, наши враги погубят нас тем временем окончательно. Может быть, Европе суждено терзать себя до тех пор,, пока она не вымрет. Но это не было бы вырождением. Можно быть очень здоровым, и все-таки вас могут задушить; смотреть же на жестокость наших врагов, даже если она оказалась бы в конце концов пагубный дли них самих, как на дегенеративное явление, было бы недопустимо с точки зрения сравнительно исторического взгляда на дело.
По сравнению со всеми этими заботами: внешней опасностью, сифилисом, алкоголем и добровольным ограничением числа детей, отступает на задний план почти целиком большинство всего того, что еще говорилось прежде на эту тему. На серьезный лад мог бы настроить лишь разве недостаток творческих умов, ощутимый уже теперь почти во всех областях духовного творчества все с большей и большей силой. Однако эта опасность была бы неизбежной только при совершенно определенном, уже обсуждавшемся нами выше условии, которое до сих пор никем не доказано. Таким образом, окончательное суждение по этому вопросу остается за будущим.
Уменье в искусстве и знание в науке начинают цениться все менее и менее; более того, часть нашей интеллигентной молодежи отворачивается от всякой науки и приводит старшее поколение в ужас своей наклонностью к мистике; однако эти явления объясняются отчасти, как реакция после войны и поражения, отчасти закономерными колебаниями между рационалистически — точной и метафизически — романтической установками. Ведь уже и до войны курс мистики был довольно высоким, и к воинствующим нападкам на научную специализацию примешивался уже и тогда клич призыва к «дилетантам», от которых в наше время ждут спасения, разумеется, уже не одно лишь двадцатилетние. Эта волна заливает нас вместо деловых знаний бесполезным блеском слов; но она пройдет, отхлынет, как это бывало уже неоднократно.
И наконец: мало найдется в настоящее время таких, кто усмотрит какое-либо отношение к проблеме вырождения в том, что, напр., люди, могущие в наше время оплачивать билеты в театр и дорогие книги, предпочитают всему остальному грубо-сексуальные изображения (все равно, художественно ценные или нет); или в том, что импрессионизм заменился экспрессионизмом (не является ли это только кажущимся). Таким образом, нам едва ли есть надобность говорить подробно о постоянно напрашивающихся аналогиях между некоторыми экспрессионистическими художественными произведениями и живописью определенных душевно-больных (шизофреников). Скажем лишь одно: общая почва этих произведений располагается, вероятно, гораздо глубже, чем ее обычно искали; получается впечатление, будто здесь выявляются, по ту сторону всякой болезни и всяких художественных устремлений данного момента,—некоторые основные формы художественного выражения, намечающиеся уже в искусстве дикарей и в искусстве ребенка; очевидно, что эти формы могут быть раскрыты самыми различными психическими причинами. Применять к экспрессионизму эпитет: «больной», которым еще так недавно пытались заклеймить импрессионизм, было бы, конечно, ошибкой; от этого нового 1ар-sus'a нас должно предохранить просто знание истории. К этому надо прибавить еще следующее: наши теперешние большие заботы все-таки показали нам (в самом общем масштабе), насколько мелочными и насколько лишними были те заботы, которыми мы пробавлялись прежде в подобных случаях.
При всех этих соображениях я сознательно игнорирую попытку Spengler'а вывести гибель нашей культуры, исходя из духовных стремлений нашей эпохи и ее положения в истории. Такую попытку,— от которой, между прочим, отказывается категорически также и E. Utitz в своем новейшем этюде о современной культуре,—судя по изложению самого Spengler'а, мог бы предпринять, невидимому, лишь тот, кто охватывает своим кругозором как формы изобразительных искусств, так и формы военного дела и государственного устройства; далее—существующее якобы сродство между политическими и математическими продуктами одной и той же культуры; между религиозными и техническими воззрениями; между математикой, музыкой и пластикой; между формами хозяйства и формами познания и т. д., и т. д.1)—словом: все духовные направления, все науки и все искусства, кроме того, всякую технику, экономику и политику, не только своей собственной, но и всех эпох вообще. Мы скромно несмущенно отступаем перед подобной задачей.
Но если мы попытаемся дать посильный заключительный ответ на наш собственный вопрос, поставленный нами с самого начала гораздо менее широко, то мы могли бы сказать следующее:
Дегенеративные процессы наблюдались у всех народов и во все времена; так что совершенно недостаточно простого констатирования их наличности. Что касается опасности вырождения, то о ней могла бы идти речь лишь в том случае, если бы эти процессы серьезно угрожали жизни и работоспособности целого народа.
Решение вопроса, что получится из нас самих, принесет следующее поколение, созревающее и сличающееся в настоящее время. Возможно, что голодная блокада причинила ему стойкий и серьезный вред; однако, судя по всему, что мы уже слышали, этот вред выровнялся бы уже во внучатном поколении, поскольку условия жизни сложились бы тем временем сколько-нибудь благоприятно.
При колоссальных размерах этой войны мыслимо даже то, что после стольких убитых и искалеченных, вся наследственная масса нашего народа ч целом, действительно, несколько понизилась в своем уровне вследствие отрицательного отбора. Это мыслимо, но все же мало вероятно. Конечно, нам придется навсегда отказаться от многого ценного, что лежит в могиле или никогда не родится; но через 30 лет, если наши враги пощадят нашу жизнь, сгладится и это.
Не подлежит зато никакому сомнению, что сифилис угрожает теперь после войны еще сильнее нашему здоровью, чем прежде. Может быть, возрастет также и число случаев прогрессивного паралича, если мы не успеем найти терапевтических средств. В качестве второй великой социальной болезни присоединится опять алкоголизм и будет снова губить и взрослых, и детей.
Не доказано, что возросло общее количество душевных заболеваний; этот прирост не может быть во «сяком случае большим. Что касается самоубийств и преступлений, то о них в настоящий момент совершенно нельзя высказаться; их число настолько заведомым образом зависит от социальных причин, что для того, чтобы из соответствующих цифр стали опять возможны пригодные выводы, нам придется обождать известного равновесия и укрепления нашего общего политического и экономического положения. Наконец, еще рискованнее было бы, пытаться определить заранее наше будущее по тем противоборствующим духовным течениям, по тому хаосу, в котором очутилась после войны и революции также и наша духовная жизнь.
Один вывод мы делаем с полной определенностью: что каждое из предшествовавших поколений было бы при тех же условиях таким же здоровым и таким же больным, как и мы. Благодаря этому теряет всю свою важность вопрос о значении тех специальных болезненных явлений, которые свойственны нашей эпохе, о том, серьезнее ли они, чем те, которые наблюдались у наших предков. Однако, мы достоверно знаем, что прежде бывали такие болезни и нервные последствия болезней, которые в наше время совершенно исчезли- и если мы говорим об алкогольном отравлении зародыша, то мы не должны забывать о свинце и о ртути, действия которых мы теперь избегаем, потому что оно нам известно.
Но гораздо важнее, чем все споры о росте вырождения, то, что мы теперь знаем, что все заведомо дегенеративные явления сводятся к внешним, социальным причинам; потому что это дает нам возможность победить их. Заразные болезни и яды \'7bалкоголь и сифилис в первую очередь) могут быть устранены подобно тому, как уже изгнаны из наших пределов оспа и чума, да и функциональные нервные болезни тоже Moiym быть ограничены. Конечно, всегда будут существовать психопаты и наследственные душевные болезни, но число их не будет расти, потому что патологические качества подчинены тем же самым законам наследственности, что и нормальные, а идея о наследственности приобретенных нервных состояний была выдумкой.
Конечная судьба народа зависит совсем от других факторов, чем от легких колебаний его нервного равновесия. Она определяется жестоким моментом силы, моментом количественным. Еще до войны мы имели сигнал, предостерегавший нас относительно будущего: падение цифры рождаемости, с тех пор опасность национальной смерти подошла к нам уже гораздо ближе. Что человеческому вмешательству удастся остановить — в конце концов эту эволюцию, в этом мы должны по справедливости усомниться; что касается странных проектов реформ, вроде предложенных, напр., Christian von Ehrenfels'ом, то мы можем отказаться от их критики просто в силу наших общих соображений t). Кто рассматривает участь человечества, как
часть великого процесса органической эволюции, тот как раз и не будет верить в свою способность решительно повлиять на ход этою природного процесса.
Мы лишь не вправе ускорять этой эволюции; и, не смотря на все трудности нашею экономического n политического положения, может быть, все-таки еще удастся поднять и в этом отношении чувство ответственности хотя бы у части нашего народа. У нас есть по меньшей мере один долг: сохранять, пока мы существуем, нагие здоровье и работоспособность на такой высоте, насколько это лишь возможно. Это придает важность тому выводу, к которому мы пришли: что всякое вырождение — даже если мы причислим к нему и национальное самоубийство — вырастает всегда в последнем счете из причин социального характера. Плохо понятое учение о наследственности сделало из вырождения какой-то фатум, какой-то таинственный мрачный рок, которому неудержимо должен был подпасть каждый народ; вырождение—наш опасный враг, но враг видимый, а потому и уязвимый.
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg




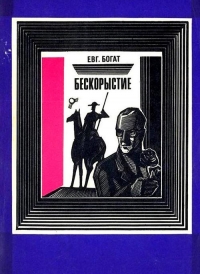

Комментарии к книге «Культура и вырождение», Освальд Бумке
Всего 0 комментариев